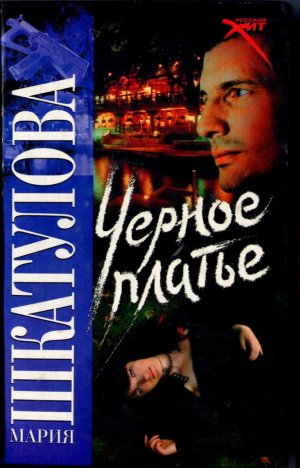
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Эта история началась 28 февраля 1994 года, в тот день, когда из Парижа позвонила Лена Кораблева, ее лучшая подруга.
— Мама, возьми трубку — межгород! — крикнула Наташа из ванной и через минуту услышала голос Зинаиды Федоровны:
— Наташа, скорее! Париж!
Наташа бросилась к телефону, на ходу вытирая полотенцем мокрые волосы.
— Алло, Ленка, это ты?
— Наталья, привет! Как ты там? Я соскучилась до ужаса!
Её голос доносился через эфирные помехи и казался чужим.
— У нас все в порядке! Сама-то ты как?
— Все было бы прекрасно, если бы не мерзкая погода: вторую неделю льет дождь…
— Что ты мне про погоду? Ты про себя расскажи.
— Я же говорю: все отлично! Как там мой жилец?
— Нормально. Платит аккуратно — я только вчера с ним встречалась.
— Отлично! Я как раз по этому поводу тебе и звоню. Значит, так. Ты эти деньги в банк не клади…
— Как это? — перебила Наташа. — Я дома боюсь их держать! Во-первых, не дай Бог, ограбят, во-вторых, у меня у самой — ни гроша. Боюсь, как бы не ограбить самое себя — мне потом в жизни с долгами не разделаться!
— Что, совсем плохо?
— Не спрашивай! Зарплату задерживают, живем на мамину пенсию, так что, сама понимаешь… Сережке нужны были ботинки, так пришлось у Татьяны занимать.
— У Татьяны? Это с работы, что ли?
— Ну да.
— А бывший муженек?
— Ты же знаешь, я никогда ни о чем его не прошу! — с досадой проговорила Наташа.
— Ладно, про твою жизнь я все поняла. Теперь слушай: деньги в банк не носи — иди в ОВИР, оформляй загранпаспорт, покупай билет, и через два месяца жду тебя на неделю в Париж. Ты что, на какие шиши?
— Ты не поняла. У тебя когда день рождения?
— Уже забыла? Четвертого мая.
— Как раз и не забыла: паспорт и билеты — это подарок. Жить будешь у меня, прокормиться вдвоем — не проблема. Как только получишь паспорт, вышлю приглашение. И Татьяне долг отдай.
— Ты что, разбогатела?
— Брось, пожалуйста! Могу я раз в жизни лучшей подруге на день рождения подарить какие-то паршивые пятьсот долларов?
— Ты что, уже разревелась?
Наташа положила трубку и задумалась.
— Что с тобой? — спросила Зинаида Федоровна, входя в комнату. — Что-то случилось?
— Ленка приглашает меня в Париж… За ее счет.
— Да что ты! — Зинаида Федоровна всплеснула руками и села на старый кожаный диван. — Ну так поезжай… Когда еще представится такая возможность?..
— Неудобно, — пожала плечами Наташа. — У Ленки маленькая зарплата и командировка скоро кончается… И потом, в чем я поеду? У меня же ничего нет…
— В сером костюме…
Наташа поморщилась.
— Мам, я ношу его третий год… Он уже как тряпка. Впрочем, он и был-то…
— Давай что-нибудь купим! Платьице какое-нибудь…
— Лучше уж тогда джинсы. И кроссовки. Мои уже совсем развалились, а там придется много ходить…
— Вот именно! Ты же нигде не была!.. Бог с ними, с тряпками. Лучше подумай о том, что своими глазами увидишь Лувр, Нотр-Дам…
— Елисейские Поля!
— Может быть, Лена отвезет тебя в Версаль? Или Фонтенбло? У нее есть машина?
— Да что ты! Откуда!
— Ничего, съездите на автобусе! Туда же, наверное, ходит что-нибудь?
Наташа улыбнулась.
— Мамочка, конечно, ходит! Я даже думаю, там не надо стоять в очереди за билетом… как на Щелковской!
Наташа повесила полотенце на спинку стула и принялась расчесывать волосы, лихорадочно соображая, как поступить.
Туфель у нее тоже не было. Вернее, были, но старые и совершенно не модные — ехать в таких в Париж просто неприлично. Можно было бы, конечно, спросить Татьяну, срочно ли ей нужны деньги и, если нет, подождать немного с возвратом долга и купить новые? Все-таки Париж?.. Или, если повезет, Татьяна под это дело даст еще? Тогда можно было бы позволить себе маникюр и…
Наташа тряхнула головой и пощупала волосы — они были еще влажные — и принялась снова яростно тереть полотенцем. «К черту маникюр, к черту туфли! Поеду в чем есть и какая есть… Главное, увижу Париж… Повидаюсь с Ленкой… На неделю забуду о своих проблемах… А подарки? Надо же привезти что-нибудь Сереже… И маме… Господи, хоть бы немного денег!..»
Зима подходила к концу. Днем ненадолго вылезало неяркое февральское солнце, и огромные, покрытые черным налетом сугробы во дворе их дома на Сивцевом Вражке понемногу оседали. Сосульки под крышами угрожающе таяли, а по трубам, пугая прохожих, время от времени с грохотом обрушивался лед.
Сережа опаздывал: до звонка оставалось около пяти минут, но он не торопился — написать контрольную по химии шансов не было все равно. Может, прогулять?.. Тогда химичка потребует записку от матери или вкатит пару, и тогда мать не пустит на дискотеку, а они с ребятами договаривались пойти… Впрочем, в кармане все равно было пусто, а без денег там делать нечего. Тоска…
Тут он подумал, что можно было бы позвонить Дмитричу — сказать, что мать едет в Париж, и под это дело попросить денег ей на прикид. Может, он и даст, потому что, когда они виделись в последний раз, он что-то такое говорил… Если даст, он немного возьмет себе — мать все равно ничего не узнает, она с отцом никогда не разговаривает. Почему все-таки они разошлись?.. Мать красивая, даже сейчас, а ведь ей уже тридцать три. Если ее еще малость приодеть… А Дмитрич… Дмитрич — настоящий мужик…
Сережа вряд ли сумел бы объяснить, почему он никогда не называет его отцом, ни тем более «папой», а за глаза говорит: «Дмитрич» или «Ю. Д.». Тот был действительно «настоящим мужиком»: в нем чувствовалась сила, которой, как казалось Сереже, так часто не хватало ему самому, но, главное, Дмитрич был голова: он был прекрасным химиком и заведовал лабораторией в большом институте. Правда, он почему-то ни разу не предложил Сереже помочь, хотя тот и говорил, что у него с химией проблемы, но ведь он так занят?..
Впрочем, отец и не обижался — Сережа как-то заметил, что он тоже избегает называть его по имени, а говорит просто «Знаешь…» и «Понимаешь…». Наверное, они еще не привыкли друг к другу: ведь они встречаются немногим больше года. Может, это придет?.. Сереже так хотелось, чтобы отец на прощание пожимал ему руку чуть с большей теплотой…
Но деньги Ю.Д. иногда давал — один раз даже купил ему куртку, и Сереже показалось, что мать, узнав об этом, заплакала. Может быть, она все еще его любит? Иначе почему она так и не вышла замуж?
Он никогда не говорил с ней об этом. Не говорил, потому что боялся причинить ей боль — мать он любил. Но какую досаду он испытывал при мысли, что один из них, мать или отец, разрушил то, что могло бы быть для него таким счастьем, — нормальная семья, отец, его поддержка, его любовь. За мать он, конечно, глотку перегрызет, но все-таки с матерью обо всем не поговоришь — женщина есть женщина, что с нее взять?..
А деньги? Ну и деньги, конечно, почему бы и нет? Кто виноват в том, что он лишен всего этого? Неужели мать? Насколько он знает, встречаться с отцом он начал по его инициативе, и мать не возражала, вернее, молчала. Впрочем, и особенного восторга по этому поводу она не испытывала. Почему? Почему она никогда о нем не говорит?
Сережа шел, понуро опустив голову и подбрасывая ногой банку из-под импортного пива. Такие банки были еще относительной редкостью, и мать держала их на полочке в кухне в качестве украшения. Когда он подошел к школе, во дворе было уже пусто, и дворничиха Степановна, ворча, счищала со ступенек грязь большой алюминиевой лопатой.
Полтора месяца, которые Наташа потратила на оформление паспорта, пролетели как один день. Она просыпалась и засыпала с мыслью о Париже и даже сны видела одни и те же — то она что-то покупает в парижском магазине, но ей не хватает денег, чтобы расплатиться, то у нее их нет вовсе, и все, что она купила, куда-то исчезает в последний момент. «Это оттого, что у меня никогда не было ни денег, ни тряпок», — думала она.
Сейчас же она чувствовала себя почти богачкой — Зинаида Федоровна ради такого случая сняла со сберкнижки свои «похоронные», которые отказывалась снять, даже когда болела и когда были нужны дорогие лекарства. Наташа расплакалась, но деньги взяла, потому что понимала, как рада за нее мать, — думать о грустных вещах, когда за окном бушевала весна и ее ждал Париж, было невозможно…
Потом Сережа принес двести долларов от ее бывшего мужа — брать их она не хотела, но что-то в выражении Сережиных глаз подсказывало ей, что лучше не ломаться и взять, и она, вздохнув, сунула деньги в карман халата. «Куплю Сереже хороший костюм — он скоро кончает школу. А маме — шерстяное платье. И себе что-нибудь на лето… Может, когда-нибудь он сможет стать Сереже настоящим отцом?..»
Он позвонил ей за два дня до отъезда — попросил взять небольшую посылку и передать человеку, который подойдет к ней в аэропорту в Париже. И, как всегда, ее поразило, что звук его голоса парализует ее и лишает способности к сопротивлению. В его просьбе не было ничего предосудительного, но ей казалось, что, если бы он попросил ее о чем-нибудь невозможном, она бы все равно согласилась, несмотря ни на что. Впрочем, она тут же начала укорять себя в мнительности: «Все происходит оттого, что он дал деньги, а я взяла. От этого мне и неловко. Не надо было брать. Надо было ехать с тем, что есть. Хотя при чем тут деньги?.. Сереже нужен отец, и деньги тут совершенно ни при чем. И мои обиды тоже ни при чем: все это было двенадцать лет назад. Он мог измениться. В конце концов, тогда он мог просто разлюбить меня. Или встретить другую женщину. Ведь женился же он вскоре после развода?.. Ну да, женился — и снова развелся. Ну и что? Может, он просто не создан для семейной жизни? Впрочем, сейчас мне все это уже совершенно безразлично… Главное, чтобы у Сережи был отец. Скорее бы уехать, я так устала…»
Думать о том, что от нее все равно не зависело, ей не хотелось, и она отгоняла от себя мысли о бывшем муже, которые назойливо преследовали ее на протяжении всего последнего года. Словом, она была в эйфории.
Когда Наташа приехала в Шереметьево, регистрация пассажиров на ее рейс еще не началась — она пристроилась со своим обшарпанным чемоданом где-то в стороне и, наблюдая за шумной толпой, думала: «И что меня сюда принесло в такую рань? Наверное, я стала как тетя Нина, которая всегда приезжает на вокзал за час до отхода поезда. Но тете Нине шестьдесят семь, и она всего боится. А мне — тридцать три… Ленка бы сказала, что это комплекс незащищенной женщины. И была бы права. Незащищенной и к тому же брошенной. Брошенной, как старый башмак… Да-да, как старый, рваный, никому не нужный башмак. Без пары».
Какие-то люди — элегантно одетая молодая женщина и двое мужчин в дорогих костюмах — остановились неподалеку от нее, и Наташа, чтобы отвлечься от непрошеных мыслей, стала прислушиваться к разговору. Они вспоминали какого-то Сеземана, который бросил жену и живет в Париже, и хохотали, и ей казалось, что у них невероятно счастливая и беззаботная жизнь и что поездка в Париж для них — то же самое, что для нее поездка с мамой в гости к тете Нине — на Трубную, а вовсе не событие вселенского масштаба.
Она почувствовала, что на глаза у нее наворачиваются слезы, и подумала, что напрасно отговорила Сережу ее проводить — сейчас ей было бы не так одиноко. Но тут же, вспомнив про Париж, она заставила себя успокоиться — раз уж она туда летит, то, может, не все еще так плохо в ее жизни?
Прошло полчаса. До регистрации оставалось несколько минут, и Наташа огляделась в поисках человека, который должен был передать ей посылку. Никого не заметив, она направилась к стойкам, где пассажиры заполняли таможенные декларации, достала ручку и приготовилась писать.
— Наталья Владимировна?
Наташа вздрогнула и обернулась — перед ней стоял невысокий мужчина средних лет с большим родимым пятном на правой щеке.
— Я от Юрия Дмитриевича…
— Как вы меня напугали! — выдохнула Наташа и тут же подумала: «Какой странный… Неужели он тоже ученый?»
— Извините, я не хотел.
Он достал из нагрудного кармана небольшой плоский сверток и протянул ей.
— Вот… Юрий Дмитриевич просил передать. Отдадите человеку, который подойдет к вам в аэропорту.
— Как он меня узнает?
— Не волнуйтесь, вас опишут по телефону.
— Кто?!
— Как кто? Юрий Дмитриевич.
— Ах да, конечно… Хорошо, давайте, я уберу в чемодан.
— В чемодан не надо — здесь очень важные документы. Если багаж потеряется, они тоже пропадут, а этого ни в коем случае…
— Разве багаж может потеряться? Его же регистрируют!
— У нас все может быть. Положите это в сумочку или в карман. Повторяю, здесь очень важные документы, и Юрий Дмитриевич просил, чтобы…
Человек явно нервничал и начинал сердиться.
— Хорошо-хорошо! — перебила она. — Не беспокойтесь!
«Что там такое, и почему он меня ни о чем не предупредил? Я бы не стала связываться! Впрочем, какое мне дело? Какие-то документы… Это его проблемы».
Она убрала сверток в сумочку и повернулась к столу, на котором лежала ее декларация.
— Вы случайно не знаете, как ее заполнять? — спросила она, но никто не ответил: когда она обернулась, человека с родимым пятном уже не было.
Дальше все прошло в страшной суете. Она выстояла в огромной очереди к таможеннику, симпатичному парню с рыжими волосами и веснушчатым лицом. Он отругал ее за неправильно заполненную декларацию, но когда она сказала, что летит за границу впервые и ничего не знает, улыбнулся, и ей показалось, что он похож на Сережу. Неожиданно для себя Наташа сказала ему об этом, и он улыбнулся снова.
Она взяла чемодан и перешла в следующую очередь, поменьше, — на регистрацию. Когда перед ней оставался один человек, она слегка замешкалась и вдруг почувствовала, что кто-то слегка задел ее чемоданом. Наташа обернулась. «Pardon, madame, excusez-moi!»[1] Это был иностранец в плаще и клетчатом шарфе. «Француз…» — рассеянно подумала она, слегка кивнула и тут же забыла о нем.
Регистрация прошла без малейших затруднений, потом был паспортный контроль, где ей уже никто не улыбался, и, наконец, она оказалась в просторном зале ожидания, где набралось довольно много пассажиров. Она села на банкетку, открыла сумочку, повертела в руках сверток и переложила его в пластиковый пакет, в котором лежал ее зонт.
Наконец объявили посадку. Пассажиры, подхватив ручную кладь, сгрудились у ворот, где две улыбающиеся стюардессы выдавали посадочные талоны, и по длинному рукаву потянулись к самолету. Очутившись в салоне, Наташа нашла свое место. Оно оказалось с левой стороны, между двумя другими креслами, в одном из которых, около иллюминатора, сидела необъятных размеров женщина. Она приветливо посмотрела на Наташу, убрала с ее сиденья увесистую сумку и спросила, нет ли у нее ручной клади. Наташа беззаботно ответила, что у нее вообще нет почти никакой клади, что она летит всего на неделю, к подруге, и ей ничего особенного за эту неделю не понадобится.
— Я понимаю, у вас будет много багажа на обратном пути.
— Почему?
— Но вы же будете делать шопинг?
Наташа рассмеялась.
— Нет, я куплю подарки своим, и на это у меня вряд ли уйдет много времени.
— Вы хорошо знаете Париж? — Дама была явно настроена поболтать.
— Я столько читала о нем и столько раз о нем мечтала, что, мне кажется, я действительно хорошо его знаю. Но еду туда в первый раз.
— Вы говорите по-французски?
— Совсем чуть-чуть. Я учила его в институте, но это было давно…
И вдруг приятный мужской голос с легким акцентом весело произнес у нее за спиной:
— Если мадам не возражает, мы могли бы немного попрактиковаться…
Она обернулась. Это был тот самый француз, который толкнул ее на регистрации — в плаше и клетчатом шарфе.
— Это семнадцатое место? Значит, я ваш сосед. Позвольте представиться: меня зовут Филипп Левек. А вас?
— Меня — Наташа.
— О, это мое любимое русское имя. Так вы согласны поговорить со мной по-французски?
— Нет, только не это! — рассмеялась она. — Я все давно перезабыла!
— Не волнуйтесь, я буду не строгим учителем!
Наташа внимательно взглянула на него.
— Зато вы наверняка были прилежным учеником: вы так хорошо говорите по-русски…
— Напротив, я был ужасным лоботрясом. Мой русский язык — это заслуга моей бабушки. Ее звали Екатерина Васильевна Крамская, и она говорила по-русски так, как, увы, уже давно никто не говорит.
— Так вы русский?
— Нет, я француз. Во мне только четвертинка русской крови. Моя бабушка уехала из России во время революции и вышла замуж в 1918 году во Франции за моего деда, стопроцентного француза. С усами.
Наташа рассмеялась.
— Стопроцентный француз должен быть непременно с усами?
— Вспомните Бальзака, Флобера, Мопассана…
— Лермонтова, Гоголя, Горького…
Они рассмеялись.
Стюардесса объяснила, что делать, если самолет потерпит крушение, попросила не курить и пристегнуть ремни. Лайнер вырулил на взлетную полосу, и через несколько минут они уже были в воздухе.
Филипп спросил, где она будет жить, сказал, что это один из самых дорогих кварталов Парижа, что это рядом с Пасси, где когда-то жили его родители, что неподалеку — Булонский лес и что он даже знает этот дом, потому что когда-то бывал там у знакомых русских. На ее вопрос о том, чем он занимается и что делал в России, ответил: он издатель, интересуется русской литературой — и назвал массу людей, знакомых ей по институту, — у одних она училась, других знала просто потому, что их знали все.
Потом они болтали о какой-то чепухе, смеялись и ужасно раздражали сидевшую рядом толстую тетку.
Наташе казалось, что они давно знакомы и хорошо понимают друг друга, и когда шасси упруго ударились о бетонное покрытие посадочной полосы аэропорта «Шарль де Голль» в Руасси, она страшно удивилась — у нее было ощущение, что полет продолжался не более десяти минут.
Филипп встал, пожелал ей хорошо провести время и попрактиковаться во французском языке, вежливо спросил, не может ли быть ей чем-нибудь полезен в Париже, на что она дрожащим от обиды и разочарования голосом ответила: «Ннет». Затем он снял с верхней полки свой кейс, вежливо подал ей ее сумку и полиэтиленовый пакет, который тоже был наверху, поблагодарил за приятно проведенное время, попрощался и быстрыми шагами направился к выходу. Наташа, вздохнув, тихонько задушила едва родившуюся маленькую надежду, надела плащ и тоже заторопилась к выходу.
Взяв с резинового транспортера свой чемодан и, стараясь не отставать от пассажиров, летевших с ней одним рейсом, чтобы не заблудиться, Наташа направилась к паспортному контролю. Пограничник, немолодой крупный брюнет с усами («Стопроцентный», — подумала она), долго и внимательно рассматривал ее паспорт, потом что-то строго спросил ее по-французски, чего она не поняла, и в конце концов пропустил. С замиранием сердца она направилась по широкому коридору к выходу, и в тот момент, когда впереди, среди встречающих, она разглядела под огромным черным табло свою подругу, махавшую ей рукой, к ней подошел человек в потертой кожаной куртке и на чистом русском языке спросил: «Вы — Наташа?» Она поставила чемодан, вытащила из полиэтиленового пакета сверток и протянула ему.
— Спасибо. А это вам. — Он достал из-за пазухи плоскую коробку, завернутую в красивую оберточную бумагу.
— Для Павловского? — спросила она.
— Нет-нет! Это вам! Маленький сувенир.
— Что вы, зачем?
— Мне сказали передать — я передал. Вы оказали нам очень большую услугу…
— Спасибо, но, право же…
Однако человек не был расположен выслушивать ее возражения: он энергично сунул пакет в карман, сделал приветственный жест и быстро зашагал по направлению к выходу.
Зажав коробку под мышкой, Наташа бросилась к подруге и вдруг услышала за спиной знакомый голос:
— Natacha, bonne journee![2]
Наташа обернулась — Филипп Левек весело помахал ей рукой и скрылся в толпе встречающих. «Странно, он все еще здесь?» — мелькнуло у нее в голове, но в этот момент Лена уже душила ее в своих объятиях.
— Кто это? — спросила она, кивнув вслед удаляющейся фигуре Филиппа.
Наташа небрежно махнула рукой.
— Так… Вместе летели.
— Красивый мужик. Ты хоть познакомилась с ним?
— Угу…
Говорить о Филиппе не хотелось.
— Дай хоть на тебя посмотреть! Какая ты красивая, Ленка! Париж явно пошел тебе на пользу.
— Париж всем идет на пользу, ты в этом скоро убедишься.
— Хочешь сказать, что мне все это не снится?
— Дурочка ты моя, конечно, нет! Сейчас мы с тобой сядем в машину…
— Неужели твоя?
— Ну да, можешь поздравить. Правда, это всего-навсего «жигули», но зато экспортный вариант… И потом, разве еще недавно мы с тобой могли мечтать хотя бы о таком средстве передвижения?
— Как хорошо! Значит, мы сможем съездить в Версаль?
— Ну конечно! Завтра же и поедем. Или в воскресенье.
— Нет, сперва Париж, а уж потом…
— Не забывай, что я работаю. С понедельника тебе придется ходить и ездить без меня. По крайней мере, днем.
— Жалко… А отпуск? Хотя бы на пару дней!
— Смеешься? Лето, полно работы. Да и командировка моя скоро кончается.
— Ты же писала, что собираешься остаться еще на несколько месяцев?
— Ничего не вышло. Знаешь, сколько здесь таких, как я, желающих. Так что еще месяц-полтора — и все. А вот и мое авто. Как тебе, ничего? Тогда садись. Приедем домой, немного придешь в себя, пообедаем, поговорим, а вечером я покажу тебе Париж.
Машина выбралась из многоярусного гаража и вырулила на шоссе, по обеим сторонам которого возвышались многочисленные рекламные шиты и отдельно стоящие бетонные здания не совсем ясного назначения. Единственное, что отличало эту дорогу от Ленинградского шоссе, по которому она ехала в Шереметьево, — это совершенно зеленые деревья, тогда как в Москве последних дней апреля деревья были еще голые.
— Так что это был за француз? — весело спросила Лена.
— Просто француз. Мы сидели рядом в самолете.
— Что значит «сидели»? Вы познакомились?
— В том смысле, что мы представились друг другу, — да.
— А в каком смысле — нет?
— Ленка, перестань! Ты же все прекрасно понимаешь! Мы посидели, поговорили, даже нашли общих знакомых, а потом он сказал «merci» и «au revoir» и преспокойно ушел. Очевидно, к жене.
— Ты сама, наверное, отшила его! Я же тебя знаю!
— Боюсь, на сей раз все было наоборот, — вздохнула Наташа. — Хотя… В какой-то момент мне показалось, что он смотрит на меня с некоторым интересом…
— А какие это у вас могут быть общие знакомые?
— Даже не знакомые, а так… Он знает кое-кого из тех, у кого мы с тобой когда-то учились. Например, профессора Меретинского.
— А-а… Ну это бесперспективно.
— Вот именно. Поэтому давай переменим тему. Расскажи лучше о себе.
— Да что рассказывать? Я тебе обо всем писала. Работаю каждый день до семи вечера: сижу на телефоне, отвечаю на одни и те же вопросы. Устаю ужасно. Когда прихожу вечером домой, веришь, уже ничего не хочется. Сижу перед телевизором, зеваю, а в десять собираюсь бай-бай.
— Телевизор-то хоть французский смотришь?
— Да что ты! Я за день от этого французского устаю как собака.
— А в выходные?
— А что выходные? В субботу надо убраться, постирать, погладить, накрутиться. Когда все переделаешь, сил и времени остается только на то, чтобы немножко погулять в Булонском лесу с кем-нибудь из посольских баб, таких же одиноких, как я. Лес, между прочим, совсем рядом.
— Я знаю. А в воскресенье?
— В воскресенье иногда езжу в центр…
— Иногда? Ленка, ты же в Париже! Как ты можешь так бездарно проводить время? «Убраться, погладить…» В Москве будешь убираться и гладить, а здесь надо ходить, смотреть, впитывать в себя эту красоту.
— Да что ты понимаешь! На зарплату, которую я здесь получаю, ничего особенно не впитаешь. Билет в Лувр стоит столько же, сколько приличная футболка. А потом, знаешь, я один раз сходила туда и так устала, что еле до дому дотащилась. Ты же помнишь, что я совершенно равнодушна к живописи.
— Ну хорошо, а город? Ты же можешь просто ходить по городу?
— Какое удовольствие ходить, если нет денег? Здесь на каждом углу соблазны…
— Если у тебя нет денег, что же говорить мне? — усмехнулась Наташа.
— Это разные вещи. Когда живешь здесь и знаешь, что это, увы, на очень короткий срок, что скоро вернешься и сядешь опять на мизерную зарплату, начинаешь очень рационально планировать расходы.
Наташа рассмеялась:
— Я только сейчас начинаю понимать, до какой степени я беззаботно живу.
Лена смутилась:
— Ты извини, я, наверное, кажусь тебе эгоисткой, но, знаешь, здесь все такие. Я тебя познакомлю со своей приятельницей — она не мне чета, она — жена дипломата. Вот кто преподаст тебе настоящий урок здравомыслия.
Наташа засмеялась:
— Жена дипломата — это звучит, как название должности.
— Это почти так и есть! Ты бы видела, как они себя здесь носят! А на самом деле… точно так же считают копейки, как и мы, техсостав. Хотя денег у них в десять раз больше.
Тем временем машина как-то незаметно оказалась в городе. Они ехали по довольно широкой и маловыразительной улице, по обеим сторонам которой росли высокие платаны. Проехали мимо огромного бетонного сооружения за металлической оградой, напоминавшего скорее огромных размеров дзот, и Лена сказала, что это российское посольство. Потом машина свернула влево, выехала на небольшую площадь, где Наташа успела разглядеть ресторан и напротив него — небольшую бензозаправку, сделала еще один поворот и оказалась на узкой улочке, в конце которой, в проеме между домами, Наташа с восторгом увидела верхний ярус Эйфелевой башни.
— Это — рю де ля Тур, улица Башни, — сказала Лена. — Здесь мы с тобой будем жить.
Она притормозила, повернула направо и въехала в подземный гараж, расположенный под одним из домов.
Наташе все казалось необычным: погруженный в полную темноту гараж (его этажи уходили глубоко под землю); поблескивающие в темноте бетонных боксов красивые автомобили; маленький лифт, обитый изнутри мягкой ковровой тканью, в котором они прямо из гаража поднялись на четвертый этаж, где жила Лена и где пришлось зажечь свет, так как в коридоре было совершенно темно.
Квартира оказалась небольшой, с крошечной кухней, где едва мог поместиться один человек, но в остальном напоминавшей московскую — наверное, за счет типовой стенки и давно вышедшего из моды старого советского дивана.
— Вот, — сказала Лена, показывая на стоящую в углу раскладушку. — Взяла у коменданта специально для тебя. Очень удобная, с матрасом. Располагайся.
Наташа кое-как побросала свои немногочисленные пожитки на полку, которую Лена освободила для нее в шкафу, и подошла к окну, выходившему в небольшой, но очень симпатичный закрытый дворик с тщательно выметенными асфальтовыми дорожками и аккуратно подстриженными газонами. Стены соседних домов были увиты плющом, поднимавшимся до самых крыш.
Потом Наташа приняла душ в красивой Ленкиной ванной кремового цвета, заставленной заманчивыми пузырьками и баночками, надела ее пушистый махровый халат и блаженно растянулась на диване:
— Поверить не могу…
Лена накрывала на стол.
Через час появилась жена дипломата, оказавшаяся энергичной сорокапятилетней брюнеткой с гладко зачесанными волосами и большими золотыми серьгами в ушах. Наташа с аппетитом поужинала и даже немного захмелела, выпив почти полбутылки розового вина. Откинувшись на спинку стула, она рассеянно слушала рассказы Ленкиной гостьи о недавно купленных тряпках. Впрочем, разговор довольно быстро изменил направление, и Наташа, с изумлением вслушиваясь в речь Нины Гавриловны (так звали гостью), вспомнила об обещанном Ленкой уроке здравомыслия.
— Леночка, — говорила та покровительственно, — мы здесь живем четвертый год, и это наша третья командировка, и, как вы догадываетесь, не последняя, потому что Ивана Степановича очень ценят в МИДе… При этом я никогда не позволю себе купить первое попавшееся молоко или яйца. Я иду в один магазин, где молоко стоит пять франков двадцать сантимов, потом в другой, где оно на пятнадцать сантимов дешевле, а в третьем, оказывается, его можно купить за четыре восемьдесят. Не смейтесь: на одном только молоке много не сэкономишь, но вы же берете много продуктов? А я и вовсе покупаю на четверых, представляете? Сорок сантимов сэкономишь на молоке, пятнадцать на масле, семь на яйцах, а всего за одну ходку — франков двадцать чистой экономии.
Наташа подумала: «Она сумасшедшая».
— А теперь посчитайте, — продолжала жена дипломата. — В магазин вы ходите не меньше трех раз в неделю, то есть в месяц двенадцать раз. Умножьте двадцать на двенадцать, получится двести сорок франков. И это за месяц! А за год? Почти три тысячи франков! Это же стоимость хорошего пальто или нескольких пар обуви. А вы говорите — ерунда! — В ее голосе звенело настоящее торжество.
«Лучше быть нищей, как я, чем иметь такое в голове», — подумала Наташа и зевнула.
Они выпили еще вина, и беседа приняла более игривый характер.
— Вы представляете, Нина Гавриловна, — затараторила Ленка, — эта дурочка познакомилась в самолете с красивым французом и не закадрила его.
Жена дипломата смерила Наташу взглядом, который означал что-то вроде «Где уж ей, бедной!», и тут же рассказала поучительную историю из собственной жизни — о том, как до замужества за ней ухаживал венгр. («Такой интересный мужчина!»), который учился в МГИМО и дарил ей цветы, но она предпочла ему своего Ивана Степановича и ничуть об этом не жалеет.
Наташа не выдержала:
— Не пора ли нам взглянуть на Париж?
Все засуетились и встали из-за стола. Нина Гавриловна церемонно попрощалась, сказав, что ей надо идти кормить мужа и дочерей, и подруги, попудрив носы, вышли из дома.
— Зачем ты сказала ей про француза? — недовольно спросила Наташа.
— А что такого? И потом, мне так надоело слушать ее поучения, что захотелось сменить пластинку. Вчера она даже выговаривала мне за то, что я за свой счет пригласила подругу, то есть тебя. Сказала, что это безумие.
— Это действительно безумие…
— Ну вот еще! Ты же возишься там с моей квартирой! Если бы не ты, разве я смогла бы накопить эти деньги?
— Ленка, ты даже не представляешь, что ты для меня сделала! Это я — твоя должница.
Они пересекли площадь Татгрэн.
— Мы пойдем во-он по той красивой улице, — сказала Лена. — Она называется авеню Виктор Гюго и ведет к Триумфальной арке и Елисейским полям. Там такие магазины!.. Правда, нам с тобой в них делать нечего — это для богатеньких, но посмотреть витрины нам ведь никто не запретит? Там дальше — я тебе покажу — выставлено такое потрясающее платье!.. Черное. Оно бы тебе фантастически пошло! Правда, стоит оно… — Лена закатила глаза. — Лучше не спрашивай.
— Я и не спрашиваю. Что это за церковь?
Лена пожала плечами.
— Понятия не имею! А там на углу — видишь? — потрясающий итальянский магазин. Безумно дорогой, но там такие костюмы… Наташка, тебе надо приодеться.
— У меня всего триста долларов.
— Знаешь, у меня с финансами обстоит не очень хорошо, потому что после покупки машины я… сама понимаешь, а квартирные деньги я хочу употребить на ремонт. Наташка, — она мечтательно вздохнула, — вернусь в Москву, сделаю евроремонт и тогда подумаю наконец о личной жизни.
— Как тебе удается все так замечательно распланировать? И главное — привести в исполнение…
— Эх, Натуленька, ты правильно выразилась, — вздохнула Ленка, — именно «привести в исполнение». Как расстрел. Я планирую, вычисляю, подсчитываю, а ведь мне уже тридцать пять… У тебя, по крайней мере, есть сын, а у меня — никого. И вряд ли уже будет. В лучшем случае я найду себе какого-нибудь подержанного мужика, который придет на все готовое — получит отремонтированную квартирку и какую-никакую машину. А будет ли любить?.. Кто ж его знает?.. И любит ли кто-нибудь кого-нибудь в наше время? Ты вот осталась одна, Татьяна твоя — одна, почти все мои подруги — одинокие несчастные бабы. А ведь и не дуры, и собой почти все недурны, а ты так просто красавица.
— Брось, какая я красавица! Это раньше я была ничего, а теперь… При такой жизни, как моя… Смотри, какие красивые балконные решетки!
— Не говори глупостей, ты — настоящая красавица. Тебя только надо немного приодеть, ты уж извини. Этот костюм дурацкий на тебе… Сколько у тебя денег? Триста долларов? Это, м-м, примерно, тысяча семьсот франков. Не бог знает как много, но все-таки кое-что. Я знаю одно местечко, где можно недорого купить что-нибудь приличное. Завтра поедем.
— Ленка, видишь ли, из этих денег — двести долларов от моего экс-мужа…
Ленка с живостью перебила ее:
— От Павловского? Ты же не хотела у него ничего просить? Вы что, помирились?
— Ничего мы не помирились! — рассердилась Наташа. — Сережка зачем-то сказал ему, что я еду в Париж. И, мне кажется, попросил для меня денег. И так радовался этим деньгам, что у меня язык не повернулся от них отказаться.
— Вот еще! — возмутилась Лена. — Он столько лет не платил алименты, что должен тебе в сто раз больше! И нечего себя за это корить. Дал, и хорошо. Как говорят, с паршивой овцы..
— Я об этом как-то не подумала, но все равно… А третья сотня — это мамины «похоронные» (ненавижу это выражение), которые она сняла с книжки. Ты понимаешь, что я не могу потратить их на себя? Сережа совсем раздет, а мама… Мама, конечно, ничего, как всегда, не просит и ничего не хочет, но я не могу ее не порадовать: хочу купить ей платье.
— Ты всегда думаешь о других! Это, конечно, похвально, но надо же когда-нибудь подумать и о себе! Ты считаешь, что Зинаида Федоровна сняла деньги с книжки, потому что хотела иметь какую-то дурацкую тряпку? Она сделала это для тебя, и она права — ты молодая красивая женщина и тебе надо устроить свою жизнь. А Сережа еще маленький, потерпит.
— Видишь ли, Ленка, завтра, пока ты свободна, я бы предпочла посмотреть Париж, а в понедельник или во вторник, когда ты все равно пойдешь на работу, я что-нибудь присмотрю.
— Наташка, вот! — Лена остановилась перед ярко освещенной витриной и дернула ее за рукав. — Смотри! То самое платье, о котором я тебе говорила!
Это было то, что называется «маленькое черное платье», очень простое и очень элегантное. Наташа, закрыв на секунду глаза, представила себя в нем.
— Пойдем, всех моих денег не хватит даже на пуговицу от него…
Она потащила подругу за собой, но та продолжала оборачиваться и причитать:
— Эх-эх, а ведь к нему еще нужны туфли и сумочка!
— Какой смысл мечтать о глупостях? Пошли скорей — вон арка!
— Ну, арка… Чего в ней хорошего, в этой арке?
— А где Елисейские Поля? Ах да, вижу! Пойдем скорее туда!
По Елисейским Полям в обоих направлениях медленно двигалась нарядная разноязыкая толпа. Наташа заметила африканцев в экзотических национальных одеждах, американцев с дорогими фотокамерами, японцев в очках и белых рубашках. В какой-то момент ей даже показалось, что она слышит русскую речь. Лена, не замолкая ни на минуту, показывала ей витрины дорогих магазинов, переполненные террасы кафе и комментировала туалеты проходящих мимо женщин, восхищаясь элегантностью француженок.
— Смотри, какая шляпа! Представляешь, пройтись в такой шляпе по Тверской!
— Для такой шляпы нужен соответствующий спутник, хотя бы такой, как у нее. А со спутниками у нас с тобой…
— Спутник не проблема. Вот, например, мой московский жилец, Виктор. Как он тебе?
— Никак. Посмотри, как красиво!
Они спустились по Елисейским Полям к площади Согласия.
— И напрасно! — продолжала Лена. — У него куча денег. Приехал из Волгограда, открыл свое дело и теперь собирается покупать квартиру в Москве.
— А где Елисейский дворец?
— Ты меня не слушаешь? Хочешь сказать, что для тебя он слишком примитивен? Попробуй найти другого. Что-то не очень это у тебя получалось до сих пор.
— Ничего, вот я приоденусь… — усмехнулась Наташа.
— Напрасно ты иронизируешь! Мужики в первую очередь обращают внимание на то, как женщина одета…
— А во вторую? Начинают интересоваться богатством души?
— С тобой невозможно разговаривать. Смотри, какие туфли! — Лена потащила ее к витрине. — Из крокодиловой кожи. Двенадцать тысяч, представляешь? Две тысячи долларов! Есть же люди, которые могут себе это позволить!
— Эти сады спроектированы Ленотром. Помнишь, мы в институте учили про него текст?
— Не очень. Это ты всегда была отличницей. В сущности, ведь это ты, а не я, должна была бы здесь работать.
— Если бы я была на твоем месте, — кто знает? — может быть, я тоже сидела бы после работы дома, а в выходные стирала и гладила. А так, я знаю, воспоминание об этом останется со мной до конца жизни. Ленка, ты сама не знаешь, какой подарок мне сделала…
Когда они повернули назад, было уже совсем темно. Они так устали, что идти к Эйфелевой башне сил не было даже у Наташи. Они немного посидели на скамейке под развесистым платаном и медленным шагом направились к дому.
— Наташка, ты совсем спишь, — сказала Лена, когда они вошли в квартиру. — Давай-ка скорей ложиться.
— Я вчера легла в два. Сперва собиралась, а потом мы с мамой сидели на кухне и говорили про Париж. — Наташа зевнула. — Бедная мама, ей так и не удалось нигде побывать. А проснулась в пять утра, боялась опоздать в аэропорт.
— Ты ложись, а я пока в душ. Я быстро.
Ленка бросила на расставленную раскладушку стопку белья, зажгла на тумбочке маленький ночничок и закрылась в ванной. Наташа, зевая, принялась стелить себе постель, потом открыла шкаф, чтобы достать ночную рубашку, и увидела коробку в красивой оберточной бумаге, которую ей всучили в аэропорту. «Я и забыла… Неужели духи?»
Наташа повертела коробку в руках, пытаясь сообразить, как ее открыть, чтобы не повредить обертку, которая могла для чего-нибудь пригодиться, и в конце концов, надорвав бумагу и тонкую картонную стенку, заглянула внутрь. Это были не духи. В плоской коробке были аккуратно упакованы три толстые пачки стодолларовых купюр, туго перевязанные банковскими лентами.
Наташа не верила своим глазам.
«Боже мой, что это? Это же деньги! — Она почувствовала, что ее бросило в жар. — Что же такое я им привезла? Какую „большую услугу“ им оказала?.. Наркотики! Ну, конечно, что же еще? За что еще платят такие деньги? Боже мой, боже мой… Нет, не может быть! Пакет, который я везла, был совсем маленький. Сто грамм? Меньше. Граммов пятьдесят, не больше. Такие деньги „курьерше“ за пятьдесят граммов наркотика? Не может быть… А, какие, собственно „такие“? Сколько здесь? Какая разница, не пересчитывать же их! Все равно много. Что делать? Сказать Ленке? Пойти в полицию? Здесь, в чужой стране? А если меня арестуют? Или выпроводят с позором? Да и что я скажу? Я же не знаю, что было в этом чертовом свертке! Они меня засмеют. Или посадят. Разве я имела право везти с собой неизвестно что? А Ленка? Она с ума сойдет. Они тут в посольстве всего боятся. Еще не хватало взваливать на нее свои проблемы! Позвонить в Москву? Ленка говорила, что здесь можно звонить прямо из автомата. Зачем? Спросить у него, что это за деньги? Он скажет, теперь ему скрывать нечего. Или солжет. И что я буду делать? Нет, звонить не буду, ничего это не даст. Просто привезу ему эти деньги и брошу в физиономию… Что же делать?..»
Она услышала, что Лена выключила воду. Она быстро потушила свет, легла, спрятав деньги и разорванную коробку под одеяло, и притворилась спящей. Ей хотелось как можно скорее остаться наедине со своими мыслями и по возможности спокойно обдумать положение. Ленка в шлепанцах прошаркала мимо нее и легла, скрипнув диванными пружинами.
— Спишь? — спросила она.
Наташа не ответила.
— Ну спи спокойно, — проговорила Лена и, сладко зевнув, повернулась к стене.
Лежа в темноте, Наташа старалась унять биение сердца, которое стучало так сильно, будто готово было выпрыгнуть у нее из груди. Она вытащила из-под себя пачки и сунула их под подушку, но даже так ей казалось, что они жгут ее, как раскаленное железо.
«Что же делать, что делать?..» Она подумала о матери: «Что бы сделала мама на моем месте? Ясно — что: пошла бы, ни минуты не раздумывая, „куда следует“. Она всю жизнь прожила в страхе. А последние тридцать с лишним лет еще и в нищете. После смерти отца. Да и при отце… Что у них было?»
Наташа вспомнила, как они жили после смерти отца, который умер в шестьдесят третьем году, когда ей было всего два года. Маминой зарплаты едва хватало, чтобы сводить концы с концами. Вспомнила, как они стирали полиэтиленовые пакеты, остававшиеся от каких-то покупок, и сушили их в кухне, на веревке, пристегивая бельевыми прищепками. А банки и бутылки из-под молока? Ничего не выбрасывалось, мама все тщательно мыла, и маленькая Наташа ходила в соседний переулок, где принимали стеклотару и где всегда была огромная очередь. Она вспомнила, как ненавидела стоять в этой очереди и как бежала потом домой, заходя по дороге в булочную, и покупала там хлеб и сахар на полученные копейки. А чулки? Мама штопала ее чулки, которые носились годами, и Наташа всегда стеснялась снимать с себя обувь перед уроком физкультуры. А сколько лет мама носила одну и ту же пару обуви?..
Наташа вспомнила, как они жили на даче у тети Нины, папиной сестры, как мама ходила в магазин, а потом рассчитывалась с ней, отдавая ей часть купленных продуктов. Наташа до сих пор помнила клочки бумаги, на которых мама своим аккуратным почерком записывала расходы: хлеб — 13 копеек, молоко — 16, сливочное масло — 72… Всего — рубль одна копейка. Чтобы она когда-нибудь взяла чужое?.. Ей вспомнилось, что однажды, когда ей было десять лет, маме по ошибке дали в сберкассе большую сумму, чем следовало. Мама заметила это только дома и сразу побежала назад. Когда она, минуя очередь, подошла к окошку и объяснила, в чем дело, кассирша, полная пожилая женщина, охнула и, взявшись за грудь, разразилась благодарностями, и в этот момент Наташа отчетливо услышала, как в очереди кто-то назвал маму идиоткой…
И она сама такая же, как ее мать. Почему она отказалась от алиментов? Даже не отказалась, а просто ничего не сделала для того, чтобы их получать? Из гордости? Может быть, правы те, кто говорит, что надо жить по-другому? Еще говорят: «В наше время…» При чем тут время? Человеком надо оставаться в любое время. И что толку? Разве ее матери легче живется, оттого что она «человек»? Отдала ей свои последние деньги — можно себе представить, чего ей это стоило! Бедная мама!
А если взять не все, а хотя бы немного? Ровно столько, чтобы хватило на подарки и чтобы вернуть матери.
Ну да, спорила она сама с собой, а остальное куда она денет? Раздаст бедным? Выбросит в Сену? Положит под камень, как Раскольников? Или вернет бывшему мужу?
«Он меня знает, — думала Наташа, — он даже, наверное, не очень удивится. А может быть, Ленка права? Может, он хочет расплатиться со мной за все эти годы? Знает, что я ни за что не взяла бы у него, если бы он просто предложил, и решил сделать это таким образом?.. Ерунда, я же взяла у него двести долларов… Может, он только и ждет, что я швырну ему эти деньги в лицо?.. — Наташа усмехнулась и тут же подумала: — Что я буду делать, если их найдут на таможне? Как я объясню, откуда они у меня? Французы не станут со мной церемониться. Наши — тем более».
Она вздохнула, и вдруг ее на мгновение пронзило острое предчувствие счастья, и когда оно прошло, она стала ждать, не вернется ли оно опять. Но оно не возвращалось, и в голову снова полезли воспоминания.
Когда-то давно, еще в школе, ей нравился мальчик из параллельного класса, и как-то на танцах ей ужасно хотелось, чтобы он пригласил ее. Но мальчик не обращал на нее ни малейшего внимания и почти все время танцевал с ее одноклассницей, родители которой часто бывали за границей, — на ней было такое платье, о каком Наташа не могла даже мечтать. «Лезет же в голову такая ерунда!» — с досадой подумала она и повернулась на другой бок.
На Ленкиной тумбочке пискнули электронные часы — на светящемся циферблате было два.
«Мне тридцать три года. Я хожу в единственном костюме, купленном на вещевом рынке. У меня нет даже пары приличных туфель. Я не помню, когда последний раз делала себе маникюр. Если бы в самолете я не выглядела как чучело…»
Мысль о Филиппе была ей неприятна, и, чтобы не думать о нем, она стала вспоминать Москву и свои московские проблемы. «У всех Сережиных друзей давно есть компьютер… Он не просит, но я знаю, как ему хочется его иметь. Скоро он начнет встречаться с девочками, но ему даже не на что пригласить их куда-нибудь. А если он не поступит в институт? Говорят, что от армии можно откупиться только за большие деньги. А квартира? Я даже не могу пригласить к себе своих коллег, мне стыдно. Последний раз ремонт делали еще при отце, в шестидесятые годы. А сейчас денег нет не только на евроремонт, о котором мечтает Ленка, нет даже на самый простой, на побелку потолков и на обои. А отвалившийся кафель в ванной? А сантехника? Все течет».
Она вспомнила роскошную ванну из зеленого мрамора, выставленную в витрине на авеню Думер, по которой они с Ленкой возвращались домой. «Без мраморной ванны я как-нибудь проживу, но сделать ремонт хотя бы в кухне…»
Наташа зевнула. «Это не может быть наркотик — слишком маленький сверток… А шпионаж? Если шпионаж, то все равно уже все произошло, уже ничего не исправишь… Да и не может этого быть! Кому нужны наши секреты? Их и так все знают. Какая-то химия… Может быть, научное открытие? Ну, конечно! Сказал же этот тип в Шереметьево, что там какие-то документы. Он всегда подавал надежды, мой бывший муженек… Может, он действительно хочет таким образом загладить то, что произошло двенадцать лет назад? Хочет искупить свою вину? Начал же он встречаться с Сережей!.. Да и кто об этом узнает? Никто… Впрочем, завтра… все завтра. Завтра я подумаю…»
Она опять зевнула, и снова у нее на короткое мгновение возникло то же предчувствие — острое и очень яркое. «Я в Париже. Я уже в Париже. И это не сон», — подумала она, закрывая глаза.
— Наташка, вставай! Мы проспали — половина одиннадцатого!
Наташа открыла глаза. Утро было великолепным. Через опущенные жалюзи проникал яркий солнечный свет и слышалось пение птиц. Лена суетилась у стола.
— Как хорошо! — Наташа блаженно потянулась. — Я замечательно выспалась! Куда пойдем?
— Погоди, сначала позавтракаем, а потом отправимся искать тебе приличный и недорогой костюм.
— Ну нет, только не это… К черту костюм! — Она снова потянулась.
— То есть как это — нет?
— Не хочу никаких костюмов! Поедем на Монмартр…
— Хорошо, на Монмартр, как скажешь. Там, кстати, полно дешевых лавок. Одевайся и садись за стол.
Наташа встала, сняла с себя ночную рубашку. Когда Лена скрылась в кухне, быстро завернула в нее лежавшие под подушкой деньги и спрятала в шкаф. Через пятнадцать минут подруги сидели за столом, на котором в полной боевой готовности их ждали кофе со сливками, горячие круассаны, два сорта сыра, масло и апельсиновый джем. Запах еды приятно щекотал ноздри.
— Как вкусно! — зажмурилась Наташа, делая первый глоток ароматного кофе.
— Попробуй-ка вот это, — Лена протянула ей круглую коробочку. — Это надо намазать на круассан.
— «Бурсен», — прочитала Наташа. — Это у нас что?
— Мягкий сыр. Попробуй, ты обалдеешь. Обычно я завтракаю йогуртом, но сегодня, по случаю твоего приезда…
«Бедная Ленка! Все экономит», — подумала Наташа, отправляя в рот кусочек круассана с сыром.
— В жизни не ела ничего подобного! Давай купим чего-нибудь вкусненького к обеду?
— Разве вчера было невкусно? — обиделась Лена.
— Что ты, очень вкусно! Просто мне не нравится, что ты из-за меня так тратишься, — я хочу что-нибудь купить сама.
— Сиди уже со своими тремя сотнями! У меня полно еды в холодильнике. Ты боишься остаться голодной?
— Не сердись. Мне так хорошо… Если бы ты знала, как мне хорошо… Слышишь, как поют птицы?
— Слышу. Ешь давай! Надо как следует заправиться — мы едем на полдня.
— Спасибо. Больше не хочу. Поехали скорей!
Поездка на Монмартр не доставила Наташе ожидаемого удовольствия. Ленка застревала у каждой из многочисленных дешевых лавок, расположенных на прилегающих к Монмартру улицах, и каждый раз Наташе приходилось подолгу уговаривать ее идти дальше. Ленка сопротивлялась, обещала, что посмотрит «только вот эту, последнюю, голубенькую», но бесконечные ряды юбок, кофт и платьев увлекали ее все дальше и дальше вглубь бездонных, похожих на ангары, арабских магазинов. Или же она останавливалась перед выставленными прямо на тротуары огромными металлическими контейнерами, доверху набитыми тряпьем, и вместе с другими женщинами начинала самозабвенно копаться в ворохе одежды, периодически извлекая из общей кучи какую-нибудь мятую футболку или замысловатый топ и предлагая Наташе примерить или хотя бы посмотреть. Наташа отговаривалась тем, что не хочет ничего покупать для себя, и с ужасом думала, что ей придется отбиваться таким образом еще и завтра. «Скорей бы понедельник! Ленка уйдет на работу на целый день». Ей тут же стало стыдно и жалко Лену, и она решила, что перед отъездом как-нибудь незаметно оставит ей денег, чтобы она могла купить себе то, что ей захочется. «Потом что-нибудь придумаю и как-нибудь ей объясню».
Наконец они вырвались из цепких объятий дешевой коммерции и стали подниматься по довольно крутой, но очень живописной лестнице на вершину Монмартрского холма. При виде многочисленных туристов, беззаботно и весело шагавших рядом и шумно переговаривавшихся на разных языках, к Наташе вернулось хорошее настроение, и она с наслаждением всматривалась в великолепную панораму города, открывавшуюся ей с каждым шагом наверх.
Поднявшись, они зашли в белую, как сахар, базилику Сакре-Кер, где в полумраке горело множество свечей, и туристы, осторожно ступая и стараясь разговаривать шепотом, обходили по боковым приделам неф, где сидели немногочисленные молящиеся. Подруги сели на краешек длинной деревянной скамьи. «Сколько же лет я не была в церкви?»
Наташа не была религиозна, хотя и заходила иногда в маленькую церковку неподалеку от дома. Но каждый раз, когда она попадала туда, с ней происходила одна и та же история — в первый момент появлялось какое-то странное, размягчающее душу чувство, от которого хотелось плакать, но когда она подходила к алтарю, где стояли молящиеся, и начинала прислушиваться к монотонному голосу батюшки, ей становилось скучно. Она не могла разобрать слов и раздражалась, оттого что служба идет на старославянском языке, который она не понимала; потом начинали уставать ноги, а сесть было некуда; потом ей начинало казаться, что старухи неодобрительно поглядывают на ее непокрытую голову, и тогда она поворачивалась и, опустив глаза, тихонько выбиралась на улицу, с наслаждением вдыхая полные легкие воздуха.
Здесь же не было ни утомительно, ни скучно и почему-то хотелось спросить у того, кто, возможно, смотрел на нее сверху, хорошо ли то, что с ней происходит, хороша ли это кончится и права ли она, что ей так радостно и легко.
Потом они долго стояли на смотровой площадке, и Ленка, путаясь, старалась объяснить ей, где находится рю де ла Тур, что за купол посверкивает вдалеке, почему не видна Сена и как называется эта церковь. Было уже шесть, когда они обе, усталые и голодные, спустились с холма и сели в машину, поджидавшую их неподалеку на маленькой улочке с каким-то смешным названием.
Вечером они собирались пойти куда-нибудь снова, но пришли соседки и стали расспрашивать Наташу про московскую жизнь и так охали, когда она говорила о ценах, погоде и эпидемии гриппа, которая свирепствовала в Москве перед ее отъездом, будто она приехала не из Москвы, а из далекого таежного поселка. Ленка накрыла на стол, кто-то из женщин принес вина, кто-то фруктов. Постепенно разговор перешел на тряпки, цены, потом на детей, мужей и просто на мужчин. Наташа поняла, что рассчитывать на длительную прогулку уже не приходится, но все же позже, когда было уже темно, они вышли побродить по окрестным улочкам, останавливаясь перед освещенными витринами уже закрытых магазинов, и Наташа думала: «Скорей бы понедельник…»
В воскресенье Наташа проснулась рано и сказала, что хочет пойти в Лувр или музей Орсэ. У Лены вытянулось лицо, и Наташа расхохоталась:
— Ленка, тебе совершенно не обязательно идти со мной!
— Но ты же можешь сходить туда завтра, когда я буду на работе, а сегодня мы могли бы поехать куда-нибудь вместе.
— Тогда, может быть, съездим в Версаль?
Лена вздохнула:
— В Версаль так в Версаль. Там, правда, тоже полно картин, и билет стоит франков пятьдесят…
— Билеты покупаю я…
— Вот еще! Тогда я не поеду.
— Ну, хорошо. «Бедная Ленка! Оставлю ей побольше денег».
Версальский дворец понравился ей меньше, чем она ожидала, хотя рассматривать картины было намного интереснее, чем витрины в магазинах женской одежды, но очень понравился парк. «Какие деревья… Теперь я понимаю, почему они так выглядят на картинах Коро».
Они обошли парк, побывали в Большом и Малом Трианоне, видели королевскую ферму, постояли около фонтанов, и когда вечером, еле передвигая ноги от усталости, они добрались до машины и с наслаждением плюхнулись на сиденья, Наташа с замиранием сердца подумала: «Завтра, завтра, завтра…»
Понедельник начался со звонка Ленкиного будильника. Торопливо одеваясь, она объясняла Наташе, что ей надо съесть, куда пойти и где поменять деньги:
— Меняй только там, где я сказала. В бутики не ходи, там дорого, — только в большие магазины. И ни в коем случае не выбрасывай чеки — потом все можно поменять или даже вернуть обратно. И не вздумай нигде пить кофе — поешь дома как следует и возьми с собой бутерброд. И не забудь ключ — я вернусь только в восьмом часу.
Как только за Ленкой захлопнулась дверь, Наташа вскочила, приняла душ, заставила себя проглотить полчашки холодного чая, натянула джинсы и слегка попудрилась. Потом с бьющимся сердцем достала одну из спрятанных на полке пачек, с любопытством повертела в руках — она впервые видела столько денег сразу, — надорвала бумажную ленту и вытащила несколько стодолларовых бумажек, не считая. Потом немного подумала, вытащила еще примерно столько же и убрала в сумку. Остальное, тщательно завернув в полотенце, спрятала в самом дальнем углу полки, аккуратно прикрыла дверцу шкафа и вышла из квартиры.
Она никого не встретила ни в коридоре, ни в лифте, и только консьержка, сидевшая на первом этаже за стеклянной перегородкой, проводила ее хмурым взглядом.
Выйдя на улицу, Наташа глубоко вдохнула прохладный утренний воздух и быстрым шагом направилась в сторону авеню Виктора Гюго по единственному ей известному пешеходному маршруту, ведущему в центр.
Город просыпался: открывались магазины, газетные киоски, завсегдатаи кафе торопливо допивали за стойками утренний кофе, гарсоны в длинных белых фартуках расставляли стулья на террасах в ожидании дневных посетителей. Наташе, с наслаждением вглядывающейся в будничные подробности парижской жизни, казалось, что когда-то она уже здесь была и все это видела, а сейчас ее память медленно восстанавливает давно забытые картины. На нее никто не обращал внимания — она чувствовала себя свободной, наслаждаясь сознанием этой свободы и тем, что впереди у нее целый день и почти целая неделя, которая казалась ей вечностью. Ее переполняло предчувствие какой-то неведомой радости, и московская жизнь со всеми ее тяготами и заботами отодвинулась так далеко, что, если бы кто-нибудь в эту минуту напомнил ей, что у нее где-то есть сын, мать, работа, она бы почти удивилась.
Дойдя до маленькой площади, в центре которой бил незамысловатый фонтан, она приостановилась, рассеянно глядя, как какой-то господин достает из банкомата деньги — она никогда не видела этого раньше, — и господин, заметив это, недружелюбно покосился в ее сторону. Немного дальше она перешла улицу, привлеченная видом большого цветочного магазина, перед которым прямо на тротуаре были выставлены ведра с живыми цветами. Она постояла перед витриной, разглядывая причудливые сооружения из цветов, веток и бумажных лент.
Сделав еще несколько шагов по направлению к Триумфальной арке, она увидела бутик, в витрине которого накануне они с Ленкой любовались черным платьем.
Возможно, если бы оно оказалось на прежнем месте, она бы прошла мимо, скорее всего даже не останавливаясь. Но платья не было, и худенький манекен с застывшим взглядом демонстрировал ярко оранжевый костюм. Она почувствовала разочарование и, подойдя к витрине, сквозь стекло заметила внутри элегантно одетых мужчину и женщину, о чем-то оживленно беседовавших друг с другом, и, поколебавшись мгновение, вошла в магазин.
Мужчина и женщина как по команде прервали разговор и с удивлением воззрились на Наташу, которая, призвав на помощь все свое мужество и знание французского языка, попыталась слепить более или менее законченную фразу:
— Hier il у avait une robe noire dans la vitrine…[3]
Они долго не могли понять, чего она хочет, или делали вид, что не понимают, и смотрели на нее довольно недружелюбно, особенно женщина. Наконец, платье было извлечено откуда-то из недр магазина. Наташа жестом показала, что хочет примерить его, и женщина — как ей показалось, неохотно — проводила ее к примерочной кабине. Наташа плотно задернула занавеску и начала торопливо раздеваться, стараясь не смотреть на себя в зеркало, и только застегнув на себе молнию, подняла глаза на свое отражение.
Это была не она. Это была совершенно другая женщина, с другой фигурой, другой пластикой и даже другим выражением лица. И опять ее на мгновение пронзило предчувствие чего-то нового и необыкновенного. Она еще раз с жадностью окинула взглядом свое отражение и провела ладонями по шелковистой ткани, как бы проверяя, на самом ли деле это платье существует или оно только мерещится ей в Зазеркалье. Ей было ужасно жалко его снимать — любая женщина поняла бы ее в эту минуту, — но и остаться в нем было нельзя: старые кроссовки и дешевая сумка из искусственной кожи портили всю картину. Она нерешительно отодвинула занавеску и сделала несколько шагов в зал. Женщина взглянула на нее и что-то растерянно пробормотала, что Наташа по нескольким знакомым словам приняла за одобрение; мужчина же не сказал ничего, но его взгляд говорил больше всяких слов. Она вернулась в кабинку, быстро переоделась и, протянув женщине платье, сказала, что покупает его и просит упаковать. «Мне надо поменять доллары», — пояснила она и бросилась в сторону площади с фонтанчиком, где, проходя несколькими минутами раньше, заметила банк.
Подойдя к дверям, она вдруг испугалась — ей пришло в голову, что доллары могут оказаться фальшивыми или какими-нибудь мечеными. Однако деваться было некуда: толкнув тяжелую дверь, она вошла внутрь и с бьющимся сердцем протянула одну стодолларовую купюру в окошко для обмена валюты — на пробу.
Однако ничего не произошло — банковский служащий, молодой человек в очках и голубой рубашке, быстро взял из ящичка банкноту и столь же быстро положил в него соответствующую сумму во франках, даже не взглянув на Наташу. Когда она положила в ящичек еще девять бумажек, молодой человек с удивлением поднял на нее глаза, но ничего не сказал и спокойно повторил операцию. Наташа забрала деньги и вернулась в магазин.
— Deux mille sept cents quarante francs, Madame,[4] — надменно проговорила продавщица.
Наташа расплатилась, взяла протянутый ей элегантный пакет и вышла на улицу. «Теперь надо купить, туфли и сумку. Но это потом». Она шла, улыбаясь от сознания своего могущества, ключ к которому лежал в легком бумажном пакете.
Выйдя на Елисейские поля, она почувствовала, что хочет есть. Ее манили открытые двери и полные народу террасы кафе, но войти она не решалась. «Надену платье и тогда посижу где-нибудь», — думала она, как будто платье было магическим жезлом, способным вернуть ей силы и уверенность в себе. Она купила длинный сэндвич у одного из многочисленных уличных продавцов и села на скамейку, наблюдая за пестрой толпой и размышляя над тем, что будет делать дальше.
Доев бутерброд, она вспомнила, что неподалеку от Ленкиного дома есть парикмахерская и что она давно не делала себе прическу. Она встала и направилась в обратную сторону, стараясь на ходу сообразить, как с помощью ее скудного французского объяснить парикмахеру, что ей нужно. Объяснять, однако, ничего не пришлось. Она сказала: «Faites quelque chose»[5],— и мастер, симпатичный молодой человек, пристально и весело посмотрел на нее, кивнул, будто хотел сказать, что прекрасно понимает, чего она хочет, и энергично принялся за работу.
У нее были густые, довольно длинные (чуть ниже плеч) русые волосы с рыжеватым оттенком и слегка вьющиеся на концах.
— Vous avez de très beaux cheveux, Madame![6]
Она улыбнулась и в зеркале поймала на себе его весьма заинтересованный взгляд. «Он моложе меня лет на десять», — весело подумала она, и ее опять охватило сладостное предчувствие счастья.
Он довольно долго возился с ее волосами, подстригая, потом накручивая их на крошечные деревянные палочки, и говорил, говорил что-то по-французски, чего она не понимала, но что ей ужасно нравилось. В какой-то момент ей даже показалось, что она начинает различать знакомые слова, и она вспомнила то место из «Мастера и Маргариты», где Гелла во время сеанса в Варьете тарахтит по-французски, а женщины, странным образом с полуслова понимают ее, и засмеялась.
— Pourquoi vous riez?[7]
Она не знала, что ответить, и, продолжая улыбаться, помотала головой.
— Attention, Madame! — Какая-то штучка выпала у него из рук и покатилась по полу. «Неужели это не сон?» — подумала Наташа и закрыла глаза, чтобы «проснуться», когда все будет готово.
— Voila! — Мастер отошел от нее на пару шагов, чтобы полюбоваться результатом своих трудов.
Наташа открыла глаза и, посмотрев в зеркало, вспомнила, что, когда ей было лет двенадцать и она еще носила косы, иногда после мытья головы, когда волосы были еще чуть влажными, но чистыми и пушистыми, она любила, стоя перед зеркалом, уложить их вокруг головы мягкой волной, оставляя на шее и на висках небольшие завитки. «Прическа» почти тут же распадалась, но ей все-таки удавалось полюбоваться ею несколько секунд. И никогда с тех пор, как стала взрослой, она не могла добиться ничего подобного ни сама, ни объяснить парикмахеру, чего она хочет. И сейчас в чуть тонированном зеркале отражалась та самая ностальгическая прическа с теми же самыми рыжеватыми завитками на шее.
Потом она отправилась в Пасси, чтобы купить сумку и туфли, но, увидев большой и явно дорогой магазин косметики, зашла вначале туда. Она выбрала тушь, пудру, карандаш, тени — продавщица, почувствовав перед собой серьезного клиента, старалась вовсю — и наконец небольшой флакон своих любимых духов.
«Ну вот, осталось совсем немного…»
Она шла по Пасси, разглядывая витрины как человек, который может позволить себе купить все, что захочет. «Бедная Ленка…» Ей стало смешно при мысли о том, как быстро они поменялись ролями — еще два дня назад она чувствовала себя бедной родственницей, а Ленка комплексовала из-за того, что не может подкинуть ей денег.
Наташа купила сумку и, выйдя из магазина, заметила на противоположной стороне вывеску: «François Pinet». Она перешла через улицу и сразу же в углу витрины увидела простые черные туфли на небольшом каблуке. «Какое блаженство выбирать обувь, не глядя на цену», — подумала она.
Цена, однако, оказалась очень высокой, и молоденькая продавщица, сидя перед Наташей на корточках, помогала ей надеть туфли, а потом собственными ручками с отполированными ноготками, глядя на которые, Наташа сообразила, что совершенно забыла о маникюре, уложила ее старые, раздолбанные кроссовки в коробку с шуршащей белой бумагой. Наташа вышла на улицу, сделала несколько шагов и засмеялась от удовольствия — неведомый мастер сшил их, вероятно, специально для нее.
Потом, там же неподалеку, она зашла в небольшой «Макдоналдс», поднялась на второй этаж и закрылась в туалетной кабине. Когда несколько минут спустя из дверей единственного на весь квартал дешевого ресторана вышла молодая женщина в элегантном черном платье, большие часы на перекрестке улиц Пасси и де ля Помп показывали семь.
«Куда теперь?..»
Ей захотелось оказаться в каком-нибудь другом, неизвестном ей районе Парижа, и она двинулась вперед в поисках метро. Она прошла довольно большое расстояние, когда на одном из перекрестков ей попалась уютная и явно очень дорогая кондитерская. Воображая себя героиней романа, светской дамой, Наташа вошла в кафе, заказала чашку чая и пирожное со смешным названием «tete de negre»[8]. Сев за столик и сообразив, что это невинное удовольствие обошлось ей в сумму, равную половине ее зарплаты, засмеялась от удовольствия. Подобно Маргарите, она чувствовала себя помолодевшей, похорошевшей и немного ведьмой. Конечно, она ведьма, шпионка, преступница! Как, оказывается, весело быть грешницей! Как смотрит на нее этот господин в дорогом костюме! Какое наслаждение этот чай! К черту угрызения совести! К черту, к черту, к черту! Как хорошо!
Потом она села в метро и, ориентируясь на знакомые названия, доехала до Сен-Жермен-де-Пре. Постояла в соборе, любуясь лучами заходящего солнца, пробивающимися сквозь цветные витражи, потом с удовольствием посмотрела на представление маленького мима на площади перед собором и, вылезая из толпы, столкнулась с длинноволосым итальянцем. Он бросил на нее восхищенный взгляд и, прищелкнув пальцами, громко сказал: «Bella! Bella!»
«Да, я красива, красива, красива! Как хорошо!»
Часы на Сен-Жермен пробили восемь. Наташа почувствовала усталость и подумала, что пора возвращаться.
«Не пора ли домой? А платье? Может быть, снять? Что я скажу Ленке? Ладно, придумаю что-нибудь…»
Она двинулась в сторону метро и, проходя мимо полной народу террасы большого кафе на углу бульвара Сен-Жермен и какой-то неведомой ей улицы, почувствовала на себе чей-то взгляд. «Показалось», — мелькнуло у нее в голове. Она сделала пару шагов, но, словно повинуясь какому-то странному импульсу, вдруг обернулась: из глубины террасы на нее в упор смотрели черные глаза Филиппа Левека.
Впоследствии ей было всегда немного странно вспоминать эту минуту, и даже не минуту — несколько коротких мгновений, в течение которых она, нелепо остановившись посреди тротуара, смотрела на него, а он, тоже не сводя с нее глаз, не делал ни малейшей попытки ни заговорить с ней, ни сдвинуться с места — так, будто они оба, словно предчувствуя что-то, не могли или не хотели подойти друг к другу.
Наконец Филипп встал и направился к ней.
— Я вас едва узнал. — Он по-прежнему не сводил с нее глаз. — Я хотел вас позвать, но не был уверен…
— В чем?
— Что это вы. — Он немного помолчал. — Вы очень изменились.
Она с удовольствием заметила, что он растерян.
— Вы тоже.
— Я?
— Да. Вы кажетесь растерянным.
Они оба засмеялись.
— Я растерялся, потому что вы… вы такая красивая.
«Да. Да. Bella, bella!»
— Могу я пригласить вас за свой столик?
— С удовольствием. Я голодна как волк.
Филипп сказал, что пообедать они смогут только внутри, и они устроились на втором этаже в уютном уголке у окна. Она делилась с ним впечатлениями от Парижа, говорила весело, легко, часто вставляя французские слова и целые фразы, и каждый раз спрашивая его: «Правильно? Правильно я говорю?» — а Филипп, улыбаясь, смотрел на нее через стол.
Потом они вышли из ресторана. Наташа чувствовала себя отдохнувшей и полной сил, и когда он предложил походить по городу, охотно согласилась. Они пошли в сторону Эйфелевой башни, которую она еще не видела вблизи, и по дороге Филипп рассказывал ей про Париж.
Когда они дошли до Марсова Поля, начало смеркаться. Казалось, Эйфелева башня, подсвеченная изнутри, словно гигантский фантом, плывет над городом. Под башней, возле одной из опор, стояла длинная очередь: кто-то ел мороженое, кто-то жевал сэндвичи, сделанные из длинных французских батонов, кто-то развлекался светящимися в темноте дешевыми игрушками. Они тоже встали в очередь, и минут через тридцать большой оранжевый лифт поднял их на самую высокую точку Парижа. В Сене отражались разноцветные огни речных трамвайчиков, а город, который Филипп показывал ей сверху, словно таял в сиреневой дымке.
— Где ваш дом? — спросила она.
— Мой? Раньше я жил там, — Филипп показал куда-то на запад. — А теперь у меня дома нет… — и, заметив ее удивленный взгляд, объяснил: — Я развожусь с женой и пока живу у друзей. Это там. — Он протянул руку в другом направлении. — Впрочем, друзья возвращаются в это воскресенье, и мне, наверное, опять придется куда-нибудь переехать. Не пугайтесь, я вовсе не собираюсь становиться клошаром — я подыскиваю себе квартиру.
Спустившись, они перешли Сену по мосту Йена к Трокадеро, откуда со смотровой площадки любовались фонтанами: гигантские струи воды красного, зеленого и желтого цвета с ревом вырывались из огромных труб, похожих на пушечные стволы. Потом, увидев молодежь, танцующую под звуки тамтамов, по которым ритмично и вызывающе ударяли длинные ладони чернокожих музыкантов, Наташа, постоянно ощущая на себе его взгляд, начала самозабвенно двигаться в такт музыке. «Как давно я не танцевала!.. Он смотрит, как он смотрит!.. К черту, все к черту… Как хорошо…»
Они простились, когда было уже далеко за полночь. Наташа только сейчас сообразила, что Ленка, наверное, сходит с ума от беспокойства, и ей стало не по себе. Она вспомнила к тому же, что ей ещё нужно найти место, где переодеться, потому что сказать Ленке правду она не могла. Она протянула Филиппу руку, сказав, что чудесно провела время, и попросила не провожать ее до дома, в надежде, что ей, когда она останется одна, удастся придумать, что делать с платьем.
— Я увижу вас завтра? — спросил Филипп.
— Завтра?.. Да.
— Когда? Где?
— Я живу у подруги, которая рано утром уходит на работу… Когда хотите.
— Тогда в полдень, на Трокадеро, у входа в театр Шайо. — Он поцеловал ей руку и быстро зашагал прочь.
«Макдоналдс», расположенный недалеко от дома, был закрыт, идти было некуда. «Что же делать?» Наташа вернулась к дому и, набрав код, вошла в свой подъезд. Не зажигая свет и стараясь ступать как можно тише, спустилась в «нулевой» этаж, где находилась прачечная и стол для пинг-понга, переоделась, убрала все в сумку, вызвала лифт и поднялась на четвертый этаж.
— Ну, наконец-то! — Ленка сидела на кровати в пижаме, намазывая кремом лицо. — Где ты была? Я чуть с ума не сошла… Наташка, да тебя не узнать! Откуда у тебя такие туфли? И сумка… Боже мой, и прическа… Где ты была?
— Ленка, ты прости, что я задержалась…
— Да ладно… Где ты была?
Лена продолжала с жадностью рассматривать Наташины обновки.
— Я встретила своего француза.
— Так я и думала! Ну, рассказывай! Это он купил тебе туфли?
— Что ты, бог с тобой! Я сама купила… Не могла же я ходить бог знает в чем.
— А сумочку?
— Тоже.
— А что в пакете?
— Старые кроссовки.
— А эти сколько стоят? Наташка, я же тебя учила, где покупать! Такие туфли стоят небось тысячу франков.
«Бедная Ленка! — подумала Наташа. — Они стоят почти две».
— Ну да, около того… Это все неважно.
— А что важно? Он что, какие-то авансы тебе делал?
— Лена, ради бога, какие авансы?
— А что же?
— Не спрашивай, прошу тебя, не спрашивай…
— Ты только, знаешь, не сходи с ума… Ты же не девочка!
Наташа посмотрела на нее:
— Ленка, ты же помнишь: мы с Юрой прожили меньше двух лет. Когда он ушел от меня, мне было двадцать. И, знаешь, мне сейчас кажется, что этих тринадцати лет просто не было. Не было, понимаешь? — Наташа засмеялась и, взглянув на Лену, добавила: — Так что я, возможно, действительно еще девочка…
— Какая девочка, не валяй дурака! У тебя сын. Что? Ты как будто удивлена?
Наташа действительно вздрогнула, как будто только сейчас вспомнив, что у нее есть сын.
— У меня есть сын, — повторила она. — И что же?
— Ничего, просто надо держать себя в руках, а не сходить с ума. Рассчитываешь остаться тут?
— Вот ты о чем… А я, представь себе, вовсе об этом не думала. И вообще… ты не понимаешь.
— Я все прекрасно понимаю! Достаточно посмотреть на тебя, чтобы понять, что ты влюблена как кошка.
— Это плохо?
— Да, это плохо, потому что, прежде чем влюбляться, надо понять, на что можно с этим мужиком рассчитывать. И тогда уже действовать с холодной головой.
— Ты рассуждаешь, как Нина Гавриловна.
— Ну, знаешь!
— Ленка, прости меня, не сердись! Ты сама ругала меня за то, что я не закадрила его в самолете, а теперь почему-то сердишься…
— Я не сержусь, — вздохнула Ленка. — Наверное, я тебе просто завидую. Давай спать.
Они уже обе были в постели, когда Лена, погасив свет, спросила:
— Завтра опять?
— Угу, — ответила Наташа и блаженно улыбнулась.
А потом… потом была магия Парижа: чайки, с криком проносящиеся над зеленой водой Сены и Мостом Искусств; старые платаны, глядящие в окна Лувра, площадь Согласия, Латинский квартал: студенты, книжные развалы; Люксембургский сад — они сидели на металлических стульях, глядя, как дети пускают кораблики в большом круглом водоеме, и солнце играло в ее рыжеватых волосах; фонтан Марии Медичи, в воде которого грустно отражалось небо; бульвар Сен-Мишель — «Как вы его называете — Бульмиш?»; лоточники, торгующие старыми открытками; фонтан и мальчишки, собирающие со дна его монеты; рю Суффло, Пантеон и старая церковь — «Той самой святой Женевьевы, которая была покровительницей Парижа?»; рю Муфтар с ее ресторанчиками, маленькими рыночками и древними домами, которые видели, как умирает пятнадцатый век; снова Лувр, Тюильри — «Где был дворец?», Пале-Рояль… — «Здесь гулял Жерар де Нерваль с омаром на голубой ленточке вместо поводка. Не смейтесь, я не шучу»; парк Монсо — «У вас есть дети?» — «Да, сын»; церковь Мадлен, Гранд-опера, кафе де ля Пэ, где они пили кофе, — «А у вас?» — «Нет»; Новый мост, самый старый в Париже; букинисты; Консьержери — «Какой это век?»; стрелка острова Сите; сквер Вер-Галан: плакучие ивы, глядящие в зеленые волны Сены, — «Посидим здесь?»; Нотр-Дам, маленький садик за собором, где они ели мороженое, и химеры, ухмыляющиеся им сверху, — «Какой сегодня день?»; Монмартр, площадь Тертр, ее карандашный портрет, — «Вы подарите его мне?»; кривые улочки, звуки аккордеона, «Мулен Руж» с гологрудыми красотками; «Уже среда? Не может быть…»; Булонский лес: лодки, утки с утятами, гортанные крики павлинов на острове, дождь, шорох листвы, смех, доносящийся с террасы ресторана, — «Дай мне сигарету…»; скамейка на площади Сен-Сюльпис перед фонтаном «Четыре епископа», — «Уже совсем темно…»; крошечная лампочка под розовым абажуром на столике кафе, розовое пятно света на белой скатерти, запах его сигарет, красное вино в бокалах, его рука на ее запястье, его голос. «Поедем ко мне?»; такси, незнакомый квартал, шепот, едва различимый в темноте блеск его глаз, волшебство прикосновений. «Ты дрожишь…»
Наступила пятница. Они завтракали в маленьком кафе на углу улицы, где жил Филипп, и Наташа сказала:
— Послезавтра я уезжаю.
— Я не понимаю… Останься еще хотя бы на несколько дней.
Наташа покачала головой.
— Это невозможно.
— Почему?
— По многим причинам. Во-первых, меня ждут мама и сын; во-вторых, во вторник я должна выйти на работу; в-третьих, у меня в любом случае билет на воскресенье.
— Билет не проблема — его можно поменять. А даже если нельзя, всегда можно купить другой.
Наташа покачала головой и тихо сказала:
— Дело не в билете. Дело в том, что в воскресенье я должна быть в Москве.
Филипп взял ее за руку:
— Наташа, выслушай меня. Я развожусь с женой, и пока не будет покончено со всеми формальностями, я не смогу приехать…
— Я все прекрасно понимаю…
Он перебил ее:
— Ничего ты не понимаешь! Я, почти холостой, сорокатрехлетний бездетный мужчина, после четырнадцати лет неудачного брака, встречаю наконец женщину своей жизни, а она, на пятый день знакомства, говорит, что уезжает, потому что так нужно. Кому нужно? Почему ты не можешь позвонить на работу и домой и сказать, что задерживаешься на некоторое время? Если у тебя денежные затруднения…
— У меня нет денежных затруднений.
— Значит, ты просто не хочешь?
Она помолчала.
— Знаешь, я бы очень хотела, чтобы все было как-нибудь по-другому: я имею в виду собственные обстоятельства. Я бы, наверное, хотела чувствовать себя более свободной; я бы хотела, чтобы в Москве меня не ждал целый ворох проблем и чтобы все было легко и весело. Но весь опыт моей жизни, а он, видимо, очень не похож на твой, приучил меня к тому, что ничего не дается легко. И я не могу сейчас, вот так сразу, ни изменить свою жизнь, ни измениться сама. И потом… — Она отвернулась и замолчала.
— И потом?..
Наташа посмотрела ему в глаза и тихо сказала:
— Несколько дней все равно ничего не изменят…
— Хорошо. Ты сможешь выслать мне приглашение сразу по приезде? Через месяц я уже наверняка буду свободен.
Они встали из-за стола и вышли на улицу.
— Ты уверен, что тебе все это нужно? — спросила Наташа.
Филипп досадливо покрутил головой, как человек, которого не хотят понять.
— Наташа, если бы я мог, я бы прямо сейчас просил тебя стать моей женой, но сейчас — увы! — это невозможно. Не перебивай меня. Я прошу тебя остаться здесь до тех пор, пока не кончится бракоразводный процесс, то есть примерно на месяц. Остаться со мной, у меня, я завтра же сниму квартиру. С твоей работой все наверняка можно уладить, если уж эта твоя работа тебе так нужна. А твои мама и сын…
— Мои мама и сын, — перебила Наташа, — готовы для меня на все. Поэтому в воскресенье я вернусь в Москву, а ты будешь заниматься своими делами, и если через месяц ты еще будешь помнить обо мне, ты приедешь. И, пожалуйста, не надо сейчас больше ничего говорить, иначе я расплачусь, а у меня сегодня как-никак день рождения.
— Как! — Он привлек ее к себе. — Ты ничего не сказала… Поздравляю… Значит, сегодня мы отмечаем твой день? И завтра у нас еще целая суббота… В воскресенье я отвезу тебя в аэропорт, а через месяц мы встретимся. Bon anniversaire…[9]
Наташа слегка отстранилась от него.
— Филипп, к пяти часам я должна быть у своей подруги…
Она заметила, как у него вытянулось лицо.
— Не обижайся. Мне надо побыть с ней хотя бы недолго. Видишь ли, эта поездка — ее подарок. Если бы не она, я бы не могла даже мечтать о том, чтобы увидеть Париж. А я не была у нее со среды. Если хочешь, поедем вместе.
— Прости, но я не хочу видеть никаких подруг, даже если я обязан им тем, что встретил тебя. Ведь это не надолго? Тебе, надеюсь, не придется просидеть с ней весь вечер?
— Конечно, нет! Я схожу к ней на часок и…
— Хорошо. За это время я успею кое-куда сходить…
— Ты говорил, что сегодня у тебя нет никаких дел?
— Твою поездку, оказывается, оплатила подруга? А ты говорила, что у тебя нет денежных затруднений.
— Тогда были, а теперь — нет.
— Ты загадочна, как все русские. Когда — тогда? И что значит — теперь? Если, конечно, это не нескромный вопрос?
— Боюсь, что нескромным тебе покажется ответ.
— Все равно скажи.
— Скажу, только не сейчас. Может быть, завтра. А сейчас, пожалуйста, купи мне что-нибудь на память! — Она кивнула на сувенирный киоск, мимо которого они проходили. — Что-нибудь такое, что я смогла бы всегда носить с собой. Какой-нибудь брелок.
— Может быть, подождем до вечера?
— Пожалуйста, подари мне этот брелок, — она показала на маленький дешевый брелок в виде Эйфелевой башни.
Филипп пожал плечами и засмеялся:
— Хорошо… если он тебе так нравится…
В пять часов, когда Наташа вошла в квартиру, Лена переодевалась после работы.
— Ты все-таки появилась? — с обидой в голосе спросила она. — Я уж думала, что так и не увижу тебя до самого отъезда. Ну, тебя можно поздравить?
— Знаешь, он почти сделал мне предложение.
— Что значит «почти»?
— Он разводится с женой и предлагает мне остаться в Париже до конца процесса…
— То есть как это — остаться?
— Переехать к нему. Правда, у него даже и квартиры сейчас нет: он живет у друзей, которые приезжают послезавтра вечером.
— Квартира — не проблема, если у него есть деньги.
— Я, как ты понимаешь, не спрашивала его об этом.
— А как же виза?
— Виза у меня до конца июня, но дело не в этом.
— А в чем?
— Ленка, разве ты не понимаешь? Мама осталась без копейки — пенсия только на той неделе, да и хватит ее очень ненадолго. У Сережи кончается учебный год. Мне во вторник на работу. И еще много чего. Словом, мне надо быть в Москве.
— Подожди, что-то я тебя не понимаю. То есть я все понимаю про твои московские дела, но я не понимаю главного: ты выходишь за него? Что ты ему сказала?
— Я сказала, что, если после развода я еще буду ему нужна, пусть приезжает в Москву.
— А ты не боишься его потерять таким образом?
— Если через месяц ему это будет неинтересно, значит, я и сейчас ему не нужна.
— Ты так и осталась максималисткой…
— Это не максимализм. Я просто хочу, чтобы меня любили. И я не хочу еще раз пережить то, что я пережила со своим мужем.
— Ты сама-то любишь его?
— Ленка, родная, не спрашивай меня ни о чем!
— Все понятно. Ладно, будем справлять твой день рождения? Тебе надо было прийти с ним, мы бы познакомились…
— Он сейчас занят, мы увидимся вечером. Ты прости, что все так получилось…
— Да ладно!.. Сегодня останешься у него?
— Да, мы встречаемся в семь. Я заберу свои вещи, хорошо? Он сам отвезет меня в аэропорт.
Наташа поставила на стул чемодан, открыла шкаф и начала перекладывать в него свои пожитки. Когда Ленка вышла из комнаты, она развернула полотенце, в котором были спрятаны деньги, достала из пачки десять стодолларовых купюр и сунула их на Ленкину полку, под стопку носовых платков. Остальное положила в сумку. Они еще немного посидели, поговорили о пустяках, и Наташа простилась, пообещав, что позвонит перед самым отъездом.
Вечером Филипп повел ее в ресторан. Заказывая вино, он о чем-то долго переговаривался с официантом — тот подносил ему откупоренные бутылки, Филипп пробовал — сперва одно, потом другое и, наконец, остановился на каком-то «шато» с незапоминающимся названием. После того как они выпили за ее здоровье, Филипп достал из кармана небольшой черный футляр и протянул ей:
— Это тебе. Ты хотела что-нибудь, что можно всегда иметь при себе?..
Наташа открыла футляр — на тонкой черной коже лежали очень красивые, очень дорогие часы.
— На этих часах время бежит быстрее, чем на других. Ты и не заметишь, как пройдет этот месяц, — сказал Филипп и надел ей часы на левое запястье.
Вечером, уже дома, он спросил:
— Ты что-то хотела мне рассказать?
— Да, — она посмотрела на него, словно пытаясь понять, как он отнесется к тому, что с ней произошло. — Я, кажется, попала в ужасную историю…
Она рассказала ему о деньгах и о свертке, который получила в Шереметьевском аэропорту.
— Думаешь, твой бывший муж способен заниматься такими вещами? — спросил Филипп.
— До сих пор я считала, что нет. А теперь не знаю.
— Сколько там денег?
— Не знаю, три толстые пачки.
Филипп рассмеялся:
— Как это по-русски! Они с тобой? В любом случае, ты не должна их брать, пока не узнаешь, что было в свертке. Если твои опасения справедливы, к ним просто нельзя прикасаться — это грязные деньги. Их надо либо сдать в полицию, либо в какой-нибудь фонд по борьбе с наркотиками. Если это что-то другое, ты сама решишь, как с ними поступить, но в любом случае ты не должна везти их через границу, — Он немного помолчал. — Было бы еще лучше, если бы ты вообще ничего не брала от твоего бывшего мужа: я дам тебе достаточно денег, чтобы ты смогла прожить до моего приезда, ни в чем не нуждаясь, а потом…
Она перебила его:
— Ты прав — мне, конечно, лучше их не брать… Но у тебя я тоже не возьму. Как-нибудь проживу.
— Но почему? Ведь у тебя ничего нет!
— Я потратила почти тысячу долларов и еще одну тысячу оставила своей подруге. Она, правда, об этом еще не знает, но я позвоню ей перед отъездом, если придумаю, что сказать. И в сумке у меня — то, что осталось от первой тысячи во франках, мне этого хватит. Остальное пусть лежит у тебя. — Она заметила его движение: — Пожалуйста, не будем больше об этом говорить! Денег я у тебя все равно не возьму. А эти… Если окажется, что ничего плохого за ними не стоит, ты привезешь их в Москву. Будем считать, — она невесело усмехнулась, — что теперь тебе просто придется приехать…
В воскресенье утром Филипп отвез ее в аэропорт «Шарль де Голль». Она так и не позвонила Лене, решив, что сделает это из Москвы, когда все прояснится. Придумывать что бы то ни было она все равно была не в состоянии: она была поглощена мыслями о разлуке. Расставаясь с ним, точнее, решаясь с ним расстаться, она как бы соглашалась подвесить на ниточку свою жизнь. Думать о том, что произойдет через месяц, он не хотела, так как от нее все равно ничего не зависело, но она знала, что умрет, если потеряет его.
Они шли по длинным переходам аэропорта, и глаза её были полны слез. Филипп остановился, поцеловал её и сказал:
— Сейчас мы подойдем вон к той стойке и там расстанемся. Ты возьмешь себя в руки и спокойно пойдешь дальше. Вечером я позвоню тебе и буду звонить каждый день, и мы будем долго-долго разговаривать, и этот месяц пройдет очень быстро — мы увидимся, и никогда ничто больше не разлучит нас. Через несколько дней я все улажу с квартирой и сообщу тебе адрес, чтобы ты могла выслать мне приглашение. А сейчас ты будешь вести себя, как храбрый маленький солдат, и не будешь плакать.
Наташа кивнула. Они сделали еще несколько шагов, обнялись, она хотела что-то сказать, но застрявший в горле комок мешал ей говорить. Она постаралась взять себя в руки:
— Пожалуйста, теперь иди, пока я не разревелась окончательно. Я справлюсь. Иди.
Филипп снова поцеловал ее, Наташа быстро направилась к стойке «Аэрофлота», встала в конец небольшой очереди на регистрацию багажа, и в этот момент кто-то потянул ее рукав. Она обернулась. Перед ней стоял тот самый человек в потертой кожаной куртке, который в день приезда всучил ей коробку с деньгами.
Она сразу догадалась, что сейчас произойдет, и расширившимися от ужаса глазами, не в силах произнести ни слова, смотрела, как он достает из кармана куртки конверт.
— Я рад, что вы узнали меня. Передайте это господину Павловскому. Он знает.
Наташа попыталась что-то возразить:
— Это невозможно…
— Почему? — в его голосе послышалась насмешка. — Вы же взяли деньги? Не станете же вы устраивать скандал: здесь полно русских. Да и французам это вряд ли понравится.
Наташа огляделась: вокруг действительно было полно народу.
— Положите это в сумку и успокойтесь. Берите, мне надо идти.
Он почти силой заставил ее взять конверт и быстро зашагал прочь.
— Мадам, ваша очередь! Поставьте чемодан…
Почти не соображая, что делает, она сунула конверт в сумку, поставила чемодан на весы, что-то невпопад ответила на заданный ей вопрос и, взяв из рук служащей посадочный талон, оглянулась.
Она не знала, зачем она это сделала: может быть, надеялась еще раз увидеть родное лицо, может быть — в поисках спасения, хотя спасти ее могло разве что чудо, может быть, интуитивно, «просто так». Она так никогда и не нашла ответа на этот вопрос, хотя впоследствии часто вспоминала эту минуту, до бесконечности прокручивая в памяти эту крошечную деталь всего происшедшего, разрушившую ее жизнь в одно короткое мгновение. Обернувшись, примерно в ста метрах от себя она увидела Филиппа, спокойно беседовавшего с человеком, передавшим ей конверт.
«Они знакомы?.. Не может быть! Этого просто не может быть!»
В этот момент кто-то заслонил от нее Филиппа, и она на мгновение потеряла его из виду. Когда она увидела его снова, он шел к выходу вместе с человеком в куртке.
«Они уходят. Вместе… Что делать? Закричать? Швырнуть проклятый конверт? Позвать полицию?..»
Ее толкали какие-то люди, она слышала то русскую, то иностранную речь, она видела вокруг себя чужие лица. Что с ней? Что она делает? Кто эти люди? Куда они спешат? Почему им так весело? И что произошло? Какую страшную шутку сыграла с ней судьба?
Она почти не помнила, что было дальше. Ей даже не было страшно, она просто не успела испугаться. Она чувствовала себя оглушенной, как будто на нее свалилось что-то огромное и страшное и придавило ее. Она шла, как автомат, не отдавая себе отчета в том, куда идет, ни в том, что с ней происходит, ни в том, что ее ждет. Она почти не заметила, как прошла паспортный контроль, как убрала паспорт в сумку, и только потом сообразила, что на французской таможне ее никто так ни о чем и не спросил.
Войдя в самолет и отыскав свое место возле иллюминатора, она без сил упала в кресло и закрыла глаза. Ей нужно было осмыслить все происшедшее. Может быть, она ошиблась? Может быть, они вовсе не знакомы? Мало ли почему два человека могут заговорить друг с другом?
На мгновение она почувствовала облегчение: вечером он позвонит и скажет, откуда знает этого человека.
Мало ли какие невероятные совпадения бывают в жизни? Все объяснится, завтра все объяснится. Она открыла глаза, она почти успокоилась, как вдруг заметила, что пассажир, сидящий неподалеку от нее, встал с места и положил какой-то предмет на багажную полку, расположенную наверху. В то же мгновение она вспомнила: когда десять дней назад самолет приземлился в Париже, Филипп достал с верхней полки ее вещи. Зачем? Ответ был совершенно ясен: он все знал и боялся, как бы она не забыла сверток в самолете.
Потом воспоминания о других подробностях лавиной обрушились на нее. Филипп стоял за ней в очереди на регистрацию багажа. Стоял специально, чтобы попросить в салоне место рядом с ней. Но зачем? Чтобы познакомиться, чтобы быть рядом и проследить, все ли в порядке. Чтобы быть уверенным, что она не посмотрит, что в свертке. Мало ли зачем? Но ведь он потом сразу же ушел и не стал настаивать ни на каком знакомстве?.. Сделал вид, что ушел, потому что в тот момент, когда она передавала сверток человеку, давшему ей деньги, Филипп был рядом. Хотел удостовериться, что сверток попал по назначению?..
А в самолете? Он узнал о ней почти все, даже ее парижский адрес. Но ведь в Париже они встретились случайно? Встретились случайно, но он специально сказал ей, что знает дом, где она будет жить, и что он бывал в нем, чтобы она не удивилась, если встретит его там. Зачем? Зачем ему нужно было с ней встречаться? Господи, ну конечно! — ее бросило в жар. Деньги. Они дали ей эти деньги, чтобы купить ее, и, добившись своего, отобрали. Для этого все и было придумано. Ее поймали на крючок — что ж, она быстро проглотила наживку… Он сам заговорил о ее материальных затруднениях, сам навёл её на разговор об этих деньгах, сам предложил и даже настаивал на том, чтобы она оставила деньги у него.
«И ради этих денег он…»
Наташа застонала.
— Вам плохо?
Она невидящими глазами посмотрела на сидящего рядом пожилого человека в очках, ничего не ответила и отвернулась. Если бы она могла поговорить с ним, пожаловаться, выплакаться, спросить совета, только бы не оставаться наедине со своими мыслями… Но отчаяние было ее тюрьмой: из него не было выхода. Она снова и снова прокручивала в памяти все происшедшее, пытаясь найти лазейку к спасению: какое отношение мог иметь Филипп, который был знаком с Меретинским и с кем-то еще из профессуры института, где она когда-то училась, Филипп, который чуть ли не наизусть знал всю русскую классику, к наркотикам? Или к чему-то в этом роде? Откуда он мог знать ее бывшего мужа? У нее опять родилась маленькая надежда, и она пыталась поддержать ее в себе, как поддерживают маленький, чуть тлеющий огонек. Но он погас: она вспомнила, что Филипп не проводил ее до конца, это было бы так естественно. Он сказал ей, чтобы дальше она шла одна, чтобы взяла себя в руки или как-то еще… Он оставил ее одну, чтобы дать возможность этому человеку подойти к ней и отдать конверт. А потом дождался его и спросил, как прошла операция. Вот и все. Он не оставил ей ни адреса, ни телефона под предлогом того, что только ищет себе квартиру. А классика и профессура… Ее бывший муж прекрасно знает, чем ее можно купить. Она много раз с восторгом рассказывала ему о блестящих лекциях профессора Меретинского, который читал у них в институте теорию литературы.
Сейчас она вернется в Москву. Ее близкие ждут рассказов, подарков, любви. Что она теперь может им дать? Свою разбитую жизнь? Как все это могло произойти? Как она дала втянуть себя в эту историю? И в какой момент? Когда все это началось? В тот момент, когда в Шереметьево человек с родимым пятном отдал ей пакет? Или когда ей позвонил бывший муж?
Один раз он уже разбил ей жизнь…
Или она сама во всем виновата? Может быть, она просто влюбчивая дура, которая ничего не понимает в людях и дает себя обмануть первому встречному только потому, что он недурен собой и от него пахнет дорогим одеколоном? Разве он в чем-нибудь виноват перед ней, если она сама, сама, как глупый мотылек, полетела на огонь и сгорела? А он? Что ж, он задумал и блестяще осуществил намеченный план. Вольно ей было оказаться такой дурой. Ленка права: она всегда жила чувствами. Никто из ее подруг не дал бы втянуть себя в подобное приключение, любая из них вышла бы из этой истории сухой — получила бы удовольствие, накупила тряпок, набрала бы побольше денег и спокойно уехала домой, вспоминая о приятной интрижке с иностранцем. А чувства… Какие чувства? Кому они нужны в наше время?
Она вспомнила Филиппа, вспомнила, как он смотрел на нее, как целовал, вспомнила, как они занимались любовью, как он шептал ей французские слова. Разве все это могло быть ложью? И раз все-таки это была ложь, разве он не понимал, что рано или поздно эта ложь убьет ее? Что он сейчас делает? Пересчитывает деньги, которые она оставила ему? Радуется, что все хорошо кончилось?
Она терзала себя, пока всю ее душу не затопила боль.
Наташа не заметила, как заснула: ей приснился Филипп; он сидел рядом с ней и молчал. Она спрашивала его о чем-то, теребила его, кричала, но он не отвечал, а молча смотрел на нее, и взгляд у него был грустный и нежный.
Она проснулась, когда стюардесса принесла обед. Как хорошо было во сне!.. Правда, и во сне ее терзала эта невыносимая тупая боль, но во сне он был рядом, он смотрел на нее, и она так близко видела его лицо, его любимое лицо…
Она отказалась от еды, но попросила вина и с жадностью выпила целый стакан. Через час она будет в Москве. Что будет, если у нее найдут конверт? Ее арестуют, и ей даже нечего будет сказать в свое оправдание. Впрочем, она и не подумает оправдываться — ей все равно.
Она почувствовала, как шасси ударились о московскую землю. Все кончилось. Она встала, оглядела салон, будто окончательно прощаясь с Парижем, воздухом которого продолжала дышать в самолете, и вслед за пассажирами направилась к выходу. Ей довольно долго пришлось ждать, пока на резиновом транспортере покажется ее чемодан. Потом она встала в длинную очередь к таможеннику. Очередь двигалась медленно, и ей казалось, что с каждой минутой сил у нее остается все меньше и меньше. Когда очередь подошла совсем близко, она увидела, что таможенник — тот самый парень с рыжими волосами и веснушками, который улыбнулся ей в день отъезда. Вспомнила, как счастлива она была в тот день, когда с тремя сотнями долларов улетала в Париж. Неужели прошло только десять дней?
Перед ней оставался один человек. Она приготовила декларацию и паспорт, но таможенник долго не пропускал высокого гражданина с сутулой спиной, который стоял перед ней. Она пыталась вслушаться в их разговор, но ничего не понимала и вдруг, подняв глаза, различила среди встречающих, столпившихся за символической оградой, Зинаиду Федоровну. Она не почувствовала радости: наоборот, ужасная тоска сдавила ей сердце. У матери такое счастливое лицо… Чего она ждет? И как обмануть ее? Разве можно ее обмануть?
Человек с сутулой спиной наконец ушел: Наташа так и не узнала, что у него стряслось. Она поставила чемодан на маленький транспортер и положила перед таможенником паспорт с вложенной в него декларацией.
— Хорошо съездили? — улыбнулся он, рассеянно просматривая декларацию.
— Хорошо. Спасибо.
Губы у нее дрожали. Он с удивлением посмотрел на нее и коротко сказал:
— Проходите.
Почему он пропустил ее, ничего не посмотрев и ни о чем не спросив? Определил наметанным глазом профессионала, что у нее не может быть для него ничего интересного? Или просто пожалел? Но разве кто-то кого-то жалеет в этом безумном мире? Ей просто повезло…
Она с горечью усмехнулась. Может, было бы лучше, если бы ее «взяли»? В душе у нее жил такой ужас, что ей казалось, что страшнее того, что она испытывает, ничего уже не может быть. Даже тюрьма.
Она подошла к матери.
— Мамочка, здравствуй… А Сережа? Зачем ты ехала одна в такую даль? Я бы добралась сама…
— Я прекрасно прокатилась на автобусе — у Сережи какой-то вечер в школе. Сказал, что нужно пойти.
— Вечер? В воскресенье?
— Он теперь вообще очень мало бывает дома, ты заметила? И я уже больше не в состоянии с ним справляться. Хорошо, что ты наконец вернулась… Ну, ты довольна?
— Конечно. Очень.
— Ты какая-то бледная, — Зинаида Федоровна пристально всматривалась в нее.
— Это ничего. Вчера у Ленки просидели до глубокой ночи с ее подружками. Я почти не спала.
— Как Лена?
— Замечательно! Очень похорошела. Купила машину. И даже научилась водить.
— И ты не побоялась с ней ездить? Я, например, никогда не доверяла ее деловым качествам.
— И напрасно. Она стала очень практичным человеком.
— Значит, ее испортила жизнь за границей. Возвращаться она не собирается?
— Собирается. Месяца через два.
— Как тебе Париж?
— Париж прекрасен. Я тебе потом все расскажу.
Когда они приехали домой, было уже девять. Зинаида Федоровна в ожидании Сережи начала накрывать на стол, а Наташа, закрывшись в ванной и включив на полную мощность воду, зарылась лицом в полотенце.
Как вынести эту муку? Что сделать, чтобы остаться одной, никого не видеть, никому не улыбаться, не отвечать, ничего не рассказывать? Хорошо, что ‘скоро можно лечь. Она дождется Сережу, отдаст подарки и уйдет к себе. Она вспомнила, как покупала их вместе с Филиппом, как радовалась за маму и сына, и у нее защемило сердце. Сейчас ей было все равно. Ей хотелось остаться одной, ничего не чувствовать и ни о чем не думать. До сих пор она легко справлялась со своими бедами: у нее никогда не было ни денег, ни особых надежд, но характер у нее был легкий, и она жила легко, мечтая о будущем для сына и о спокойной старости для матери. Сейчас ей было все равно. Ей казалось, что у нее уже никогда не будет сил, чтобы справиться с жизнью, никогда не будет желаний, не будет любви. Никому. Ей хотелось умереть.
Она заснула быстро, почти сразу, но спасительный сон длился недолго — она проснулась как от удара, и на нее нахлынули воспоминания. Она вспомнила его руки, его глаза, его поцелуи, и ей стало так больно, что она застонала. Потом ей почему-то вспомнилось детство — мальчик, который жил на соседней даче и в которого она была влюблена, когда ей было шесть лет. Они часто играли на большой куче песка недалеко от дома, и однажды он погнался за ней с длинным прутом, на конце которого, на паутине, висел огромный паук, и она вспомнила, что ей было очень страшно.
Потом в памяти возник прекрасный город, залитый ночными огнями, полный праздничных звуков — музыки, голосов, смеха, шума дождя и шороха листвы, — город, который теперь казался ей сном.
Потом она вспомнила своего бывшего мужа. Вспомнила его лицо в тот день, когда он ушел. Вспомнила его взгляд: холодный, чужой, страшный. Вспомнила, что больше всего ее поразила внезапность его ухода, потому что они никогда не ссорились, и тогда, на совершенно ясном небосклоне их жизни было только одно маленькое облачко: он был совершенно равнодушен к Сереже. Но тот был еще маленький, и подруги успокаивали ее: у мужчин отцовское чувство развивается не сразу, все придет.
Однако ничего не пришло — только тот страшный день, когда он сказал, что уходит. Он не стал ничего объяснять, не стал просить прошения, извиняться. В его глазах она увидела равнодушие, которое было сильнее слез, слов, всего. И она никогда не могла простить ему этой внезапности: ей казалось, что ее отшвырнули как старый ненужный башмак. Ей казалось, что, если бы они поссорились, или он изменил ей, или она ему, а он не смог бы простить ей измены, если бы произошло что-нибудь человеческое — скандальное, пошлое, но человеческое, — ей было бы легче. Но он отшвырнул ее, как отшвыривают стоящий на пути бесполезный предмет. И вот теперь он снова, одним ударом, разбил ей жизнь.
Лежа без сна, она вспоминала самое страшное, что было в ее жизни, и хотя эти воспоминания больно терзали ей сердце, она боялась открыть глаза, потому что боялась вернуться к реальной жизни, в которой, как она думала, ей не было места. Она знала, что увидит привычное пятно на обоях, застиранные занавески, заклеенное пластырем стекло на книжной полке, но, главное, увидит конверт.
И вдруг она подумала о Сереже. «Он встречается с отцом. Что, если он втянет его в свои грязные дела?
Ведь втянул же он меня? Он же не мог не понимать, что, если со мной что-нибудь случится, мальчик останется без матери? Или он только этого и добивается? Но зачем? Зачем ему Сережа? Он прекрасно обходился без него двенадцать лет. Да и не стал бы он доверять мне сверток, если бы был какой-то риск, раз речь идет о таких деньгах. О деньгах…»
Она усмехнулась: какие там деньги, ведь деньги они отобрали, и как ловко… Но, может быть, она все-таки ошибается, и дело вовсе не в наркотиках? Может быть, это все-таки шпионаж или что-то другое?
Она никогда не знала точно, чем занимается ее муж, — знала только, что он работает в каком-то химическом институте и что он способный химик. Потом вспомнила, что Сережа с восторгом рассказывал ей о каких-то исследованиях, которыми занимался отец и в которых она ничего не понимала, но «ведь к наркотикам это никакого отношения не имеет»?
Потом она снова и снова мысленно возвращалась к его уходу, такому оскорбительному, такому внезапному… Он никогда не интересовался сыном и никогда не давал денег, а она не хотела ни просить, ни требовать через суд — и то, и другое казалось ей одинаково унизительным. Единственное, чего она тогда хотела, это никогда больше не видеть его и сделать так, чтобы Сережа никогда его не узнал.
Почему же год назад, когда он позвонил впервые за двенадцать лет и сказал, что хотел бы видеть сына, она сдалась? Сдалась не из-за себя — для себя она уже ничего не хотела от этого человека, — сдалась из-за Сережи, которому было двенадцать лет и ему был нужен отец.
Впрочем, того, что она ждала от этих встреч и ради чего пошла на жертву, не произошло. Из взволнованных мальчишеских рассказов она сперва ничего не поняла, а потом почувствовала, что отец так же равнодушен к мальчику, как и раньше, что встречается он с ним либо по обязанности, либо по какой-то другой, ему одному понятной причине. Она медлила, не решаясь положить этому конец, не решаясь вмешаться в столь важную для сына область жизни. И то, что Сережа не называл его отцом, а обращался по имени и отчеству или просто называл Дмитричем или Ю.Д., немного успокаивало ее ревность и тревогу. Она жила, переходя от страхов к надежде, не решаясь поверить в хорошее и ругая себя за то, что ей казалось мнительностью.
И вот теперь она знала, каков был этот человек, ее бывший муж и отец ее сына. Она пойдет в милицию или ФСБ и все расскажет. Что — все? Что она согласилась перевезти какой-то сверток? Ее спросят, что в нем было, и что она скажет?
Может, просто отнести им конверт? Пусть сами разбираются… А если там нет ничего плохого? Тогда почему же ей заплатили? Они могли бы просто использовать ее как перевозочное средство, раз она все равно ни о чем не догадывалась. Если же это наркотик, ее спросят, почему она согласилась его перевозить. Ведь она не имела права брать пакет, содержимое которого ей не было известно. И потом, если она выдаст мужа, он скажет про деньги, которые она получила. И что она сможет возразить? Кто ей поверит, что она отдала эти деньги первому встречному? Потому что кто же он, если не первый встречный? Она даже не знала его адреса, ведь он сам говорил, что квартира принадлежит его друзьям. Да и не сумела бы она найти ее в лабиринте парижских улиц!
С чем же она пойдет? И даже если его, Филиппа, найдут, что она сможет доказать? Ведь свидетелей нет, и она будет выглядеть как банальная искательница приключений, подцепившая смазливого иностранца…
При воспоминании о Филиппе у нее опять болезненно сжалось сердце.
Может быть, открыть пакет и посмотреть, что там? Она почувствовала отвращение. Да и что она в этом понимает? Значит, все-таки надо идти? А если это действительно какое-то преступление и ее посадят, что будет с мамой, с Сережей?
О себе она не думала, ей было все равно, но они? Она пойдет к нему и потребует, чтобы он ей все рассказал и, главное, оставил в покое Сережу. Иначе она его выдаст. Он наверняка согласится, его грязные дела ему наверняка дороже сына. Но что она скажет Сереже? И как сказать ему об этом? Ей пришлось бы уронить в его глазах не только отца, но и саму себя… Разве она сможет нанести ему такой удар? Что-нибудь придумать, солгать ему? Или все-таки посмотреть, что в конверте?
Вдруг на столике резко зазвонил телефон. Сердце ее отчаянно забилось. «Филипп!» Наташа дрожащей рукой схватила трубку, и звук собственного голоса показался ей чужим:
— Алло!
— А я был прав: ты не спишь…
Это был он, ее бывший муж. Она узнала бы этот уверенный, чуть насмешливый голос из тысячи других.
— Судя по всему, ты тоже…
Голос ее дрожал, и ей было досадно, что она не может скрыть свою слабость.
— Я только что вернулся из одной очень интересной поездки. А ты? Я надеюсь, ты хорошо провела время?
Это было вполне в его духе — вести себя так, будто ничего не произошло. Точно так же он говорил с ней, когда позвонил после двенадцати лет разлуки. Только бы выдержать, только бы йе показать ему, что она раздавлена, унижена, уничтожена, что она боится, что она готова броситься ему в ноги, лишь бы он оставил в покое ее сына.
Внезапно ее осенила мысль: она напугает его и посмотрит, как с него слетит вся его самоуверенность. Сейчас она ему за все отомстит. Господи, помоги!
— Прекрасно! И если бы не твои поручения, я провела бы его еще прекраснее.
— Что ж, я очень рад.
— Боюсь, что ты не так обрадуешься, когда узнаешь, что я потеряла конверт, который тебе просили передать…
«Я спешу, спешу, зачем я сказала о конверте первая? Надо было подождать, пока он спросит, Боже мой…»
Дорогая, ничего ты не потеряла. Конверт у тебя. И в данную минуту ты смотришь на него своими прекрасными глазами.
Это было правда: она не могла оторвать от конверта воспаленного взгляда. Павловский продолжал:
— И сейчас ты оденешься, спустишься вниз и отдашь его мне. И сразу успокоишься.
— Я совершенно спокойна! Но что будет с твоим сыном, ты подумал?
— Ничего с ним не будет. Я жду. — Жестко ответил он и повесил трубку.
Она не понимала, почему слушается его, почему покорно делает то, что он говорит. Неужели она его боится? И неужели он до сих пор обладает такой невероятной властью над ней?
Она дрожащей рукой нажала на рычаг и поняла, что проиграла.
Наташа встала с постели и начала лихорадочно одеваться. Затем взяла конверт, осторожно приоткрыла дверь и прислушалась: в доме было тихо. Дрожа всем телом и стараясь не шуметь, она выскользнула из квартиры.
Напротив подъезда стояла новенькая серебристая «хонда». Павловский не спеша вышел из машины и, опершись о капот, смотрел, как она переходит улицу.
— Ты неважно выглядишь, — проговорил он спокойно.
— Что в этом конверте? — спросила Наташа. — И что я везла из Москвы?
— А ты не догадалась? — Он и не пытался скрыть насмешку. — Ты всегда была наивной девочкой. Дай сюда!..
Павловский выхватил конверт у нее из рук.
— Мне все равно, что ты обо мне думаешь. Только скажи, это были наркотики?
— Значит, все-таки не такая наивная… Ну все, мне пора.
Наташа вцепилась ему в рукав.
— Сережа что-нибудь знает?
— Успокойся. Никто не тронет твоего Сережу. — Он высвободил руку. — Мне нужно было переправить кое-что в Париж: ты как раз и подвернулась. Я знал, что таких, как ты, никогда не досматривают, и, как видишь, оказался прав. И потом, чем ты недовольна? Тебе же заплатили!.. Ну, все. Мне пора. Merci.
Он сел в машину и захлопнул дверцу.
Наташа пешком поднялась на четвертый этаж: лифт не работал. Она вошла в квартиру, разделась и легла под одеяло — ее била дрожь.
«Сережу он больше не увидит. Никогда. Завтра я ему все расскажу».
Заснуть ей так и не удалось. Она лежала, прислушиваясь к глухим ударам своего сердца и мучительно перебирая в памяти все происшедшее, и только под утро ей удалось задремать на несколько минут.
Постепенно квартира стала наполняться звуками: Зинаида Федоровна ставила на плиту чайник, в комнате у Сережи зазвонил будильник. Надо было вставать и начинать жить.
Наташа посмотрела на себя в зеркало и ужаснулась: на нее смотрели глаза затравленного зверя. Она увидела на кресле снятое накануне дорогое белье, которое так нелепо выглядело на фоне нищенской обстановки, надела свой старый халат и, натянув на лицо жалкую улыбку, вышла из комнаты.
Сережа еще не встал. Она вошла к нему и села на край кровати.
— Сережа, пора вставать, опоздаешь…
Она погладила его по плечу и рыжеватым волосам.
— Отстань! — Мальчик, не поворачиваясь, попытался натянуть на голову одеяло. Наташа вздрогнула: никогда раньше он с ней так не говорил.
— У тебя плохое настроение? Ну-ка, повернись…
Впрочем, она чувствовала, что не слишком убедительна, — меньше всего ей самой хотелось сейчас говорить с кем бы то ни было, даже с собственным сыном.
— Мать, иди, я встаю…
Она поймала себя на том, что испытывает облегчение — о чем бы она могла с ним говорить, когда в душе у нее царило отчаяние.
За завтраком разговор тоже не клеился. Зинаида Федоровна незаметно поглядывала на нее, смутно догадываясь, что что-то неладно, но не решаясь задавать вопросы. Сережа молчал: он ничего не ел и с видимым отвращением отхлебывал чай из стакана. Он был очень бледен. К красивым коробкам с печеньем и конфетами, которые Наташа привезла из Парижа, никто, словно сговорившись, не прикасался.
Чтобы как-то прервать тягостное молчание, Зинаида Федоровна принялась пересказывать историю их соседки, Людмилы Ивановны, о том, как ехавшая рядом с ней в метро женщина с мальчиком лет десяти, выходя из вагона, забыла сумку с продуктами и как эта сумка вместе с лежавшей там курицей и банкой зеленого горошка досталась ей, Людмиле Ивановне.
Сережа резко встал из-за стола и, ни слова не говоря, вышел в коридор. Обе, мать и дочь, вздрогнули, когда за ним с грохотом захлопнулась входная дверь. Они долго сидели молча, не глядя друг на друга, и Наташа поймала себя на том, что ей жалко эту женщину, потерявшую курицу, жалко ее мальчика, жалко даже саму курицу. Но больше всех ей было жаль саму себя…
Слава Богу, что сегодня не нужно идти на работу. Она с ужасом представила себе сослуживцев, которые как шакалы набросятся на нее со своим любопытством. Ей придется что-то рассказывать им, врать — ведь не могла же она, в самом деле, сказать им правду! Она вдруг подумала, что врать ей теперь придется всю жизнь, врать всем, даже собственной матери, потому что никогда она не сможет рассказать ей о своем унижении. А преступление? Разве не преступление то, что она совершила? Она почувствовала, что на лбу у нее выступил холодный пот. Она боялась за своего сына, но ‘ разве то, что она сделала, не было преступлением перед какими-нибудь другими мальчиками, перед чужими сыновьями? И какое право она имеет осуждать Сережиного отца, когда она сама ничуть не лучше? Ведь ей тоже захотелось денег? Ей захотелось денег, тряпок, еще Бог знает чего — чем же она лучше? Если бы она не встретила Филиппа или не узнала случайно, что он обманул ее, она бы преспокойно жила с этим. Выходит, разница между ними только в том, что он готов погубить собственного сына, а она какого-то чужого? Да и не одного… Ей стало так стыдно, больно и страшно, что ей пришлось стиснуть зубы, чтобы не застонать вслух. Она вышла из-за стола, вернулась к себе и легла.
«Я виновата. Но что мне теперь делать? Той ошибки уже не исправишь… И неужели это еще не конец? Неужели я еще мало наказана?..»
Дверь тихо приоткрылась. Зинаида Федоровна вошла в комнату и села на край кровати.
— Ну, рассказывай, что с тобой?
— Со мной? Ничего… Я плохо спала.
Наташа повернулась к матери и взяла ее за руку. «Бедная мама, как она постарела… Постарела после нашего развода. Бросила работу, чтобы помочь мне. Сидела с Сережкой, пока он был маленький. Делала уроки, когда он подрос. Вся седая. Бедная, бедная мама… Твои морщинки, твои добрые глаза… Как я люблю тебя…» Глаза ее наполнились слезами.
— Наташа, что с тобой? Не мучай меня…
— Ничего, все в порядке… Просто я влюбилась и совершенно безнадежно.
— Господи Иисусе, в кого ты успела влюбиться за одну неделю?
— Мама, ради Бога! Можно подумать, что для этого нужна целая пятилетка!
— Но в кого? Кто он? Где ты его взяла?
— Он… француз. Филипп. Красивое имя, правда? Беда в том, что я ему совершенно не нужна…
— Не понимаю, зачем тебе француз? — Зинаида Федоровна попыталась улыбнуться. — Ты же знаешь из литературы, что бывает, когда русская барышня влюбляется во француза…
— Мама, я давно уже не барышня, я взрослая женщина и у меня двенадцать лет никого не было!
— Ты сама не хотела ни с кем знакомиться! Вспомни, тетя Нина предлагала тебе какого-то симпатичного господина…
Наташа перебила ее:
— Мама, подумай сама: откуда у тети Нины может взяться симпатичный господин? И Бог с ним, давай не будем говорить об этом.
— Может быть, как раз лучше поговорить? Ты мне совсем не нравишься. И твой сын мне тоже не нравится. Он плохо ест. Он бледный. У него круги под глазами. Может быть, у него глисты?
— Хорошо. Я прослежу, чтобы он ел получше. Пожалуйста, мама, дай мне поспать хотя бы немного. Все будет в порядке, не волнуйся.
Зинаида Федоровна вздохнула и вышла из комнаты.
Как только за матерью закрылась дверь, Наташа вскочила, как ошпаренная.
«Бледный. Круги под глазами. Нет. Нет. Вчера, когда он вернулся из школы, он так хорошо выглядел…»
Она вспомнила, что Сережа был весел и очень возбужден. Он с восторгом рассматривал подарки и все время что-то говорил, но очень скоро ушел к себе в комнату и закрыл дверь. И только сейчас она сообразила, что никогда раньше он бы не повел себя так странно: он бы до бесконечности сидел возле нее и просил рассказывать про Париж еще и еще. А она, занятая своими мыслями, не заметила его странного поведения или не придала ему значения, потому что хотела лишь одного: как можно скорее остаться одной. А утром… утром он был совершенно другим, и вдруг она с ужасом вспомнила, что накануне вечером у него были расширены зрачки. «Не может быть!..»
Она даже про себя боялась выговорить страшную мысль, которая родилась у нее в голове. «Не может быть, не может быть», — повторяла она как заклинание, бросаясь к телефону, чтобы позвонить в школу и узнать, был ли вчера какой-нибудь вечер. Телефон молчал.
«Странно… Ночью звонил Павловский, и телефон работал».
Она начала лихорадочно одеваться. «Схожу в школу и все узнаю. Если вечер был, значит, я просто сошла с ума. А если нет, найду Сережу и спрошу, где он вчера задержался и почему не приехал с бабушкой меня встречать. Мало ли что могло у него стрястись? Главное, убедиться, что мои подозрения беспочвенны. А если нет… Тогда мне останется только выяснить, причастен ли к этому его отец. Боже мой, я сошла с ума! Конечно, не причастен. Разве это может быть?»
Наташа сунула ноги в тапочки и вышла в коридор.
— Ты так и не заснула? — послышался из кухни голос Зинаиды Федоровны. — А знаешь, я подумала, что если ты правда влюбилась, то это очень хорошо.
— Почему хорошо? — подозрительно спросила Наташа, подходя к ней.
— Потому что если так, значит, ты больше не любишь своего бывшего мужа.
— Мама, я давно его не люблю.
— А мне казалось, что еще совсем недавно…
— Мама, ради Бога… Что ты хочешь сказать?
— Я хочу сказать, что с того момента, как ты привела его в дом, мне ни одной минуты не было покоя.
— То есть? Мама, пожалуйста, объяснись.
— Он никогда мне не нравился. Мне не нравились его глаза: мне всегда виделось в них что-то страшное.
— Почему ты никогда мне этого не говорила?
— Когда ты сказала, что выходишь замуж, я видела, что ты влюблена и никакая сила не заставит тебя отказаться от него. Я права?
— Наверное…
— И потом, я боялась, что, может быть, в основе моей антипатии лежит ревность или старческая причуда… Так или иначе, я не чувствовала себя вправе вмешиваться в ваши отношения.
— А потом?
— Потом родился Сережа… Что я могла сказать?
— Ну хорошо. А после его ухода?
— После ухода… Вспомни, какая ты была. Я думала, ты не выживешь. И это продолжалось несколько лет.
Но даже когда ты пришла в себя, я все равно боялась, что ты по-прежнему испытываешь к нему какие-то чувства.
Наташа села на табуретку, безвольно свесив руки.
— Ты действительно думала, что я все еще его люблю?
— Во всяком случае, я этого боялась. Когда ты разрешила ему встречаться с Сережей, я решила, что ты просто сошла с ума.
— Почему ты мне ничего не сказала?
— Во-первых, я сказала. Вспомни, я тебе говорила, что не нужно этого делать. Но ведь ты была, как сумасшедшая. Ты с такой яростью сопротивлялась, убеждая меня, что Сереже нужен отец…
— Разве я была не права?
— Права. Вопрос в том, какой отец ему нужен.
— Мама, ради Бога, что значит — «какой»? Какой есть. Что же я могу поделать? И что ты хочешь сказать? Мне кажется, ты что-то не договариваешь.
Зинаида Федоровна села с ней рядом.
— Наташа, я рискую причинить тебе боль, но, может быть, лучше сказать об этом поздно, чем не сказать вовсе. Павловский никогда тебя не любил. Не любил даже тогда, когда женился. И никогда не любил Сережу. Я всегда была уверена, что он женится из-за жилплощади…
— Как видишь, ты ошибалась. Он же выписался, хотя вполне мог бы отсудить себе часть квартиры: он же был прописан.
— Как ты не понимаешь! Он бы так и сделал, если бы не нашел себе кое-что получше.
— То есть?
— Наташа, он женился на женщине, у которой была и квартира, и машина, и все на свете. А главное — такой отец, который все мог.
— Откуда ты знаешь?
— Сестра Людмилы Ивановны, Екатерина Ивановна, — она работает лифтершей в доме, где живет его вторая жена. Она рассказывала про него ужасные вещи.
— Например?
— Я не хочу это повторять, тем более что все это еще, может быть, просто сплетни.
— Мама, пожалуйста, скажи, я должна знать.
— Он как-то очень скверно обошелся со своей второй женой.
— Хуже, чем со мной?
— Да.
— Расскажи.
— Наташа, пожалуйста, избавь меня от необходимости это пересказывать. Я не хочу.
— Но ведь Екатерина Ивановна работает где-то совсем близко отсюда?
— Совершенно верно, в Староконюшенном. Помнишь кирпичную башню напротив булочной?
— Так называемый дом ЦК?
— Ну да! Зачем тебе?
— Просто так. — Наташа пожала плечами. — Вдруг мне захочется с ней встретиться…
— С кем?!
— С его бывшей женой.
— Ты с ума сошла! Зачем? Она не станет с тобой говорить. Да и зачем тебе это нужно? И с какой стати она будет рассказывать свои интимные подробности постороннему человеку? Тебе нечего там делать — у нее тяжело болен отец, и потом, там ребенок…
— Какой ребенок?
— Девочка.
— От Павловского?
— Ну конечно!
— Боже мой, значит, у Сережи есть сестра?
— Не думаю, чтобы они горели желанием обзавестись новыми родственниками.
— Что это за люди?
— Наташа, я с ними не знакома. Все, что я знаю, так это то, что отец ее работал в ЦК.
Наташа задумалась.
— Ты не знаешь, как ее зовут?
— Вера.
— А девочку?
— Кажется, Оля.
— И сколько ей лет?
— Десять или одиннадцать. Да, одиннадцать: она на два года младше Сережи.
Зинаида Федоровна встала и вернулась к плите, на которой в небольшой кастрюльке варился нехитрый суп.
— Мама, а что у нас с телефоном?
— А что такое?
— Он не работает.
— Ты, наверное, забыла заплатить?
— Забыла… Перед отъездом так замоталась…
Наташа вспомнила, какой она была радостной и беззаботной, когда собиралась в Париж, и у нее больно защемило сердце.
— Сходи к Людмиле Ивановне и позвони на станцию, слышишь? Что с тобой?
— Ничего, мама, все в порядке. К Людмиле Ивановне, говоришь? Сейчас схожу.
Наташа вернулась в комнату, оделась и вышла из квартиры.
«Ни к какой Людмиле Ивановне я не пойду. И так ясно, что телефон отключили — мы не заплатили за последние два месяца. Надо идти в школу и спросить про вечер. Только бы мама ни о чем не узнала…»
Наташа вышла из подъезда и бросилась к школе.
Звонок на урок только что прозвенел, и в вестибюле не было никого, кроме уборщицы в синем сатиновом халате, которая протирала надетой на палку тряпкой пол у входа.
— Здрасте, тетя Надя!
— Здравствуй, милая, ты чего пришла?
— Вы не скажете — вчера в школе был какой-нибудь вечер?
— Господь с тобой! Какой вечер в воскресенье? Учителя тоже люди — им отдыхать надо…
«Значит, он обманул. Обманул бабушку и меня, — думала Наташа, спускаясь по ступенькам и одновременно пытаясь уговорить себя, что это еще ничего не доказывает: — Может быть, он просто хотел провести вечер с ребятами… Или с девочкой. Ему тринадцать лет — он вправе иметь от меня секреты».
Она стояла посреди школьного двора, не зная, на что решиться — остаться здесь, подождать Сережу и потребовать объяснений или вернуться домой. И тут она вспомнила материн рассказ о второй жене Павловского.
«Пойти к ней и попробовать поговорить? Зачем? Если то, что сказала мама, правда и мой бывший муж действительно такой страшный человек, каким он ей представляется, надо спасать Сережу, пока не поздно. А чего, собственно, я хочу? Какие еще доказательства мне нужны? Разве еще не все очевидно после того, что он сделал со мной? И тогда и теперь. Да и захочет ли она со мной говорить? Почему нет? Я ничего плохого ей не сделала… Ведь это меня он бросил ради нее».
Наташа, плохо понимая, что делает, направилась в сторону Староконюшенного переулка, к дому, который хорошо знала.
Она вошла в светлый просторный подъезд, но на месте дежурной оказалась не тетя Катя, а совсем другая женщина: расспрашивать ее было невозможно. Наташа повернулась, пока та не успела задать ей какой-нибудь вопрос, и вышла на улицу, размышляя о том, как узнать номер нужной ей квартиры, когда увидела девочку лет десяти, медленно идущую к дому со школьным рюкзачком за спиной. Что-то заставило Наташу внимательно приглядеться к ней: у девочки было бледное, болезненное личико, обрамленное прямыми темными волосами, и светлые глаза. Черты ее лица были скорее неправильными, но сходство с Павловским было настолько очевидным, что Наташа решилась заговорить с ней:
— Девочка, извини, тебя зовут Оля?
Девочка остановилась и подняла на нее большие светлые глаза.
— Да…
— Мне нужно поговорить с твоей мамой. Как бы это сделать?
— Вы из школы? — она говорила тихим, каким-то надтреснутым голоском.
— Нет, я не из школы. Я просто очень несчастная тетя, и может быть, твоя мама сумеет мне помочь.
Девочка опять посмотрела на нее и кивнула.
— Мама сейчас дома. Пойдемте к нам.
Наташа снова вошла в подъезд: у нее так сильно билось сердце, что ей пришлось глубоко вздохнуть, чтобы немного успокоиться. Она не знала, что скажет этой женщине, не знала, как та встретит ее, но думать было поздно — девочка вошла в лифт.
Они поднимались молча, не глядя друг на друга. На шестом этаже они вышли, и Оля позвонила в обитую черной кожей дверь.
На пороге появилась крупная, некрасивая и немолодая женщина, которая вопросительно и жестко смотрела на нее.
— Мама, эта тетя хочет… — начала Оля, но Наташа перебила ее.
— Здравствуйте… Меня зовут Наташа. Простите, что я так беспардонно врываюсь к вам… Я — первая жена Павловского. («Зачем я сказала — „первая“?»)
Женщина пристально посмотрела на нее и жестом пригласила войти.
— Проходите…
Наташа оказалась в кабинете с дорогой, обтянутой кожей мебелью и заваленным бумагами письменным столом.
— Садитесь.
Наташа села на единственный стул, стоявший возле письменного стола. Руки ее дрожали.
— Пожалуйста, выслушайте меня… — начала она дрожащим от волнения голосом.
— Я слушаю, слушаю…
Наташе показалось, что голос звучит враждебно, но в глазах ее она читала скорее сочувствие, чем неприязнь.
— Вы, может быть, знаете: у меня есть сын от Юры… Юрия Дмитриевича.
— Да.
— Он ушел от нас давно: Сереже было около года. Потом мы не виделись… Очень долго. Мы и сейчас не видимся…. Простите, я даже не знаю, как вас зовут?
— Вера.
— Ах да, Вера! Мама говорила мне…
— Так чем я могу вам помочь? — нетерпеливо перебила та.
— Ради Бога, Вера, не говорите так со мной! Я ни в чем не виновата перед вами! — Наташа сделала усилие, чтобы не заплакать.
— Успокойтесь, я вас внимательно слушаю.
— Я хотела просить вас… — Наташа осеклась.
— О чем?
Наташа глубоко вздохнула.
— Вы простите, Вера, я, наверное, хочу невозможного… но мне совершенно необходимо знать, почему вы разошлись. Как это произошло?.. О, простите! — Она увидела, как исказилось Верино лицо. — Простите, я не так выразилась: я не прошу, чтобы вы говорили о себе, о своих чувствах. Меня интересует он. Моя мать считает его монстром, а я… я его совсем не знаю. Когда он ушел, мне было всего двадцать лет. Мы были женаты совсем недолго. Я любила его, я ничего не понимала… А сейчас случилось так, что… Мне нужно знать, угрожает ли что-нибудь моему сыну, способен ли он…
— Пожалуйста, говорите тише, — перебила ее Вера.
— Простите… — Наташа заметила, что та с беспокойством поглядывает на дверь. — Кто-то спит? Я не знала…
— У меня тяжело болен отец. Я не хочу, чтобы он слышал.
— Простите. Я сейчас уйду. — Она еле сдерживалась, чтобы не заплакать. — Вера, мы обе… несчастны. Знаете, как он ушел? Мы жили себе спокойно, родился ребенок, и вдруг в один прекрасный день, без всякого повода, даже без ссоры, он сказал, что уходит. Вот так, на ровном месте. Нашему сыну было всего несколько месяцев… Если б вы знали, какое у него было лицо в этот момент…
И вдруг она услышала:
— Я знаю, какое у него было лицо. — Вера усмехнулась и, помолчав, добавила: — Ваша мать права: он не человек. — Она опять помолчала. — Когда мы познакомились, я в отличие от вас была взрослой женщиной: мне было тридцать четыре года. К этому времени я уже успела побывать замужем и развестись. Кроме того, я была на семь лет старше его. И, как видите, красавицей тоже не была. — Наташа сделала протестующий жест. — Оставьте, я все прекрасно понимаю…
Вера отвернулась к окну и несколько секунд сидела молча, уставившись в одну точку.
— Он был самым красивым аспирантом в нашем институте. В него были влюблены все — наши девчонки-лаборантки, замужние женщины, даже старухи в раздевалке. Он умел обаять всех. Впрочем, что я вам рассказываю? Вы это знаете не хуже меня…
Она опять помолчала.
— О чем это я? Да, так вот, а ухаживать он начал за мной. И я прекрасно понимала почему.
Вера усмехнулась.
— Как видите, не вы одна попались на его удочку…
— Когда это было? — спросила Наташа.
— Все началось весной восемьдесят четвертого года.
— Но ведь в это время мы были уже женаты…
— Он это скрывал. А в глазах всех он был самым завидным женихом в институте. Так вот, ухаживать он начал за мной, но не сразу, а, очевидно, после того, как узнал, что мой отец занимает высокий пост в аппарате ЦК. Спустя несколько лет после всей этой истории один бывший сотрудник нашего института, которого я как-то случайно встретила, рассказал, что именно он сообщил ему о моем отце и как у Павловского загорелись глаза. При этом, заметьте, он вовсе не нуждался ни в какой протекции: он был очень талантливым ученым и, конечно, всего добился бы сам. Но ему хотелось скорее… Ухаживал он долго: я сопротивлялась больше года, но все-таки он добился своего. Если бы вы слышали, каким соловьем он разливался! — Вера усмехнулась и продолжала: — Все мы дуры… А потом… потом он начал подъезжать к моему отцу, который не выносил его с того момента, как он появился у нас первый раз, и постепенно отец смирился. Потом… вы помните, каким он мог быть в постели? Он сделал все, чтобы я не могла без него обходиться, и только тогда признался, что женат. Сказал, что давно не любит свою жену и давно с ней не живет. И я всему верила. Потом сказал, что наконец развелся, и отец сделал нам квартиру. Большую квартиру в центре, в которой он живет до сих пор. Первое время все было ничего, а потом я забеременела, и одновременно с этим сняли моего отца. И тогда все кончилось.
Вера замолчала, упорно глядя в какую-то точку на паркете, и Наташа терпеливо ждала, пока та заговорит снова.
— Он бил меня. Бил холодно, со знанием дела: так, чтобы не оставлять следов. Он знал, что я не стану жаловаться. Знал, что я ни за что не захочу его потерять. Требовал, чтобы я избавилась от ребенка. Я отказалась. Он начал подмешивать мне в еду какие-то средства. У меня чуть не случился выкидыш, но я вовремя заметила и вернулась к родителям. Правды я им не сказала, но они и так все поняли. Отец требовал, чтобы мы развелись, но у меня еще сохранялась какая-то надежда. Из-за всего происшедшего у меня очень тяжело проходила беременность, и я умолила отца оставить его в покое хотя бы до родов. Потом родилась Оля: первое время мы с ней почти не вылезали из больниц. Впрочем, ни я, ни она его не интересовали. Свою дочь он так никогда и не видел. А потом… потом вряд ли все это сошло бы ему с рук, если бы не события, начавшиеся в стране: отца отправили в отставку. Потом умерла мама. А еще через некоторое время отец заболел. У него рак. — Она заметила Наташино движение. — Не надо ничего говорить. В конечном счете я справилась с этим. У меня дочь. Я — доктор наук. Я никогда ни в чем не нуждалась. — Она говорила как автомат. — А ваш сын? — Она подняла голову и повернулась к Наташе. — Вы что-то говорили про вашего сына?
Наташа вздрогнула:
— У меня есть подозрение, что мой сын… связался с наркотиками. Я боюсь, что Павловский причастен к этому.
— Как же вы допустили, чтобы он виделся с сыном? Он — страшный человек, он способен на все. То, что вы можете подозревать, — ничто по сравнению с тем, на что он способен. Вам известно, например, что, когда умерла его мать, он даже не пошел на похороны?
— Он говорил мне, что его мать умерла незадолго до нашей встречи…
— Ну так он врал! Он просто бросил свою мать, как бросал всех, кто не был ему нужен. Когда она умерла, его разыскал какой-то человек, дальний родственник, — не помню, кем он ему приходится. И он выгнал его.
Вера немного помолчала.
— Мальчика надо лечить, но, главное, вы должны сделать так, чтобы он не мог видеться с отцом ни при каких обстоятельствах! Наташа, поверьте мне, я знаю, что говорю.
Вера вдруг спохватилась, что говорит слишком громко, и, в ужасе покосившись на дверь, добавила почти шепотом:
— Запишите мой телефон. Если вам будет нужна помощь, звоните.
Наташа не помнила, как вышла из квартиры, как спустилась вниз, как вышла на улицу.
«Значит, пока я была беременна и ждала Сережу, он встречался с Верой и уверял, что любит ее. Она сопротивлялась, не верила ему, и он оставался со мной только потому, что ему некуда было деться. А когда она сдалась, он в ту же секунду ушел, и, если бы в этот момент я лежала и умирала, он все равно бы ушел, ничто не остановило бы его — я помню его лицо. Но почему мне так больно? Почему мне сейчас так больно? Даже тогда, двенадцать лет назад, когда он бросил нас, мне не было так больно, как сейчас. Боже мой, что же это такое? Ведь я его давно не люблю… Я сама во всем виновата… Я не должка была разрешать ему видеться с Сережей. Он всегда был равнодушен к нему, и он, конечно, не нужен ему и сейчас. Ведь свою дочь он не видел ни разу… Ни разу за все эти годы. А сколько лет он не видел собственную мать? Значит… Вера права?»
Она вспомнила сбивчивые Сережины рассказы о первых встречах с отцом, его растерянный взгляд… Он, конечно, многого не понимал, но что-то чувствовал.
Сердце ее болезненно сжалось. «Бедный, бедный мой мальчик! Попросил у него денег, боже мой! Для меня!.. А я…»
Она вспомнила, какое у Павловского было лицо этой ночью, когда они говорили, стоя у подъезда, вспомнила его насмешливый взгляд. «Как видишь, я не ошибся…»
Кровь бросилась ей в голову. Да, он не ошибся: она сдалась, она как всегда сдалась, она слабее его, она всегда была слабее его, но зачем же она сдала своего сына? Нет, нет, не может быть! Этого просто не может быть. Какой бы он ни был, он бы не стал делать наркоманом собственного сына. Никогда она этому не поверит. Просто потому, потому… А собственно, почему нет? Да потому что ему это не нужно! Хотя… Что она может об этом знать? Что она может знать о человеке, который способен бросить свою мать?
Дверь открыла Зинаида Федоровна.
— Наташа, где ты была? Приходил Сережа, обедать не стал, куда-то опять убежал… Что с тобой?
— Куда убежал? Он не сказал — куда?
— Нет. Последнее время он вообще ничего мне не объясняет.
— Зачем же ты его отпустила? Мамочка, — спохватилась Наташа, — прости, я не знаю, что говорю… Я только что была у Веры.
— У Веры? У какой Веры?
— Ты мне сама сегодня о ней рассказала…
— У жены Павловского? Зачем? Что случилось? Зачем тебя к ней понесло?
— Ты была права: он — чудовище.
— Если ты о своем бывшем муже, то — безусловно. Но зачем ты пошла к ней?
— Мама, он связан с наркотиками. Я боюсь, как бы он не втянул в это Сережу.
Зинаида Федоровна схватилась за сердце.
— О Господи!
— Ты только не волнуйся! Сережа вернется, и я все ему расскажу. Они больше не будут встречаться.
— Но объясни же, что произошло.
Наташа, не вдаваясь в подробности, рассказала матери про передачу свертка и конверта, разумеется, умолчав об участии Филиппа в этой истории.
— Что ты собираешься делать? Ты уверена, что Сереже следует об этом знать?
— Да. Только так я смогу уберечь его. Он вернется, и мы поговорим.
Но Сережа не возвращался. Обе женщины блуждали по квартире, не находя себе места, в ожидании мальчика. В какой-то момент, уже под вечер, Наташа собралась пойти заплатить за телефон — на нее давила ужасная тишина, царящая в доме, и было невыносимо видеть лицо матери, на котором читался страх.
Она открыла сумочку и остолбенела: денег не было. Она вытрясла содержимое на кушетку, открыла уже почти пустой чемодан, снова бросилась к сумке в надежде, что произойдет чудо и деньги окажутся на месте. Но чуда не произошло: две тысячи франков, которые оставались у нее от разменянных в Париже долларов, исчезли. Наташа бросилась к матери:
— Мама, Сережа заходил ко мне в комнату?
— Не знаю, я была в кухне. Что случилось?
— У меня из сумки пропали деньги.
— Не может быть!
— Это он.
— Ты с ума сошла! Он не мог…
— Мог, как видишь. У тебя, конечно, ничего нет?
— Господь с тобой! Пенсия только послезавтра…
Снова началось ожидание, еще более страшное, чем предыдущее. Время двигалось медленно, вернее, оно не двигалось вовсе. Теперь они старались успокоить друг друга, говоря, что ничего страшного не произошло, что такие вещи с подростками случаются, что потом из них вырастают прекрасные люди, что Сережа всегда был хорошим мальчиком, с характером, совсем не похожим на характер отца. И чем больше они успокаивали друг друга, тем меньше верили собственным словам.
Наступила ночь. Они прислушивались к каждому шороху на лестнице, к каждому стуку парадной двери, к шуму лифта. Потом в доме все стихло. Наташа вышла на улицу: в переулке, освещенном нитью тусклых фонарей, не было ни души. Когда она вернулась в квартиру, часы пробили два.
Зинаида Федоровна сказала, что нужно разбудить Людмилу Ивановну и попросить разрешения позвонить. Наташа, знавшая, до какой степени ее мать всегда боялась беспокоить других людей, ужаснулась:
— Ты думаешь?..
— Вдруг он попал в больницу? Или в милицию?
Людмила Ивановна оказалась на высоте: она не только разрешила им позвонить, но побежала ставить чайник, заметив, что обе женщины совершенно измучены многочасовым ожиданием.
Наташа трясущимися руками набирала номера милиции, моргов, бюро несчастных случаев. Ей приходилось отвечать на страшные вопросы: «Возраст? Рост? Приметы? Под левой лопаткой? Говорите громче. Как одет? Рубашка или майка? Ждите… Черная? Ждите… — Она ждала: сердце ее в это момент почти не билось. — Нет, не обнаружено».
Они выпили по полчашки чаю, пока Людмила Ивановна успокаивала их, говоря, что Сережа просто «загулял»: «Мальчонке тринадцать лет — чего вы хотите? Побегает-побегает и придет! К юбке-то его не пристегнешь! Чай, вырос!»
Когда они вернулись в квартиру, не поддавшись на уговоры Людмилы Ивановны посидеть еще, Наташа стали уговаривать Зинаиду Федоровну лечь: та была совершенно измучена. Зинаида Федоровна соглашалась, но при условии, что Наташа тоже ляжет и постарается заснуть, хотя обе прекрасно понимали, что заснуть им не придется.
Было уже начало девятого, когда они услышали, что кто-то пытается открыть дверь. Они бросились в коридор: Сережа стоял на пороге квартиры бледный, грязный, избитый и очень злой. Он бросил: «Отстань!» — как только заметил, что мать хочет что-то сказать, и, оттолкнув ее, прошел в комнату. Наташа бросилась за ним.
— Сережа, я не собираюсь тебя ругать, мы просто очень волновались с бабушкой. Где ты был?
— Не твое дело. Отстань.
Сережа, не раздеваясь, лёг на кушетку.
— Зачем ты взял деньги? Тебе что-нибудь нужно? Или ты кому-то должен?
— Ничего я не брал.
— Если тебе что-то нужно, ты мог просто сказать мне об этом. Ты же знаешь, что…
— Что я знаю? Что у нас в доме наконец-то появились деньги? Если — да, то давай.
Наташа потеряла дар речи.
— Что с тобой?..
Сережа дернул плечом и отвернулся к стене.
— Хорошо, я дам тебе денег, только скажи зачем.
— Дашь, тогда и будем говорить.
Наташа не верила своим ушам: все происходящее казалось ей страшным сном, но инстинкт подсказывал ей, что она нащупала верный путь.
— Я обещаю, что дам тебе денег столько, сколько захочешь. Только расскажи мне все.
Сережа молчал.
— С кем ты подрался?
Наташа прикрыла его старым пледом и переглянулась с матерью, которая стояла в дверях.
— Скажи мне, с кем ты подрался? С кем-то из ребят твоего класса? Я их знаю?
— Нет. Дай денег.
— Я же сказала: дам, когда скажешь, что случилось. И даю тебе слово, что не буду тебя ругать. Сережа, пожалуйста!
— А где ты их возьмешь? У тебя больше ничего нет.
Наташа, которая уже начала терять надежду, почувствовала, что еще не все потеряно.
— Ты ошибаешься: пока ты был в школе, я встречалась с твоим отцом. Если скажешь, что с тобой случилось, я тебе дам. Обещаю.
Сережа повернулся и недоверчиво покосился на нее:
— Сколько?
— Сколько тебе нужно?
— Пятьсот рублей.
— Зачем так много?
— На дозу.
— Какую дозу? Где ты хочешь ее купить?
— Это мое дело.
— Нет, Сережа, ты обещал все рассказать. Иначе я не дам. И потом, скажи, куда ты дел деньги, которые были у меня в сумке?
Он опять не ответил. Наташа сидела рядом, затаив дыхание. Прошло несколько минут. Сережа лежал, скрючившись под пледом: ей показалось, что он дрожит.
— Тебе холодно?
И вдруг его прорвало:
— Мне не холодно, не холодно! У меня ломка! Понимаешь, что такое ломка? Это когда нужна доза, а ее нет. Потому что нет денег. Те, что я взял в твоей сумке, у меня отобрали.
— Кто? Кто отобрал?
— Тебе нужны фамилии? Я их не знаю.
— Мне не нужны фамилии. Скажи просто, кто они?
— Никто. Шпана.
— Кто тебе продает это? Отец знает об этом?
— Не знаю. А продает Сверчок.
— Кто это?
— Парень, с которым меня познакомил коллега Дмитрича.
— Какой коллега? Откуда ты его знаешь? И… как он выглядит? — Ее вдруг осенила страшная догадка.
— Никак. Кроме родимого пятна, у него на лице нет ничего особенного.
— Сережа, откуда ты его знаешь?
— Когда я зашел к Дмитричу попросить денег перед твоим отъездом в Париж, он сидел у него. Дмитрич сказал, что это его коллега. И познакомил нас.
— А потом этот «коллега» познакомил тебя со Сверчком?
— Да.
— Как это произошло?
— Когда я уходил, он пошел со мной. В лифте спросил: «Травкой балуешься?» Я сказал, что да.
— А ты… баловался травкой?
— Все балуются травкой. Вся школа.
— И что потом?
— Он спросил, не хочу ли я попробовать что-нибудь другое. Я сказал, что хочу, но у меня нет денег. Тогда он сказал, что, во-первых, деньги у меня есть, потому что Дмитрич только что дал мне триста долларов…
— Двести.
— Нет, он дал триста. Сто я взял себе.
— Зачем? Зачем, если ты только «баловался травкой»?
— Травка тоже стоит денег.
— А до этого? На какие деньги ты покупал ее до этого?
— Дмитрич давал.
— Он знал, на что он тебе дает?
— Знал.
— Когда это началось?
— После Нового года. Он пригласил меня к себе и спросил, курю ли я травку. Я сказал, что да. Тогда он спросил, хочу ли я покурить очень хорошую травку. Я согласился.
— И он дал тебе покурить? У себя дома?
— Ну да.
— Дал покурить травку, а сам? Что он делал сам? — У нее бешено стучало сердце.
— Тоже курил.
— А потом предложил денег?
— Сказал, что когда деньги будут нужны, он даст. Поэтому я и позвонил ему — тогда, перед твоим отъездом.
— А до этого ты брал у него деньги?
— Брал, но мало.
— А этот его коллега? Тогда в лифте он забрал у тебя эти сто долларов?
— Ничего он не взял! Просто сказал, куда прийти.
— И ты пошел?
— Пошел.
— И что?
— Познакомился со Сверчком. И укололся.
— И отдал эти сто долларов?
— Первый раз это ничего не стоит…
— А потом? Сколько раз потом?..
— Еще несколько раз.
— И последний раз… когда?
— Вскоре после твоего отъезда.
— А вчера?
— Вчера? На что я мог купить? У меня отобрали все деньги! Дай, ты обещала.
— Конечно, я дам. Только ты, пожалуйста, чуточку потерпи. Понимаешь, я дала их в долг тете Тане. Я же не знала, что они тебе понадобятся. Она наверняка еще не успела их потратить. Я побегу к ней и заберу их у нее. А ты лежи. Ты обещаешь, что никуда не уйдешь?
— Ты меня обманула?
— Нет, Сережа. Я же не знала, что ты забрал деньги из моей сумки. Если бы знала, я бы не отдала тете Тане то, что дал мне отец. Я сбегаю к ней и принесу.
— Ты дашь, сколько обещала?
— Да. Но ты должен дождаться меня. Хорошо?
Она вышла из комнаты: Зинаида Федоровна стояла за дверью и расширившимися от ужаса глазами смотрела на нее.
— Я все слышала. Что ты хочешь делать?
Наташа громко сказала:
— Мама, я пойду к Тане за деньгами! — и, сделав знак матери, чтобы она шла за ней, увела ее в кухню. Там, стараясь говорить как можно тише, попросила проследить за ним и, сказав, что скоро вернется, вышла из квартиры. Дверь она заперла на нижний замок, которым они почти никогда не пользовались и от которого у Сережи не было ключа.
Наташа собиралась бежать в диспансер, чтобы попросить помощи, любой, какую только сможет получить. Что делают в таких случаях, она не знала. Она не знала, что если бы у нее работал телефон и она позвонила бы туда, ей бы ответили, что единственное, чем можно ей помочь, это отправить мальчика в больницу. И ей бы пришлось согласиться. Согласиться, несмотря на то, что эти места, где лечат наркоманов или душевнобольных, представлялись ей страшными, как преддверия ада.
«Сейчас, сейчас, — бормотала она про себя, — потерпи немного».
Отбежав на несколько десятков метров от подъезда, она увидела, что освобождается подъехавшее к соседнему дому такси. Денег у нее не было, но, так как времени у нее было еще меньше, она бросилась к машине.
— Пожалуйста, вы не могли бы отвезти меня в наркологический диспансер? Это недалеко, на Остоженке, я покажу.
Шофер, молодой парень с круглым добродушным лицом, посмотрел на нее и кивнул. Она села на переднее сиденье и, собравшись с силами, выпалила:
— У меня нет денег. Но я заплачу! — Она быстро сняла с руки часы, которые подарил ей Филипп, и протянула ему. — Пожалуйста, возьмите, они очень дорогие. И подождите меня несколько минут около диспансера. Я быстро вернусь. — Она положила часы рядом с его пачкой сигарет и умоляюще взглянула на него. — Пожалуйста!
Шофер посмотрел на часы, кивнул и повернул ключ зажигания.
— Ладно, поехали…
Когда машина свернула на Гоголевский бульвар, он спросил:
— Заболел, что ли, кто?
— Да. Сын.
— Наркоман, что ли?
Слово больно хлестнуло ее: она заплакала.
— Да вы не плачьте! Их сейчас, знаете, сколько развелось! Не волнуйтесь, вылечат.
Наташа не ответила.
Когда такси остановилось около старого двухэтажного дома с казенной вывеской, она еще раз попросила шофера подождать и, выйдя из машины, бросилась к дверям. В здании было тихо: диспансер только что открылся, и перед окошками регистратуры не было никого. Наташа увидела пожилую женщину, перебирающую карточки.
— Скажите, пожалуйста, нарколог принимает?
— Четвертый кабинет. Ваш адрес?
— Моей карточки у вас нет, я первый раз…
— Где вы живете? В нашем районе?
— Да, — она назвала адрес.
— Паспорт есть? — Наташа открыла сумку, вытащила паспорт и протянула его женщине.
— Можно я пока пойду к врачу? Я очень тороплюсь, у меня сын… — она говорила, с трудом сдерживая слезы.
— Без карточки он вас не примет. Что у вас случилось?
— У меня болен сын…
— Имя? Фамилия? Год рождения?
Старческая рука медленно выводила цифры. Наташа молчала: машина заработала, и остановить или ускорить ее ход было все равно невозможно. Она попыталась собраться с силами перед разговором с врачом.
Когда все было готово, она схватила карточку, побежала на второй этаж и, чуть приоткрыв дверь кабинета, на которой было написано «Левин Аркадий Николаевич. Нарколог», спросила:
— Можно?
Доктор Левин оказался немолодым человеком с усталыми глазами.
— Слушаю вас.
Наташа, с трудом сдерживая волнение, начала сбивчиво рассказывать короткую историю своего сына. Закончив рассказ, она проговорила:
— Пожалуйста, доктор, что можно сделать, чтобы он вышел из этого состояния?
— Мы можем госпитализировать его…
— Нет, пожалуйста, только не это! Вернее… не сейчас. Может быть, можно дать ему что-нибудь, чтобы облегчить его положение? Может быть, вы могли бы посмотреть его?.. Внизу меня ждет такси. А потом… потом мы решим, что делать дальше.
— Будет лучше, если вы положите его в больницу прямо сейчас, пока не поздно. Раз он начал недавно, есть еще шанс спасти его.
— Но не сейчас, пожалуйста, не сейчас…
Она хотела объяснить, что боится больницы, что не хочет предавать Сережу, который ждет ее дома, потому что чувствует себя виноватой в том, что произошло, но волнения последних двух дней и две бессонные ночи дали себя знать — она потеряла сознание.
Придя в себя, она увидела, что лежит на узкой кушетке, покрытой прозрачной клеенкой. Аркадий Николаевич стоял над ней, держа в руках пузырек с нашатырным спиртом.
— Простите… — Наташа попыталась встать.
— Лежите! Разве так можно?
Ни в тоне его, ни в выражении глаз не было ни малейшего раздражения.
— Это я… я во всем виновата.
— Ну-ну-ну, в чем это вы виноваты?
— Во всем.
Она разрыдалась. Старый доктор сел рядом и принялся вытирать ей слезы марлевой салфеткой.
— Сын дома один?
— С бабушкой.
— Ну, хорошо. Вот вам салфетка, высморкайте нос, и раз уж ждет такси, поехали скорей, пока нет больных. И чтоб больше не плакать.
Аркадий Николаевич снял халат, прихватил старый чемоданчик, предупредил в регистратуре, что уходит ненадолго по срочному вызову, и следом за Наташей сел в такси. Уже в машине Наташа сообразила, что ей нечем с ним расплатиться.
— Доктор, вы простите, пожалуйста, я не предупредила — у меня нет денег. Я расплачусь с вами завтра.
— Не имеет значения. Вам сейчас надо думать о другом.
Она посмотрела на него глазами, полными слез: ее всегда трогала и волновала доброта, и сейчас, когда она чувствовала себя виноватой и никому не нужной, всякие проявления человечности были ей особенно дороги.
Когда такси остановилось у подъезда и она повернулась к шоферу, чтобы попросить его еще немного подождать, чтобы отвезти доктора назад, таксист, протянув ей часы, сказал:
— Вы, это, часы-то свои возьмите.
— Нет-нет, это вам… Мы же договорились!
— Не, не надо. Я вас так возил. Если надо, я вашего доктора подожду.
— Спасибо вам…
Наташа порылась в сумке и вытащила брелок в виде Эйфелевой башни, который Филипп подарил ей в день ее рождения.
— Вот, пожалуйста, возьмите на память. Это все, что у меня есть. Спасибо вам еще раз…
Она протянула водителю брелок и пожала ему руку.
Они поднялись в квартиру. Наташа открыла дверь своим ключом. Зинаида Федоровна тихо сказала:
— Сережа спит.
Но он не спал: он лежал, по-прежнему скрючившись под пледом, лицом к стене. Он был очень бледен. Аркадий Николаевич сделал знак Наташе, чтобы она оставила их одних, и сел на кушетку рядом с мальчиком.
Наташа и Зинаида Федоровна, осторожно закрыв дверь, остались ждать в коридоре. Они не разговаривали и старались не смотреть друг на друга: каждая прекрасно знала, о чем думает другая.
Когда Аркадий Николаевич вышел из комнаты, они бросились к нему.
— Он спит. И будет спать еще долго — несколько часов, может быть, до ночи. Когда проснется, дайте ему вот это. — Он протянул Наташе несколько пакетиков. — Дайте два, с теплой водой. Может быть, будет рвота, — не пугайтесь. Колоть умеете?
— Умею.
— Тогда вот, — доктор достал коробочку с ампулами. — Сделаете инъекцию вечером и завтра утром. И не бойтесь: он еще не успел втянуться. Мы его вытащим. — И, неожиданно обратившись к Зинаиде Федоровне, добавил: — А вот вы мне не нравитесь! Вам бы надо принять что-нибудь сердечное и лечь.
Зинаида Федоровна, которой всегда становилось неловко, если кто-то отрывался от своих дел ради нее, извиняющимся тоном сказала, что плохо выглядит из-за бессонной ночи, и в ответ на Наташин беспокойный взгляд махнула рукой. Наташа бросилась провожать Аркадия Николаевича. Когда она вернулась, Зинаида Федоровна сказала, что действительно хочет лечь.
Наташа закрылась в своей комнате и начала обдумывать положение. С Сережей, по крайней мере, на ближайшие несколько часов, все определилось. Аркадий Николаевич обещал, что поможет, и она верила ему. Оставалось разобраться с Павловским.
Она знала, что делать. Решение созрело у нее еще утром, когда вернулся Сережа и когда она узнала от него то, во что еще вчера не хотела верить. Она не успела обдумать никаких подробностей, ни тем более последствий того, что хотела совершить, но решение было принято, и она не собиралась от него отступать. Оставалось сделать последние приготовления.
Во-первых, надо было написать Сереже — на случай, если произойдет что-то непредвиденное: если с ней что-нибудь случится, он должен знать про своего отца все. Только так она может быть уверена, что он никогда больше не захочет его видеть. Она знала, что, наверное, причинит ему боль, но у нее не оставалось выхода.
«Я напишу обо всем, чтобы он знал, что за человек его отец. Напишу, как он ушел от нас. Из-за чего ушел. Напишу про эту историю с наркотиками. Про все, что он сделал со мной. Сережа уже взрослый, он должен понять…»
Она решила, что рассказывать про Филиппа не станет, — она не хотела, чтобы Сережа жалел ее или думал, будто она мстит за себя. История с Филиппом тут ни при чем.
Во-вторых, если с ней действительно что-нибудь случится, а она, хорошо зная своего мужа, не могла не опасаться этого, кто-то, по крайней мере, будет знать, что же произошло, и ее муж не сможет остаться безнаказанным.
И наконец, прежде чем совершить то, что она хотела совершить, ей было необходимо покаяться хоть кому-нибудь, пусть даже и своему тринадцатилетнему сыну, потому что на самом деле она во всем, что произошло, винила только себя. Она достала из ящика стола бумагу и села за письмо.
Когда она закончила, было три. Сережа крепко спал, но Зинаида Федоровна могла проснуться в любую минуту. Наташа не хотела встречаться с ней, потому что боялась, как бы мать не заметила, что с ней происходит что-то необычное, и не начала расспрашивать: мужество могло изменить ей. Она оставила записку на кухонном столе с просьбой не тревожить Сережу, пока он сам не проснется, а письмо в запечатанном конверте положила себе под подушку.
«Если со мной что-то случится, письмо найдут. Если же все будет хорошо, я сама уничтожу его».
Потом она достала с книжной полки прошлогоднюю Сережину тетрадь по литературе, вырвала из нее несколько страниц и положила в свою старую объемистую сумку, на дне которой уже лежало бронзовое отцовское пресс-папье.
Оставалось одно: позвонить Павловскому и договориться с ним о встрече. Она посмотрела на себя в зеркало, попудрила лицо, которое показалось ей чересчур бледным, и вышла из квартиры.
Наташа шла по переулку со странным ощущением — дома, подворотни, старые деревья, которые она знала с детства, казались ей чужими, она не узнавала их. Ей казалось, что она выпала из обычной жизни и существует в каком-то другом измерении, в другом пространстве, где темно, холодно и пусто и где есть только она и ее враг, которого надо уничтожить. Если бы кто-нибудь подошел к ней в эту минуту и заговорил с ней, то есть вытащил бы ее из этого пространства и спросил, верит ли она, что сможет убить своего бывшего мужа, она бы совершенно искренне ответила, что нет. Но никто не мешал ей, никто не пытался вернуть ее к действительности, и она шла вперед, неуклонно приближаясь к цели.
План ее был прост: она позвонит ему и договорится о встрече у него дома. Скажет, что хочет показать ему письмо, которое написал его сын и которое касается его дел. Она попросит его сесть за стол, а сама, стоя чуть позади него, достанет из сумки пресс-папье и, когда он начнет разбирать листки, исписанные Сережиной рукой, ударит его по голове. Ее нисколько не смущало несовершенство этого плана: она знала, что та сила, которая толкала ее вперед, сделает за нее все. Это не была ярость оскорбленной женщины, это была ярость раненого животного, защищающего своего детеныша. И еще ей казалось, что то страшное, что она хочет совершить, не только будет искуплением ее ужасной вины, но и отвратит ее сына от губительного пристрастия.
Выйдя к бульварам, она позвонила из автомата, но телефон не отвечал: было слишком рано. Она купила газету на мелочь, которая оставалась у нее в кошельке, и села на скамейку. Напротив нее старуха в потертом бархатном берете, сюсюкая, кормила голубей. Голуби жадно клевали, а старуха время от времени посматривала на нее, будто приглашая разделить с ней любовь к пернатым, и Наташа думала: «Знала бы она, почему я здесь сижу и чего жду».
Наташа развернула газету. Она почти не понимала того, что читает, но ей нужно было убить несколько часов, остававшихся до появления Павловского, и заставить себя не думать о возможных препятствиях: он мог быть не один, мог по каким-нибудь причинам не прийти вовсе, мог не захотеть с ней встретиться. Надо было быть готовой ко всему, надо было проявить хитрость и, главное, набраться терпения: ждать ей, возможно, придется несколько часов. Но она впервые в жизни чувствовала, что сильнее его. Ей не было страшно.
Просидев на бульваре около часа, снова позвонив и снова безрезультатно, она направилась в сторону Пушкинской площади. Скоро Наташа почувствовала, что начинает уставать, и снова села на скамейку, потому что силы надо было сберечь во что бы то ни стало.
Так прошло несколько часов. Наконец, в очередной раз войдя в автомат и набрав номер, она услышала его голос.
— Могу я сейчас к тебе зайти? — спросила она, сдерживая дрожь.
— Зачем?
— Нам надо поговорить.
— О чем? — в его тоне, как всегда, послышалась насмешка, и Наташа отчетливо представила себе, как в этот момент у него слегка изогнулась правая бровь.
— О твоем сыне.
Он немного помолчал.
— Ну давай. Только не сейчас — минут через сорок. — И повесил трубку.
Она вздрогнула от обиды и тут же усмехнулась про себя: «Я собираюсь его убить и при этом обижаюсь на то, что он заставляет меня ждать и не воспринимает разговор о своем сыне как что-то важное».
Она села на скамейку и почувствовала, что у нее дрожат руки. «Проклятая слабость! Если я не возьму себя в руки, у меня не хватит сил. А если я не сделаю этого сегодня, то не сделаю никогда. А он не должен жить, не должен, не должен! Сейчас я встану и пойду. Сейчас. Сейчас».
Теперь, однако, время бежало быстрее. Час, который оставался до встречи, прошел почти незаметно. Когда Наташа вошла в подъезд, на часах было начало девятого: она хотела быть уверенной, что он один и ждет ее. Она поднялась на лифте и позвонила. Никто не открывал. Она позвонила еще раз, потом еще, но в квартире было по-прежнему тихо.
«Неужели он обманул меня?»
Оставаться здесь дольше было нельзя: ее могли заметить. В отчаянии она стукнула кулаком в дверь, и вдруг ей показалось, что дверь слегка подалась. Она снова надавила на нее: дверь приоткрылась. Наташа шагнула в квартиру и, едва переступив порог, увидела своего мужа, лежащего на полу полутемной прихожей в луже крови.
Она в ужасе смотрела на распростертое перед ней тело, тело человека, которого она так хорошо знала, и не могла отдать себе отчет в том, что происходит. Она даже поймала себя на том, что не совсем понимает, что это сделала не она, а кто-то другой. И только в тот момент, когда лифт, стоявший на ее этаже, лязгнув, покатил вниз, она вздрогнула и пришла в себя. И только сейчас почувствовала страх.
Надо бежать. Бежать, пока кто-нибудь не увидел ее здесь. А если ее уже видели? Если кто-то из соседней квартиры видел ее в глазок, ведь она простояла здесь довольно долго? Или увидит ее в тот момент, когда она будет выходить? Все равно. Надо бежать, чтобы не пришлось объяснять, для чего она сюда приходила. А для чего? Что она здесь делает? Ах, да! Но ведь об этом никто не знает… Никому и в голову не придет, что она…
И только сейчас до нее дошел весь ужас того, что она собиралась совершить. «Господи, я сошла с ума… Чего я испугалась? Ведь это не я. И неужели я действительно собиралась это сделать? Неужели я смогла бы?..»
Она выбежала из квартиры, чтобы позвать на помощь. «Вдруг он еще жив?..» — мелькнуло у нее в голове, но в это время внизу кто-то с грохотом захлопнул дверь лифта. Она почувствовала, что от страха у нее слабеют колени. «Вдруг это сюда?» Она бросилась на лестницу и, старясь ступать как можно тише, побежала вниз. В висках у нее стучало. Сейчас, сейчас, еще немного… Лифт медленно и тяжело поднимался вверх.
Она чувствовала такую слабость, что ей пришлось всем телом навалиться на тяжелую входную дверь, чтобы открыть ее и выйти из подъезда. Сейчас она должна взять себя в руки и идти медленно и спокойно. Медленнее. «Еще медленнее. Чего она так испугалась? Даже если ее и видели, ей нечего бояться. Все кончилось. Все позади. Его больше нет, он больше не появится в ее жизни. Больше не причинит вреда ее сыну. И никому другому. Сейчас она немного придет в себя и позвонит в милицию. Скажет, что испугалась и поэтому не сделала этого сразу. Скажет, что он связан с наркотиками, ведь совершенно ясно, что это убийство не случайно.
Она вспомнила его „коллегу“, с которым встречалась в Шереметьевском аэропорту и который предлагал наркотики ее сыну. Про него она тоже все расскажет. Если судьбе было угодно избавить ее от совершения этого страшного греха, то, значит, она обязана теперь рассказать все, что знает об этих людях. Даже если она сама при этом чем-нибудь рискует.
И вдруг до нее дошло, что убийство произошло, пока она сидела на скамейке, что в семь часов, когда она наконец дозвонилась до него, он был еще жив. А в квартиру она вошла в самом начале девятого. Значит, убийца вышел оттуда незадолго до ее прихода. Может быть, даже за пять минут. Или… или он все еще там. Услышал, как она звонит в дверь, и спрятался. Ждал, пока она уйдет. Где-нибудь в темноте, в углу.
Ей опять стало страшно. „Так нельзя. Надо успокоиться. Никого там не было: в квартире было абсолютно тихо. Так или иначе, теперь уже все позади. Все позади. Все кончилось. И это сделала не я“.
Она чувствовала невероятное облегчение и в то же время страшную усталость: она еле держалась на ногах. „Надо взять себя в руки. Надо спешить. Вдруг Сережа уже проснулся? Сумеет ли мама справиться с ним одна?“
Она дошла до троллейбусной остановки, и, как только троллейбус подошел, поднялась по ступенькам и без сил свалилась на сиденье. Она даже не могла обдумать все происшедшее: она ощущала такой упадок сил, что на несколько секунд задремала прямо в троллейбусе. Когда она очнулась, ей показалось, что прошло много времени и что она проехала свою остановку. Она даже не сразу поняла, где находится. Однако эти несколько секунд забытья придали ей немного сил. Выйдя из троллейбуса, она бегом бросилась к дому.
Войдя в квартиру, она через открытую дверь увидела Сережу, который спокойно спал на своей постели. Она подошла ближе, и ей показалось, что у него вздрагивают ресницы.
— Ты спишь? — спросила она тихо, и мальчик, открыв глаза, бросился к ней на шею.
— Мамочка, прости меня… Я больше никогда… Прости меня, прости.
Наташа прижала его к себе и поцеловала.
— Успокойся, все хорошо, успокойся, — повторяла она и вдруг расплакалась сама. Расплакалась от облегчения. Ее мальчик опять с ней. Они опять любят друг друга. Они больше никогда не расстанутся, что бы ни случилось.
Сережа, все еще плача, то прижимался к ней, то всматривался ей в глаза, а она гладила его волосы и повторяла:
— Все хорошо, все будет хорошо…
Она дала Сереже лекарство, которое оставил Аркадий Николаевич, и отправилась на кухню, чтобы прокипятить шприц и заодно приготовить что-нибудь поесть: она вдруг почувствовала, что ужасно голодна. Она разогрела вчерашний суп, достала тарелки и пошла к матери. Зинаида Федоровна спала. Наташа тихонько прикрыла за собой дверь, вернулась в кухню и налила суп Сереже и себе.
Однако есть ей пришлось в одиночестве, так как Сережа снова заснул. Впрочем, она и сама несколько переоценила свои возможности: есть она почти не могла. Проглотив пару ложек, она вдруг почувствовала, что хочет побыть одна, может быть, пройтись по улицам, может быть, даже зайти к Вере и рассказать о том, что произошло.
Наташа сделала Сереже укол, от которого тот даже не проснулся, она взяла плащ, вышла из дома и направилась в сторону Староконюшенного переулка.
На сей раз в подъезде дежурила сестра Людмилы Ивановны, которая ее хорошо знала. Она готова была пропустить Наташу, но та попросила разрешения позвонить, так как было уже около половины одиннадцатого, и она боялась беспокоить Веру без предварительного звонка.
Когда Наташа вышла из лифта, Вера уже ждала ее на площадке. Она попросила ее говорить тише, потому что спит отец, и провела в комнату, в которой Наташа уже была накануне. Вера показалась ей то ли усталой, то ли встревоженной. Она спросила:
— У вас все в порядке?
— Более или менее. А у вас?
Наташа помедлила.
— Не знаю даже, что сказать. Сегодня вечером убили Павловского.
— Что? — Вера вздрогнула и побледнела. — Откуда вы знаете?
Наташа помедлила.
— Дело в том…
— Ну? Говорите же!
— Я там была.
— Вы меня пугаете! Что значит — „была“?
— Нет, — усмехнулась Наташа, — я его не убивала. Я чуть не стала свидетелем.
— О Господи! — пробормотала Вера и в изнеможении опустилась на стул. — Как это случилось?
Наташа, все еще не решаясь, посмотрела Вере в глаза.
— Вера, я…
— Господи, да не тяните же!
— Я хотела убить его.
Вера дико посмотрела на нее.
— Я не шучу, — продолжала Наташа. — Я действительно пошла к нему, чтобы… Вы меня осуждаете?
Вера мрачно усмехнулась:
— Я бы сама убила его, если б могла!
— А я бы смогла. — Наташа упрямо сжала губы и с вызовом посмотрела на нее. — Я бы убила, но мне повезло — кто-то постарался вместо меня.
— Как это произошло?
— Мы договорились о встрече по телефону. Он попросил прийти через час. Он еще был живой и здоровый… Когда я пришла, дверь была не заперта. Я вошла, а он… он лежал на полу, в прихожей… в луже крови.
Вера смотрела на нее расширившимися от ужаса глазами.
— Вас кто-нибудь видел?
— Нет. Не знаю.
— Наташа, вспомни. Там кто-нибудь был? На лестнице, в подъезде?
— Нет. Но на площадке есть еще одна квартира… Меня могли видеть в глазок.
— В котором часу это было?
— В начале девятого.
— Боже мой…
— Знаете, Вера, вы были правы…
— В чем? Только, знаешь, давай на „ты“. Не против?
— Конечно, нет! — воскликнула Наташа, внезапно почувствовав облегчение. — Как хорошо, что я к тебе пришла! Ведь мне больше некому об этом рассказать… Ты была права, говоря, что он… В общем, он действительно чудовище. Это он начал приучать Сережу к наркотикам.
— Откуда ты знаешь?
— Он сам рассказал мне об этом.
У Веры потемнели глаза.
— Значит, он получил то, что заслужил…
— Как ты думаешь, я должна позвонить в милицию?
— Зачем?!
— Чтобы сказать…
— Хочешь, чтобы тебя обвинили в убийстве?
— Но…
— Прошу тебя, не делай этого! Да и какой в этом смысл? Помочь ты им все равно не сможешь! Ведь ты никого не видела? — Вера пристально посмотрела ей в глаза.
— Да нет же!
— Вот видишь! Какой же смысл подставлять себя под удар? Тебе придется объяснить им, как ты там оказалась. И что ты скажешь? Надеюсь, ты не станешь откровенничать с ними, как со мной?
— Но ведь я могу быть свидетелем…
— Свидетелем чего?!
— Того, что это случилось между семью и восемью часами…
— Не будь наивной! Они прекрасно установят это сами.
— Ты думаешь?
— Уверена, — вздохнула Вера. — Лучше пойдем, я сварю тебе кофе. Или ты хочешь что-нибудь выпить?
— Не знаю… Уже, наверное, поздно?..
— Ничего, пойдем. Потом я провожу тебя домой. Только обещай, что никому ничего не скажешь.
— Как ты думаешь, кто это сделал?
Вера усмехнулась.
— Ну, судя по тому, что нам с тобой известны по крайней мере двое желающих, можно предположить, что их найдется еще немало…
— Думаешь, это сделала женщина?.. А мне кажется, его убил кто-то из своих. Кто-то, с кем он занимался наркобизнесом.
— Может, ты и права. Теперь понимаешь, что тебе нельзя в это лезть? Обещаешь?
— Обещаю. Какой странный сегодня день…
Когда Наташа вышла от Веры, была уже ночь. Наташа медленно шла по переулкам, вспоминая события сегодняшнего дня. „Вера права, — говорила она себе. — Ни в какую милицию мне идти нельзя. Я не могу рисковать собой, не имею права — на мне мама и Сережа. В конце концов, я ни в чем не виновата. Он сам выбрал себе судьбу“.
Она понимала, что должна собрать все свое мужество, чтобы жить дальше: ответственность за Сережу и за мать полностью лежит на ней. Она не имеет права распускаться, не имеет права думать о себе. Она должна как можно скорее забыть все, что с ней произошло, забыть Париж, забыть всю эту жалкую историю с Филиппом, перестать себя изводить. Теперь она должна думать о своем сыне: кроме нее, у Сережи никого нет. Они оба многое пережили за эти дни, и хотя опыт у каждого был свой, они любили и нуждались друг в друге. Главное, что она не совершила этого ужасного преступления: чудо спасло ее.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Филипп Левек вышел из небольшого туристического агентства на бульваре Распай. В руках у него были путевка, дающая ему право на недельное пребывание в Москве, и билет на самолет на семнадцатое июня. Что ж, это лучше, чем ничего. Он приедет в Москву, найдет дом, где Наташа жила до недавнего времени, зайдет к людям, которые живут теперь в ее квартире и с которыми он говорил по телефону, и постарается что-нибудь узнать о ней. Если, как они говорят, они действительно ничего не знают, он обратится в справочную службу, такая наверняка существует в Москве, как в любом другом цивилизованном месте. И найдет ее. Найдет, если с ней ничего не случилось.
У Филиппа сжалось сердце. "Зачем я отпустил ее? Я не должен был ее отпускать". Он вспомнил, как они ехали в аэропорт, как она старалась держаться и как, несмотря на все старания, глаза ее были полны слез. Вспомнил, как он сам едва не потерял самообладание и как сказал ей, что они расстанутся у стойки "Эр-Франс" и дальше она пойдет одна. Зачем он это сделал? Надо было проводить ее до конца, а не разыгрывать из себя мужественного плейбоя. Вспомнил, как она взяла у него чемодан и пошла в сторону регистрации багажа, не оборачиваясь, а он стоял и смотрел ей вслед в надежде, что она обернется, чтобы помахать ей рукой, но, когда она встала в очередь, какие-то люди заслонили ее. А потом он увидел, что она разговаривает с человеком в кожаной куртке. Он не видел ее лица, но ему показалось, что она что-то взяла у него из рук. И вдруг он вспомнил ее рассказ о деньгах. Что, если это тот самый человек? Если так, он должен выяснить, кто он и что ему от нее нужно.
Он хотел броситься к ней, но в этот момент человек в куртке отошел от нее и быстро направился к выходу — упустить его было нельзя. Филипп через толпу пассажиров ринулся к нему.
— Простите, вы только что говорили с женщиной…
— С какой женщиной? — человек говорил по-французски с сильным русским акцентом.
— Там, у регистрации багажа. Откуда вы ее знаете?
— Я спросил у нее, который час. Я с ней не знаком. — Он явно не собирался поддерживать разговор.
— Вы врете! Я видел, что вы ей что-то дали!
— Я никому ничего не давал и не знаю никаких женщин. Дайте пройти.
Филипп схватил его за воротник.
— Послушайте, вы! Если вы не скажете, что вы ей всучили, я вызову полицию.
Человек усмехнулся.
— Вызывайте! — Он резко вырвался и быстрыми шагами направился у выходу.
Филипп бросился за ним. Вызывать полицию он, конечно, не собирался: что бы он мог сказать полиции? Что этот человек передал его знакомой что-то подозрительное? Если полиция этим заинтересуется, то в первую очередь найдут Наташу, и если это действительно наркотики, плохо придется в первую очередь ей самой. Но отпускать его так тоже нельзя. Филипп догнал его у лестницы, ведущей к гаражу, и чуть не сбил с ног.
— Мне наплевать на ваши дела! Чего ты хотел от нее?
— Вы ревнивый любовник? Очень рад познакомиться! — Тот рванулся, но Филипп нанес ему удар в челюсть.
Человек отлетел метра на полтора и схватился за перила.
— Ну ты, псих! — процедил он. — Если ты не оставишь меня в покое, я сам вызову полицию. — И шутовски заорал: — На помощь! Убивают!
Филипп отряхнул руки.
— Заткнись, мразь!
Человек бросился по лестнице вниз, Филипп за ним. Было ясно, что он от него ничего не добьется. Он был уверен, что это тот самый человек, о котором говорила Наташа, и ему есть что скрывать. Филипп не отставал от него ни на шаг. Они вместе спустились на два этажа в гараж, и оказалось, что их машины стоят почти рядом. Человек в куртке сел в потрепанный серый "опель", и машина сразу же тронулась с места.
Филипп упорно преследовал его — сперва до Парижа, потом по унылым улицам девятнадцатого округа, потом мчался за ним по набережной Сены до восточных окраин города. Наконец, в Монтрейле, пригороде, где жили в основном арабы и цветные, Филипп потерял его. Конечно, он запомнил номер машины, и если она принадлежит человеку в куртке, его будет нетрудно разыскать. Но станет ли полиция этим заниматься? И надо ли ему, Филиппу, ввязываться в эту историю, ведь он не может доказать, что это тот самый человек, который передал Наташе тридцать тысяч долларов в день ее приезда в Париж? Ему нужно как можно быстрее связаться с ней по телефону — узнать, как она долетела и чего хотел от нее этот тип. Филипп развернулся и поехал к дому.
Приоткрыв дверь квартиры, он сразу услышал веселые голоса своих друзей, Робера и Жаклин, и вспомнил, что сегодня воскресенье и что как раз сегодня они должны были вернуться из двухнедельной поездки по Египту. Они расцеловались, и Жаклин бросилась в кухню, где на столе были разложены горы всякой снеди: было ясно, что они уже давно дома и даже успели сходить за провизией. Оба, после двух недель, проведенных в Египте, выглядели похудевшими и загорелыми, и обоих распирало желание как можно быстрее поделиться впечатлениями. Перебивая друг друга, они с восторгом рассказывали о пирамидах, сфинксах, пляжах Красного моря и восточных базарах, и Филипп, улыбаясь, смотрел то на него, то на нее, и слушал истории, которые в данную минуту его совершенно не занимали.
Наконец перед тем, как сесть за стол, Филипп подошел к телефону и набрал Наташин номер: никто не отвечал. "Наверное, она еще не приехала". Он посмотрел на часы — с момента, когда они расстались в аэропорту, прошло чуть меньше четырех часов. "Она только сейчас долетела, а от Шереметьева до центра Москвы еще надо доехать", — подумал Филипп и сел за стол.
Теперь ему самому пришлось рассказывать о своей поездке в Россию, где его друзья никогда не были. Когда обед подошел к концу и Жаклин подала кофе и сыр, Филипп подумал, что Наташа уже наверняка дома, но зазвонил телефон, и Жаклин, уютно устроившись в уголке дивана, снова начала пересказывать свои египетские впечатления, на этот раз — подруге.
Когда мужчины остались одни, Робер спросил:
— Как твой развод? Ты виделся с Мириам?
— Да, мы обо всем договорились. Через месяц я буду свободен.
— Что-то, по-моему, ты не слишком веселишься по этому поводу. Ты не передумал?
— Нет, конечно.
— Тогда что? У тебя расстроенный вид.
— Видишь ли, я познакомился с женщиной…
Робер расхохотался:
— И поэтому у тебя такое лицо? Ну, извини, старик. Так это ее карандашный портрет Жаклин нашла в спальне? Она хорошенькая. И кто же она?
— Русская. Я познакомился с ней в самолете на обратном пути из Москвы. Она провела здесь неделю. И сегодня я проводил ее в Руасси.
— Я надеюсь, ты расстроен не из-за того, что она уехала?
— Я расстроен, потому что она попала в нехорошую историю.
Робер опять расхохотался.
— Русские вечно попадают в нехорошие истории. Они иначе не могут.
— Это не смешно.
— Прости, старик. Но ты же не хочешь сказать… А в чем дело с этой русской?
Филипп рассказал, что случилось в аэропорту и то, что знал от Наташи.
— Ты этому веришь? Веришь, что она ничего не знала? Брось, старик, не будь идиотом! Русские сейчас стремятся сделать деньги на чем угодно, лишь бы вылезти из нищеты. И только такой неисправимый романтик, как ты, способен поверить в подобную историю.
Филипп нахмурился.
— Она ничего не знала… Но, кажется, я напрасно завел этот разговор.
Филипп резко встал из-за стола.
— Прости, я не думал, что это так серьезно. Это серьезно?
— Да.
— Так позвони ей в Москву! Выясни, что произошло.
— Именно это я и собираюсь сделать, когда Жаклин закончит говорить…
Но Жаклин все говорила и говорила. Филипп посмотрел на часы: было начало первого.
— Жаклин, дорогая, — крикнул Робер, — это Николь? Если ты перезвонишь ей немного позже? Филиппу надо срочно позвонить в Россию.
И только сейчас Филипп сообразил, что с учетом разницы во времени в Москве уже начало третьего и что звонить в это время невозможно.
— Сейчас уже слишком поздно — я забыл о разнице во времени.
— Все равно звони. Ничего страшного не случится, даже если ты разбудишь ее. Иначе ты сам не заснешь.
Филипп покачал головой.
— Это невозможно. Она там не одна: там ее мать и сын. Ты не знаешь, какие в Москве квартиры.
— А какие в Москве квартиры?
— Не такие, как эта. Я позвоню завтра.
Филипп устроился на ночь в кабинете у Робера. То, что произошло в аэропорту, не давало ему покоя. Он курил одну сигарету за другой и понимал, что все равно не заснет, пока не узнает, что с Наташей. Он выбрался из комнаты, стараясь не шуметь, взял телефон и снова набрал Наташин номер. Сперва в трубке раздался слабый треск, потом что-то пискнуло, а потом он услышал протяжные сигналы международной связи: биииип, биииип, биииип. Филипп пытался представить себе Наташину квартиру, представить, как она просыпается, слышит звонки, идет к телефону. Или, может быть, аппарат стоит возле ее кровати, потому что она ждет звонка?
Но никто не отвечал. "Может быть, она отключила телефон?" — подумал он.
Откуда ему было знать, что в эту минуту Наташа вышла из дома, чтобы передать конверт своему бывшему мужу?
Когда утром, проснувшись, Филипп снова перезвонил ей, в Москве было двадцать минут десятого. Ровно за десять минут до его звонка телефонная станция отключила ее номер за неуплату.
Потом он звонил ей каждый день. Звонил утром, днем, вечером — телефон молчал. В разговорах с Жаклин Робер называл Наташу русской авантюристкой. Говорить это Филиппу он не решался, но зато заводил при нем разговоры о наркоторговцах и советовал чаще смотреть фильмы о русской мафии. Через пару дней Филипп снял квартиру и переехал.
Он по-прежнему регулярно звонил Наташе, и по-прежнему ее московский телефон молчал. Тогда он решил, что поедет в Москву, не дожидаясь конца бракоразводного процесса. Но нужна была виза. Он позвонил московским знакомым, попросил выслать ему приглашение, частное или деловое, но просил сделать это как можно скорее. Ему обещали помочь, но через несколько дней выяснилось, что российские власти в очередной раз завинтили гайки (впрочем, это было всегда процессом взаимным) и что высылать деловое приглашение теперь имеют право только организации, получившие на это специальное разрешение. А маленький частный университет, к сотруднику которого, своему знакомому, он обращался, такого разрешения не имел. Частное же приглашение сделать было можно, но, как выяснилось, ждать его пришлось бы довольно долго. Филипп решил ехать как турист. Визу в этом случае он получал всего на несколько дней, что было не очень удобно, но зато быстро и надежно.
В тот день, когда он принял решение о турпоездке в Россию, он еще раз набрал номер Наташиного телефона. Набрал просто так, по инерции, ни на что не рассчитывая, но тем не менее, как бывало каждый раз, когда он звонил ей, у него в груди глухо и больно стучало сердце. В тот момент, когда он уже собирался дать отбой, в трубке раздался недовольный мужской голос:
— Слушаю!
Филипп вздрогнул от неожиданности и, запинаясь, попросил к телефону Наташу.
— Никого тут нет, — ответил голос, — никакой Наташи.
— Простите, с кем я говорю? Вы член ее семьи?
— Никакой я не из семьи. Я тут работаю — ремонт делаю.
— Тогда позовите кого-нибудь, кто ее знает. Пожалуйста, мне надо с ней поговорить.
— От мил человек! Говорю же: никого здесь нет. Не живет пока никто. А я ремонт делаю.
— Значит, это не ваша квартира?
— Квартира не моя, известное дело. Квартира хозяев.
— А когда будут хозяева?
— Не знаю. Может, завтра придут, может, нет.
— А вы их знаете?
— Хозяев знаю, а как же.
— И как зовут ее?
— Кого?
— Хозяйку вашу?
— Вот это не скажу, не знаю. Хозяина вроде Виктором зовут. А хозяйку — не знаю, врать не буду.
— Не Наташа?
— Может, и Наташа, откуда мне знать? Ты позвони завтра, может, из них кто здесь и будет.
Филипп повесил трубку. Что-то тут было не то: даже если предположить, что Наташа делает ремонт в квартире, все равно непонятно, почему столько времени молчал телефон? И кто такой этот Виктор? Ее бывший муж, с которым она помирилась? Филипп не мог в это поверить. Но даже если и так — чего не бывает в жизни? — это все равно никак не объясняло ее молчания ни в день приезда, ни потом.
Через несколько дней ему снова удалось дозвониться. На сей раз ему повезло больше, если вообще это можно было назвать везением. Подошел тот самый Виктор, подтвердил, что живет по тому адресу и с тем номером телефона, которые Наташа оставила Филиппу перед отъездом из Парижа, но что ни с какой Наташей он не знаком, потому что купил эту квартиру всего неделю назад, купил через агентство, и кому она принадлежала раньше — не знает. На просьбу Филиппа дать ему телефон агентства Виктор отвечал решительным и даже довольно грубым отказом. Оставалось одно: ехать в Москву, зайти к этому малосимпатичному Виктору, объяснить, что он ищет бывшую владелицу квартиры, и попытаться еще раз уговорить его дать координаты агентства, в котором ему могли, может быть, помочь разыскать Наташу.
Впрочем, был, вероятно, еще один способ: Филипп хорошо знал дом, в котором Наташа останавливалась у своей подруги. В этом доме на рю де да Тур он даже бывал года четыре назад у своего московского приятеля, который приезжал в Париж в краткосрочную командировку для работы в ЮНЕСКО в качестве синхронного переводчика, а теперь жил в Германии, о чем Филипп узнал из его письма, пришедшего месяца три тому назад из Вюрсбурга. Тот сообщал, что переехал туда на постоянное место жительства, и приглашал Филиппа в гости. Так вот, в этот дом, с порядками которого Филипп был более или менее знаком, можно было зайти и попытаться узнать, кто такая эта Наташина подруга, как ее зовут и в какой квартире она живет. Подруга эта, по словам Наташи, была в курсе ее отношений с Филиппом и, может быть, знала, чем объясняется ее внезапное исчезновение и неожиданная продажа квартиры, и не отказалась бы, вероятно, ему помочь. Филипп отправился на рю де ла Тур.
Семиэтажный дом для сотрудников посольства был построен в конце семидесятых, когда, несмотря на "разрядку", отношения с Западом оставались более чем прохладными. В те времена в специальном помещении, расположенном между наружной и внутренней дверьми подъезда и отгороженном тонированными стеклами, дежурил пограничник, строго проверявший документы у всех, кто входил в дом. С тех пор многое изменилось: пограничников, к величайшему их сожалению, на подобную работу больше не приглашали, и их место заняли жены технических сотрудников — комендантов, водителей и рабочих. И хотя им платили вдвое меньше, чем их мужьям, работой своей они очень дорожили, так как она давала им возможность не только слегка пополнить семейный бюджет, но и разнообразить свою довольно унылую жизнь.
Дежурной в доме на рю де да Тур была Зоя Петровна Егорова, муж которой, человек добрый и бесхитростный, в свои сорок восемь лет впервые попал на работу за границу благодаря своему дальнему родственнику, работавшему в МИДе, "чистой" анкете и собственным золотым рукам. Его единственным недостатком было то, что он много пил, а пил потому, что детей у него не было, а жена была злая и завистливая и угодить ей, как и персонажу одной известной сказки, было нельзя ничем: ни приличной зарплатой, ни квартирой, полученной им на работе десять лет назад, ни вот теперь этой командировкой в город Париж, который почему-то не радовал Зою Петровну. Она, изнывая от скуки, сидела за своей стеклянной перегородкой, и единственным доступным ей развлечением были сплетни и слежка за жильцами, особенно за женщинами. Она их ненавидела и завидовала им: женам дипломатов, потому что их мужья, как ей казалось, слишком много получали и к тому же имели машины, и не какие-нибудь, а красивые блестящие иномарки, на которых они ездили по стране, куда хотели; техническим сотрудницам — секретаршам и машинисткам — потому, что они были молодые и не просиживали, как она, целыми днями за этим стеклом у всех на виду, а ходили на работу в посольство и кокетничали там с мужчинами. И ей, конечно, было хорошо известно, что Лена Кораблева, телефонистка из посольства, живущая в однокомнатной квартире на четвертом этаже, была не замужем, что командировку ей не продлили, потому что в посольстве у нее не было подходящей "руки", что продукты она покупает в том же самом дешевом магазине, расположенном в соседнем квартале, где покупает и она сама, Зоя Петровна, и куда ходят только арабы, цветные и самые бедные французы, которых Зоя Петровна презирала еще больше, чем арабов и негров; что с ней вполне можно не церемониться и не улыбаться, когда она проходит мимо ее стеклянной будки, и что, наконец, к ней недавно приезжала подруга из Москвы, такая же ничтожная, как и она сама.
Впрочем, подруга эта первые три дня ходила в каком-то задрипанном сером костюме, а на четвертый день утром Зоя Петровна увидела ее в таком платье и в таких туфлях, что при одном взгляде на них становилось ясно: куплены они в дорогом магазине. А потом эта подруга вовсе исчезла на несколько дней, и Зоя Петровна увидела ее только в пятницу, во второй половине дня, и, конечно же, заметила, что выглядит она совсем не так, как в день своего приезда, жалкой и растерянной, и что перемена эта произошла не только и не столько из-за того, что она была совершенно по-другому одета, но еще и потому, что у нее блестели глаза, как они могут блестеть только у очень счастливой женщины, а значит, она завела себе кого-нибудь, эта рыжая. И когда на следующий день Зоя Петровна, встретив Лену Кораблеву, спросила: "А что это ваша подруга — уже уехала? Что-то ее давно не видно", — та ответила, что "нет, не уехала", но почему-то смутилась и пробормотала что-то невразумительное про каких-то знакомых, у которых эта подруга якобы ночует, и Зоя Петровна поняла, что предположение ее было совершенно справедливым и что ее обычная проницательность, как всегда, ей не изменила.
Когда Филипп позвонил в дверь семиэтажного дома на улице де ла Тур, где в подъезде за стеклянной перегородкой сидела строгая Зоя Петровна, и спросил, не может ли она ему помочь разыскать живущую в доме одинокую женщину, к которой в начале мая приезжала подруга из Москвы, Зоя Петровна сразу догадалась, что это и есть тот самый человек, из-за кого у кораблевской подруги так блестели глаза. Губа у нее не дура: подцепила француза и, небось, переедет теперь во Францию да еще с таким интересным мужиком и наверняка богатым, потому что они все тут богатые, черт бы их побрал. А она, Зоя Петровна, скоро вернется в Москву, так как неизвестно, продлят ли командировку ее нескладехе-мужу, которому не хватает ума завязать более тесные отношения с начальством, как это делают другие, и снова придется жить в малогабаритной двухкомнатной квартире на окраине Москвы вместе со свекровью, семидесятидевятилетней старухой, вечно сующей нос не в свои дела, занимающей комнату на солнечной стороне и до сих пор ревнующей ее к сыну, хотя женаты они уже двадцать шесть лет.
Вот почему Зоя Петровна, сделав строгое лицо и отводя взгляд, ответила Филиппу, что совершенно не представляет, о ком он говорит, потому что "знаете, сколько народу сюда приезжает, всех разве заметишь?" А когда Филипп, которому было известно, что из помещения дежурного можно связаться по внутреннему телефону с любой квартирой, спросил, не может ли она, по крайней мере, разрешить ему позвонить тем одиноким женщинам, которые живут в доме, и задать им один-единственный вопрос, потому что ему совершенно необходимо разыскать эту подругу, Зоя Петровна попыталась сделать еще более строгое лицо, от чего оно стало откровенно злым, и с удовольствием сказала:
— Конечно, нет! У нас не полагается делать такие вещи.
Настаивать было бесполезно. Филипп вышел на улицу, продолжая ощущать на себе взгляд ее маленьких серых глаз. А Зоя Петровна, с удовольствием рассмотрев его затылок, спину и дорогие ботинки, принялась гадать, для чего это он разыскивает Кораблеву, которая, как хорошо было известно Зое Петровне, в этот момент как раз была дома и упаковывала вещи, так как командировка ее подходила к концу.
Все это происходило за два дня до отъезда Филиппу и за десять дней до отъезда Лены Кораблевой. Она тоже много раз звонила Наташе в Москву, чтобы спросить, что за деньги она оставила на полке в шкафу под стопкой носовых платков, и тоже не знала, что с ней случилось и почему она никак не может застать дома ни ее, ни Зинаиду Федоровну, ни Сережу.
Наташа вернулась от Веры в начале первого.
В квартире было тихо. Наташа приоткрыла дверь в комнату матери и сразу почувствовала запах лекарств. Зинаида Федоровна лежала на спине с закрытыми глазами — она была очень бледна. Наташа села на край кровати и тихо спросила:
— Ты спишь?
Ей показалось, что Зинаида Федоровна хочет что-то сказать — губы ее чуть шевельнулись, но с них не сорвалось ни одного звука. Наташа взяла ее руку в свою, пытаясь нащупать пульс, — рука была вялая и холодная, пульс почти не прощупывался.
Наташа бросилась к телефону, но, сняв трубку, вспомнила, что телефон отключен. Она выбежала на площадку и позвонила в дверь к Людмиле Ивановне. Долго не открывали, потом Наташа услышала за дверью шаркающие шаги, и недовольный голос спросил:
— Кто там?
— Тетя Люда, это я, Наташа! Откройте, пожалуйста!
Загремели цепочки и задвижки — на пороге показалась Людмила Ивановна в ночной рубашке.
— Тетя Люда, простите, ради Бога, разрешите мне от вас вызвать скорую? Маме плохо.
— Ох, Господи! Беги скорее к матери. Я сама позвоню. Что с ней?
— Не знаю, кажется, сердце…
Наташа вернулась в квартиру. Зинаида Федоровна по-прежнему лежала на спине, но глаза ее слегка приоткрылись. Наташа подошла к ней и наклонилась к самому лицу: ей показалось, что мать хочет что-то сказать.
— Мамочка, я здесь, с тобой. Сейчас приедет врач.
Зинаида Федоровна снова сделала попытку что-то произнести, и снова у нее не хватило сил.
— Сейчас, сейчас… Не волнуйся, ничего не говори. Сейчас приедет "скорая". Все будет хорошо.
"Господи, помоги!"
"Скорая" не спешила. Наташа открыла окно, чтобы впустить в комнату свежий воздух, и с улицы запахло молодой листвой. Потом в дверь постучалась Людмила Ивановна и тихо спросила:
— Не приехали еще?
— Нет. Не знаю, что делать, — прошло уже двадцать минут.
— Ну, к старикам-то они не спешат…
— К кому же они спешат?
— Сейчас их на молодых-то не хватает! А старикам все равно помирать.
— Тетя Люда!
— Ладно, ладно… Ты смотри, чтоб кардиограмму сделали. Сережа-то где? Нашелся?
— Да. Он спит.
— Где пропадал-то?
— С мальчиками из класса.
— Ты ему уши-то надери! Вот мать-то, небось, из-за него и слегла — нанервничалась. Она прошлой ночью бледная была… Ох, дети, дети! Вот что значит без отца-то воспитывать.
— Да, тетя Люда, да.
"Зачем она меня мучает?"
Прошло еще пятнадцать минут. Наконец Наташа, услышав, что подъехал лифт, бросилась к двери. Это были врачи, двое мужчин — постарше и помладше. Они задали несколько вопросов Наташе, осмотрели Зинаиду Федоровну, сделали электрокардиограмму и по тому, как они спешили, было видно, что положение серьезнее. Наконец тот, что постарше, просмотрев ленту, сказал, что необходима госпитализация.
Дальше все пошло очень быстро. Пока один врач делал укол, а потом из квартиры Людмилы Ивановны звонил в больницу, чтобы договориться о приеме больной, другой спустился за носилками и вернулся вместе с водителем, который помог донести Зинаиду Федоровну до машины. Оттого что они так торопились, Наташе было особенно страшно, но она не задавала вопросов, чтобы не мешать. Потом она бежала за ними по лестнице, чтобы объяснить им, что эта седая женщина, которую они несут, — самый близкий, самый дорогой на свете человек, что если с ней что-нибудь случится, она…
"Нет, нет, Господи, пусть я никогда больше не буду счастлива, только бы мама осталась жива и любила меня по-прежнему…" — молилась Наташа, пока врачи делали свое дело.
Наташа попыталась было поехать с ними, но ее не взяли, и она, узнав адрес больницы, бросилась наверх, попросила Людмилу Ивановну зайти утром к Сереже, дать ему лекарство, сказать, что произошло, но не очень пугать его, а потом опять запереть до ее возвращения, потом заняла у нее немного денег, оставила ключ от квартиры и бросилась в больницу на такси.
В реанимационное отделение, куда положили Зинаиду Федоровну, ее не пустили, а велели ждать дежурного врача, который появился минут через тридцать и сказал, что это инфаркт, но не самый тяжелый, что первая и необходимая помощь ей уже оказана и что Наташа может спокойно ехать домой. Наташа осталась. Она устроилась на единственном, заляпанном масляной краской стуле, который стоял под лестницей у входа в приемный покой, и стала ждать.
Была уже глубокая ночь, когда проходившая мимо нее старая нянечка в белом халате, перевязанном на пояснице шерстяным платком, пожалев ее, обещала пойти узнать, как чувствует себя Зинаида Федоровна, и, вернувшись через несколько минут, сообщила, что все хорошо: больная спит и будет спать до утра, там дежурная медсестра, которая за всем следит и в случае надобности обязательно позовет доктора.
— Иди, милая, иди домой, поспи. А завтра придешь. Или позвони: в отделение-то тебя завтра все равно не пустят. Иди с Богом!
Наташа хотела дать ей денег, но старушка отказалась: "За что? Я тебе ничего не сделала", — и улыбнулась беззубым ртом.
— Как же не сделали? Сходили, узнали, а ведь сейчас ночь — вам, наверное, тоже спать хочется. Возьмите, нянечка!
— Так и что ж, что ночь? Я ночью не сплю, старая стала. И денег твоих не возьму, они тебе самой сейчас пригодятся: тому дать, этому дать. Иди, милая, Христос с тобою.
Наташа не знала, как поступить. Оставить мать одну и уехать она боялась, но мысль о Сереже, запертом в пустой квартире, пугала ее еще больше. "Вдруг он проснется и увидит, что никого нет? Положим, он все равно заперт и уйти не сможет, но если ему станет плохо?.."
Она вспомнила страшные кадры из роликов, которые всю зиму крутили по телевизору — молодой человек в состоянии наркотической абстиненции выбрасывается из окна, и крик его гулко разносится подвору, — и решилась. "Врач сказал, что положение не очень тяжелое, и потом, она не одна, там медсестра. Съезжу домой, а утром вернусь. Может, хотя бы немного посплю, иначе завтра не будет сил: я не сплю уже третью ночь.
Наташа вышла на больничный двор. Небо начинало понемногу светлеть. Пахло землей и молодой листвой. Наташа глубоко вдохнула прохладный ночной воздух и вышла на проспект, освещенный желтыми фонарями. По влажному асфальту проносились редкие машины. Был тот час перед рассветом, когда жизнь ненадолго замирает перед началом нового дня. Ей удалось остановить частника, ехавшего в старом "москвиче", в котором пахло бензином и кислой капустой. Хозяин "москвича" довез ее до дому, не проронив ни слова.
Сережа спал. Она сбросила с себя одежду и пристроилась рядом с ним, чтобы не быть одной.
Сережа проснулся от жажды и оттого, что ему было тесно лежать. Он встал, стараясь не разбудить мать, и босиком прошлепал в кухню, чтобы налить себе воды. Дверь в бабушкину комнату была открыта, но самой бабушки почему-то не было. Он посмотрел на часы — было шесть. Куда бы она могла уйти так рано, и почему мама спит на его кушетке? Вдруг он заметил на тумбочке возле кровати две разбитые ампулы и одноразовый шприц и испугался. Что-то случилось. Что-то случилось с бабушкой, пока он спал. Голова раскалывалась. Какой сегодня день? Кажется, вторник. Или уже среда? Может быть, пока мама спит, взять шприц? Зачем? Разве он не собирается завязывать? Ведь он решил слезть с иглы. Он решил… Разве ему дадут теперь это сделать? Теперь его уже не оставят в покое. К тому же он должен Сверчку. А денег нет. И взять их негде. Он вспомнил, как с ним говорила мама, когда он вернулся: она даже не ругала его. Сашка Паринов из его класса тоже ворует деньги у родителей. Но они богатые. У Сашкиного отца свой бизнес. Он много раз видел, как тот приезжал за Сашкой в школу на шикарном "мерсе". Но и бил же он Сашку! И вообще Сашка говорил, что он жуткая сволочь. А у мамы никогда нет денег. И пенсия у бабушки совсем маленькая. Где же она может быть, бабушка? Вдруг она умерла? Вдруг она умерла из-за того, что он не пришел ночевать?
Она никогда ни на что не жаловалась и не ныла, как, например, противная бабка Пашки Кузьменко, которая всем, даже его одноклассникам, рассказывала про свои болезни. Но ведь мама говорила, что у бабушки больное сердце, и всегда ругала ее, когда та приносила тяжелые сумки или мыла пол. А в прошлом году, когда бабушка болела, мама даже подрабатывала домработницей у каких-то людей, потому что были нужны дорогие лекарства. Ни ему, ни бабушке она, конечно, ничего не сказала, и он узнал об этом случайно, от одного парня из параллельного класса, который жил рядом с этими людьми и видел маму. Он тогда попытался подразнить его, и пришлось набить ему морду, и Сережа вспомнил, как во время драки он разбил себе костяшки пальцев об его голову. Матери он тогда, конечно, ничего не сказал — разве можно было сказать ей, что он подрался из-за нее? Мама тогда отругала его за драку, а бабушка, когда мама вышла, сказала, что если он дрался за дело, то он прав, потому что он мужчина и должен уметь за себя постоять.
Она всегда привозила ему в лагерь пирожки, которые пекла сама, и вкуснее их не было ничего на свете, а когда он болел и мама была на работе, читала ему или рассказывала, как во время войны была в эвакуации со своей мамой, его прабабушкой: сперва в Фергане, где было не очень голодно, потому что там было много урюка, а потом в Куйбышеве; и как вскоре после войны она познакомилась с дедушкой. И хотя Сережа знал всю эту историю наизусть, он ужасно любил, когда она про это рассказывала. А теперь он не знает, что с ней. И мама. Ей тоже плохо. И еще к тому же он украл у нее деньги. И тогда, перед ее отъездом, когда Дмитрич дал для нее триста долларов, он взял себе сотню. И неужели действительно она взяла вчера денег у Ю. Д.? Не может быть! Не могла она так унизиться перед ним после всего, что произошло. Это она наверняка сказала нарочно, из-за него.
Думать об отце было больнее всего. Ведь он прочитал письмо, которое мама оставила под подушкой. Странное письмо. Можно было подумать, что она собиралась… Нет, конечно, но все-таки странно. Почему она просто не рассказала ему обо всем? Зачем понадобилось писать такое письмо? Да и вряд ли мама так уж хотела, чтобы он его прочитал. Ведь оно было заклеено и лежало у нее под подушкой. И если бы днем он не проснулся, не перебрался к ней в комнату, не лег на ее кушетку и не просунул бы руку под подушку, как делал всегда, чтобы скорее заснуть, когда был маленький или болел, он бы это письмо не нашел. И пока мама не заметила, надо его снова заклеить. Но все равно, хорошо, что теперь он знает, что произошло, знает, как Ю. Д. ушел от них. Зачем он так поступил с ним и с мамой? Пусть скажет — зачем? Впрочем, к Ю. Д. он больше не пойдет. Ни за что. Ну да, не пойдет он, как же… а деньги? Где он возьмет деньги, чтобы рассчитаться со Сверчком? Может быть, продать что-нибудь из того, что привезла мама? Она простит, если узнает, зачем это нужно. Или сказать ей? А что она сможет сделать? Опять пойдет мыть пол к каким-нибудь жлобам? Ну уж нет! Что же делать? Ничего. Он влип. Влип. Жалко маму. Жалко бабушку. Жалко себя.
Сережа сел на кровать и заплакал.
В начале седьмого Наташа проснулась. Сережи рядом не было. Она вскочила с кушетки, но сразу же вспомнила, что ключ от нижнего замка она спрятала. Сережа сидел в бабушкиной комнате, и ей показалось, что он украдкой вытер глаза. Она села рядом с ним.
— Сережа, мы можем поговорить?
— Где бабушка?
— Бабушка в больнице.
— Почему?
— Ночью ей стало плохо с сердцем. Я должна сейчас, ехать к ней.
— Я тоже поеду.
— Сережа, к ней все равно не пускают…
— Почему?
— Потому что она в реанимации, а туда нельзя.
— Почему в реанимации? Что с ней?
— Врач говорит, что это не опасно.
— Тогда почему она в реанимации?
— Потому что у нее был инфаркт. Так полагается.
— Тогда зачем ты туда поедешь?
— Чтобы узнать, как она и не нужны ли какие-нибудь лекарства.
— А деньги?
— Я заняла немного у тети Люды. Сережа, мы сейчас не будем говорить о деньгах. Мы должны решить с тобой гораздо более важные вещи.
— Какие?
— Например, могу ли я тебя оставить одного? Или попросить тетю Люду, чтобы она посидела с тобой? Я скажу ей, что ты заболел.
— Зачем?
— Чтобы ты не оставался один.
— Я останусь без всякой тети Люды.
— С тобой ничего не случится?
— Что со мной может случиться?
— Ты забыл, как тебе было плохо?
— Не забыл. Но сейчас этого нет, не бойся.
— Ты уверен?
— Уверен. Поезжай.
— Я думаю, что скоро вернусь, и мы сходим к Аркадию Николаевичу.
— К какому еще Аркадию Николаевичу?
— Это врач, который вчера у тебя был. Он тебе понравился?
— Не знаю. Зачем?
— Это же он тебе помог. И еще поможет.
— Мне больше ничего не нужно. Я не пойду.
— Что значит — не нужно?
— Это значит, что я больше не буду… колоться.
Наташа замерла.
— Сережа, разве ты можешь это знать? Я хочу сказать, разве ты можешь ручаться?
"Господи, помоги моему мальчику! Помоги маме и моему мальчику, пожалуйста, Господи…"
Сережа опустил голову и тихо сказал:
— Могу.
Наташа уткнулась лбом к нему в плечо и всхлипнула.
— Мам, не плачь. Пожалуйста, не плачь. Лучше поезжай скорей к бабушке.
— Да. Да. — Она старалась сдержать слезы. — Сережа, ты возьми там что-нибудь поесть, потом я приготовлю обед.
— Не волнуйся, я не хочу. А если захочу, что-нибудь найду.
— И еще: ты меня, пожалуйста, прости, но мне придется тебя запереть.
— Зачем? Я никуда не денусь.
— Сережа, пожалуйста, так мне будет спокойней.
Сереже не очень нравилась перспектива сидеть взаперти, но, с другой стороны, его это избавляло, по крайней мере, на какое-то время, от необходимости решать свои проблемы. Да и в школу, если он будет заперт, идти ему явно не придется. И долги отдавать тоже. Так что, если матери так легче, пусть запирает. Он подождал, пока она ушла, и, взяв с полки томик Селинджера, лег на кушетку.
С Зинаидой Федоровной все обстояло не так хорошо, как пытался представить дежурный врач, Владимир Георгиевич, который не любил, когда в коридоре его ждали родственники больных со своими вопросами и беспокойствами. Он знал, что у больной Лиевиной 3. Ф., 65 лет, доставленной в реанимационное отделение 2-й кардиологии в карете "скорой помощи" сегодня ночью, был инфаркт задней стенки, что у нее сильная аритмия и находиться в реанимации ей придется не меньше недели, а дочери ее, которая полночи просидела в коридоре на стуле и утром примчалась в больницу ни свет ни заря, придется покупать дорогие лекарства, потому что в больнице их нет, и, возможно, придется даже ухаживать за матерью или платить большие деньги сестрам, которых в отделении не хватало и они очень хорошо знали себе цену. Впрочем, думал он, глядя на Наташу, эта будет ухаживать сама, днями и ночами, и будет смотреть на него вот так, умоляющими глазами, и матери ее не придется лежать одной, всеми забытой, как лежат здесь многие старухи…
И Наташа поселилась в больнице. Облачившись в халат, выделенный ей сестрой-хозяйкой, она дежурила возле кровати Зинаиды Федоровны: следила за показаниями приборов, напоминала сестре, что пришло время делать инъекции, давала пить с ложечки, держала мать за руку и, наклонившись к ней, шептала какие-то слова, чтобы хоть как-нибудь утешить ее и согреть. Когда у нее самой уже не оставалось сил, она устраивалась поспать часа на два в маленьком закутке, где стояла медицинская кушетка, покрытая холодной клеенкой, и, накрывшись с головой старым пледом, принесенным из дома, молилась, как умела, за мать и за сына, а засыпая, всегда видела один и тот же сон: Париж, платаны, мокрые от дождя, музыка и его взгляд, полный любви. Когда она просыпалась, ресницы ее были влажны от слез, но она не позволяла себе думать ни о чем, что не относилось бы к реальной жизни, и, смахнув слезы, возвращалась в палату, где, опутанная трубками и проводами, лежала ее мать.
Дома она почти не бывала. Людмила Ивановна вызвалась помочь и готовила для Сережи еду. Он по-прежнему соглашался сидеть взаперти, без телефона, за который Наташа вполне сознательно до сих пор не заплатила (так ей было спокойнее за Сережу), и у нее, измученной бессонными ночами, сил оставалось только на то, чтобы, забежав ненадолго домой, спросить: "Я могу быть спокойна? С тобой ничего не случится?"
Сережа отворачивался и досадливо повторял: "Мам, я же сказал". И она верила, потому что ничего другого ей не оставалось: заглянуть к нему в душу она не могла. Она понимала, что не владеет ситуацией, не знала, как себя вести с ним. Не знала, например, надо ли просить его вымыть посуду, убраться в квартире, настаивать ли на том, чтобы он позанимался химией, которая у него хромала, или оставить его в покое, довольствуясь тем, что он соглашается оставаться дома. Она с ужасом представляла себе тот момент, когда он потребует выпустить его на свободу. И пока он был дома, она обращалась с ним, как с дорогой фарфоровой статуэткой, которую не знаешь, куда поставить, чтобы она не разбилась от случайного прикосновения.
Наконец Зинаиду Федоровну перевели из реанимации в общую палату на восемь коек, где лежали больные старухи. К одной из них приходила дочь, толстая румяная женщина лет сорока пяти в ярких кофтах. Она говорила матери "вы" и кормила ее котлетами. К другой приходил сын, невысокий, худой и застенчивый человек с лысиной и в слишком просторных для его фигуры штанах. Он выкладывал на тумбочку маленькие зеленые яблоки и тихо говорил: "На вот, ешь фрукты". А к остальным не приходил никто, и Наташа, которой пришлось занять еще денег, старалась сделать хоть что-нибудь для каждой из них. Она смотрела на их старые лица, на руки с набухшими венами, и сердце ее сжималось от жалости к несчастным, никому не нужным старухам.
Она похудела, под глазами у нее залегли глубокие тени, и даже волосы потеряли свой обычный блеск. Она все это знала, потому что иногда смотрела на себя в небольшое прямоугольное зеркало, висевшее в палате над умывальником, и чем хуже она выглядела, тем, казалось, с большим удовольствием оглядывала свое лицо.
"Пусть, пусть я буду старая, страшная, лишь бы мама была здорова и лишь бы с Сережей все было хорошо".
Похоже, что тот, кому были адресованы эти слова, сжалился над ней наконец, потому что настал день, когда Владимир Георгиевич, которого она встретила однажды утром в больничном коридоре, сказал, что скоро Зинаиду Федоровну можно будет выписать. В этот день Наташа впервые ночевала дома.
Это был первый по-настоящему теплый день. Наташа вместе с Сережей принялась за мытье окон: к возвращению Зинаиды Федоровны надо было привести квартиру в порядок. Протирая стекла газетой, Наташа поймала себя на том, что тихо напевает какую-то мелодию. Это была песенка в исполнении Эдит Пиаф, которую они с Филиппом слушали, сидя на маленьком скверике у фонтана в центре Парижа. Она доносилась из открытого окна, в котором сидела ужасно смешная тощая черно-белая кошка. Филипп сказал тогда, что песенка называется "La vie en rose"[10] и что содержание ее соответствует моменту…
"Не думать, не думать, не думать! Заберу маму из больницы, и жизнь как-то наладится…" — говорила себе Наташа и принималась с остервенением тереть стекло, пока оно не начинало скрипеть.
Надо было подумать о насущных делах. Ей предстояло поговорить с Аркадием Николаевичем, сходить на работу, чтобы задним числом оформить отпуск за свой счет, сбегать в школу, где через два дня заканчивались занятия, и договориться, чтобы Сережу аттестовали или, если нужно, назначили переэкзаменовку на осень. Надо было срочно встретиться с Ленкиным жильцом и забрать квартплату за май. Из этих денег придется отдать накопившиеся за это время долги и немного оставить на жизнь, потому что до зарплаты еще далеко. Конечно, было не совсем удобно перед Ленкой, которой она оставила тысячу долларов вовсе не для того, чтобы потом забрать. Но иначе не получалось: Зинаиду Федоровну с Сережей необходимо было отправить на дачу, а дача стоила немалых денег. Поэтому — ничего не поделаешь! — придется обо всем, рассказать Ленке: о проделках бывшего мужа, о его поручениях, о черном платье и, главное, о своем несостоявшемся романе…
Наташа ясно представила себе, как Ленка, узнав обо всем, непременно скажет: "Я же говорила!"
Впрочем, все это было не так важно — главное, что мама скоро будет дома и что Сережу надо как можно скорей увозить из Москвы.
На следующий день они отправилась в школу. Это было двадцать пятое мая, день последнего звонка. В школьном дворе группками стояли старшеклассники. Наташа украдкой взглянула на Сережу, с которым она повздорила накануне вечером, — он ни за что не хотел идти вместе с ней и согласился только тогда, когда она разрешила ему надеть привезенные из Парижа брюки, сидевшие на нем так, будто были на несколько размеров велики, — и у нее невольно сжалось сердце. Над вырезом майки на тонкой мальчишеской шее выступали позвонки, и он казался ей трогательным и беззащитным.
Наташа остановилась у ворот, глядя, как Сережа подошел к своему однокласснику, Вовке Немыкину, и по-взрослому поздоровался за руку. Она знала, что у Немыкина нет отца, а мать, высокая, худая, рано постаревшая женщина, едва справляется с ним. Потом к ним присоединился Саша Паринов, у которого отец как раз был и еще какой — поговаривали, что у него то ли собственное казино, то ли ресторан и что он бьет своего сына за малейшую провинность. Она смотрела им вслед и пыталась представить себе, о чем они говорят, о чем думают, чего хотят. Как это узнать? Как проникнуть в их закрытый мир? Как им помочь? Наташа стояла, пока двери школы не закрылись за ними, потом повернулась и быстрыми шагами направилась в диспансер. Через три с половиной часа им предстояло встретиться на том же месте.
Дальше все произошло очень быстро.
Она вошла в телефонную будку и позвонила Ленкиному жильцу. Виктор был дома и сказал, что готов встретиться в любую минуту. Они договорились, что она перезвонит, как только будет свободна.
Аркадий Николаевич, которого она, к счастью, застала в диспансере, подтвердил, что Сережу хорошо было бы увезти из Москвы. "Раз он у вас так спокойно перенес двухнедельное заточение, — сказал он, — значит, психологическое привыкание еще не наступило. А оно гораздо хуже поддается лечению, чем физическое. Так что вам ни в коем случае нельзя терять бдительность — еще одна, максимум две дозы, и тогда бороться с этим будет намного сложнее. К концу недели я постараюсь зайти и посмотреть на него".
Окрыленная надеждой, Наташа побежала в больницу. Зинаида Федоровна готовилась к выписке: ее немногочисленные пожитки были аккуратно сложены, на тумбочке царил столь любимый ею порядок. Поцеловав Наташу, она сказала: "Похоже, завтра меня выписывают. Как ты думаешь, что, если мне на следующей неделе сходить в парикмахерскую?"
Когда Наташа подходила к школе, прозвенел звонок: его было слышно даже на улице. "Дождусь Сережу, а потом поговорю с классной руководительницей", — подумала она, прислушиваясь к тому, как школьное здание наполняется звуками. Распахнулись двери, и дети, галдя, начали выбегать во двор навстречу долгожданной свободе. Вышли две девочки из Сережиного класса, Маша и Ира, потом по ступенькам лениво спустился Володя Немыкин, волоча за собой тощий рюкзак, потом Саша Паринов, потом показался Валера Плетнев, отличник, с которым Сережа сидел за одной партой. Когда он поравнялся с Наташей, она спросила:
— Сережа скоро выйдет?
— А его нет…
Наташа почувствовала, что у нее слабеют ноги.
— Как — нет? А где он?
— Ушел…
— Как ушел? Куда?
— Не знаю… Спросите Сашку Паринова. — Он кивнул в сторону ворот.
Наташа бросилась за Париновым.
— Саша, где Сережа?
— Не знаю, он ушел после второго урока. Сказал, что по делу. Да вы не волнуйтесь, он сейчас вернется!
Наташе казалось, что он старается не смотреть ей в глаза.
— Скажи правду: куда он пошел?
— Да не знаю я! Он только сказал, что придет к концу уроков, и все.
Мальчик явно нервничал.
— Валера Плетнев сказал, что тебе что-то известно…
— Ничего мне не известно! Просто мы с Серегой на перемене были вместе, вот и все.
— И он ничего тебе не сказал?
— Сказал, что ненадолго смоется по делу, а к концу уроков вернется.
— И все? А по какому делу, не сказал? — Наташа пристально посмотрела на него.
— Не-а!
Было ясно, что больше она от него ничего не добьется. Ей оставалось только ждать — в надежде на то, что Сережа действительно появится и все объяснит. Она вернулась во двор и села на скамейку, не сводя глаз со школьных ворот.
Прошло полчаса, потом еще. Наташа уже ни на что не надеялась. "Он знает, что я его жду. Раз он не пришел, значит, что-то случилось".
Она продолжала сидеть, машинально глядя, как девочки играют в "резинку". Мимо нее прошел кто-то из Сережиных учителей — Наташа сделала вид, что не заметила, и отвернулась. Что она могла им сказать?
Вскоре школьный двор опустел.
"Надо идти. Надо встать и идти. Вдруг он ждет меня дома?"
Она уговаривала себя, но продолжала сидеть, потому что ей казалось, что она не сможет удержаться на ногах.
"Он вполне может ждать меня дома, у него есть ключ. Что я сижу? Он мог просто забыть, что мы договорились встретиться здесь…"
Она поднялась со скамейки и медленно, чтобы оттянуть страшный момент, когда ей придется убедиться в том, что дома его нет, и еще потому, что от страха у нее подкашивались ноги, направилась к дому.
В квартире было чисто, пусто и тихо. Она вошла в свою комнату, скинула туфли и легла. Ее слух фиксировал звуки, доносящиеся с улицы, — проехала машина, потом еще одна, потом залаяла шотландская овчарка из дома напротив, потом опять проехала машина, потом женский голос крикнул: "Владик, я тебя жду, ты идешь? Владик!"
Она лежала и повторяла про себя: "Как он мог? Как он мог? Значит, он лгал мне все это время. Лгал мне, бабушке. Боже мой, что я скажу завтра маме? Что с ней будет? Он же знал, знал, что она больна, что ей нельзя волноваться. Как он мог?"
Она повернулась на бок, поджала под себя ноги и с головой накрылась одеялом.
Она проснулась от бившего ей в глаза яркого солнца. "Господи, уже седьмой час! Что я лежу? Надо бежать, надо искать Сережу. Но куда я пойду? В милицию? Бесполезно. Никто не станет им заниматься".
Что было делать? Сидеть и ждать, пока он вернется? Вечером, ночью или рано утром, как прошлый раз? Ей было страшно даже представить себе это ожидание в одиночестве. А если с ним что-нибудь случилось?
Она подумала о матери. "Она не должна ничего знать. Если Сережа не вернется к утру, я не смогу забрать ее из больницы. Господи, за что все это? За что?"
Она в отчаянии металась по квартире, не зная, что предпринять: то бросалась к шкафу, чтобы, неизвестно зачем, выбрать себе какую-нибудь более подходящую одежду из своего скудного гардероба, то к окну — посмотреть, не идет ли Сережа, то, услышав, что на площадке останавливается лифт, бросалась к входной двери. В конце концов она снова села на кушетку и разрыдалась. И, плача, вспомнила все: вспомнила ошу-щение страшного одиночества, которое она испытала, когда от нее ушел муж; вспомнила, как было страшно, когда тяжело болел маленький Сережа; вспомнила, как она мыла полы и носила бутылки с боржоми, когда работала в семье новых русских в позапрошлом году; вспомнила, как в парижском аэропорту… Нет, только не это. Она не будет себя жалеть, она не имеет права. Сейчас она встанет и пойдет.
Наташа вдруг поймала себя на странном ощущении: на мгновение она почувствовала, что жалеет о смерти своего бывшего мужа. Если бы он был жив, ей было бы к кому пойти. Она бросилась бы перед ним на колени и умоляла помочь ей. Любой ценой. Или… или убила бы его еще раз, о Господи.
Наконец она собралась с силами и побежала в милицию, где в тот день дежурил старший лейтенант Машакин, большой любитель женского пола. Увидев входящую в отделение хорошенькую дамочку, он приосанился и даже слегка поправил свои густые русые волосы. Однако, услышав, что дамочка разыскивает своего малолетнего сына-наркомана, интерес к ней потерял и даже немного подпортил себе настроение, объясняя, что искать "пацана" никто не станет, так как, во-первых, он никуда и не пропадал, а сидит себе спокойно где-нибудь в подвале и нюхает клей или колется, а потом придет домой как ни в чем не бывало. А не придет сегодня, так придет завтра. А во-вторых, не для того существует милиция, чтобы гоняться за каждым, кому хочется делать то, что не следует. "Понятно? И раньше чем через три дня сюда и ходить нечего — все равно заявление у вас никто не примет".
Потом Наташа снова побежала к школе. Двор был закрыт, и только несколько подростков, сидя на приступке ограды, пели под гитару: "Дом стоит, свет горит, из окна видна даль, так откуда взялась печаль?.."
Оставался пустырь, где часто собирались Сережины одноклассники, но и там, кроме нескольких собачников, не было никого. Наташа побродила еще около часа по окрестным переулкам и без сил вернулась домой.
Опять потянулись мучительные часы ожидания. Она то прислушивалась к каждому шороху, доносящемуся с лестничной клетки, то подбегала к окну, услышав голоса поздних прохожих, то без сил ложилась на постель. В какие-то моменты ей, как ни странно, удавалось ненадолго заснуть, и каждый раз, просыпаясь, она смотрела на часы, и ей казалось, что замедлился обычный ход времени, потому что утро не наступало. Или наоборот, она вскакивала в холодном поту, с ужасом представляя себе новый день со всеми его проблемами, которые через несколько часов неизбежно обрушатся на нее.
"Почему я решила, что Сережа появится утром, как тогда? И что я буду делать, если он не придет?"
Она снова ложилась, натягивала на себя одеяло и, закрыв глаза, молилась: "Сделай так, чтобы он вернулся. Сделай так, чтобы он вернулся". И проваливалась в зыбкий тревожный сон.
Утро было таким же, как всегда, если не считать того, что не было Сережи, и поэтому мир в ее сознании не склеивался в единую картину.
Она в оцепенении сидела на кушетке, спрятав лицо в ладонях и покачиваясь взад и вперед, будто собираясь с силами. "Надо встать, встать, встать", — стучало у нее в голове, но страх опутывал ее своей липкой паутиной, сковывал движения, туманил мозг. Вдруг она услышала резкий звонок. Она вскочила и как безумная бросилась к двери.
Это был не Сережа — перед ней стоял незнакомый мужчина лет тридцати пяти, и только сейчас она заметила, что на ней ночная рубашка.
— Извините, я сейчас…
Она бросилась в ванную и натянула на себя Сережин халат, который первым попался ей под руку.
— Это вы меня извините, — сказал мужчина. — Я, наверное, слишком рано? Боялся вас не застать.
Он вытащил из внутреннего кармана маленькую красную книжечку, раскрыл ее и показал Наташе.
— Капитан милиции Григорьев. А вы, если я правильно понимаю, Лиевина Наталья Владимировна?
Она почувствовала, как от страха у нее похолодели руки.
— Что с Сережей?
— С Сережей? Это ваш сын?
— Да. Что с ним?
— А с ним что-нибудь должно случиться? Откровенно говоря, я пришел по совершенно другому поводу.
— По какому? — спросила Наташа и в ту же секунду поняла, зачем он пришел.
"Хороший момент он выбрал для такого разговора, — подумала она. — Разве я способна сейчас что-нибудь сообразить? И что ему сказать? Давно надо было все продумать, давно".
Она провела его в комнату, усадила в кресло, а сама осталась на ногах.
— Наталья Владимировна, я пришел, чтобы поговорить о вашем бывшем муже, Павловском.
— Со мной? — она попыталась изобразить удивление.
— Когда вы видели его в последний раз?
— Не помню, несколько дней назад…
— Точнее.
— Послушайте, я сейчас совершенно не в состоянии говорить о своем муже… и вообще о чем бы то ни было. У меня вчера пропал сын.
— Как это — "пропал"?
Наташа рассказала.
— Вы пробовали его искать? Вы знаете, где он бывает?
— Да. По крайней мере, здесь, в нашем квартале.
— Друзьям, приятелям звонили?
Наташа покачала головой.
— Никто не знает, где он…
— У вас самой есть какие-нибудь предположения по поводу его исчезновения?
Наташа помолчала.
— Может, вы все-таки сядете?
Наташа опустилась на стул и перевела дыхание. Сердце у нее отчаянно билось.
— Некоторое время назад я узнала, что он… пробует наркотики. Он украл у меня из сумки все деньги… и исчез. Его не было всю ночь. Утром он вернулся… ему было очень плохо, и я… я побежала за врачом, в диспансер, и он… помог ему… А потом…
— Потом вы заперли его дома.
Наташа вздрогнула.
— Откуда вы знаете?
— От него самого. Я к вам заходил…
— К нам? Когда?
— Разве Сережа вам ничего не сказал?
— Нет, я ничего не знаю… Зачем? Когда это было? — Наташа смотрела на него почти с ужасом.
— Дней десять назад. Сережа объяснил, что вы его заперли и что ключ у соседки. Она и пустила меня в квартиру… Она вам тоже ничего не рассказывала? Странно…
— Меня все это время не было дома: моя мама лежит в больнице с инфарктом, и я…
— Это я тоже знаю. Наталья Владимировна, я пришел к вам по совершенно определенному делу, и мне нужно, чтобы вы ответили мне на несколько вопросов. Без этого я просто не имею права от вас уйти. А потом я постараюсь вам помочь в поисках сына. Договорились?
— Спрашивайте.
— Когда вы в последний раз видели вашего бывшего мужа?
Наташа немного подумала.
— В ночь с девятого на десятое мая.
— В ночь?
— Девятого вечером я вернулась в Москву и…
— Вы куда-то уезжали?
— Да, в Париж.
— Надо же, в Париж! Так, и что же?
— Он позвонил, когда я уже спала… Было часа два или три. Он попросил отдать ему то, что я привезла…
— И… что вы ему привезли? Если не секрет?
— Какой-то конверт.
— Конверт? Вы уверены, что это был именно конверт?
— Конечно, уверена. Обычный конверт.
— Вас не удивило, что он приехал к вам ночью?
— Удивило… Но он сказал, что только что вернулся из какой-то поездки.
— Вам, очевидно, известно, от кого было это письмо?
— Почему вы думаете, что мне это известно?
— Но ведь вам его кто-то передал, там, в Париже?
— Какой-то человек подошел ко мне в аэропорту и попросил передать. Больше я ничего не знаю.
— Человек, говорите? И вы опять не удивились?
— Чему я должна была удивляться?
— Тому, например, что он вас знает.
— Дело в том…
— Да?
— Мы с ним уже виделись, когда я прилетела в Париж.
— С какой целью?
— Павловский попросил меня передать посылку человеку, который ко мне подойдет…
— Что за посылка?
— Не знаю. Маленький сверток.
— Насколько маленький?
— Вот такой, — Наташа показала.
— Вы получили его от мужа?
— Пожалуйста, не называйте его моим мужем! Мне это неприятно.
— Извините. Так что?
— Сверточек передал мне его коллега, или знакомый… Не знаю, кто он такой.
— Можете его описать?
— Могу… У него на лице, вот здесь, довольно большое родимое пятно.
Григорьев достал из внутреннего кармана фотографию и показал ей. С небольшого черно-белого снимка на нее смотрели глаза человека, который подходив к ней в Шереметьево.
— Это он?
— Кажется.
— Он или нет?
— Послушайте, я видела его всего пару минут… — она осеклась и тихо добавила: — Он.
— И вас ничего не смутило?.. Вам все-таки предстояло пересечь границу…
— А что тут такого? Там было что-то запрещенное?
Григорьев не ответил. Он убрал фотографию в карман и внимательно посмотрел на нее.
— Павловский не сказал вам?..
— Я же говорю — нет, ничего он не сказал! Я ничего не знаю!
— Хорошо-хорошо, только не надо волноваться!
— Я не могу не волноваться, неужели непонятно? И вообще, послушайте, я развелась с мужем двенадцать лет назад, и до недавнего времени мы совершенно не общались. Я ничего не знаю ни о его жизни, ни о нем самом…
— Но ведь ваш сын видится с ним…
— Да, последний год, после того как Павловский попросил меня об этом. Раньше он совершенно не интересовался его судьбой. А я сама видела его за все это время не больше двух раз…
— Понятно: И все-таки, вы не спросили вашего мужа… бывшего мужа, — поправился Григорьев, — что было в этом свертке?
— Нет. Я не интересуюсь его делами.
— Ваш сын встречается с ним, а вам не интересно, чем он занимается?
Наташа пожала плечами и вяло возразила:
— Почему, я же знаю, где он работает…
— Да-а… Ну что ж, хорошо. Тогда еще один вопрос, последний: где вы были во вторник одиннадцатого мая?
— Одиннадцатого мая? Я же вам только что сказала: утром вернулся Сережа, и я побежала за врачом.
— А потом?
— Я весь день провела с Сережей. А вечером "скорая" увезла маму в больницу, и я поехала с ней.
— Значит, Павловского вы в этот день не видели?
— Говорю же — нет. Почему вы спрашиваете?
Григорьев опять внимательно посмотрел на нее.
— Двенадцатого утром ваш бывший муж был найден мертвым в своей квартире. А убили его во вторник, накануне.
Разыгрывать удивление Наташе не пришлось: она сочувствовала настоящий ужас при мысли, что об этом узнал Сережа.
— Боже мой… И вы сказали об этом моему сыну?
— Нет, конечно! Мальчик ничего не знает.
— Но вы же должны были как-то объяснить ему свое появление у нас в доме?
— Я сказал, что хочу поговорить с вами, но, так как вас не было, я задал ему несколько вопросов.
— Что он вам сказал?
— То же, что и вы: что ему было плохо и что вы весь день провели у его постели.
— А теперь вы спрашиваете об этом меня, потому что не поверили Сереже и подозреваете меня в убийстве бывшего мужа?
— Нет. Мы вас не подозреваем. А спрашиваю я потому, что таков порядок. Все лица, имеющие отношение к жертве…
— Понятно, — перебила Наташа и с трудом сдержала вздох облегчения. — Вы извините, я раздражена, но сейчас меня волнуют совершенно другие вещи.
Григорьев встал.
— Ну что ж, давайте договоримся так: я оставлю вам мой телефон, и если ваш сын не появится сегодня вечером или, самое позднее, завтра утром, позвоните мне — я постараюсь вам помочь. Договорились?
— Ничего другого мне не остается, — проговорила Наташа и, взяв номер телефона, проводила капитана к выходу.
"Что я ему наговорила? Поверил он или нет? Хорошо еще, что в день убийства Сережа спал и не знает, что я почти на несколько часов уходила из дома. Вряд ли, конечно, они стали бы меня подозревать, но все равно — пришлось бы объясняться и что-то врать. Почему — врать? Я же его не убивала… А если меня кто-то видел? И как бы я объяснила свой приход к Павловскому, если в это время дома у меня лежал больной ребенок? Нет, я все сделала правильно… кроме одного. Мне надо было что-нибудь спросить про убийство, а я даже не удивилась, как будто знала. И этот Григорьев наверняка заметил… Впрочем, все равно. Сейчас надо искать Сережу, а все остальное — потом. Интересно, почему он ничего мне не сказал про этого милиционера? Наверно, он просто не понял, для чего тот приходил…"
Наташа быстро оделась и вышла из дома — надо было зайти в больницу и попросить врача, чтобы он хотя бы один день повременил с выпиской мамы. Придется ему все рассказать: про Сережу и про наркотики. Он же должен понимать, что еще одно потрясение ее убьет. Как только Сережа найдется, она заберет ее домой.
В больнице ей повезло. Владимир Георгиевич, дежуривший ночью, еще не ушел, и Наташа, не заглянув к матери, бросилась к нему. Он выслушал ее сбивчивый рассказ, подумал, глядя на ее бледное лицо: "Несчастная баба, ну и везет же ей! А ведь если бы не эта собачья жизнь, могла бы быть красивой", — и вздохнул.
— Хорошо, дня два я вам гарантировать могу, а потом — не знаю. И советую вам не показываться сейчас вашей мамаше на глаза: вид у вас неважный. Давайте-ка я скажу ей, что вы звонили в отделение и просили передать, что не сможете сегодня прийти. Только причину придумайте сами.
— Скажите, что мне пришлось пойти на работу и там задержаться. Спасибо вам, доктор.
— Да не за что… Сходите на телевидение, может, они смогут вам помочь? Не забудьте прихватить фотографию.
Наташа вышла из больницы и подумала: "Что, если действительно пойти на телевидение? Вдруг из этого что-нибудь получится?" И сразу же вспомнила о деньгах. "У меня же нет ни копейки. А вдруг там понадобится заплатить? Надо срочно звонить Виктору и взять у него квартплату". Она бросилась к автомату, и через несколько минут они договорились встретиться, как всегда, у метро "Кропоткинская" в двенадцать часов.
Когда она подошла к метро, Виктор уже ждал ее.
В первый раз она увидела Виктора Малашенко два года назад, незадолго до Ленкиного отъезда, когда та привела ее в свою квартиру на Николоямской улице, чтобы познакомить с жильцом — Наташе предстояло ежемесячно забирать у него арендную плату. Он был очень весел, называл их "девчатами", усаживал, суетился, говорил, что по такому случаю надо обязательно выпить, спрашивал Ленку, действительно ли она едет в Париж, и качал головой. Ленка кокетничала и уговаривала Наташу остаться "посидеть".
"Наташка, пожалуйста, — шептала она. — Неудобно же мне одной!" И Наташа, которой все это было совершенно ни к чему, согласилась. "Ну вот, это по-нашему!" — обрадовался Виктор и достал из чемодана бутылку коньяка.
Потом они сидели и пили коньяк под завывания Ленкиной магнитолы. Наташа скучала, а Ленка расспрашивала его про бизнес, который он "наладил", едва приехав в Москву. Виктор, самодовольно посмеиваясь, отвечал: "Это вы тут сидите, ничего не делаете, а будущее России — за нами, за провинцией", — и отправлял в рот очередную порцию коньяка.
Сам он, в свою очередь, очень интересовался Ленкиной командировкой. Спрашивал, как ей удалось устроиться на работу в Париж, и нельзя ли будет остановиться у нее, если ему случится оказаться там по делу, и не сможет ли она в случае чего прислать ему приглашение, на что Ленка, немного растерявшись, неуверенно отвечала, что да, наверное, сможет. И весь вечер болтая с Ленкой, Виктор не сводил с Наташи выразительного взгляда.
Потом, в конце каждого месяца, они встречались у выхода из метро "Кропоткинская". Наташа эти встречи не любила, потому что каждый раз, отдавая деньги, он приглашал ее посидеть в ресторане, так как, вероятно, какой-либо другой способ ухаживания за женщиной был ему неизвестен. Наташа отказывалась, отговариваясь усталостью или головной болью, потому что, во-первых, не любила ресторанов, во-вторых, не хотела переводить их отношения в другую плоскость. Наконец, он как будто обиделся и приглашать перестал, хотя по-прежнему, встречаясь с ней, "плотоядно", как говорила Наташа, смотрел на нее.
Увидев ее расстроенное лицо, Виктор спросил, не случилось ли чего, и Наташа, неожиданно для себя, расплакалась и сказала: "У меня пропал сын".
— Как это — пропал?
Ей пришлось рассказать, второй раз за сегодняшний день.
— Телефон этого парня вы знаете?
— Какого парня?
— С которым вы говорили в школе.
— Саши Паринова? Знаю.
— А где живет, знаете?
— Да. Это здесь, совсем близко.
— Пошли.
Когда невдалеке показался дом, где жил Саша, она сказала:
— К нему нельзя — он боится отца. Если отец дома, он ничего не скажет.
— А мы к нему не пойдем — мы позвоним. Вы позовете его к телефону, а я буду говорить.
Наташа вошла в телефонную кабину и набрала номер, и почти сразу услышала в трубке Сашин голос:
— Алло!
Наташа не успела открыть рот, как Виктор выхватил у нее трубку.
— Слушай меня, парень, — жестко сказал он. — Тут с тобой хочет поговорить Сережина мама. Если не хочешь, чтобы мы сами поднялись к тебе в квартиру, давай спускайся и побыстрей.
Через две минуты Саша был внизу. Виктор сделал ей знак, чтобы она не встревала.
— Так вот, парень, если не хочешь неприятностей, говори быстро, где Сергей?
— Не знаю. — Вид у него был испуганный.
— Врешь, я по глазам вижу.
— Ничего я не вру!
— Слушай меня внимательно. Если не хочешь, чтобы я говорил с твоим отцом, выкладывай все как на духу. Ну? — Виктор тряхнул его за плечо.
— Не знаю я, где он, — захныкал Саша. — Он сказал, что ему надо отдать долг, и все.
— Какой долг?
— Я-то откуда знаю!
— А с чего это он про свой долг с тобой заговорил?
— Я сказал, что мне отец дал денег на приставку.
— Ну?
— Он и попросил.
— Сколько?
— Сто баксов.
— А ты что, баксы с собой в школу таскаешь?
— Не таскаю, а взял один раз.
— Зачем?
— Просто так.
— Похвастаться, ясное дело. Ну и что дальше? Он попросил, а ты не дал?
— Дал.
— С чего это ты такой добрый?
— Вы только отцу не говорите!
— Не скажу, если сам все расскажешь.
— Отец мне эти баксы обещал подарить, если я принесу четверку по математике. А Серега мне помог. Он за меня в этой четверти две контрольные написал.
— Сто баксов за две контрольные?
— Не, он писал просто так. А сегодня попросил, потому что ему очень нужно было.
— А ты что же, не спросил зачем?
— А чего спрашивать? Я и так знаю!
— Говори!
Мальчик покосился на Наташу.
— Говори, не бойся!
— Он должен одному мужику, который ему дурь давал.
— Какому мужику? Как его зовут?
— Кажется, Сверчок.
— Что еще за Сверчок? Зовут его как?
Наташа сделала движение, и Виктор повернулся к ней.
— Вы его знаете?
— Я знаю, что есть такой человек. Сережа мне про него рассказывал.
— Вы знаете, где его найти?
— Нет.
Виктор схватил мальчика за плечо.
— А ты?
— Не знаю, правда, не знаю! — Мальчик попытался вырваться, но Виктор крепко перехватил его за предплечье. — Пустите, больно же! Я все равно не знаю, где он. Это Вовка Немыкин знает: он там с Серегой один раз был.
Наташа с Виктором переглянулись.
— Это Сережин одноклассник, — сказала она.
Виктор снова повернулся к мальчику:
— Вот что: давай звони. Скажи, что тебе, слышишь, тебе, нужен Сергей. И чтобы он помог тебе его найти. Понял?
— Понял.
Потом все произошло очень быстро. Саша дозвонился Вовке Немыкину, и тот за обещанные ему двадцать рублей согласился выйти и съездить с ними в Отрадное — показать подвал, в котором обретались местные наркоманы и где он сам однажды побывал с Сережей.
Виктор взял такси, и через полчаса, открыв обитую жестью тяжелую дверь, они вошли в подвал большого жилого дома, в котором запах кошек смешивался с запахом марихуаны. Там, в дальнем углу, под обмотанными ветошью трубами, на старом грязном полосатом матрасе, весь избитый, лежал Сережа. Он был без сознания, и на локтевом сгибе его левой руки отчетливо виднелись следы от уколов.
Наташа с криком бросилась к нему, но Виктор, отстранив ее, сел на корточки и взял его руку, пытаясь нащупать пульс. Потом обшарил карманы, где не оказалось ничего, кроме мелочи и грязного носового платка. Потом встал, взял мальчика на руки и понес к выходу, возле которого их ждало такси. Наташа пристроилась возле Сережи на заднем сиденье, а Виктор, отправив Вовку Немыкина на метро, сел рядом с шофером.
— Ну что? — спросил он через плечо. — Куда теперь? В больницу?
— Нет, домой. Я позвоню, у меня есть знакомый врач…
— Ну так давайте, звоните, вон автомат. Мы за ним по дороге и заедем.
Наташа бросилась к автомату, на ходу пытаясь отыскать в сумке телефон Аркадия Николаевича, который, как оказалось, жил не так далеко от места, где они находились. Он сразу же согласился помочь.
— Давай, командир, к Савеловскому вокзалу и побыстрей! — распорядился Виктор и закурил.
Наташа держала Сережину голову на коленях, одной рукой осторожно гладя его лицо в ссадинах и синяках, другой вытирая слезы, катившиеся у нее по щекам. "Сережа, Сереженька", — шептала она в надежде, что мальчик придет в себя.
Минут через пятнадцать они подъехали к большому кирпичному дому, и Наташа издали заметила около одного из подъездов высокую худощавую фигуру доктора Левина с чемоданчиком в руках.
— Садитесь назад, — не выходя из машины, скомандовал Виктор, который явно чувствовал себя хозяином положения.
Аркадий Николаевич, не обращая внимания ни на Виктора, ни на Наташу, стоя у открытой дверцы машины, уклонился над мальчиком: приподнял веки, пощупал пульс и только после этого сел в машину. Наташа следила за каждым его движением.
— Что с ним?
— Его надо срочно в больницу, — Аркадий Николаевич назвал шоферу адрес.
— Что с ним?
— Передозировка. Как это случилось? — спросил он, повернувшись к Наташе.
Она рассказала про деньги и про то, как они его нашли.
— Все понятно… Он, видимо, хотел рассчитаться с ними. Не знал, бедный мальчик, что это невозможно.
— Но почему? — спросила Наташа. — Он же хотел вернуть им деньги!
— Им не нужно, чтобы он их вернул. Им нужно, чтобы он оставался на игле. Тогда он никуда от них не денется. Вот чего они хотят.
— Но зачем он им? Он же ребенок. Что они могут с него взять? — Слезы душили ее.
— В любом случае, раз уж он попал к ним в руки, просто так они его не отпустят.
— Выходит, он теперь нигде не может быть в безопасности? Что же делать?
— Для начала надо вывести его из этого состояния. Надо понять, что ему ввели, потому что есть наркотики, привыкание к которым наступает практически сразу.
— И что тогда?
— Сейчас рано об этом говорить…
— Неужели нельзя избежать больницы?
— Почему вы так боитесь госпитализации?
— Потому что не хочу подвергать его напрасным мучениям. Его все равно не вылечат, и потом все начнется снова. Разве я не права?
Аркадий Николаевич посмотрел на нее:
— После того, что случилось сегодня, сам он уже не справится, я вам объяснял.
— А в больнице? У вас есть гарантия, что…
— Никаких гарантий никто вам сейчас не даст. Но, повторяю, другого выхода нет.
Когда такси остановилось около входа в приемный покой, Аркадий Николаевич велел им ждать в машине, а сам пошел договариваться о госпитализации. Виктор повернулся, посмотрел на Наташу, прижимавшую к себе мальчика, и сказал:
— Да вы не волнуйтесь, вылечат…
— Да, — проговорила она сквозь слезы, — да.
Наконец в дверях появился Аркадий Николаевич и крикнул, чтобы несли Сережу. Виктор на руках донес мальчика до входа в отделение, дальше их не пустили. Наташа сказала, что никуда не поедет, пока не выйдет доктор Левин и пока она не узнает, что Сережа пришел в себя. Виктор понял, что уговаривать бесполезно и предложил остаться с ней.
— Спасибо, вы и так потеряли со мной столько времени. Если бы не вы…
— Да ладно, чего там… Может, я заеду за вами завтра? У меня вообше-то есть машина — утром пригоню из сервиса. Вы когда мамашу-то свою забираете? Я помогу…
— Спасибо, большое вам спасибо! Я завтра позвоню.
Ей было неловко, что этот человек, который никогда не был ей симпатичен, потратил на нее столько времени и сил. "Никогда не следует судить о людях опрометчиво", — сказала она себе в порыве благодарности и посмотрела ему вслед.
Уже смеркалось, когда из здания больницы вышел Аркадий Николаевич и сказал, что Сереже лучше. Он настаивал на том, чтобы Наташа немедленно ехала домой, потому что увидеться с Сережей пока все равно нельзя.
— Поезжайте домой. Завтра вам еще понадобятся силы. Поезжайте!
— Я поеду, только позвольте мне его повидать.
— Это невозможно. Совершенно невозможно. Да и не нужно…
— Я только скажу ему…
— Я сам скажу ему все, что нужно, не волнуйтесь. И поезжайте домой.
— Скажите, что я все знаю, что я не сержусь и завтра приеду. Чтобы он ни о чем не беспокоился. Пожалуйста!
— Я все сделаю, не волнуйтесь.
— И еще, — Наташа открыла сумку, — позвольте мне расплатиться с вами…
Она заметила его протестующий жест и добавила:
— У меня есть деньги, правда. Вот.
Наташа вытащила доллары, полученные сегодня от Виктора.
— Спрячьте, — сказал Аркадий Николаевич. — Они вам сейчас очень пригодятся. И не настаивайте: я все равно не возьму.
— Почему?
— Это отдельная история. Когда-нибудь я вам объясню. Не сейчас. Лучше скажите, как случилось, что ваш сын связался с наркодельцами? Он же вполне домашний мальчик?
Наташа посмотрела в его усталые глаза.
— Это тоже целая история. И я ее тоже когда-нибудь расскажу…
— Вот и договорились. А теперь поезжайте.
— Позвольте хотя бы вас подождать и проводить. Вы же устали.
— Нет. Я хоть и не самый молодой, но все-таки еще мужчина. К тому же мне нужно задержаться в отделении. Вы скоро забираете из больницы вашу матушку, я не ошибаюсь?
— Да.
— Вот и хорошо. Завтра утром позвоните мне в диспансер, и я скажу, как обстоят дела с Сережей и нужно ли вам приезжать. Всего хорошего!
Наташа спустилась в метро и села в вагон. В противоположном конце его несколько молодых людей пели под гитару, на которой играл длинноволосый парень в кожаных штанах. На полу при каждом толчке перекатывалась брошенная бутылка из-под пива. Наташа закрыла глаза.
"Бедный, бедный мой мальчик".
Она представила себе, как он лежит там один, в незнакомом месте, среди незнакомых людей, больных, наркоманов. "Боже мой, я его ругала… Ругала за то, что он убежал из школы, за то, что обманул меня. А он хотел рассчитаться с ними…"
Она вспомнила, что, когда она нашла его утром в комнате бабушки, он украдкой вытирал глаза. "Вот почему он плакал. Мне нужно было расспросить его, попытаться помочь. Если бы я знала, я бы сама отвезла им деньги. Что же делать? Как мы теперь будем жить? Если даже его вылечат, где гарантия, что эти подонки не найдут его снова? Не могу же я держать его взаперти. Господи, уехать бы куда-нибудь… В другой район, в другой город, куда угодно… Что я скажу маме? Соврать, что он поехал куда-нибудь с ребятами? Она не поверит. Сказать, что у него аппендицит? Что же делать, что делать?.."
Когда поезд подъезжал к остановке, она встала и подошла к выходу. К стенке вагона был приклеен прямоугольный рекламный листок, на котором был изображен мальчик со шприцем в руках. Наташа прочитала: "Реабилитационный центр доктора Нуразбаева. Звоните, пока не поздно!" Реклама обещала полное и окончательное избавление от всех видов наркотической зависимости за несколько недель. Наташа достала из сумки карандаш и переписала телефон в записную книжку. По дороге домой она вспомнила, что несколько месяцев назад видела доктора Нуразбаева по телевизору. Вспомнила, что он понравился ей: у него были умные глаза, которые, казалось, видят то, чего не видят другие, и он рассказывал совершенно невероятные вещи о своей клинике, где-то в Казахстане, куда приезжали лечиться со всего мира. Тогда ей казалось, что к ней все это не имеет ни малейшего отношения.
Наутро, едва проснувшись, Наташа заторопилась к Сереже. "Прежде чем ехать за мамой, я должна знать, что с ним все в порядке". К Сереже ее не пустили: приемные часы здесь соблюдались строго, но повидать лечащего врача ей все же удалось. Сперва он показался ей молодым и неопытным, но когда он быстро и толково ответил на все ее вопросы, она рискнула задать ему еще один:
— Скажите, доктор, вы что-нибудь знаете о клинике Нуразбаева?
— Конечно! В прошлом году я даже хотел пройти там стажировку, но на это не нашлось денег.
— Вы считаете, что Сереже там действительно могли бы помочь?
— Думаю, что да. Но это дорого.
— Насколько дорого, не знаете?
— Точно не знаю. Несколько тысяч. Долларов, разумеется. Видите эту женщину? — Он показал ей на стоящую у окна женскую фигуру.
— Да. Кто это?
— Год назад она потеряла сына: умер от передозировки. А сейчас у нас лежит его брат. Оба они когда-то по подвалам нюхали клей. Знаете, как называют таких ребят? Нюхачи. А потом перешли на героин. Один умер, а второго мы лечим, но мы мало что можем…
В недалеком будущем его ждет та же участь. Необратимое поражение клеток головного мозга… Мы можем вывести человека из состояния наркотической абстиненции, хотя это тоже непросто. А вот ликвидировать психологическую зависимость очень тяжело. Да что там, практически невозможно. А вот в клинике Нуразбаева это умеют. Если бы у нее были деньги, мальчика можно было бы спасти, а так…
— Да, — сказала Наташа, — да. Я понимаю.
Она подумала о деньгах, которые остались в Париже. Ни разу за это время она не вспомнила, не пожалела о них, но сейчас они бы могли так пригодиться. Какая насмешка! Эти деньги, которые она получила за преступление и которые она только чудом, благодаря случаю, не потратила на тряпки и подарки, сейчас могли бы спасти Сережу. "Неужели это расплата за то, что я совершила? И разве мало я уже наказана? И неужели это еще не конец? Я сама, сама во всем виновата".
Она шла, не замечая ничего вокруг, и ее мозг сверлила одна-единственная мысль — где взять денег? Она вспомнила о Вере, которая предлагала ей помощь. Попросить у нее? Но разве это возможно? Есть еще Ленка, которая должна скоро приехать. На ее счету собралась довольно приличная сумма из денег, полученных от Виктора за квартиру. Ленка, наверное, одолжила бы ей, но как их потом отдать? Из чего? Ей никогда не накопить такую сумму. И потом, как быть с Ленкиными мечтами о ремонте?
Наташа остановилась. "Квартира… да, квартира. Как же я не подумала? Я же могу продать нашу!"
Она вспомнила, что часто находила в своем почтовом ящике рекламные листочки с заманчивыми предложениями о продаже или обмене квартир. Свою двухкомнатную в центре она вполне может обменять на такую же двухкомнатную где-нибудь подальше. А на разницу… "Нет. Невозможно. Мама не захочет. Она всю жизнь прожила в этом доме. И у меня никогда не повернется язык ей это предложить. Никогда. Значит, надо искать деньги. А для начала узнать, сколько стоит лечение в клинике Нуразбаева. Может быть, и не так дорого? Может быть, действительно Ленка могла бы мне одолжить?.. Я бы устроилась на две работы или опять пошла к тем новым русским, они предлагали. Надо позвонить Ленке в Париж и спросить, когда она приедет. Да, и телефон. Надо срочно заплатить за телефон".
Когда Наташа поднялась в отделение, Зинаида Федоровна, уже одетая, ждала ее в коридоре.
— Наташа, наконец-то! Ты одна? Я думала, ты придешь с Сережей… Что с тобой?
— Ничего, мамочка, все в порядке. У Сережи подозрение на аппендицит. Вчера вечером его забрали в больницу. Но ты не волнуйся, с ним все в порядке, я сегодня у него уже была.
— Что значит — "в порядке"? Что с ним?
— Врач говорит, что это были просто колики.
Они вошли в палату. Наташа взяла сумку с вещами и плед. Потом они попрощались со старушками, которые сидели на кроватях и кивали им, как китайские болванчики, потом поблагодарили нянечек, сестер и врачей и, спустившись по лестнице, вышли в больничный двор.
— А теперь говори, что с Сережей, — сказала Зинаида Федоровна. — И не вздумай врать: все равно не умеешь.
И еще, имей в виду, что небылицы, которые ты рассказываешь, пугают меня гораздо больше, чем любая правда.
Наташа, опустив одну половину и смягчив другую, рассказала матери, что произошло.
— Ты только не волнуйся! Я говорила с Аркадием Николаевичем, помнишь его? Он сказал, что есть место, где его могут вылечить.
— Что это за место?
— Есть такой реабилитационный центр. Может быть, помнишь, в прошлом году мы видели по телевизору: выступал главный врач, нарколог, и рассказывал всякие чудеса? Его фамилия Нуразбаев.
— Конечно, помню. Но ведь это Бог знает где: то ли в Казахстане, то ли…
— В Казахстане. Но разве дело в том, что это далеко? Главное, они сумеют ему помочь.
— Но ведь это наверняка очень дорого. Где ты собираешься взять деньги?
— Займу у Ленки. У нее накопилась приличная сумма.
— И сколько же нужно?
— Около четырех тысяч…
— Четырех тысяч?
— Долларов…
— Это невозможно. Из чего ты будешь отдавать?
— Мамочка, как-нибудь! Со временем расплачусь. Устроюсь на другую работу. Или еще что-нибудь придумаю. Уверяю тебя, это не такие деньги, которые нельзя заработать.
— Ты не можешь брать такую сумму. Ты не имеешь права влезать в долги и ставить Лену в такое положение…
— Что ты предлагаешь?
— Надо продать нашу квартиру. Если купить такую же где-нибудь на окраине, то наверняка останется какая-то разница, которой хватит на лечение. Во всяком случае, надо узнать.
— А как же ты?
— При чем тут я? Сейчас надо думать о Сереже. А мне все равно, где жить, лишь бы вы были здоровы.
Квартиру в Сивцевом Вражке получил еще ее отец, когда в 1934 году был назначен главным инженером крупного строительства. В тридцать седьмом его арестовали, но семью не выслали, и они с матерью дождались его освобождения перед самой войной. Через два месяца он ушел на фронт, откуда уже не вернулся. В этой же квартире она прожила с мужем короткую, но счастливую жизнь, вырастила Наташу, дождалась внука. Не так давно один старый врач, к которому Наташа возила ее на консультацию, сказал, что пожилым людям, особенно сердечникам, лучше не менять привычных условий жизни. К чему он это сказал, она уже забыла, но хорошо помнила, как ответила ему: "Менять? Боже сохрани! Мне кажется, если я проснусь и не увижу нашу липу во дворе, я сразу умру!" Но разве теперь она могла думать о себе, когда Сережа нуждался в помощи?
На следующий день они сидели в Наташиной комнате с Виктором, который взялся им помочь, и обсуждали подробности.
— Не волнуйтесь, мамаша, квартиру я вам найду. И все, что надо, сделаю. Сколько, говорите, надо на лечение? Четыре тысячи? Будет вам четыре тысячи и даже больше.
— Виктор, — сказала Зинаида Федоровна, — не надо больше. Главное, чтобы хватило на лечение и чтобы нас не обманули. Я столько слышала всяких ужасных вещей, связанных с продажей квартир, что очень боюсь, как бы…
— А знаете что? — перебил ее Виктор. — Я сам у вас ее куплю. А чего? Я все равно собирался покупать, правда, не сейчас, а в будущем году, но какая разница? Раз уж все так сошлось…
Зинаида Федоровна с Наташей переглянулись.
— Нет, правда, — продолжал он в порыве вдохновения, — заплачу наличными, в накладе не останетесь. И квартиру помогу подыскать. И переехать помогу. Чего вам в агентство-то лезть? Там действительно могут надуть — им только положи палец в рот, живо оттяпают. Лучше уж я. Ну что, согласны?
— Виктор, — робко начала Зинаида Федоровна, — все это очень мило с вашей стороны, но вы не должны менять из-за нас свои планы…
— Ну, мамаша, вы даете! Я ж говорю: я все равно собирался покупать квартиру, а ваша мне подходит. А раньше или позже — какая разница? Ну что — по рукам?
Наташе хотелось задать ему какие-то вопросы, но она постеснялась. Как их задашь человеку, который три дня назад спас Сереже жизнь, а сейчас спас их самих и избавил от необходимости обращаться к неизвестным людям и рисковать. Конечно, они согласились.
На следующий день, ближе к вечеру, Виктор сообщил, что квартиру для них нашел.
— Во-первых, на этой же линии метро, на конечной остановке: "Улица Подбельского". До центра — пятнадцать минут. От метро — две трамвайные остановки, маленькие. А трамваев там — пруд пруди! — ждать не придется. Вот только телефона тем нема. Но вы не тушуйтесь! Телефон поставим — были бы деньги! А вот тут, мамаша, — Виктор подмигнул Зинаиде Федоровне, — у меня главный сюрприз. Вернее, два сюрприза. Во-первых, квартира трехкомнатная, а не двух-, как вы хотели. А во-вторых, получите разницу почти в десять тысяч. Так что и на телефон хватит, и мебель прикупите, а то вон у вас какая развалюха… Ну, что скажете? — и Виктор победоносно оглядел поле битвы.
Наташа, пытаясь собраться с мыслями, молчала, а Зинаиде Федоровне, которой никогда не приходилось иметь дело с долларами, названная Виктором сумма показалась огромной. Она испуганно спросила:
— Почему так много? Неужели это законно? Да еще за трехкомнатную!
Квартира на Сивцевом Вражке была двухкомнатной, но вскоре после рождения Сережи большую комнату перегородили, чтобы у него был свой уголок.
Виктор, рассчитывавший на совершенно другую реакцию, даже покраснел от досады:
— Ну вы даете, мамаша! Конечно, законно. У вас дом в центре, старый, каменный, а квартира хоть и двухкомнатная, но большая. А тот дом, во-первых, на окраине, а во-вторых, панельный, без лифта. Вот и разница. Здесь радоваться надо, а вы говорите "законно, незаконно…".
Наташа думала о другом. "Тогда в Париже я взяла деньги, которые не должна была брать. Неважно, что на себя я потратила не так уж много. Важно, что я их взяла, и кто знает, какого мальчика я погубила, когда согласилась сделать то, что я тогда сделала. И теперь, когда эти деньги свалились с неба, я не имею права думать только о себе. Я должна помочь кому-то, у кого таких денег нет. И если мама согласится…"
— Виктор, вы напрасно обижаетесь, — сказала она. — Откуда мама может знать, как все это делается?
— Да ладно, чего там!
— А какой этаж? Если высоко, то маме будет…
— На третьем, — перебил Виктор. — Подойдет?
— Вполне, — ответила Зинаида Федоровна и укоризненно взглянула на Наташу. — О чем ты говоришь? Как раз хорошо, что нет лифта! Мне только полезно двигаться. Мы согласны.
— Ну вы сперва поезжайте, посмотрите, а то как же? А понравится, так и давайте переезжать. А то скоро моя хозяйка приедет, так мне придется другую квартиру снимать. Она тут звонила, говорит — готовься съезжать.
— Правда? — спросила Наташа. — Звонила Ленка? Когда она приезжает?
— Говорит, во второй половине июня. Так поедете смотреть?
Наташа съездила, посмотрела. Квартира как квартира. Три комнаты, кухня, коридор, стенной шкаф. Только что сделан ремонт, не ахти какой, но все же. Три окна выходят во двор с несколькими чахлыми тополями и гаражами-ракушками. Трамвай останавливается действительно совсем близко. Да и какое это имеет значение, если теперь у нее есть деньги, чтобы спасти Сережу?
Она вдруг вспомнила женщину, стоявшую у окна в больничном коридоре. Вот кому надо помочь, подумала она. Виктор сказал, десять тысяч? Зачем ей столько? Они проживут и так, жили же до сих пор? "Мама вряд ли станет возражать, лишь бы эта женщина согласилась взять у меня деньги. К пяти часам поеду в больницу и спрошу нашего врача, как ее найти".
Женщину звали Тамара Копылова. Муж ее, Иван Петрович Копылов, несколько лет назад умер от пьянства, и чтобы прокормить двух сыновей, девяти и двенадцати лет, она устроилась уборщицей в крупное учреждение недалеко от дома и каждый день должна была убирать закрепленные за ней 600 квадратных метров площади: коридор на первом этаже, конференц-зал и несколько кабинетов. Она ходила по зданию, таская за собой весь свой нехитрый рабочий скарб: пылесос, ведро, стиральный порошок, который им выдавали для уборки, и большой бумажный мешок, куда она должна была собирать мусор. В перчатках она работать не любила, и от порошка и горячей воды у нее трескались руки. Платили ей немного, но работой своей она дорожила, потому что в десять, самое позднее в одиннадцать она была уже свободна. Возвращаясь домой, она по инерции продолжала убирать: мыла полы, чистила кафель, протирала большое зеркало в платяном шкафу и, ворча, подбирала с пола в комнате у мальчиков болты, гайки и еще какую-то металлическую дребедень, потому что братья целыми днями возились со старым велосипедом, найденным недалеко от дома прошлым летом. Возились в надежде, что починят его и будут кататься не хуже других.
Потом Тамара варила обед: щи, макароны с сосисками или жареной колбасой — и ставила на стол компот из яблок, которые закатывала летом, когда они все вместе ездили к тетке в деревню. Потом мальчики возвращались из школы, обедали (за столом всегда сидели молча, как это делал их покойный отец, когда был трезвым) и, пообедав, принимались за велосипед. Тамара опять ворчала, грозилась выкинуть старую развалюху на помойку, но мальчики, поджав губы и сопя, продолжали свое дело. Тамара мыла посуду, протирала клеенку, сперва мокрой, а потом сухой тряпкой, и садилась отдыхать, перелистывая какую-нибудь рекламную газету, которую им регулярно подкладывали в почтовый ящик, а потом аккуратно складывала ее и убирала на шкаф. Вечером Тамара шла в соседний продовольственный магазин, где делала то же, что и везде: мыла полы. В магазине ей платили немного больше, потому что магазин был коммерческий, но, главное, иногда ей перепадали продукты с истекшим сроком годности, и когда она возвращалась домой, мальчики бросались к ней, стараясь заглянуть в сумку, и она, отбиваясь от них, спрашивала: "Уроки сделали? А то не дам!" — и братья дружно кричали: "Сделали, сделали!" — чтобы получить свою порцию счастья.
Прошло несколько лет, мальчики подросли. Велосипед уже давно был выброшен на помойку, и на его месте посреди комнаты лежала огромная автомобильная покрышка, на которой поверх доски стоял магнитофон, подаренный на день рождения старшему, Коле, — ему недавно исполнилось шестнадцать лет. Теперь, когда Тамара бывала дома, соседи слышали, как она, стараясь перекричать Киркорова или Антонова, просила сделать потише, но мальчики не слушались, и когда вечером разъяренная Тамара уходила в магазин мыть полы, вслед ей победно неслись "Зайка моя" или "Трава у дома".
Потом как-то днем к ней зашел участковый милиционер, Олег Михалыч, и спросил, знает ли она, чем занимаются ее дети по вечерам. Тамара испугалась, решив, что мальчики воруют или делают еще что похуже, но, когда участковый сказал, что они что-то курят или нюхают, успокоилась. "Делать ему нечего, — ворчала она, — ходит тут… Лучше бы воров ловил. И ящики вон почтовые каждый день ломают, починить некому".
Когда мальчики вернулись домой, Тамара набросилась на них с криком, особенно на старшего: "Ты вон большой вымахал, так и делай что хочешь, а его-то куда тянешь? Ему вон тринадцать лет только, а уж участковый приходил, жаловался на вас. Еще раз узнаю, домой не пущу, так и знай. Ишь, курить им приспичило!"
Больше разговоров на эту тему не было, участковый не приходил, и Тамара успокоилась. Она по-прежнему мыла полы, варила обеды и приносила домой подкисшие йогурты, которые кроме нее теперь уже никто не ел. В один прекрасный день Тамара заметила, что пропала подаренная им с мужем на свадьбу хрустальная ваза, стоявшая в серванте за стеклом. Коля, к которому она подступила как всегда с криком, вместо ответа больно ударил ее в грудь. Тамара завыла, не столько от боли, сколько от неожиданности и обиды, но дать сдачи не рискнула и назвала Колю "проклятым высерком". Коля ничего не ответил, только посмотрел на нее, а потом оделся и ушел, и Тамара целых три дня не знала, где он и что с ним. Потом Коля вернулся, но Тамара, не простившая ему обиды, говорить с ним не захотела. Так прошло еще несколько недель.
Однажды ночью Тамару разбудил младший, Дениска, и сказал, что Коля умер. Она вскочила, как ошпаренная, и бросилась к ним в комнату: Коля лежал поперек своего топчана белый, как снег, и, кажется, не дышал. Тамара заголосила на весь дом, но в этот момент Коля слегка пошевелился. Тамара тут же замолчала, и Дениска увидел, что она как завороженная смотрит на Колину руку, красно-синюю и всю истыканную на локтевом сгибе. На следующий день Коли не стало.
Поговорив с врачом и узнав адрес, Наташа поехала на юго-запад Москвы, где жила Тамара Копылова. Чтобы поскорее покончить с тягостной сценой, она сразу перешла к делу:
— Тамара, мой сын лежит в той же больнице, что и ваш. Ему почти столько же лет. У меня есть возможность устроить его в очень хороший центр, где лечат наркоманов. По-настоящему лечат, понимаете?
— Ну? Что за центр такой?
— Это далеко, в Казахстане.
Тамара усмехнулась.
— Так это стоит знаете сколько? У меня таких денег нет.
— Знаю. Поэтому я и пришла. Я хочу попросить вас, чтобы вы согласились взять эти деньги у меня и чтобы наши мальчики поехали туда вместе.
Тамара недоверчиво покосилась на Наташу.
— Что-то я не пойму: вы мне деньги даете? С какой стати-то?
— Тамара, я не знаю, как вам все это объяснить, да и вряд ли это нужно. Просто примите мою помощь, и я буду вам очень благодарна. Потом, когда-нибудь, я вам объясню…
— Ой, Господи… — сказала Тамара, и закрыла рот ладонью. Она стояла, покачиваясь из стороны в сторону, и смотрела на Наташу безумными глазами. — Коленька умер в прошлом году, а теперь вот Дениска, младший… Врач говорит, если не бросит, тоже умрет. А как бросить-то? Не может он бросить… Ой, Господи, Господи… — и Тамара опять закачалась и завыла.
— Тамара, надо надеяться на лучшее. Там им помогут, я уверена. Я говорила с врачом, он очень хорошо отзывается об этом центре.
— Дай вам Бог здоровья. Я и не знаю, как вас благодарить, — Тамара всхлипнула. — Хотите, я вам полы буду мыть? Полы мыть, убираться, в магазин ходить. Я и обед варить могу.
— Спасибо вам, но ничего этого не нужно. Вы сможете завтра приехать в больницу к пяти часам? Наш доктор обещал связаться с этим центром и узнать все подробности. Завтра мы могли бы все обсудить.
— Приеду, приеду. К пяти часам.
Тамара проводила Наташу, вернулась в кухню, села к столу и, подперев голову рукой, попыталась осмыслить происшедшее.
На следующий день Наташа снова поехала в больницу. Сережа выглядел немного лучше, чем накануне, но был еще очень бледен и слаб. Говорить он по-прежнему не мог, но когда она, наклонившись к нему, сказала про возможную поездку в центр Нуразбаева, ей показалось, что он обрадовался. Наташа думала, что отвезет его туда и пробудет с ним несколько дней, пока он не привыкнет, а потом, наверное, вернется в Москву, потому что надолго оставлять Зинаиду Федоровну одну она не хотела. Однако врач, который взялся им помочь, сказал, что по существующим правилам с мальчиками должен все время находиться кто-то из взрослых, и тогда Тамара, обрадовавшись возможности быть хоть как-то полезной, согласилась взять отпуск и поехать в Казахстан с обоими мальчиками. Оставалось собрать справки и сделать необходимые анализы, и через четыре дня Виктор отвез их в Домодедово.
Наташа еще ни разу не расставалась с Сережей так надолго и ни разу не отправляла его так далеко от дома. Она заглядывала ему в глаза, чтобы понять, не обиделся ли он на нее за то, что она "сплавляет" его в такую даль, и Сережа, как мог, успокаивал ее.
С Денисом Копыловым он познакомился еще в больнице, и мальчики довольно быстро нашли общий язык. Тамара, смотревшая на Наташу, как на ангела-хранителя, обещала смотреть за Сережей, как за родным сыном, и часто звонить. Наташа шепнула ей, что телефона у них первое время не будет (о продаже квартиры Сережа ничего не знал), и сказала, что будет звонить сама.
На следующий день после отъезда Сережи они переехали.
Когда самолет, вылетевший рейсом Москва — Алма-Ата, набрал высоту, Сережа отстегнул ремень безопасности, сказал Тамаре, что хочет спать, повернулся лицом к иллюминатору и закрыл глаза. Теперь, когда ему ничего не угрожает, можно все спокойно обдумать и решить, что делать, когда через месяц с небольшим он вернется в Москву. Но сначала — сначала он должен все вспомнить. Вспомнить, что с ним произошло в тот день, когда он, заняв у Сашки Паринова сто долларов, сбежал с уроков.
Впрочем, на самом деле эта история началась недели на две раньше, когда к ним в квартиру, где он четвертый день сидел взаперти, позвонил какой-то мент.
Сережа посмотрел на него через глазок и спросил:
— Вы к кому?
— Я из милиции. Мне нужно видеть Наталью Владимировну Лиевину.
— Ее нет дома, — ответил Сережа.
— Ты, наверное, ее сын? Может, дверь все-таки откроешь?
— Я бы открыл, но у меня нет ключа. Меня заперли.
— За что же это тебя так?
— Вы пришли из-за меня?
— Нет, мне надо поговорить с твоей мамой. Ладно, открой.
— У меня правда нет ключа, я не вру. Хотите, позвоните соседке, она откроет.
Людмила Ивановна оказалась дома и, взглянув на удостоверение, которое ей показал капитан, дверь открыла, попросив потом сразу же вернуть ключ.
— Так за что все-таки тебя заперли? — спросил гость.
— Просто так. Я домой ночевать не пришел.
— Тебе сколько лет-то?
— Тринадцать.
— Ну, в тринадцать лет тебе еще рано по ночам гулять. А где мама?
— В больнице. У нас бабушка болеет.
— Придет скоро?
— Может, и совсем не придет. Она там ночует.
— А что с бабушкой?
— Сердце.
— Понятно. Скажи, пожалуйста, во вторник вечером мама была дома, не помнишь?
— Во вторник?
— Во вторник.
— Не помню.
Сережа прекрасно помнил, что во вторник, когда он утром вернулся домой, мама побежала в диспансер и привела врачилу, который сделал ему укол и обещал зайти через несколько дней. Помнил он и то, что, проснувшись около семи вечера и увидев, что матери нет, перебрался к ней в комнату, лег на постель и под подушкой нашел это странное письмо. Он еще тогда подумал, что напрасно его прочитал, потому что на следующий день, когда мама вернулась ненадолго из больницы, это письмо исчезло, и мама о нем с тех пор не заговаривала, а значит, не хотела, чтобы он совал в него нос. Зачем же тогда она его написала? И вдруг он отчетливо вспомнил одну фразу: "Если со мной что-нибудь случится…" Неужели?.. Неужели правда то, о чем он подумал, прочитав письмо? Не может быть… Уж, конечно, мама не могла сделать ничего такого… А мент? Зачем же он тогда пришел? Зачем он спрашивает, где она была именно в тот день?
— Вы говорите, во вторник? — повторил он, наморщив лоб. — Кажется, помню. Во вторник-то я как раз и не ночевал. А когда пришел, мама пошла за врачом. Это было утром, часов в восемь. А потом она весь день была дома. А вечером бабушку забрали в больницу, и мама поехала с ней, но это было уже поздно. А что?
— Да ничего, просто мне нужно кое-что выяснить. Ты точно помнишь, что это было во вторник?
— Точно. В понедельник я был в школе последний раз.
— А живешь с мамой и бабушкой?
— Ну да.
— Отец-то бывает у вас?
— Нет, он к нам не заходит. Я сам к нему хожу. Иногда.
— И когда ты был у него в последний раз?
— Последний?.. Давно. Перед праздниками. А что?
— Просто так. Ладно, я пойду. А ты больше по ночам не гуляй, маму не расстраивай.
— Ей что-нибудь передать?
— Да нет, я сам к ней зайду через пару дней. А теперь, ты уж извини, придется мне опять тебя запереть.
Почему он ничего не сказал матери про этого мента? Не хотел ее пугать? А что еще? Что-то еще не давало ему покоя, и он ждал подходящего случая, чтобы убедиться, что его подозрения — полный бред. И когда мама согласилась выпустить его наконец из заточения и разрешила пойти в школу в последний день занятий, и когда оказалось, что Сашка Паринов может одолжить ему на несколько дней сто баксов, он решил, что сбежит с уроков и зайдет к Дмитричу, чтобы, во-первых, попросить его вернуть деньги Сверчку и передать, что больше он ему ничего не должен и чтобы они оставили его в покое, а во-вторых, сказать ему… Что сказать? Да ничего он не будет говорить, не хочет он с ним разговаривать. Просто убедится, что с Ю. Д. все в порядке, и вернется в школу, чтобы, не дай Бог, мама ни о чем не догадалась.
Сережа сел на троллейбус и через пятнадцать минут подъехал к дому, где жил отец. Выйдя из лифта, он сразу заметил на дверях квартиры узкую полоску белой бумаги. Он подошел ближе: печать, неразборчивая подпись. Совершенно ясно — квартира опечатана. А опечатать ее могли только в двух случаях: или Ю.Д. арестовали, или… его нет в живых. Неужели все-таки?.. Не может быть. Этого просто не может быть. Не могла мама этого сделать. Не могла и все. Бред какой-то. А мент? А письмо? Если мама действительно… то тогда понятно, почему мент спрашивал именно про вторник. Значит, ее подозревают?
Сереже стало страшно. Хорошо хоть он сказал, что мама была дома. И какой же он дурак, что не рассказал ей про мента. Надо было рассказать. Ведь мент обещал зайти еще раз. И он наверняка спросит ее, где она была в тот день. Надо срочно предупредить ее, чтобы она была готова и не сказала чего-нибудь лишнего. "Сегодня же после уроков ей расскажу", — думал Сережа, спускаясь по лестнице.
А вдруг все это ерунда? Может, его действительно арестовали? Если у Ю.Д. такие "коллеги", как этот тип, познакомивший его со Сверчком, то он наверняка занимается какими-нибудь делами, за которые сажают. А по виду не скажешь: на уголовника Ю.Д. похож не был.
Сережа вышел из подъезда, продолжая обдумывать происшедшее, и не заметил, как из автомобиля, стоящего на противоположной стороне улицы, вышел молодой человек в джинсах и полосатой футболке и направился к нему. Автомобиль тем временем дал задний ход, въехал в подворотню, развернулся и подъехал к тротуару в тот момент, когда парень в футболке подошел к Сереже.
— Здорово, — сказал он, преградив Сереже путь.
— Здрасьте, — ответил Сережа, удивленно посмотрев на него.
— Не спеши, надо поговорить. Давай-ка, садись.
Он подтолкнул Сережу к задней дверце автомобиля, которую приоткрыл сидевший внутри человек. Сережа попытался увернуться, но не тут-то было: парень крепко схватил его за плечо и втолкнул в машину.
— Сиди и не рыпайся! А то знаешь, что будет?
— Что вам надо? — звук собственного голоса показался Сереже чужим.
— Сиди тихо, понял? — произнес парень, севший в машину следом за ним, и Сережа оказался зажатым между двумя мужчинами. — Ну что, везем его к Хану?
— Давай, — вяло ответил Сережин сосед слева и отвернулся к окну.
— Куда вы меня везете?
Сереже показалось, что он сейчас заплачет от страха. "Сопля, девчонка", — мысленно обругал он себя и постарался взять себя в руки. "Что им может быть от меня нужно? Может, они меня с кем-то перепутали?"
Сережа вспомнил про сто долларов, которые лежали у него в кармане брюк. "Ну и что? Не грабить же меня, в конце концов, они собрались? У них такая тачка…" Он немного успокоился и решил подождать и посмотреть, что будет дальше. "Все равно это лучше, чем мент. Эти, по крайней мере, не тронут маму", — думал Сережа.
Юрий Дмитриевич Павловский родился в 1957 году в центре старой Москвы. Жил он вдвоем с матерью: отец бросил их, когда Юре едва исполнилось два года, и мать никогда о нем не рассказывала. Впрочем, отцом Юра интересовался только первое время, пока был маленьким, и перестал интересоваться с того момента, как поссорился с мальчиком, жившим в соседнем подъезде и однажды обозвавшим его "безотцовщиной". Юра сперва не понял значения этого взрослого слова, которое мальчик явно повторял за родителями, знавшими Юрину семью, но, расслышав в нем что-то оскорбительное, избил мальчика так, что тот, придя домой с разбитым в кровь носом и надорванным ухом, наотрез отказался сообщить родителям, с кем и почему подрался, настолько боялся своего обидчика, который, надо сказать, был на два года младше его самого. Юре тогда было семь лет, и больше он никогда не задавал матери вопрос о том, где его отец.
Учился он легко и если и не был круглым отличником, то только потому, что ему было совершенно все равно, какие получать отметки и тем более, как отнесутся к этим отметкам взрослые. Он был бесспорным лидером в классе, но почему-то не интересовался этим лидерством, как будто брезговал им интересоваться. Когда пришло время вступать в комсомол, и все или почти все его одноклассники подали заявления, он, на вопрос кого-то из учителей, только усмехнулся и ничего не сказал. Когда учеба в школе подходила к концу и классная руководительница сказала, что ему не удастся поступить ни в один "приличный" институт, если он не будет комсомольцем, Юра, глядя ей прямо в глаза, спокойно ответил: "Это, Валерия Михайловна, не ваше дело", — повернулся и вышел из класса. В коллективные игры он играть не любил.
Он был высок, строен, очень силен. У него были прямые черные волосы и светлые глаза с темными ресницами: он был похож на героя из американского фильма, и в него были влюблены девочки не только из его класса, но даже старшеклассницы, которые редко снисходят до мальчиков младше себя. С девочками Юра встречался — то с одной, то с другой, то с третьей, — но никто никогда не говорил про него, что он в кого-то влюблен.
В вуз он поступил сразу и не в какой-нибудь, а в МГУ. Он все легко сдал на пятерки, а на экзамене по химии, который был профилирующим, экзаменатор, пораженный его ответом, спросил: "Ты что, посещал университетский кружок?"
На курсе друзей у него не было, участия в совместных попойках или прогулках он никогда не принимал. Никогда не ездил на картошку, за что не раз получал выговоры или вызывался в деканат. Никто ничего о нем не знал, никто не был у него дома, никто даже не знал, где он живет. А жил он в большой коммунальной квартире на Покровке, в шестнадцати метровой комнате вместе с матерью, Марией Григорьевной, которая работала смотрителем в музее редких музыкальных инструментов в филармонии. Он презирал ее за то, что она была нищим и не приспособленным к жизни человеком. Впрочем, после поступления в университет дома он бывал крайне редко и обретался в основном у женщин, с которыми легко заводил романы и которых легко бросал, когда они ему надоедали.
Он был одним из немногих старшекурсников, кому предложили поступить в аспирантуру, и единственным, кого, несмотря на странную репутацию, профессор Юкалов пригласил на работу в свою лабораторию, причем профессору пришлось немало времени и нервов потратить на препирательства с начальником отдела кадров института: тому не нравилось, что Павловский не только не был членом партии, но демонстративно не принимал участия в том, что тогда называлось "общественной жизнью". Сам Юрий Дмитриевич, может быть, и догадывался, что своей редкой удаче обязан хлопотам профессора, но ни малейшего чувства благодарности к нему не испытывал, так как считал все это в порядке вещей.
Словом, в области профессиональной все шло хорошо: оставалось только немного потерпеть, пока устроится бытовая сторона жизни, но терпеть Юрий Дмитриевич не любил и не хотел и поэтому решил свои проблемы так, как решал их все последние годы: с помощью женщин. Он завел очередной роман с балериной из Большого театра, которая была на двенадцать лет старше его, но у нее была роскошная квартира в доме Большого театра в Каретном ряду. Он было уже собрался жениться, чтобы стать полноправным хозяином площади, заставленной дорогим антиквариатом, когда совершенно случайно узнал, что на этой же площади прописаны бывший муж балерины, игравший на скрипке в ансамбле Большого театра, его мать и сын от первого брака и что блестящие жилищные условия его подруги — дело временное, так как бывший муж просто-напросто находится по контракту в Германии с сыном и своей новой пассией, а его мать временно живет в однокомнатной квартире этой пассии, чтобы квартиру эту, не дай Бог, не ограбили в отсутствие хозяйки. Юрий Дмитриевич быстро сообразил, что вряд ли ему удастся урвать себе место на отполированном паркете, а если и удастся, то место это будет столь невелико, что не стоило и связываться. Он еще кантовался некоторое время при своей балерине, подыскивая более подходящий вариант, когда познакомился с Наташей, которая училась на филологическом факультете. Он сразу понял, что никаких материальных благ знакомство с нею ему не сулит, но что-то, тем не менее, заставило его остановить на ней взгляд. У нее было нежное, какое-то фарфоровое лицо, рыжеватые волосы и большие серые глаза. Он почти влюбился, а, узнав, что у нее к тому же есть отдельная квартира в центре Москвы, сделал ей предложение, и первые несколько месяцев брака был вполне доволен своей новой жизнью.
Однако вскоре Наташа забеременела, что вовсе не входило в его планы, и тогда он решил, что с семейной жизнью пора кончать. Когда Павловский уже был готов объявить ей, что хочет подавать на развод и раздел квартиры, случилось непредвиденное. Однажды, сидя в институтской столовой с одним из своих коллег, он увидел женщину, работавшую в одной из лабораторий института, которую он знал в лицо, но никогда не обращал внимания, потому что та была немолода, некрасива и склонна к полноте, чего он совершенно не переносил. Его собеседник, перехватив его взгляд, сказал:
— Это Вера Рогулина. Не красавица, конечно, но… знаешь, кто ее отец? Папочка — о-очень большая шишка на Старой площади. А она, между прочим, его единственная дочь и недавно развелась, так что…
Юрий Дмитриевич ничего не ответил, но внимательно посмотрел ей вслед: сняв со спинки стула меховое манто, она направилась к выходу, покачивая широкими бедрами.
После развода с Верой он все-таки стал обладателем большой квартиры в центре Москвы. В институте его дела шли превосходно, и довольно скоро он получил собственную лабораторию. За сравнительно небольшой срок он запатентовал несколько изобретений в области органической химии, и если бы он жил где-нибудь на Западе, то давно бы уже стал миллионером. Но в своей собственной стране из-за существующего в те годы закона о патентном праве, в соответствии с которым изобретатель, чье творение представляло интерес для военно-промышленного комплекса, все права на это изобретение немедленно терял, как и терял право на какое-либо материальное вознаграждение. А на другие формы признания его научных заслуг Юрию Дмитриевичу было совершенно наплевать. Он уже подумывал о том, как бы переменить место жительства, когда вышел закон о кооперации, и каждый, кто мог похвастаться хотя бы небольшими предпринимательскими способностями, бросился зарабатывать деньги.
Павловский, не испытывавший недостатка в разного рода способностях, в стороне от этого процесса не остался и очень скоро организовал кооператив по производству изделий из органического стекла. Производство основывалось на рассекреченных технологиях и очень скоро принесло организаторам огромные по тем временам барыши. Тогда же ему и пришлось впервые познакомиться с криминальными структурами. Знакомство оказалось вполне полезным, и когда через некоторое время прибыли кооператива резко сократились из-за того, что появилось множество подобных предприятий, а потом кооператив и вовсе прекратил свое существование, Юрий Дмитриевич наработанные связи не порвал, очевидно, предчувствуя, что связи эти смогут ему еще пригодиться. И оказался прав.
За год с небольшим до описываемых событий Юрий Дмитриевич встретил как-то в ресторане своего бывшего сокурсника Гену Пядышева, ставшего уже, впрочем, Геннадием Николаевичем. Тот работал в крупной фармацевтической фирме и занимался разработкой психотропных препаратов. Услышав, что Юрий Дмитриевич, которого он знал как прекрасного химика, "пропадает" в академическом институте, предложил перейти к нему на фирму. Юрий Дмитриевич торопиться не стал, но через некоторое время действительно зашел "посмотреть" в лабораторию к бывшему приятелю. Тот стал советоваться с ним по поводу каких-то реакций, которые не давали нужных результатов. Юрий Дмитриевич обещал подумать, а, подумав, заинтересовался и взялся помочь бывшему однокашнику. И, начав решать чисто научную задачу, пришел к идее создания дешевого и высокоэффективного наркотического вещества. Концентрация этого вещества в одном грамме препарата была столь высока, что из него можно было изготовить сотни доз сильнейшего наркотика, сравнимого по силе воздействия с героином. Кроме того, из-за малого объема препарата фактически решалась проблема транспортировки. Юрий Дмитриевич понял, что теперь сможет одним махом решить все свои проблемы и устроить свою жизнь так, как ему хочется, и тут-то ему и пригодились старые знакомые из уголовного мира: братки, конечно, сразу сообразили, какие огромные барыши сулит проект Химика.
Но и здесь не все протекало так гладко, как хотелось бы. Группировка, с которой сотрудничал Юрий Дмитриевич и которую возглавлял некий Марат Абдюханов, по кличке Хан, распалась из-за непримиримых противоречий между самим Ханом, кстати, никогда не был судим, и старым рецидивистом Семеном Мирошником, по кличке Сова, его правой рукой. Процесс распада начался давно, но протекал медленно и относительно мирно, и Сова, конечно, прекрасно знал о работе Химика, как они окрестили Юрия Дмитриевича. Этот Сова убеждал Хана не связываться с ним, говоря, что Химик кинет его после того, как получит от него необходимую помощь. Хан не верил, а если и верил, то не соглашался признать превосходство Химика над собой и отвечал, что он всегда успеет отправить его на тот свет до того, как тот попытается его кинуть. В конечном счете бывшие соратники разошлись, и Хан остался единственным "покровителем" Юрия Дмитриевича. Тот, впрочем, вел себя, как всегда, весьма независимо, Хана нисколько не боялся и делал, что хотел. Технологию изготовления препарата держал при себе, ссылаясь на то, что она до сих пор полностью не разработана, и кормил Хана обещаниями. Дело было не в том, что он действительно собирался его надуть, а в том, что он и сам не слишком доверял своим "соратникам" и в любом случае не собирался связываться с ними на всю жизнь. Он считал, что рано или поздно расплатится с ними за все "услуги", а потом пошлет их подальше, когда они больше не будут ему нужны. Он был как та кошка, которая любила гулять сама по себе.
Хан, предчувствуя, что от Химика можно ждать всяческих сюрпризов, приставил к нему своего человека, который должен был следить за каждым его шагом. Юрий Дмитриевич прекрасно понимал, с какой целью Моряк постоянно трется возле него, но относился к этому спокойно, так как считал себя сильнее и умнее не только абдюхановских шестерок, но и самого Абдюханова. Впрочем, он понимал, что рано или поздно ему понадобится человек, который был бы с ним в деле и кому он смог бы доверять. И тогда Павловский вспомнил про своего сына. Что могло быть лучше? Мальчишка, конечно, еще мал — сколько ему? Двенадцать, тринадцать? Ничего, со временем он сделает из него прекрасного помощника, научит его всему, что знает сам, и рано или поздно передаст дело в надежные руки. И он начал встречаться с Сережей.
Тем временем Хан, которому так и не удалось получить от Химика сведения о технологии производства, начал нервничать, и перед Моряком была поставлена задача добыть эти сведения любым способом. В отсутствие Юрия Дмитриевича Моряк перерыл всю его квартиру, но ничего мало-мальски похожего на то, что искал, там не было. Юрий Дмитриевич заметил, что кто-то рылся в его вещах, прекрасно понял, чьих это рук дело, но только усмехнулся, потому что давно принял необходимые меры. При этом он все же не отказал себе в удовольствии высказать Хану все, что думает по поводу происшедшего, и изобразить благородное негодование из-за такого явного недоверия к своей персоне. Хан почти поверил, и Моряку досталось за небрежную работу. Тогда Моряк решил попробовать использовать в своих целях Сережу, который был одним из немногих людей, вхожих к Химику в дом. А чтобы его использовать, надо было посадить мальчика на иглу.
Наконец Юрий Дмитриевич сказал, что работа близится к финалу и что скоро он будет готов поделиться всеми технологическими секретами. Тогда-то, несмотря на возражения Хана, не соглашавшегося с участием в операции других людей, он и попросил Наташу взять с собой маленькую порцию препарата, договорившись с мадридским курьером, который должен был приехать для этого в Париж. Юрий Дмитриевич не сомневался, что сделать Сережу "своим" он сумеет и без Наташи, но зачем ему лишние сложности, если бывшую жену можно просто купить? К тому же рано или поздно она вполне могла бы пригодиться в деле.
Излагать все эти соображения Хану Юрий Дмитриевич, конечно, не стал, но потребовал, чтобы ей была выплачена названная им сумма. И Хан вынужден был согласиться. В результате Моряк встретился с Наташей в Шереметьево и передал ей сверток, в обмен на него она и получила от курьера тридцать тысяч зеленых. А Юрий Дмитриевич по ее возвращении получил кредитную карточку с кругленькой суммой, которую он и поделил с Ханом. И теперь, когда у него не было ни милейших сомнений в том, что он справится со своей задачей без чьей бы то ни было помощи, Юрий Дмитриевич решил постепенно вылезать из-под опеки Хана и действовать самостоятельно. Но не успел…
Когда в его квартире раздался звонок, он был уверен, что это Наташа, назначившая ему встречу. Чего она хотела от него, он не знал, но предчувствовал, что ему предстоит опять объясняться с ней. Что ж, ему не привыкать. Наташи он опасался меньше всего: во-первых, потому что был вообще довольно низкого мнения о человеческой природе, во-вторых, считал, что ни одна женщина не сможет перед ним устоять. Кроме того, она ведь все-таки взяла деньги? Значит, не такая уж она и невинная жертва, какой хочет прикинуться. Чего же ей надо?.. Но ничего, раз уж она все равно пришла, он её быстро "обработает" — чем скорее они договорятся, тем лучше. И пошел открывать.
Утром двенадцатого мая Надежда Михайловна Гришина, соседка Павловского по площадке, заметила, что дверь его квартиры чуть приоткрыта. Она позвонила, но никто, разумеется, ей не ответил. Она подошла к двери, все еще не решаясь заглянуть в квартиру — Павловский сумел внушить к себе уважение, — и негромко позвала: "Юрий Дмитриевич! Вы дома? У вас дверь не заперта!" И только теперь, не получив ответа, рискнула просунуть голову внутрь. Было ужасно интересно посмотреть, как живет этот Павловский, такой красивый, богатый и ужасно загадочный, и Надежда Михайловна, немного поколебавшись, включила свет. В ту же секунду ее муж, надевавший ботинки в собственной прихожей, услышал крик. Он выбежал на площадку и увидел, что его благоверная, бледная как смерть, выходит из квартиры напротив.
Часом позже в квартире Павловского уже работала следственная бригада. Судмедэксперт высказал предположение относительно времени убийства и, надо сказать, оказался весьма точен. Соседи, то есть Надежда Михайловна и ее муж, показали, что накануне вечером были дома, но ничего подозрительного не видели и не слышали, так как смотрели телевизор. Кроме того, накануне дочь привезла им внука, а от мальчишек, "сами знаете, какой шум". О Павловском они ничего особенного сообщить не могли: им было известно только, что живет он в этой квартире около десяти лет, что раньше жил с женой, а потом они, очевидно, разошлись, потому что жены его с тех пор они так ни разу и не видели.
А может, она умерла, потому что иначе непонятно, как это ему одному досталась такая большая квартира. Соседа своего они считали человеком обеспеченным — как-никак дорогая иномарка, да и квартира, "сами видите, как обставлена… Наверняка, работал где-нибудь в коммерческих структурах". Гости у него, насколько им известно, бывали редко. Впрочем, последнее время они видели его иногда с каким-то странным типом лет сорока с родимым пятном на левой щеке. Совсем недавно этот тип заходил к нему, когда же это было? Кажется, дня три назад. Вчера вечером? Нет, вчера они никого не видели. "Игорь Иванович смотрел с внуком телевизор, а я готовила ужин — где уж тут соседей замечать?" Описать типа с родимым пятном, наверное, смогут, надо попробовать. А еще вот что, ходил к нему мальчик лет тринадцати. Сын? Возможно, хотя совсем на него не похож — Юрий Дмитриевич голубоглазый брюнет, а мальчик светленький, чуть в рыжину, совсем еще ребенок. Как зовут? Нет, как зовут, ни разу не слышали.
В тот же вечер, когда Игорь Иванович вернулся с работы, жена рассказала ему, что приходил какой-то человек справляться о Павловском.
— Кто такой, сказал?
— Сказал, что с работы. Что Юрия Дмитриевича сегодня ждали на важное совещание, а он не пришел.
— А ты что?
— А что я? Сказала, что есть. Квартира-то опечатана. И так все понятно.
— Мало ли что понятно, — проворчал Игорь Иванович. — Не надо было тебе соваться в это дело. Что ты ему сказала?
— Сказала, что его убили вчера вечером…
— Откуда ты знаешь, когда его убили?
— Ты что, не понимаешь? Нас же спрашивали вчера, не слышали ли мы выстрел между восемью и девятью часами.
— А если это не с работы? Ты хоть запомнила, как он выглядел?
— Вполне приличный человек.
— "Приличный", — передразнил Игорь Иванович. — Много ты знаешь, кто приличный, а кто нет? Кто тебя просил!
— Следующий раз сам будешь разговаривать, — обиделась Надежда Михайловна. — По-твоему, он кто?
— Мало ли кто? Может, убийца.
— Ну конечно! — усмехнулась она. — Как раз убийца приходил узнать, когда он сам же его и тюкнул! Запамятовал, наверное.
Игорь Иванович не нашелся, что ответить, и Надежда Михайловна, зная, как муж бывает раздражен после работы на голодный желудок, быстро налила ему тарелку супа.
Между тем Игорь Иванович оказался прав: приходили вовсе не с работы, где давно привыкли к тому, что Павловский не часто балует институт своим присутствием. Приходил человек от Абдюханова, специально — разузнать, что произошло, так как Моряк, который должен был накануне вечером договориться с Химиком по телефону о встрече, ему не дозвонился. Не дозвонился он и утром, около семи, а не в обычаях Химика было вставать и уходить в такую рань. Тогда Моряк переждал еще немного, снова позвонил и услышал в трубке совершенно незнакомый голос. Он знал, во-первых, что у Химика редко бывают гости. Во-вторых, невозможно было предположить, чтобы кто-нибудь мог позволить себе снять в присутствии хозяина телефонную трубку. Но, главное, инстинкт подсказывал Моряку, что что-то здесь нечисто. И тогда Хан послал своего человека узнать, что произошло. Посылать Моряка было нельзя, так как его не раз видели соседи Химика, и если, не дай Бог, там что-то стряслось, то на него покажут в первую очередь, и поэтому Хан решил отправить туда Муму, прозванного так за свою молчаливость и еще потому, что Муму был человеком с образованием и вполне мог сойти за сотрудника Химикова института.
То, что Хану удалось узнать, оказалось для него полной и очень неприятной неожиданностью. Технологии производства он до сих пор так и не узнал. Остаток произведенного препарата Химик прятал где-то у себя в лаборатории, куда подобраться было практически невозможно, а по самым скромным подсчетам, там было наркотика на несколько сотен тысяч долларов. Но главное, это, конечно, технология. Если формулы пропали, то… А не Сова ли это? Не его ли это рук дело? Не он ли пришил Химика и завладел тем, чего он, Хан, так давно ждет? Неспроста же он что-то все время мудрил, а потом понял, что напрасно упустил такой куш и… того. А ведь больше некому… Химик ни с кем больше связан не был, это Хан знал точно. И никто, кроме него, его людей и Совы, не знал, чем он занимался. Его люди сделать этого не могли: те, кто был более или менее во что-то посвящен, вчера до поздней ночи были с ним в ресторане. Значит, Сова. Ну что ж, если Сова, то он пожалеет, что родился на белый свет.
Начался долгий процесс разборок между бывшими соратниками, но когда Хан почти убедился в том, что Сова перед ним чист как стекло, он решил: пора посмотреть на это дело с другой стороны. Не попробовать ли потрясти сыночка Павловского? Недаром же они начали встречаться, недаром Химик настоял, чтобы его бывшей бабе заплатили такие деньги за ничтожную услугу, хотя он, Хан, был против того, чтобы ее в это впутывать.
И Хан распорядился, во-первых, установить слежку за Химиковой квартирой, во-вторых, разузнать, до чего удалось докопаться ментам, а в-третьих, если первые две меры ничего не дадут, привезти к нему сыночка — для разговора.
В тот день, когда темно-зеленый "ниссан" остановился в нескольких метрах от дома Павловского, Сережа сбежал с третьего урока, чтобы в последний раз навестить отца.
Машина быстро направилась в сторону Киевского вокзала, где неподалеку от набережной Москвы-реки находились склады крупной коммерческой фирмы, которую крышевала группировка Абдюханова. Там же находился один из его рабочих кабинетов, куда Муму и повез насмерть перепуганного Сережу. "Ниссан" въехал в большие глухие ворота, миновал несколько складских помещений и остановился перед невзрачным строением. Муму вышел из машины и сказал:
— Давай вылезай!
Сережа, стараясь унять дрожь в коленях и, главное, не подать вида, что боится, вышел из машины. Муму подтолкнул его к ступенькам, которые вели в дом, и, когда дверь открылась, Сережа совершенно неожиданно оказался в роскошно обставленном офисе. Муму подвел его к одной из дверей.
— Эй, на катере! — крикнул Муму. — Принимай гостей.
Из комнаты показалось знакомое лицо: это был Моряк.
— А, это ты, — протянул он, посмотрев на Сережу. — Давай сюда, потолкуем…
Муму втолкнул его в комнату, что-то сказал Моряку на ухо и вышел. Моряк усадил Сережу на диван и сел рядом.
— Как дела-то? — спросил Моряк.
— Вам-то что?
— Ну-у, нехорошо грубить старшим.
— Что вам от меня надо?
— Не бойсь, в свое время узнаешь.
— А я и не боюсь.
— Ну и молоток. Ты лучше скажи, зачем к отцу приезжал?
— Надо было, и приезжал.
— Слушай, ты! — процедил Моряк, схватив Сережу за волосы. — Или ты отвечаешь на мои вопросы, или знаешь, что будет? — Глаза его сузились, и он больно ударил Сережу по лицу: — Ну, говори, сучонок!
— Деньги хотел отдать! — крикнул Сережа.
— Какие деньги?
— Сто баксов.
— Зачем?
— Должен был!
— Врешь, сучонок! Он тебе деньги так давал!
— Я хотел, чтобы он Сверчку вернул.
— Зачем?
— Должен был.
— Ты — Сверчку?
— Да.
— А почему сам не пошел? Почему отца хотел просить?
— Просто так.
Моряк опять ударил его по лицу.
— Я тебя предупреждал: говори правду. Правду, понял? — Он взял его за горло. — Понял, я спрашиваю?
— Понял, — прохрипел Сережа.
— Вот и молодец! — Моряк ослабил хватку. — Ну?
— Я пошел к отцу… просто так. А заодно хотел просить его отдать долг Сверчку.
— Что значит — "просто так"? Ты что, не знал, что его замочили?
— Не знал!
Сережа чувствовал, что сейчас заплачет.
— Допустим. А когда видел отца в последний раз?
— Давно.
— Когда, я спрашиваю.
— Сразу после праздников. Кажется, четвертого мая.
— А после того, как мать вернулась?
— Нет. Больше не видел.
— Ну хорошо. А почему баксы ему понес? Разве Сверчок с тебя деньги требовал?
— Нет.
— Тогда зачем?
Сережа молчал.
— Говори, сучонок, а не то я тебя… — Он опять взял его за горло. — Ну!
Сережа всхлипнул.
— Завязать хотел.
— Ах, завязать! — ухмыльнулся Моряк. — Какой хороший мальчик! Завязать он хотел… А ну, покажи баксы.
Сережа достал из заднего кармана стодолларовую бумажку. Моряк взял деньги и положил к себе в карман.
— Слушай меня внимательно: я эти деньги Сверчку сам отдам и тебя отпущу прямо сейчас, и никто тебя больше не тронет, если ты мне ответишь на один вопрос. Понял?
— Да.
— Тебе отец давал что-нибудь на сохранение? Бумаги какие-нибудь или дискету? Знаешь, что такое дискета?
— Знаю.
— Давал?
— Нет.
Моряк опять ударил его по лицу и тихо сказал:
— Я просил тебя говорить правду.
— Я и говорю! — выкрикнул Сережа и почувствовал, что из носа у него закапала кровь.
— Ну, еще раз попробую тебе объяснить. Или правду, или вернешься к Сверчку на иглу. Выбирай.
— Не знаю я ничего! Ничего он мне не давал!
— А матери?
Откуда я знаю? Мать с ним вообще не разговаривает!
— Врешь, сучонок. Мать с ним после приезда встречалась. Говори: принесла она после встречи с отцом что-нибудь домой?
— Нет.
Открылась дверь, и в комнату вошел невысокий человек лет тридцати пяти, черноволосый, черноглазый, и, как показалось Сереже, очень красивый. Одет он был тоже во все черное — черный костюм, черную рубашку и черные ботинки, и только на запястье у него болталась золотая цепочка. Бегло взглянув на Сережу, он сел за письменный стол, который находился у противоположной стены. Моряк подошел к нему и что-то сказал на ухо. Человек в черном ничего не ответил, постучал пальцами по столу и опять взглянул на Сережу. Вид у него был озабоченный.
— Попадись мне эта сука, которая Химика замочила… — начал Моряк.
— Заткнись, — бросил человек в черном и опять застучал пальцами по столу.
— Говорю тебе, этот сучонок что-то знает. Посмотри на него. Я чувствую, понимаешь? Что-то скрывает, гад. Хан, давай я его…
— Заткнись, — повторил Хан и, помолчав, добавил: — Вызови Сверчка, пусть он им займется. А там видно будет…
Так Сережа попал в подвал большого жилого дома в Отрадном, где собирались местные наркоманы и где его нашли Наташа и Виктор Малашенко.
И вот теперь он летит в самолете в какой-то Казахстан. Зачем? Зачем он согласился? Он не должен был бросать маму одну — что будет, если они схватят ее? Он просто трус. Да, трус. Он удрал из Москвы, потому что боялся, что они опять поймают его. А он даже не знает, чего они от него хотят. Надо было ей все рассказать.
И пойти в милицию. Нет. Если в милиции что-нибудь заподозрят, тогда конец. Маму арестуют. А если все-таки это не она? Какой же он дурак: ему надо было спросить у них, как убили отца. Ведь оружия у мамы нет. Как же она могла это сделать? Может, купила пистолет? На рынке запросто можно купить. Пистолет или вообще любое оружие. А куда она его дела? Спрятала? Если спрятала, то это конец: квартиру обыщут и его найдут. Но ведь она не дура. Наверняка она выбросила его. Или вовсе не было никакого пистолета, с чего он взял? Ну да, не было… А чем тогда она его?.. Кинжалом, что ли? Отец сильный, с ним не всякий мужик бы справился, а уж мама… А может, все это ерунда, и никого она не убивала? А если и убила, то никто ее не подозревает? Ведь мент с тех пор так больше и не пришел? Значит, они оставили ее в покое. А значит, и он должен успокоится: по крайней мере, в течение ближайшего месяца ему ничего не грозит, а там…
"Там посмотрим", — подумал Сережа и в то же мгновение чуть не подскочил в кресле, внезапно вспомнив, что несколько месяцев назад (кажется, это было в конце марта), Ю. Д. сказал ему, что очень бы хотел побывать у них дома. Сережа смутился, потому что не знал, как к этому отнесутся мама и бабушка, и особенно мама, но сказал, что он может зайти к ним в любой момент. Однако Дмитрича, наверное, тоже смущали некоторые обстоятельства, и он ответил, что, во-первых, зайти сможет только тогда, когда из взрослых никого не будет дома, потому что "сам понимаешь, вряд ли меня захочет видеть твоя бабушка, например", а во-вторых, если Сережа пообещает ему, что он никогда никому об этом не скажет. "Знаешь, никому не хочется, чтобы тебя считали сентиментальным…"
Выходило, что Ю. Д., скучавший по дому, хотел одним глазком взглянуть на место, где когда-то… "Может быть, он все еще любит маму? Ведь я так до сих пор и не знаю, почему они разошлись?" — подумал Сережа и, конечно, согласился.
Устроить это было несложно, потому что мама целый день была на работе, а бабушка не только ходила в магазин или прачечную, но и в Пушкинский музей или на концерты в Дом ученых. Впрочем, ему тогда повезло: бабушка сказала, что хочет поехать в гости к тете Нине, и пригласила его с собой, а он отговорился какими-то дополнительными занятиями в школе и не поехал, а пригласил Дмитрича. От чая Дмитрич отказался, но попросил Сережу показать ему свои тетради по химии и математике. Сережа удивился, потому что до сих пор Ю. Д. никакого интереса к его учебе не проявлял, но тетради достал. Тот посмотрел, похвалил за математику, к которой у Сережи всегда были способности, пожурил за химию и попросил записать какую-то реакцию. Сережа расположился за своим столом, а Дмитрич вышел из комнаты и пошел "побродить" по квартире.
Когда он вернулся, реакция так и не была записана. Тогда Дмитрич открыл учебник и попросил Сережу прочитать одну главу, где описывалось то, чего Сережа не знал. И велел ему не выходить из комнаты до тех пор, пока все не будет выучено, а сам вышел в коридор. Сережа в некотором унынии принялся за чтение, но, просидев несколько минут, не выдержал и пошел искать отца, чтобы задать ему какой-то вопрос, а скорее всего чтобы хоть немного отвлечься от ненавистного предмета. Выйдя в коридор, Сережа первым делом заглянул в комнату матери, где было пусто, а потом, услышав какой-то шум в кухне, пошел туда и увидел, что Дмитрич поспешно спрыгнул с табуретки, стоявшей около газовой плиты. На его удивленный взгляд Ю.Д. совершенно спокойно сказал, что посмотрел квартиру и понял, что она в ужасном состоянии и что надо как можно скорее делать ремонт. А так как Сережу проблема ремонта не волновала, он об этом разговоре сразу забыл и вряд ли бы когда-нибудь вспомнил. Но вот эти люди, у которых он побывал, спрашивали, не давал ли ему Ю. Д. что-нибудь на сохранение. Что, если Дмитрич спрятал "это" у них в квартире? Что — "это"? Что он мог спрятать, если у него с собой ничего не было? Впрочем, они спрашивали про бумаги или дискету. Если дискету, то ее ничего не стоит спрятать где угодно: она маленькая и плоская. И Ю.Д. мог принести ее просто в кармане. А так как он спрыгнул с табуретки, может быть, он положил ее на кухонные полки? Если мама позвонит, как обещала, из Москвы, он попросит ее посмотреть, или нет, лучше он посмотрит сам, когда вернется. Маме об этом лучше ничего не знать.
Это была стандартная трехкомнатная квартира, какие бывают в бетонных пятиэтажках постройки шестидесятых: с маленькой кухней, полом, покрытым линолеумом со следами краски и клея от недавнего ремонта и безобразными пузырями, вздувшимися в нескольких местах, с проржавевшими трубами в ванной, окнами, заляпанными краской, и стенами, обклеенными дешевыми обоями светлого, почти белого цвета, с претензией на роскошь. Они чувствовали себя потерянными и несчастными в этой квартире, казавшейся им не только чужой, но даже враждебной, но обе не только старательно делали вид, что ничего не произошло, но всячески имитировали деятельность и даже энтузиазм.
Зинаида Федоровна руководила расстановкой мебели: Наташа радовалась этому и не мешала делать то, что ей хочется. Однако скоро она заметила, что мать пытается сделать невозможное, то есть все расставить таким образом, чтобы новая обстановка как можно больше походила на их прежнюю в Сивцевом Вражке. Предприятие это было заранее обречено на неудачу, так как старая мебель, извлеченная из привычной атмосферы прежнего жилища, имела какой-то неприкаянный вид и никак не хотела вписываться в пространство, окруженное холодными и чужими стенами. Старые вещи, знакомые Наташе с детства и потому любимые, казались ей такими же потерянными и несчастными, как она сама и ее мать.
Она со страхом ждала, что будет, когда иссякнет энтузиазм Зинаиды Федоровны, глядя, как та с помощью рабочих упрямо старается втиснуть в свою комнату старый кожаный диван, который они называли "папиным", так как он был куплен по настоянию отца, любившего старинные вещи, в комиссионном магазине в конце пятидесятых годов и из-за которого они почти поссорились перед переездом: Зинаида Федоровна ни в коем случае не хотела расстаться с ним, а Наташе казалось, что в "той" квартире он будет выглядеть громоздким и нелепым.
Когда Зинаида Федоровна поняла, что восстановить уют их старого дома ей не удастся, она видимо загрустила, и Наташа все чаще стала замечать, что ее мать, которую даже во время болезни трудно было заставить не заниматься домашней работой, сидит без дела и с тоской смотрит на новые стены. Наташа пыталась утешить ее, говоря, что со временем вещи (и они сами) приживутся на новом месте, что обои в любой момент можно поменять и что не так уж много времени осталось до приезда Сережи. Он вернется, и жизнь непременно войдет в прежнее русло.
Она купила для Зинаиды Федоровны красивую настольную лампу с оранжевым абажуром и поставила рядом с креслом, в котором та любила читать по вечерам. Но прошло еще несколько дней, и Наташа заметила, что уютный уголок для чтения пустует, Зинаида Федоровна все чаще сидит в кухне спиной к окну, глядя в одну точку, а ее книга, заложенная очками в одном и том же месте, неприкаянно лежит под новой лампой.
Вечерами Зинаида Федоровна по многолетней привычке входила к Наташе в комнату посмотреть по телевизору новости, но слушала молча, равнодушно и, не досмотрев до конца, уходила к себе. Даже прогноз погоды совершенно перестал ее интересовать: из дома она почти никогда не выходила.
В выходные дело обстояло еще хуже — приходил Виктор, приносил цветы и шампанское, и нужно было изображать веселье. Наташа брала букет у него из рук, несла в кухню, где Зинаида Федоровна ставила чай, и громко говорила: "Мама, посмотри, какие красивые цветы!" Зинаида Федоровна кивала и улыбалась, но улыбка получалась вымученной и печальной.
Виктор входил, по-хозяйски оглядывал квартиру, в которую вложил немало труда: подключил газовую плиту, повесил книжные полки, прибил карнизы и поменял замки. Чувствовал он себя здесь уверенно, громко разговаривал, Зинаиду Федоровну называл "мамашей" и, потирая руки, спрашивал: "Ну как, обжились, новоселы?"
Наташу возмущало, что он не чувствует настроения, царящего в доме; она не понимала, как можно быть таким черствым и тупым, но упрекнуть его не могла: слишком многим она была ему обязана. Сам же Виктор, конечно, замечал, что они обе тоскуют по старому дому, хозяином которого теперь был он, и ему это нравилось, потому что теперь, как ему казалось, не только квартира, но и обе женщины находятся в полном его распоряжении.
"Ничего, — говорил он себе, — будет со мной, так переедет назад. Без старухи, конечно. А нет, так и здесь обойдется".
Они садились за стол, Виктор с шумом открывал шампанское, наливал, несмотря на протесты Зинаиды Федоровны, им обеим со словами: "Ничего, мамаша, здоровее будете", — чокался и выпивал, запрокинув голову. Наташа делала пару глотков и, подняв глаза, видела, как двигается кадык на его мощной шее.
"Я не должна так на него смотреть. Он спас моего сына", — говорила она себе и старалась улыбаться. Зинаида Федоровна к шампанскому не притрагивалась и, посидев с ними несколько минут, вставала и уходила к себе, сославшись на недомогание. Проводив Виктора, Наташа приоткрывала дверь ее комнаты и спрашивала: "Не спишь?" — но Зинаида Федоровна не отвечала. "Спит", — думала Наташа и осторожно закрывала за собой дверь. О Викторе они никогда не говорили.
Однажды, вернувшись домой, Наташа увидела, что матери нет. Она подождала немного, но Зинаида Федоровна не появлялась, и Наташа начала нервничать. Когда два часа спустя она услышала, что в замочной скважине поворачивается ключ, она бросилась к двери и, увидев мать, с раздражением сказала:
— Мама, ты бы хоть записку оставила! Где ты была?
Зинаида Федоровна ответила, что была "у отца": так она говорила всегда, когда ездила на кладбище. Наташа не унималась:
— Зачем же ты поехала одна? Почему ты мне ничего не сказала?
— Поставь в ванную, — ответила Зинаида Федоровна, протягивая ей мокрый зонт. К разговору об этой поездке они больше не возвращались.
Июнь был холодный, и почти каждый день шел дождь. Наташа старалась как могла поднять матери настроение. Предлагала посмотреть альбом со старыми фотографиями или съездить в гости к тете Нине, младшей сестре отца, которую Зинаида Федоровна очень любила. Или пригласить тетю Нину к ним и что-нибудь испечь, зная, с каким удовольствием она всегда занималась пирогами и как ей нравилось, когда их ели и хвалили. Но каждый раз Зинаида Федоровна отговаривалась — то плохим самочувствием, то чем-нибудь еще — и Наташа видела, как в глубине ее глаз прячется печаль.
В ночь с двадцатого на двадцать первое июня Зинаида Федоровна умерла.
Окна малолитражного автобуса, в котором Филипп и несколько французских туристов добирались из Шереметьева в гостиницу на юго-западе Москвы, заливало холодным дождем. Филипп, прислонившись к стеклу, провожал взглядом обгонявшие их автомобили, из-под колес вылетали целые фонтаны брызг. Он не принимал участия в общем веселье, царящем в салоне.
У стойки администратора им сообщили, что ужин состоится через два часа в ресторане гостиницы на первом этаже, выдали ключи от номеров и пожелали приятно провести время, несмотря на погоду. Филипп поднялся к себе, поставил чемодан и, прихватив зонт, вышел на улицу. Через полчаса, выйдя из метро на станции "Кропоткинская", он отправился на поиски старого московского переулка с труднопроизносимым названием Сивцев Вражек.
Звонить по телефону, давно выученному наизусть, он не стал: он уже пытался объясниться с новым хозяином Наташиной квартиры. Теперь он будет действовать по-другому: найдет ее дом, поднимется к ней, увидит этого человека и постарается убедить его, что ему необходимо ее разыскать, может быть, даже поговорит с соседями — ведь не могла же она исчезнуть бесследно!
Вот он, этот дом. Филипп поднял глаза, пытаясь угадать, какое из множества окон могло принадлежать Наташе, — большой старый дом равнодушно смотрел на него. С бьющимся сердцем Филипп вошел в подъезд, отряхнул зонт, с которого стекала вода, и пешком пошел вверх по лестнице в поисках тридцать девятой квартиры.
— Вам кого?
Филипп сразу узнал голос, отвечавший ему по телефону: он принадлежал крупному человеку лет сорока, в майке и в заляпанных краской синих трикотажных штанах.
— Здравствуйте, — сказал Филипп.
— Здравствуйте, — ответил человек в майке.
— Меня зовут Филипп Левек, а вы, если не ошибаюсь, Виктор? Я звонил вам из Парижа…
— Я так и понял. Ну Виктор я, только, по-моему, я вам этого не говорил. И что из этого?
— Мне надо с вами поговорить. Разрешите войти?
— Заходите, раз пришли. Только у меня тут ремонт — как бы вам не измазаться…
Перед тем как закрыть дверь, Виктор оглядел площадку — на лестнице было пусто. Он бы, конечно, ни за что не стал приглашать француза в квартиру, а выпроводил бы его сразу, да так, чтобы ему больше уже не захотелось сюда приходить, но рядом соседи, все слышно, а это надо сделать тихо, чтобы ни гу-гу. Да к тому же не мешает выяснить, что это за француз такой, откуда он взялся и чего хочет, и постараться сделать так, чтобы он ушел и больше никогда не возвращался.
— Ваше имя назвал человек, который здесь работал, — Филипп старался не замечать враждебного тона собеседника.
— А-а, Михалыч, значит. Он мне говорил, что меня из Парижа ищут…
— Я искал не вас. Я искал женщину, которая раньше жила в этой квартире. Ее зовут Наташа.
— Да вы мне это уже говорили! А я вам ответил, что никакую Наташу я не знаю.
— Выслушайте меня. Мне совершенно необходимо ее разыскать. Я готов заплатить, если нужно…
— Да чего мне платить! — перебил Виктор. — Я и сам неплохо зарабатываю. Говорю же, никакой женщины я не знаю.
— Может быть, вы знаете ее мать или сына?
— Никого я не знаю! Квартиру эту я купил не у жильцов, а через агентство. И даже не я сам, а мой брат, — на ходу сочинял Виктор. — А брата моего сейчас нет, он уехал. Так что помочь я вам ничем не могу.
— А позвонить ему можно?
— И позвонить нельзя. Он поехал по делам, и я не знаю, где он сейчас.
Филипп помолчал. Действительно ли этот человек ничего не знает или просто не хочет говорить? Но почему? Какое ему может быть дело до того, найдет он Наташу или нет?
— Очень жаль. Что ж, попробую поговорить с соседями — может быть, они что-нибудь знают?
— Поговорите, дело хозяйское, — равнодушно бросил Виктор, хотя это вовсе не входило в его планы.
Никто из соседей, правда, ничего знать не мог: Наташа все сделала тихо, так чтобы никто ни о чем раньше времени не догадался, — боялась, что будут разыскивать Сережу. Правда, к Людмиле Ивановне, старухе из сороковой квартиры, это не относилось, она всю жизнь прожила в доме и дружила с Наташиной матерью. Но и она Наташиного адреса не знает. Пока не знает. В тот день, когда они переезжали, Людмилы Ивановны, слава Богу, дома не было, она уезжала к сестре на дачный участок, и Наташа переживала, что не попрощалась с ней. А так, кто знает, может, и оставила бы адрес. Но так как его, Виктора, она все же просила никому ничего не говорить, а сам он в этих тонкостях — кому можно знать, а кому нельзя — разбираться не обязан, то и хорошо: ему сказали молчать, он и будет молчать. Конечно, рано или поздно старуха из сороковой адрес все равно узнает. "Но это ничего, — сказал себе Виктор. — Если поздно, то ничего". Телефона у них, слава Богу, нет, и с установкой его он, конечно, торопиться не станет. А там, глядишь, она перестанет кочевряжиться и выйдет за него. Значит, главное, чтобы француз этот не нашел ее сейчас.
— Что же она вам сама не сказала, что продает квартиру? — спросил Виктор.
Филипп внимательно посмотрел на него:
— Это длинная история.
— Ничего, что длинная: я послушаю.
Филипп снова посмотрел, что-то пробормотал по-французски, и сказал:
— Как-нибудь в другой раз. До свидания.
— До свидания, — Виктор открыл дверь, выпустил Филиппа и припал к глазку. Филипп звонил в квартиру Людмилы Ивановны. "Настырный, гад!" — подумал Виктор и пнул стоявшую рядом банку из-под импортной краски.
Когда раздался звонок, Людмила Ивановна была дома и, сидя перед телевизором за большим круглым столом, пила чай. Увидев незнакомого мужчину, спросила через дверь:
— Вы к кому?
Мужчина вежливо ответил:
— Откройте, пожалуйста. Я знакомый Наташи Лиевиной.
"Иностранец, что ли, какой", — подумала Людмила Ивановна, расслышав акцент, но дверь открыла. Филипп вошел, еще раз поздоровался и извинился, что беспокоит ее в выходной день.
— Да у меня теперь все дни выходные, — сказала, смеясь, Людмила Ивановна, — двенадцатый год на пенсии. Так вы Наташин знакомый?
— Да. Позвольте мне представиться: меня зовут Филипп Левек.
— Иностранец, что ли? Я сразу поняла.
— Да, — ответил Филипп, — я француз.
— Ну, ничего, что француз, — пошутила она. — А я — Людмила Ивановна. Вы проходите, чего стоять-то? И плащ снимите, вот вешалка. Дождь-то какой!
Филипп разделся.
— Садитесь. Может, чаю выпьете?
— С удовольствием, спасибо, — сказал Филипп.
— Только у меня нет ничего, к чаю-то. Вот варенье, сестра варила, прошлогоднее.
Она достала из серванта большую парадную чашку "с золотом", которую доставала только для особо почетных гостей, и пошла на кухню заварить свежий чай, потому что постеснялась налить ему тот, который пила сама. Филипп сел за стол и оглядел комнату — его поразила крайняя бедность обстановки.
— Вот, — сказала Людмила Ивановна, входя в комнату и держа в одной руке заварочный, расписанный красными цветами, а в другой — большой алюминиевый чайник с деревянной ручкой, — чай будем пить.
— Людмила Ивановна, — начал Филипп, — если я правильно понял, вы знаете Наташу?
— Да как же не знать! Я в этом доме с сорокового года — еще деда ее застала! Конечно, знаю! Я как услышала, что они съезжают, так всю ночь не спала: привыкла. Сколько лет вместе прожили!
— Почему они уехали?
— Почему уехали? — Людмила Ивановна, спохватившись, посмотрела на Филиппа. — А вы сами-то кто ей приходитесь?
— Людмила Ивановна, — Филипп понял, что от того, насколько он будет убедителен, зависит успех всего предприятия. — Я вам сейчас все объясню. Я познакомился с Наташей в Париже в начале мая…
— А-а… В Париже, значит. Знаю-знаю… Вон она мне привезла: вот это, — она показала на старый комод, на котором Филипп заметил какую-то французскую безделушку, — и еще кофточку теплую, в шифоньере висит.
— Так вот, — продолжал Филипп, — Наташа оставила мне свой адрес и телефон. — Он достал из кармана записную книжку и показал Людмиле Ивановне страничку, на которой Наташиной рукой действительно были записаны ее координаты. Людмила Ивановна надела очки и прочитала вслух, кивая при каждом слове:
— Москва… Сивцев Вражек… дом… квартира… телефон… Правильно. Все правильно.
— В тот день, когда она вернулась в Москву, я ей звонил, но никто не отвечал. А потом…
— Ах, господи, да у них телефон не работает! Вот, по-моему, как она приехала, так и отключили. Они ночью-то ко мне пришли, когда Сережка пропал, сынок Наташин, знаете?
— Как это — пропал?
— Ночью звонят, Наташа-то с Зиной, и говорят: Сережки, мол, до сих пор нет. А было уж часа два ночи, а может, и больше. Вот они и волнуются, куда мальчишка делся? У нас сейчас, знаете, днем-то на улицу опасно выйти, а уж ночью… А мальчонка маленький еще — тринадцать лет. Ну, чего ж, надо искать. В милицию звонить, в больницу, сами знаете. А телефон-то у них не работает. Они ко мне. — Филипп слушал, затаив дыхание. — А я спала. Я рано спать ложусь. И просыпаюсь рано. Вот и на работу уж сколько лет не хожу, а спать поздно не могу, просыпаюсь и все. Да. Ну, открываю, они стоят, плачут, говорят: "Тетя Люда, дайте позвонить, у нас телефон не работает, а Сережка пропал". — "Давайте, — говорю, — проходите". Чай поставила: Зине-то совсем плохо было. Да и Наташа… Ей каково парня-то без отца поднимать? С мужем-то она развелась — Сережка еще маленький был. А парень-то хороший, воспитанный. Здоровается всегда. "Здрасте, баба Люда!" и-и побежал… Вот, позвонили они, чай попили на радостях: мертвого-то не нашли и в милицию не забрали. А уж утром он сам пришел, часов в семь или восемь.
Должно, взгрела она его хорошенько. А как же? Из-за него и Зина-то потом слегла. Нанервничалась. Ее в тот же день "скорая" и увезла. Инфаркт у нее был. Наташа-то опять ко мне прибежала. А я опять спала. — Людмила Ивановна рассмеялась. — Ну, думаю, кто там опять? А это Наташа, ни жива ни мертва. "Тетя Люда, — говорит, — матери плохо, вызывай "скорую"". Сама-то она, бедная, намучалась. Зину забрали, увезли, а она вдогонку, на такси. Денег у нее не было: дай, тетя Люда, одолжи, говорит, и за Сережкой пригляди. А у меня какие деньги? Вся пенсия — триста рублей. Но я ей дала, дала, а как же? А она — в больницу и так там две недели и просидела. Или три, я уж и не помню. Даже ночевала там.
— А как же… Зина, Зинаида?..
— Федоровна. Слава Богу, поправилась. А вот Сережка-то опять сплоховал.
Людмила Ивановна наклонилась к Филиппу и шепотом добавила:
— С наркотиками связался или как их там. Вот они квартиру-то и продали.
— Зачем? Я не понимаю…
— Сама не пойму, — Людмила Ивановна пожала плечами. — Зина ко мне зашла вечером, вот перед самым их переездом, дня за два, и говорит: продали, мол, квартиру. Я говорю, как это продали? А вот так, говорит, чтоб Сережку лечить. Только ты, говорит, смотри, никому. А то как станут его эти наркотики искать, ну вот, наркоманы-то эти, так опять ему голову-то и задурят. А сама плачет. А я что, я молчу. Вот только вам первому и рассказала. Стало быть, вот за лечение-то и продали.
— Не может быть, — прошептал Филипп. Он был в Ужасе.
— Вот и я говорю: зачем квартиру-то продавали?
— И куда же они поехали?
— Вот этого не скажу, не знаю. Что же вы чай-то совсем не пьете?
— Спасибо, очень вкусно, — рассеянно пробормотал Филипп, отпив один глоток. — Что же они, не сказали даже, где будут жить? — Филипп недоверчиво посмотрел на нее.
— Зина адрес-то не знала. Сказала, где-то за Сокольниками вроде. А может, и не за Сокольниками, не помню.
— Что такое — Сокольники?
— Сокольники-то? А парк такой есть, Сокольники называется.
— То есть они в другую квартиру переехали? В Москве?
— А как же, куда ж они из Москвы-то денутся?
— А телефон у них есть?
Вот телефона вроде у них там нету. Зина говорила, ставить будут. Вы чай-то пейте, а то остынет совсем. Вы не волнуйтесь: как телефон поставят, так Зина-то и позвонит. А если чего передать надо, я всегда передам. Это вы даже не сомневайтесь. Я все на бумажку запишу, все сделаю, все скажу.
— Спасибо, Людмила Ивановна. Я напишу записку и оставлю свой телефон. Когда Наташа или ее мама позвонят, вы скажите, что приходил Филипп и оставил записку с номером телефона. И пусть она мне сразу же перезвонит.
Людмила Ивановна закивала: Филипп ей нравился.
— Пиши-пиши. Все передам, не сомневайся. Бумага-то у вас есть?
— Да-да, есть.
Филипп вырвал из записной книжки несколько страничек и начал писать записку. Потом сложил листочки пополам и протянул Людмиле Ивановне.
— Вот. Здесь мои телефоны и адрес — в Париже и здесь, в отеле. И, если позволите, ваш телефон я тоже запишу, на всякий случай.
— Запиши, запиши, — Людмила Ивановна продиктовала свой номер и спросила: — Вы что же, жить у нас будете?
— Нет, я приехал всего на неделю.
— В командировку, значит?
— Я приехал, чтобы найти Наташу.
— Ну да, ну да. Я передам. Все передам, даже не сомневайтесь.
— Еще раз спасибо вам большое. А этого человека, который купил их квартиру, вы знаете?
— Нет, милый, не знаю, врать не хочу. Он вроде и не живет здесь пока, ремонт делает. Это ж какие деньги надо иметь! А так не знаю, кто он такой.
Филипп надел плащ, взял зонт, под которым натекла небольшая лужа, и, простившись, вышел на лестницу.
Вот, оказывается, что произошло. А он, идиот, не оставил ей ни адреса, ни телефона, хотя бы рабочего. И не догадался написать, просто написать. А ведь она нуждалась в помощи, одна, без средств. Он достаточно хорошо представлял себе российскую жизнь, чтобы знать, что такое больница для тех, у кого нет денег. Почему она отказалась от его помощи там, в Париже? А ее сын?.. После той истории, которая с ней приключилась, она наверняка чувствует себя виноватой. Бедная Наташа, что ей пришлось пережить!.. Только бы она скорее позвонила. Он заберет их всех троих во Францию и на все лето отвезет к отцу в Коррез, там у отца большой дом. Наташиной матери там будет хорошо, и мальчику тоже. У них будет все. И отец будет рад: ему наконец будет с кем поговорить по-русски. А Наташа наверняка понравится ему.
Филипп представил себе их жизнь в большом отцовском доме, залитом солнцем. Осенью они бы съездили на Лазурный берег или в Довиль. Он представил себе, что наконец обнимет ее, ощутит запах ее волос, услышит голос. У него защемило сердце. Ничего, ничего, — завтра, самое позднее послезавтра…
Дождь перестал. Филипп дошел до поворота и, увидев на углу маленькую булочную, вспомнил засахаренное варенье, которым его угощала Людмила Ивановна. Он накупил конфет, пастилы, пряников — он знал, с чем русские любят пить чай, — купил еще каких-то сладостей, купил даже хлеба и, сложив все это в пакет, пошел назад. Поднимаясь по лестнице, Филипп подумал: "Идиот! Надо было купить ей еды, а не конфет". Сообразив, однако, что потратил все русские деньги, какие у него с собой были, решил поступить по-другому и в пакет со сладостями вложил пятисотфранковую бумажку.
Когда Людмила Ивановна открыла ему дверь, Филипп протянул ей сумку и сказал:
— Это вам, к чаю, — и, не дав ей опомниться, бросился вниз по лестнице.
Уже больше получаса Виктор сидел под дверью на расстеленной прямо на полу газете, а француз все не выходил. О чем они могут говорить, да еще так долго? Что эта чертова старуха ему плетет? Надо думать, что-нибудь важное, иначе зачем бы он стал там торчать? И чего ему надо? Зачем он ее ищет? Почему не знает, где она и что с ней, если уж она так ему нужна? Значит, что-то у них не так? Или, может, у них вообще ничего нет? Может, он зря боится? В Париже она была первый раз, это она сама ему говорила, была всего неделю. Ну, познакомились, приглянулась она ему: женщина она красивая, ничего удивительного тут нет. Но раз француз ее ищет и ничего о ней не знает, значит, она сама не хочет, чтобы он знал?.. А раз так, ему, Виктору, бояться нечего. А может, они поссорились? "А-а, — хлопнул он себя по лбу, — телефон-то у нее не работал. До самого ее отъезда не работал. Я же сам за него и заплатил. Вот француз и не мог ей дозвониться раньше, теперь все ясно. Что ж они так долго там делают? Наговорит ему старуха чего не надо. И не узнать никак…"
За дверью послышались голоса. Виктор вскочил и припал к глазку. Прощаются. Как это француз намаста-чился по-русски так хорошо говорить? Вроде доволен чем-то, гад. Ну, ничего, еще посмотрим, чья возьмет. Завтра он к старухе зайдет и спросит, как и что. Ничего, еще поглядим. И с Наташей надо поговорить скорей — что время-то тянуть? Что он вообще с ней церемонится? Боится он ее, что ли? Из другого теста она сделана, что ли, чем другие бабы? Небось, такая же, как и все. А он? Даром, что ли, на него бабы вешаются? Виктор посмотрел на свое отражение в оконном стекле и с удовольствием подумал о том, какой он крепкий и складный. А уж деньги делает — из ничего. И зря не тратит. Вот другой бы мастеров дорогих нанял, а он сам рукастый, все умеет делать. И строить, и ремонт, и машину починить. Он с Михалычем вдвоем не хуже других сделает. Вот он в Москве всего три года прожил, а уже квартиру купил, и не какую-нибудь, а в самом центре. Да еще дешево, тысяч на десять дешевле, чем она стоит. Конечно, она за него выйдет, почему бы ей не выйти? Только бы француз не подгадил. Ну, ничего, ничего, поглядим. Виктор даже сплюнул от досады. Так все хорошо шло!
Ведь он совсем было уже поставил на ней крест, на Наташе, а тут так кстати с щенком ее беда приключилась. И с квартирой как повезло. Все могло бы быть разом, и квартира, и жена. Одно только плохо — наркомана этого воспитывать придется. Ну, ничего, ничего: пусть только выйдет за него, а там поглядим. Завтра же он с ней и поговорит.
На следующий день, в воскресенье, часов в двенадцать, Виктор позвонил к Людмиле Ивановне.
— Здравствуйте, мамаша, я ваш сосед из тридцать девятой квартиры…
— Здравствуйте, — Людмила Ивановна доброжелательно взглянула на него.
— Разрешите, мамаша, посмотреть, как у вас проводка проходит, а то я ремонт делаю, так вот боюсь, как бы мне не напортить вам чего.
— Проходите, смотрите, что нужно.
Они вошли в кухню.
— А кран-то у вас, я смотрю, течет, — сказал Виктор.
— Течет, течет, что ты будешь делать… Сантехник приходил, говорит, менять надо.
— Так давайте я вам починю.
— Да неужто почините? Неудобно как-то…
— Неудобно, мамаша, левой рукой правое ухо чесать… Инструменты у вас есть?
Людмила Ивановна бросилась доставать ящик с инструментами.
— Есть, все есть. Муж, покойник, все инструменты хранил, все сам делал.
— Давно умер-то? — Виктор перекрыл воду и занялся краном.
— Давно. Восемь лет.
— И что же вы, одна живете?
— Одна, одна живу.
— Пенсию получаете?
— А как же, получаю.
— Пенсия-то, небось, маленькая?
— Мне хватает.
— А дети есть?
— Нет, милый, детей Бог не дал.
— Ясно… Ну вот, мамаша, ваш кран. Больше ничего не надо починить?
— Ой, спасибо вам, ой, спасибо! А то сантехник говорит — менять. А менять…
— Больше-то ничего не надо починить?
— Ой, да как же я, неудобно…
— Что вы, мамаша, все неудобно да неудобно. Я же вам сказал, что неудобно делать? Правильно. Мы ж с вами соседи, помогать друг другу должны.
— Должны, сынок, должны. Вот, видно, судьба такая: везет мне на соседей. В вашей квартире такие хорошие люди жили! Вот уехали, а я никак не привыкну. Посмотри, милый, выключатель у меня плохо работает…
Виктор вошел следом за Людмилой Ивановной в комнату и сразу же в центре стола под маленькой стеклянной вазочкой увидел сложенные вдвое листочки бумаги. И по тому, как выглядели эти листочки, сразу понял, что ему повезло.
— Ну, мамаша, показывайте ваш выключатель.
— Вот, старый уже. То работает, то не работает — замучилась.
— Это я, мамаша, вам починю. Отвертку несите. Отвертка у вас есть?
— Есть, есть, все есть. Смотри, чтоб током тебя не убило.
— Не волнуйтесь, мамаша, нас не убьешь. Несите отвертку-то, — и вслед ей добавил: — Может, у вас и шурупы найдутся?
— Пойду поищу.
— Вы мне сперва отвертку дайте, а потом ищите!
— Несу, несу, — Людмила Ивановна торопливо вышла из комнаты.
Виктор подошел ближе к столу. Да, он угадал: эти листочки оставил француз. И сейчас он узнает все, что ему нужно, не задавая лишних вопросов.
Людмила Ивановна вернулась с отверткой. Виктор отключил свет, отвинтил выключатель, сел за стол и попросил принести ему газету. Людмила Ивановна опять вышла. Он приподнял скатерть, отодвинул вазочку, как будто она ему мешала, и слегка раскрыл свернутые листочки. И опять ему повезло: на одном из них он увидел написанные крупным почерком адрес и телефонные номера. Значит, его-то и надо вытащить… Старуха все равно ничего не заметит, а заметит, так сделать ничего не сможет: ничего не знаю, не брал, не видел, да и зачем ему это? А остальное — прочитать, пока старухи не будет в комнате.
— Вот ваш выключатель, мамаша. Включается, выключается: все как надо.
— Ой, сынок, как и благодарить-то тебя, не знаю!
— Ничего, мамаша, как-нибудь и вы мне пригодитесь.
— Пригожусь, сынок, пригожусь. Спасибо тебе.
— Да и вам спасибо, мамаша. Всё, пошел.
Людмила Ивановна закрыла за ним дверь, вернулась в комнату, пощелкала выключателем, поправила скатерть, потом взяла в руки листочки, оставленные Филиппом, подошла к комоду и убрала их в старую жестяную коробку из-под конфет, в которой хранила паспорт и квартирные книжки.
Отпевание состоялось в церкви Воскресения Христова на Ваганьковском кладбище сразу после утренней литургии. До Наташи как сквозь пелену доносились слова молитвы: "Бог наш Иисус Христос… властью данною… примите Духа святого… да сотворит через меня прошение… словом или помышлением… от всех вины и узы да разрешит его… и да простит ему человеколюбия ради своего… молитвами пресвятые и пре-благословенные… владычице нашей Богородице и присной Девы Марии… святых славных… и всех святых… Аминь". Дьякон кадил с четырех сторон гроб, царские врата, потом народ. Началось прощание. Когда Наташа шагнула к гробу, ей показалось, что ее поддерживают чьи-то руки. Она наклонилась над лицом матери и прикоснулась губами к бумажному венчику на лбу. И опять как сквозь туман различила слова молитвы: "Снятый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй н-а-а-а-с…" Потом крышку заколотили и гроб вынесли.
Порывы ветра бросали в лицо капли дождя и вырывали из рук зонты. "Бог дал, Бог и взял", — услышала Наташа у себя за спиной. "Дал, взял, — подумала она, — зачем все это?.."
Могильщики спешили из-за дождя и энергично работали лопатами. Комья сырой земли с глухим стуком ударялись о крышку гроба. Когда могила была почти полностью засыпана, под остатками вырытой земли показался увядший букет. Один из рабочих подцепил его кончиком лопаты и отбросил в сторону. Потом могилу покрыли цветами и установили дощечку с именем. Все было кончено.
Дождь перестал. Все как по команде сложили зонты и, перешагивая через лужи, потянулись к выходу.
На поминках хлопотала дочь тети Нины, Татьяна. Стол был накрыт: все расселись, предвкушая удовольствие от выпивки и горячей пищи после дождя и пронизывающего ветра. Помянули покойницу. Виктор выпил водки и, посматривая на Наташу, с аппетитом принялся за еду. Наташа сидела молча, не притрагиваясь к тарелке, едва пригубив налитое ей вино. "Наташа, поплачь, — причитала тетя Нина. — Поплачь, тебе легче будет".
Но Наташа не плакала — у нее не было слез.
Виктор был доволен. Все прошло хорошо: и отпевание, и похороны, и поминки. Он все организовал сам: договорился со старостой, чтобы гроб поставили на ночь в церковь, заказал автобус, купил продукты, выпивку. Только готовку для поминок взяла на себя эта родственница, Татьяна. Ему нравилось, что она называет его Витей и обращается к нему как к члену семьи:
"Где у вас это? Куда вы кладете то?" Интересно, за кого она его принимает?
Когда Наташа под конец поминок расплакалась и про цветы какие-то завялые стала вспоминать и все говорила, что хочет на кладбище опять ехать, искать их неизвестно зачем, эта Татьяна шепнула ему: "Витенька, вы ведь побудете с ней? Ей одной сейчас оставаться нельзя". Куда там, останешься! Сказала, что хочет быть одна, и никого не захотела даже слушать: ни тетку, ни сестру. Хочу быть одна — и все тут. Плохо, конечно, что из-за смерти старухи он с ней так и не поговорил. Но ничего: француз послезавтра уедет, телефона ее у него нет и не будет, потому что соседке из сороковой квартиры он ничего о смерти матери не сказал, хотя Наташа и просила его об этом. Забыл, что ж поделаешь? Ему было не до соседки. Впрочем, Наташа о ней и не вспомнила. Плохо, конечно, что после поминок она не захотела, чтобы он остался, но ничего, он потерпит: ей теперь от него деваться все равно некуда.
Филиппу предстояло через полчаса спуститься вниз, к автобусу, который должен был везти их в аэропорт. Он захлопнул крышку чемодана и щелкнул замками. Вот и все. Наташу он не нашел и неизвестно, когда найдет. В справочной службе данных о ней нет. Вернее, нет новых данных и никто не говорит, когда они будут. Профессора Меретинского, у которого Наташа когда-то училась, в Москве не оказалось — неугомонный старик уехал на какой-то симпозиум. Да и вряд ли, конечно, он мог знать, где ее найти.
Итак, он вернется один. Позвонит отцу и скажет, что его приезд в Коррез откладывается на неопределенный срок. А Наташа будет жить здесь, без него… Что-то неприятно кольнуло его: она же понимала, что он не мог ей дозвониться из-за сломанного телефона. Почему она не оставила новому жильцу свой адрес, чтобы он мог хотя бы написать ей. Может быть, ей это не нужно? Может быть, события, происшедшие с ней за это время, заслонили все остальное? И, может быть, ему только кажется, что он ее знает? Загадочная русская душа… Может быть, прав Робер, который говорит, что… Нет, он не верит и не поверит ни одному дурному слову о ней. Не поверит, что она разлюбила его, пока она сама не скажет ему об этом.
В коридоре послышались голоса. Филипп посмотрел на часы: все, пора идти. Он надел плащ, взял в руки чемодан, но, дойдя до двери, остановился и снова вернулся к телефону. "Что, если…" Он снял трубку и набрал номер Людмилы Ивановны, который давно выучил наизусть:
— Людмила Ивановна, это опять Филипп. Я, наверное, вам надоел…
— Да что ты, милый, чем же ты мне надоел? Только вот не звонила она, не знаю, что и сказать.
— Людмила Ивановна, не знаете ли вы случайно, как зовут ее подругу, которая работает в Париже? Наташа к ней ездила в гости.
— Подругу-то? Знаю, а как же: Лена ее зовут. Они вместе с Наташкой маленькой в школу ходили. И жили в доме напротив, на шестом этаже.
— А фамилию не помните?
— Фамилию? Нет, фамилию не помню… Как же их?.. Они ведь давно съехали, уж лет двадцать поди. Квартиру получили. Как же фамилия-то их была? Вспомнила! Как Наташка уехала, в Париж-то, Зина мне и говорит: помнишь Кораблевых, что в доме напротив жили, чья девчонка с Наташей-то дружила? Вот, мол, эта девчонка теперь Наташу в Париж и пригласила. Вот, сынок, хорошо вспомнила — Кораблевы они, Кораблевы. Только вот не знаю, может, она замуж вышла, Лена-то, фамилию-то и поменяла. Вот тогда не скажу, не знаю. Если только Зина позвонит, тогда спрошу.
Филипп поблагодарил, еще раз простился, напомнил про записку и сказал, что обязательно приедет в конце июля, а до того будет еще звонить из Парижа. И вышел из номера.
В Шереметьево, в дверях аэровокзала, Филипп столкнулся с молодой женщиной. Она смеялась и что-то громко говорила своей спутнице. Он сам не знал, почему повернул голову и посмотрел ей вслед: она его совершенно не интересовала.
Это была Лена Кораблева, только что прилетевшая из Парижа рейсом 251.
Наташа лежала на диване, не зажигая свет. Она то погружалась в дремоту, то проваливалась в глубокий сон и во сне видела мать, улыбающуюся и счастливую, то просыпалась с глазами, полными слез, и прислушивалась — ей казалось, что в кухне кто-то гремит посудой. Она вскакивала с бьющимся сердцем, но это было не то, ей показалось… Вспоминала их старый дом в Сивцевом Вражке, окно, из которого она часто видела, как Зинаида Федоровна возвращается с прогулки или из магазина. Вспоминала ее походку: несмотря на возраст, У Зинаиды Федоровны были стройные ноги и прямая спина. Больше никогда… Ее знобило, она натягивала старый плед до самого подбородка и снова засыпала. И снова видела сны, но они не приносили ни отдыха, ни забвения — сны были страшные. Она видела себя в каком-то странном месте, в доме, где все холодное и чужое. Она одна, но знает, что где-то ее ждет мать. Она бросается бежать, но ноги не слушаются ее, и к тому же она никак не может вспомнить, где именно ее ждут, и страшная тоска сжимает ей сердце.
Наташа проснулась и вспомнила, как поссорилась с матерью из-за дивана, который не хотела перевозить со старой квартиры, и с каким раздражением встретила ее, когда та вернулась с кладбища. И цветы, о Господи, эти цветы… Наташа завыла, уткнувшись в подушку. Эти цветы, которые мама отнесла на могилу отцу и которые отшвырнул этот могильщик. Надо бежать… Надо бежать на кладбище и найти их во что бы то ни стало!
Наташа вскочила с дивана, споткнулась о плед, упала и заплакала. Поздно, уже поздно. Кладбище закрыто, да и не найдет она ничего в темноте. А если и найдет, все равно уже ничего не вернешь.
Наступил рассвет, серый, мрачный. По-прежнему шел дождь. Наташа слушала, как капли дождя стучат по стеклу и где-то между рамами завывает ветер. Что-то с ней не то: почему-то сильно болит живот и знобит. Наверное, она простудилась. Сейчас она встанет, согреет себе чай. Или выпьет водки — наверное, еще осталось. Сейчас, сейчас, вот только еще немного полежит… Как холодно!..
Она снова засыпала и снова видела сны, странные, цветные. Какие-то улицы, красивые дома. Никогда раньше она не видела таких красивых домов. Куда-то она идет, ей хорошо, но постепенно ею овладевает тревога. Что-то не так, но что? Она пытается вспомнить, напрягает мозг, голова ее раскалывается от усилий, но вспомнить не может. Она идет дальше, смотрит по сторонам, в надежде увидеть знакомое лицо, кого-то, кто мог бы успокоить ее, но толпа, идущая ей навстречу, обходит ее с двух сторон, и она не успевает разглядеть лица.
За что, за что Он сделал с ней все это? Пусть она виновата, пусть она и была бы наказана. Но за что, почему умерла мама? Мама, которая никогда никому не сделала зла? За что Он так наказал ее? И как она теперь будет жить, если у нее совсем не осталось сил, если она ни во что больше не верит? Как сможет она помочь Сереже, если у нее самой не осталось ни веры, ни надежды? За что Он с ней это сделал? А-а, Его просто нет, нет, нет, это же ясно! Есть сумасшедший мир, в котором хорошо только таким, как ее бывший муж, и больше ничего.
Она вспомнила распростертое на полу тело Павловского. Нет, в этом мире плохо всем, даже таким, как он. Надо было научить Сережу быть жестким и злым, а она не сделала этого. Да и не смогла бы сделать. И теперь она не может его защитить. И ее мать, которую она тоже не уберегла. Если бы еще она умерла дома, а не здесь, в этой чужой квартире, где она так тосковала. Как здесь холодно… Как в могиле… Если бы умереть, не чувствовать этой ужасной тоски… Да, умереть… А Сережа? Господи, Сережа… Что с ним будет? Ведь он останется совсем один. Нет, нет, она не умрет, она обязана жить ради него, она обязана жить до тех пор, пока будет ему нужна… Но разве можно жить с этой тоской? Откуда взять силы, чтобы терпеть? Господи, за что, за что Ты сделал это со мной…
Когда она проснулась, было темно. Она не знала, сколько времени пролежала в этой комнате, не знала, который был час: будильник стоял. Ей было так плохо, что она даже не могла протянуть руку, чтобы взять со стола наручные часы и посмотреть время. "Неужели я умираю? Неужели я умру и не увижу Сережу?" — подумала она и, испугавшись этой мысли, снова попыталась встать и снова увидела город, которого нет. Сны путались с действительностью, и, когда в квартире раздался звонок, она не сразу поняла, сон это или явь. Она попыталась приподняться на локте, но у нее не хватило сил. В дверь снова позвонили. Она хотела крикнуть, что больна и не может встать, но с ее губ сорвался только слабый стон. "Наташа, открой, это я, Лена!" — услышала она из-за двери. Снова раздался звонок, длинный, настойчивый. "Наташа, Наташка, это я! Открой же!" Но Наташа не могла ей открыть — она лежала без сознания на старом отцовском кожаном диване.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Наступил август, и Париж опустел. Даже в кафе поубавилось посетителей, и только вечерами, после захода солнца, когда немного спадала жара, на террасах собирались люди и, сидя за столиками перед запотевшей бутылкой "Перье" или "Эвиан", лениво перелистывали вечерние газеты или смотрели на разомлевших от жары немногочисленных прохожих. И только туристов было по-прежнему много: группами или поодиночке, с камерами или фотоаппаратами в руках, они без устали носились по городу в поисках впечатлений, не обращая внимания на жару.
Филипп перешел по Новому мосту на Левый берег и устроился на террасе маленького кафе, откуда хорошо была видна набережная Сены. Глядя на запертые лавки букинистов, он вспомнил, как они с Наташей ходили здесь в первых числах мая, рассматривая довоенные журналы. Как давно это было! Он не видел ее три месяца, три месяца не знал, где она и что с ней, — Наташа исчезла. В течение первых недель после возвращения из Москвы он каждый день ждал ее звонка дома или на работе, так как оставил ей номера всех своих телефонов. Но она молчала. Тогда он сам позвонил Людмиле Ивановне, но та только подтвердила, что ни Наташа, ни ее мать в старом доме больше не появлялись и что ей по-прежнему ничего не известно об их местонахождении. И тогда он почти перестал ждать.
То есть он по-прежнему думал о ней, но, возвращаясь домой, уже не бежал к телефонному аппарату, чтобы прослушать записи, оставленные на автоответчике: он знал, что не найдет там того, чего ждет. Работа поглощала все его время, и он торчал в опустевшем-Париже, один, циркулируя между домом, где, настежь раскрыв окна, проводил ночь, и издательством, где его ждал новый проект, над которым, несмотря на жару и давно наступивший сезон отпусков, работал он сам и несколько его сотрудников-энтузиастов. И когда наступил август, он понял, что не поедет в Москву. "Значит, есть какие-то причины, по которым она не хочет меня видеть".
Когда чувство обиды начинало брать в его душе верх, он старался представить себе какие-то обстоятельства, которые могли бы помешать ей поинтересоваться тем, есть ли от него письма или звонки, ведь для этого ей нужно было лишь позвонить или зайти в свою старую квартиру. Или к соседке. Но как ни старался, он не мог представить себе таких обстоятельств. "Ее мать поправилась, сын лечится. И даже если с ним до сих пор что-то не так, не может быть, чтобы она не могла хотя бы позвонить. Значит, она не хочет".
Тем не менее в одну из суббот он все-таки зашел еще раз на рю де ля Тур, в дом, где она жила у своей подруги. Зашел с цветами и коробкой конфет, надеясь на сей раз победить принципиальность дежурной, которая, всплеснув руками и покраснев до корней волос, принимая его дары, сказала, что Лену Кораблеву, которую он разыскивает, она, конечно, прекрасно знает, но Лена, к сожалению, уехала в Москву, так как закончилась ее командировка. "Что же вы сразу не сказали, что это Кораблева?" — кисло улыбнулась она. Филипп подавил желание задушить ее прямо на месте и, не сказав ни слова, вышел на улицу.
Первый человек, которого увидела Наташа, придя в себя, была Лена Кораблева: сидя на корточках около Наташиной кровати, она укладывала в тумбочку какие-то пакеты. Заметив, что Наташа открыла глаза, она сказала:
— Ну, слава Богу, наконец-то! Как ты себя чувствуешь?
Наташа удивленно оглядела большую палату на несколько человек, где она лежала у окна, и тихо спросила:
— Что со мной? Как я тут оказалась?
Лена наклонилась к ней и поцеловала:
— Не волнуйся, сейчас уже все хорошо. Представляешь, прилетаю позавчера в Москву, звоню тебе и вдруг слышу голос Виктора. Что, говорю, вы делаете у моей подруги? А он мне: живу, говорит. Представляешь? Что я должна была думать? Я ведь звонила ему месяц назад из Парижа сказать — что я скоро приеду и чтобы он подыскивал себе квартиру. И он мне ничего не сказал. И вдруг — на тебе. Я сперва даже обрадовалась: подумала, что ты с ним… Ну, не буду, не буду, — торопливо добавила Лена, заметив, что Наташа поморщилась. — Так вот, он мне все и рассказал — и про маму, и про Сережу, и про квартиру. Представляю, каково тебе пришлось… С квартирой ты, конечно, поторопилась, надо было попросить у кого-нибудь в долг, у того же Виктора, например, а я бы приехала и дала тебе денег на Сережу. А ты мне даже не позвонила! Ладно, лежи спокойно, я все понимаю, ты торопилась, но нельзя же совершать такие необдуманные поступки. Но ничего, все образуется. Поправишься, отвезу тебя домой. Отвезу сама, если успею растаможить машину. А я, представляешь, сто раз звонила тебе из Парижа: никто не подходит. Думаю, что стряслось? Виктор сказал, что у тебя телефон не работал, а я там с ума сходила. Наташка, ты бледная, тебе надо в себя прийти. Вот вернется Сережка, и поедем к моим старикам в деревню, на все лето. Там, конечно, тесно, но это же лучше, чем сидеть в Москве? Сегодня, слава Богу, наконец-то тепло. Говорят, в Москве был очень холодный июнь? Тебе дадут отпуск за свой счет? Ну, не плачь, я что-то не то сказала? Теперь тебе плакать нельзя, надо думать о ребенке. Сережка когда вернется?
— Недели через две.
— Вот и прекрасно. Тебе надо за это время поправиться. Хочешь, я поживу у тебя? Или, может быть, сразу отвезти тебя к моим старикам? Мама будет очень рада, ты же знаешь. А потом вместе съездим встретить Сережку. Или у тебя другие планы? Дома у тебя все в порядке, я все убрала. Ключи у меня. Дверь починили.
— Какую дверь?
— Здрасте… А как я, по-твоему, к тебе вошла? Я же говорю: позвонила тебе на Сивцев Вражек, подходит Виктор, рассказывает, что произошло, говорит, что ты осталась дома одна в жутком состоянии и никого не хочешь видеть, что телефона у тебя нет и так далее. Ну, я взяла у него адрес и помчалась к тебе. Звоню в дверь — тишина. А я чувствую, понимаешь, чувствую, что ты дома. Ну, думаю, или спит, или совсем плохо. Звоню, кричу тебе через дверь — толку никакого. Ну я и пошла за слесарем. Слесарь ни в какую: не буду открывать — и все. Я ему такое устроила!.. Позвала соседей, чтоб сви-детелями были, паспорт показала, сказала, что если ты там умрешь, то виноват будет он, ну и, конечно, сунула ему. Врываюсь в квартиру, а ты на диване, без сознания, в крови… Вызвала "скорую". Наташка, Наташка!. Ты представляешь, что бы было, если бы я не приехала и не заставила этого идиота взломать дверь? Умереть ты, может быть, и не умерла, а вот ребенка бы точно потеряла. Разве так можно?
— Какого ребенка? — голос у Наташи был слабый, какой-то надтреснутый.
— Как какого? Твоего!
— Какого ребенка? О чем ты говоришь? — Наташа попыталась приподнять голову.
— Господи, твоего ребенка, которого ты ждешь… — Лена разинула рот. — Наташка, подожди, ты что, ничего не знала? У тебя уже почти двухмесячная беременность. К тому же ты, наверное, простудилась на кладбище. Врач сказал, что у тебя чуть не случился выкидыш, вероятно, из-за пережитого стресса. Так бывает… Но как ты могла об этом не знать? Наташка, что с тобой, тебе плохо? О Господи… Сейчас позову сестру.
Наташа открыла глаза:
— Не надо… Со мной все в порядке.
— На вот, выпей воды.
Наташа отстранила протянутый ей стакан и отвернулась.
— Наташка, ты прости меня, я такая дура. Но я была уверена, что ты знаешь. Как же ты… как же ты могла не заметить?
— Со мной было что-то не то, но я не придала этому значения. Я была уверена, что это из-за того, что… — у нее задрожали губы. — Столько всего случилось за это время…
— Да знаю, знаю, молчи. А твой француз, он, значит, тоже ни о чем не догадывается?
Наташа, не поворачивая головы, раздельно сказала:
— Нет больше никакого француза.
— То есть как это — нет? Он приезжал в Москву или не приезжал? Вы что, поссорились?
— Нет.
— Тогда что?
Наташа повернула голову и посмотрела на подругу:
— Потом поговорим.
— Что значит — потом? Я вовсе не собираюсь тебя доставать, но ведь надо же что-то решать с ре… с твоей беременностью? Ты уверена, что не наделаешь очередных глупостей?
— Уверена. Прости… я хочу побыть одна. Не сердись…
— Хорошо, я пойду. Да ладно, Господи, я не обижаюсь. Я же представляю, каково тебе сейчас. Вот ты никогда меня не слушаешь, а я ведь тебе говорила! Ладно, ладно, не буду. Но имей в виду, у тебя есть сын. И сейчас он нуждается в тебе как никогда. Хочешь, я поговорю с врачом? У тебя ведь уже большой срок… Все, все, ухожу. Тогда завтра я приду, и мы все решим: раз уж ты все равно оказалась в больнице, надо этим воспользоваться.
— Ты кому-нибудь говорила об этом?
— Нет, конечно, кому я могла сказать?
— И не говори.
— Господи, конечно, я никому не скажу, не волнуйся. Все, Наташка, до завтра. Я тут тебе оставила поесть, в тумбочке — сок, фрукты, еще кое-что. Пока.
Лена поцеловала подругу, сняла халат и вышла из палаты.
"Ребенок… У меня будет ребенок… Его ребенок. Господи, прости меня. Я проклинала тебя за то, что ты забрал маму, я отреклась от тебя, а ты подарил мне ребенка от человека, которого я люблю, который был моей последней любовью. Благодарю тебя, Господи. Значит, так было нужно, значит, ты простил меня…"
Ни на минуту у нее не возникло сомнения, оставлять или не оставлять ребенка. Конечно, она его оставит, что бы ни говорила Ленка или кто-то еще. Разве может быть иначе? И разве может иметь значение то, что она одна? Конечно, нет. Ведь она любила Филиппа. И почему — любила, она и сейчас его любит. Она любит того Филиппа, которого помнит, а другого, того, кем он оказался, она не знает и не хочет знать. Значит, она простила его? Простила или не простила, дело не в этом. Дело в том, что она не хочет жить с этим ужасом в душе. И как хорошо, что она обо всем узнала после того, как рассталась с ним, что между ними не было объяснений, упреков, слез, что им не пришлось смотреть друг на друга злыми глазами. Она будет помнить его таким, каким он был с ней там, в Париже. Он подарил ей несколько дней счастья. И каким бы он ни был, эти несколько дней он любил ее или делал вид, что любил, неважно — все равно она была счастлива. Теперь она знает, что никогда больше не увидит его, но это неважно… Все это совершенно неважно, потому что теперь она не одна.
Она лежала на продавленной больничной койке, закрывшись одеялом с проштампованным пододеяльником, и считала, сколько времени осталось до рождения ребенка. "В начале февраля. Да, в начале февраля у меня родится девочка, и я назову ее Зиной". И на ее худом и бледном лице появилась едва заметная дрожащая Улыбка.
Лена Кораблева, возвращаясь домой, думала: "Бедная Наташка, что с ней стало! За эти два месяца она постарела на десять лет. Представляю, что ей пришлось пережить и с мамой, и с Сережкой… И квартиру, Господи, какую квартиру потеряла, в самом центре… А этот мерзавец, француз: разыскать бы его да и дать в морду. Что ж там у них произошло? Забыла сказать ей, что деньги ее я привезла, они ей сейчас очень пригодятся, ведь теперь надо Сережку поднимать, а то пропадет парень. Ничего, сделает аборт, выйдет из больницы, отвезу их на дачу, она там быстро про все забудет… А с Виктором у нее явно что-то есть. Я еще перед отъездом заметила, что он на нее посматривает, а тут, судя по всему, он помогал ей с похоронами и с Сережкой. Значит, они встречались. Ну и слава Богу, может, из этого что-нибудь и получится…"
— Наташка, ты с ума сошла! — они сидели в больничном коридоре недалеко от Наташиной палаты. — Я понимаю, тебе пришлось много чего пережить за это время, но ведь не совсем же ты потеряла разум? Или ты чего-то не договариваешь?
— Например?
— Может быть, у тебя намечается роман с Виктором?
— Конечно, нет.
— Почему — конечно? Чем он плох?
— Он всем хорош, кроме одного — я его не люблю.
— А он тебя?
— Не знаю. Он мне о своих чувствах не рассказывал.
— Брось, пожалуйста! Можно подумать, ты без слов не понимаешь такие вещи. Как получилось, что он занимался твоими делами все это время?
— Случайно. Сережа пропал в тот день, когда мы должны были встретиться из-за квартплаты. Можешь себе представить, в каком я была состоянии… Он спросил, в чем дело, и я ему все рассказала. Все равно, помочь мне было некому, а он, надо отдать ему должное, и Сережу помог разыскать, и с квартирой помог, и с переездом, и потом, когда умерла мама…
— И ты хочешь после этого сказать, что не знаешь, как он к тебе относится? Неужели ты думаешь, что он стал бы со всем этим возиться, если бы не был в тебя влюблен по уши? На благотворителя он не похож.
— Может быть, не знаю. Вернее, мне не хочется об этом говорить.
Ленка всплеснула руками:
— Ах ты, Боже мой, ей не хочется! А воспитывать ребенка одной тебе хочется? Такой мужик! Богатый, хозяйственный, не пьет. Ну, может быть, звезд с неба не хватает, зато надежный и, кажется, добрый. Не то что некоторые.
— Ты забываешь одну маленькую деталь — я его не люблю. И потом, почему ты так уверена, что он захочет на мне жениться с двумя детьми?
— Если любит, захочет. Знаешь, вот ты сейчас немножко придешь в себя, и мы устроим посиделки. У меня. Потанцуем, выпьем немножко, посидим, а? Наверняка он как-то проявится. Или, еще лучше, поедем в деревню к моим старикам и возьмем его с собой. Там природа, купанье, прогулки под луной… Там ты его, тепленького, и возьмешь…
Наташа рассмеялась:
— Ленка, Ленка! Ты неисправима.
— Ты мне зубы не заговаривай. Говори, согласна?
— Не знаю. Сейчас я не могу даже думать об этом.
— А тебе не надо ни о чем думать — я сама все сделаю, ты только скажи! Да, Наташка, забыла тебя спросить: это правда, что мне сказал Виктор про твоего бывшего? Его действительно убили?
— Правда, — Наташе не хотелось об этом говорить.
— Ну, после всех его проделок, о которых ты рассказала, это не удивительно. Раз он занимался такими вещами, — она покачала головой, — мне его даже не жалко. Какой ужас!.. Сережка знает?
— Пока нет.
— Бедный мальчик, много же ему предстоит узнать…
Наташа опустила голову и ничего не ответила.
Сережа приехал в середине июля. Он очень изменился: его лицо лишилось признаков детскости, которые Наташа так любила в нем и которых он сам всегда стеснялся, говоря, что похож на девчонку. Исчез румянец, исчезла пухлость щек. Изменилось выражение глаз. Она находила в нем что-то страдальческое, замкнутое, закрытое. Что-то такое, что известно только ему и о чем не говорят. Никому. У него изменился голос. Он почти не улыбался, и в движениях его рук, в походке, появилось что-то взрослое, мужское. Узнав о смерти бабушки, он не заплакал и ничего не сказал, только плотно сжал губы. Ей предстояло сообщить ему о ребенке, которого она ждала, и впервые в жизни она почувствовала перед ним страх: она совершенно не представляла, как он к этому отнесется. И когда на следующий день после его приезда они возвращались с кладбища и Наташа, собравшись с духом, сказала ему: "Сережа, я должна тебе сообщить одну важную вещь, — и добавила, робко взглянув ему в глаза: — У меня будет ребенок", — он нахмурился и спросил:
— От Виктора?
Наташа растерялась:
— Нет… Почему от Виктора?
— Нет? — обрадовался Сережа. — Правда, нет?
— Конечно, нет…
— И ты не собираешься за него замуж?
— Вовсе нет, с чего ты взял? Я вообще не собираюсь замуж.
— Классно! А то я уж подумал, что… Мам, это хорошо, что будет ребенок, правда! Ведь мы остались вдвоем… А теперь нас опять будет трое. Ты не волнуйся — я сам буду его отцом.
Еще через два дня Виктор отвез Лену и Наташу с Сережей к Лениным родителям, у которых был крошечный домик в Тверской области, в двухстах километрах от Москвы. Старики проводили лето вдвоем и целыми днями копались в огороде, что вызывало страшное негодование их единственной дочери.
— Боже мой! Вместо того чтобы жить в свое удовольствие, дышать воздухом и купаться (недалеко от дома действительно был довольно большой и чистый водоем), они торчат в этом огороде кверху задницами. Как будто эту дурацкую морковь нельзя купить на рынке!
Старики на ее брюзжание, к счастью, внимания не обращали, и все с удовольствием поглощали приготовленные Лениной матерью, Лидией Михайловной, Роскошные салаты из выращенных на собственных грядках овощей. Сережу поили парным молоком, за которым ходили к тете Дусе, жившей на другом конце деревни. Сереже нравилось смотреть, как она, подоив корову, широкой пенящейся струей переливает молоко через марлю в другое ведро. Руки у нее были коричневые от загара с синими прожилками и узловатыми суставами от тяжелой работы. Она же продавала им яйца, творог и сметану.
С утра Наташа с Сережей принимали посильное участие в прополке грядок, а потом уходили на целый день на пруд, чтобы "не мешаться", а иногда, если удавалось встать пораньше, все вместе, с Леной и стариками, ходили в "дальний" лес, километрах в шести, за грибами. Несмотря на довольно сухое лето, грибов было много, и, вернувшись домой, Наташа устраивалась на маленькой скамейке перед домом и счищала Сережиным перочинным ножом с липких шляпок сосновые иголки.
Вечерами ходили гулять по дороге, ведущей в соседнюю деревню. Дорога была пыльная и твердая. Они шли, обмахиваясь стеблями лебеды, и над их головами, в розоватом вечернем воздухе, покачивались комариные столбы. Когда навстречу им попадалось возвращавшееся в деревню стадо, Лена, боявшаяся коров, начинала визжать от ужаса, а Сережа протягивал руку и гладил нагретую солнцем рыжую шкуру, от которой пахло травой и парным молоком.
Сережа начал поправляться — на его щеках сквозь загар стал проступать румянец. Однажды, во время вечерней прогулки, когда они вдвоем стояли на пригорке, глядя, как садится солнце, Наташа сказала:
— Сережа, ты мне до сих пор так и не рассказал, что с тобой случилось, когда ты ушел из школы, и что было в клинике у Нуразбаева. Если тебе не хочется об этом вспоминать, можешь не говорить, но… как тебе кажется, тебе там помогли?
— Можешь не бояться, — перебил Сережа, нахмурившись, — я больше никогда не буду колоться. Никогда, понимаешь? Ты мне веришь?
— Верю. И, знаешь, я тоже хочу сказать тебе одну вещь. Когда я была в Париже, я познакомилась там с одним человеком. И мы… у нас…
— Я понимаю.
— Так вот, это его ребенок.
Сережа сделал движение.
— Ты не должен о нем плохо думать! Так случилось, что мы не можем быть вместе. Он в этом не виноват. А про ребенка он просто ничего не знает. И я сама не хочу сообщать ему о нем, потому что это все равно ни к чему не приведет, а только все осложнит. Ты меня понимаешь?
Она взглянула на Сережу — он был явно смущен. Он не знал, как вести с матерью этот "взрослый" разговор, не знал, как он мог одобрять или не одобрять ее поступки в столь деликатной сфере. Он не знал, рассказывать ей о том, что с ним произошло и что еще может произойти, или нет. Он боялся, что она испугается, а ей сейчас пугаться нельзя. Он рассчитывал все сделать самостоятельно, но, пока его не было в Москве, все так переменилось — квартира продана, мама ждет ребенка, а еще этот Виктор, который, непонятно почему, ведет себя у них в доме, как хозяин. Правда, мама говорила, что он им очень помог, но все равно — он ему противен, и ничего с этим не поделаешь… Может быть, это потому, что он только прикидывается добрым, а на самом деле?..
Ничего, думал Сережа, пока они в деревне, ему ничего не угрожает. Здесь они его не найдут. А когда они с мамой вернутся в Москву, он что-нибудь придумает. Или посоветуется с Денисом, которому, пока они были в клинике, он все рассказал. Время еще есть. Да и в Москве он теперь живет по другому адресу. Им придется сперва его найти, а на это уйдет время. А может быть, вообще все давно обошлось? Может, они нашли то, что искали, и теперь оставят его в покое? Ведь главное, это то, что никто, кроме него, не знает про маму, не знает, что это она убила отца. Какой он молодец, что сказал тогда менту, будто она весь день была дома вместе с ним. А теперь прошло столько времени, что никто ни о чем не догадается. Потому что он, Сережа, никогда и никому об этом не скажет.
А Наташа, обняв сына за плечи, думала: "Так будет лучше. Я не могла не сказать ему, кто отец ребенка — он должен знать. Но я не хочу, чтобы он думал о нем как о враге. Чтобы считал его виноватым… А он виноват? Он действительно виноват? Ведь я ничего толком не знаю о том, что произошло. Может быть, мне все это показалось? Может быть, я что-то неправильно поняла? — И тут же спустилась с небес на землю. — Нет, видимо, Ленка все-таки права — я неизлечимая идиотка. Если бы это было так, он бы уже давно меня разыскал. Если он не мог дозвониться, пока не работал телефон, дозвонился бы потом. Или приехал. Виктор бы объяснил ему, где меня найти. А раз Виктор ничего не сказал, значит, Филипп и не пытался это сделать. Надо перестать думать об этом, иначе я сойду с ума…"
В одну из суббот, часов в одиннадцать, когда они все вместе собрались на пруд, приехал Виктор. Сережа, увидев его, нахмурился и ушел в дом, едва кивнув. Лена, очень довольная его приездом, что-то восклицала по поводу привезенных им многочисленных пакетов с провизией и шампанским, а Наташа, стоя на ступеньках крыльца, молча и неловко улыбалась. Виктор как всегда вел себя по-хозяйски — вручал Лене пакеты, объяснял, что убрать в холодильник, а что оставить на столе, и при этом все время украдкой поглядывал на Наташу. Потом сказал, что не хочет ломать ничьих планов, и предложил идти купаться вместе. Сережа, многозначительно глядя на мать, сказал, что у него болит голова, и идти отказался наотрез, и когда Наташа, сняв с веревки полотенце, собралась вместе со всеми, прошептал, дернув ее за рукав:
— Мам, не ходи! Давай останемся дома.
— Сережа, я бы осталась, — проговорила она, — но это неудобно, как ты не понимаешь? И тебе нужно было бы пойти с нами — ты же хотел купаться?
Но Сережа остался. По дороге Виктор посвящал Лену в тайны евроремонта. Временами до Наташи доносились совершенно непонятные ей слова — стеклопакет, ламинат, компакт… Она щурилась, стараясь защититься от бившего в глаза полуденного солнца, и думала, что напрасно не осталась дома. Когда они подошли к пруду, она сказала, что купаться не будет, и, пока Лена с Виктором брызгали друг на друга водой, оглашая окрестности хохотом и дикими криками, сидела на пляже, устроившись как можно дальше от громкоговорителя, из которого неслась попсовая музыка, и наблюдала за маленькими детьми, игравшими на песке.
Поплескавшись у берега, Виктор поплыл на середину пруда, а Лена, не умевшая плавать, вылезла из воды и, постелив полотенце, легла возле нее.
— Сейчас немного позагораем и домой, обедать. Хорошо! — Она перевернулась на живот и подозрительно взглянула на подругу: — Слушай, Наталья, а что это ты не купаешься?
— Так, не хочется…
— Ты хоть со мной-то дурака не валяй! "Не хочется!" Тоже мне! До его приезда тебе, кажется, хотелось, а?
И почему это Сережа не пошел с нами?
— Сережа его не любит.
— Почему?
— Не знаю. Мы с ним никогда об этом не говорим.
— Так ты объясни ему, что значит воспитывать ребенка без отца, может быть, он поймет, что нельзя быть таким эгоистом! Ты куда?
— В тень. Очень жарко.
Разговоры о Викторе ее утомляли. Что она могла сказать? Что не любит его? Но до сих пор никто и не спрашивал ее ни о какой любви — Виктор ни разу не заговорил с ней о чувствах. А если заговорит? Что она будет делать? "Когда заговорит, тогда и подумаю", — сердилась на себя Наташа, которая не купалась только потому, что не хотела, чтобы Виктор смотрел на нее.
— Что-то ты не договариваешь, Герасим, — сказала Ленка, вставая и перетаскивая свое полотенце в тень следом за Наташей. — Что-то ты темнишь… Скажи честно, он тебе хоть немного нравится?
— Не знаю.
— Как можно это не знать? И вообще, ты собираешься устраивать свою жизнь?
Наташа молчала.
— Сколько раз я знакомила тебя с мужчинами! — воскликнула Лена. — А ты?
За несколько лет, прошедших после развода, ее подруги, отчасти жалея ее, отчасти из природной склонности к сватовству, действительно много раз пытались устроить ее судьбу.
— Не понимаю, какого рожна тебе надо? — возмущалась Татьяна Котова с ее работы, безуспешно пытаясь подсунуть ей очередного кандидата. — Нормальный мужик!
Наташа отмалчивалась. Она хотела не просто мужчину, не просто мужа. Она хотела встретить человека, посмотреть ему в глаза и в ту же секунду понять, что жизнь без него невозможна.
— Так бывает только в романах, — заявляла Татьяна. — Пока ты будешь ждать своего "прынца", тебе стукнет сорок, и тогда на тебя не посмотрит даже Петр Степаныч из хозяйственного отдела. Ну, что скажешь?
Что она могла сказать? Когда был муж, она любила его так, что ей казалось, отними его судьба, она не сможет дышать. А когда он ушел, дышать она, может, и не перестала, но если бы можно было одним усилием воли заставить себя умереть, она бы сделала это усилие, не колеблясь ни минуты, — несмотря даже на мать и на ребенка. И только потом, со временем, стала понемногу оттаивать, переключаясь на любовь к близким. Но все другое — трепотня с подругами, посиделки, танцы, оценивающие взгляды мужчин, их ухаживания, провожания домой, банальные разговоры — все это казалось ей скучным и пошлым.
"Вам красного, белого?" — спрашивал ее какой-нибудь Игорь Михайлович или Олег Петрович, приглашенный к Ленке на день рождения, заглядывая ей в глаза и под столом пытаясь прижаться коленом к ее ноге. Пить ей не хотелось, но, чтобы отвязаться, она отвечала: "Все равно!" Он наваливался на нее, пыхтел, качал головой, говорил: "Как это — все равно? Нет уж, вы скажите!"
Прикосновение его ноги было неприятно, отодвинуться — неловко. "Немного белого, совсем чуть-чуть", — говорила она, делая вид, что хочет дотянуться до блюда с фаршированными помидорами, и привставала, чтобы отделаться от назойливой конечности, но через пять минут все начиналось снова. "Мне надо позвонить", — бормотала она, вылезая из-за стола и, спиной ощущая его похотливый взгляд, выбиралась в темную прихожую, заваленную чужими пальто, портфелями и дамскими сапогами. "Откуда только Ленка берет столько народу?" — удивлялась Наташа, вытаскивая из-под груды чужой одежды свое дутое пальтецо, купленное в позапрошлом году на вещевом рынке в Лужниках, и спасалась бегством. Поздно ночью раздавался звонок, и Ленка усталым голосом рассказывала, как хорошо они посидели, и обиженно спрашивала, почему она так рано ушла.
— А я? — лениво отозвалась Наташа.
— Брось, пожалуйста! Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю.
— "Хороша я, хороша, да плохо одета… Никто замуж не берет девушку за это…"
— Да ну тебя! — с досадой бросила Лена и отвернулась. Из динамика неслось: "Ты ж мене пидманула, ты ж мене подвела-а, ты ж меня, молодого, с ума-разума свела!"
Вечером они сидели за столом на маленькой терраске. Была уже середина августа, и нежно-голубые краски неба на горизонте быстро сменялись фиолетово-розовыми. В траве стрекотали кузнечики, а со стороны леса время от времени доносился протяжный птичий крик.
— Что это за птица? — спросила Наташа.
Лена пожала плечами.
— Понятия не имею!
— Как странно она кричит, будто плачет…
— Может, это выпь?
— По-моему, выпь живет на болотах.
— Так тут полно болот! Потому и комарья столько. Зачем она тебе?
— Кто, птица? Не знаю, ни за чем… Почему-то эти звуки вызывают у меня чувство тревоги…
Виктор налил женщинам шампанское, а себе и Лениному отцу водки и спросил Сережу:
— Ну что, молодежь, выпьешь с нами?
— Я не буду пить, — буркнул Сережа и с ненавистью посмотрел на него.
— Ух, какой ты грозный! Ну, не будешь, так не будешь, — Виктор поставил бутылку на стол. — Хорошо-то как, а? Так бы и сидел, не вставал… Всё, решил: в будущем году буду строиться. Куплю землю километрах в ста пятидесяти и поставлю хороший сруб. Ну что, выпьем? — Он опрокидывал рюмку в рот, закусывал зеленым луком и смотрел на Наташу.
— Сруб — это, конечно, хорошо, — отвечала Ленка, — но сто пятьдесят километров — слишком далеко. Лучше купить хорошую дачку где-нибудь поближе к Москве, а то не наездишься…
— Можно и поближе, — соглашался он. — Только не дачку, а настоящий дом, зимний, в два этажа, с гаражом. — И опять косился на Наташу.
Когда старики ушли в дом, Лена сказала:
— Сережка, тебе спать не пора? Смотри, завтра все грибы проспишь.
— Не просплю, — сердито буркнул Сережа и уходить явно не собирался.
Они посидели еще немного, и Лена опять взялась за свое:
— Пошли, дружок, я тебе водички согрею — зубки почистишь и ножки помоешь.
Сережа посмотрел на мать:
— Мне уйти?
Наташа кивнула:
— Иди, Сережа. Я скоро приду.
Он встал и, не глядя на нее, вернулся в дом.
Наташа начала собирать посуду.
— Ну, нам тоже пора…
Виктор, не сводя с нее глаз, молча курил, и она различала в темноте вспыхивавший кончик его сигареты.
— Оставь ты эти тарелки, посиди. Может, тебе холодно?
— Нет, все в порядке.
— Ты, я смотрю, и не выпила ничего. Что так? — голос у него дрожал.
— Не знаю, не хочется.
"Какого черта, неужели я боюсь сказать ему правду? И неужели я действительно чего-то от него жду?" — пронеслось у нее в голове, и Наташа, разозлившись на себя, резко встала.
— Все, пора. Спать хочется, и комары кусают.
Наташа прихватила стопку тарелок и вышла из-за стола.
На следующий день, когда Виктор уехал, Лена спросила:
— Ну что?
Наташа пожала плечами:
— Ничего.
— Опять ничего? Ничего не сказал? Или ты сама не дала ему такой возможности? Я тебя знаю.
— А чего, собственно, ты ждала?
— Не валяй дурака: я же вижу — он сходит по тебе с ума. Ты замечаешь, как он на тебя смотрит?
— Да. При этом мне почему-то хочется спрятаться.
— Наташка, я тебя не понимаю! Честно говоря, и не хочу понимать. Если он тебе так не нравится, зачем ты его приручала?
Наташа вздохнула:
— Я не приручала, так получилось. Я же тебе рассказывала… Он помог с Сережей. Если бы не он…
— Вот видишь!
— Ты хочешь сказать, что человека можно полюбить из благодарности? Из одной только благодарности?
— Господи, "полюбить, не полюбить", разве об этом речь? Речь о том, что у тебя будет ребенок, и ты опять будешь растить его без отца?
— Что же я могу поделать?
— Но ведь ты позволила ему принимать участие в твоих делах, потом, уже после Сережи. Почему бы тебе не продолжить в том же духе?
— Ты права, я сама виновата, но что теперь делать? Я почему-то постоянно испытываю в его присутствии чувство неловкости, но как от этого избавиться — не знаю… Что касается ребенка, то одного я уже вырастила, справлюсь и со вторым.
— А на что, на какие шиши? С работы ты ушла, потому что не хочешь, чтобы они знали о твоей беременности. А если бы даже не ушла, все равно прокормить вас троих эта твоя работа все равно бы не смогла. Как ты будешь жить? Ты даже работать не сможешь — кто будет сидеть с малышом?
— У меня осталось немного квартирных денег, а дальше посмотрим. И давай прекратим этот разговор.
— Давай. Только обещай, что подумаешь, прежде чем ему отказать.
— Да он еще ни о чем меня не просил! — рассмеялась Наташа.
— Ну, за этим дело не станет, вот увидишь! Так обещаешь?
Наташа пожала плечами.
— Если тебе так хочется… Только, по-моему, он этого никогда не сделает.
Наташа ошибалась, и ей очень скоро предстояло в этом убедиться.
Лето подходило к концу, и в двадцатых числах августа они вернулись в Москву. Надо было устроить Сережу в школу, потому что возвращаться в старую он не хотел, да и Наташа, которая после переезда страшно тосковала по родным местам, вдруг поняла, что ей гораздо лучше быть там, где ее никто не знает. Теперь, когда не было Зинаиды Федоровны, ей было бы тяжело видеть их старый дом, где прошла вся ее жизнь, и встречать знакомых. Беременность ее еще почти не была заметна, но через несколько недель, когда уже ничего нельзя будет скрыть, ей пришлось бы объясняться с каждым, кто захочет поговорить с ней об этом: "Наташа, вы в приятном ожидании, я не ошибаюсь?" или: "Наташа, неужели? Я так рада за вас!" И дело было не в том, что она стыдилась своего положения — больше всего на свете она боялась, что ее будут жалеть. Даже Лену Кораблеву она видела теперь довольно редко. Вернувшись из деревни, та начала работать, и времени на Наташу у нее почти не оставалось. Пару раз к ним заезжал Аркадий Николаевич. Он играл с Сережей в шахматы, и Наташа поила их чаем. И только Виктор по-прежнему регулярно приходил к ним в дом.
Была уже вторая половина сентября, когда, заглянув к ней, как обычно, в субботу, Виктор сказал:
— Завтра мы с тобой идем в ресторан. И никаких отговорок — у меня день рождения. Посидим, потанцуем, а то все дома да дома. О’кей?
Деваться было некуда, и она согласилась.
— В чем мне пойти? — спросила она Лену, которая зашла к ней на следующий день.
— Надень черное платье.
— То самое? Нет.
— Почему? Ты в нем потрясающе выглядишь. Наташка, я понимаю, о чем ты думаешь, но нельзя же жить одним прошлым! Ты не можешь, ты просто не имеешь права оставаться одна! Уверяю тебя, все устроится, все будет хорошо. Что с тобой? — Она подошла к Наташе. — Ну прости меня, не плачь, у тебя будут красные глаза. — Лена протянула ей платок. — Ну вот, молодец… Можно подумать, тебя ведут на заклание. Давай, одевайся, а то опоздаешь.
И Наташа первый раз после возвращения из Парижа надела черное платье. Лена оглядела ее фигуру:
— Ну-ка, покрутись! Потрясающе! И почти ничего не заметно. Теперь попудрись, а то на тебя смотреть страшно. И подкрась губы. Вот так. Наташка, помяни мое слово — сегодня он расколется. Любой бы мужик на его месте… Все, молчу, молчу. И ухожу. Уже без четверти семь, он сейчас придет.
Ресторан, в который Виктор пригласил Наташу, посещали новые русские. В вестибюле, в огромном аквариуме, над извивающимися в подсвеченной воде актиниями, похожими на гигантские живые хризантемы, плавали маленькие разноцветные рыбки.
Они устроились около огромной пальмы: ее растопыренные лапы нависали над их столом. В противоположном углу играл небольшой оркестр, под звуки которого несколько пар топтались на круглой площадке в центре зала.
— Потанцуем? — предложил Виктор.
Танцевали молча. Наташа через его плечо смотрела то на оркестр, то на официантов, пробегавших по залу с подносами в руках, то на танцующие пары, а Виктор, прижимая ее к себе, жарко дышал ей в ухо.
— Ты опять не пьешь? — спросил Виктор, обиженно взглянув на ее бокал. — Это такое вино, обалдеешь! Хоть попробуй!
"Я должна ему сказать. Сейчас. Прямо сейчас".
— Я предупреждала, что не пью.
— Выпей хоть немного. Попробуй. Ты такого вина никогда не пила.
Наташа сделала один глоток — вино действительно было очень вкусное, и она вспомнила, как в Париже, когда они с Филиппом первый раз были в ресторане, он спрашивал ее, что она будет пить, и она никак не могла втолковать ему, что ничего не понимает в винах, и он ужасно смеялся…
— Ну как? — спросил Виктор, заметив, что она улыбается.
— Очень вкусно, — сказала Наташа, и ее улыбка погасла.
Потом они танцевали еще и еще. Он все крепче прижимал ее к себе, а она закрывала глаза, пытаясь хотя бы на мгновение представить, что танцует с Филиппом. И вдруг он сказал:
— Наташа, выходи за меня, а? Выходи, ей-богу!
"Вот и дождалась. Почему я до сих пор не сказала ему, что жду ребенка? Разве я могу сейчас сказать ему об этом? Что же делать? Просто отказать, ничего не объясняя? Прийти с ним в ресторан и… Боже, разве я теперь обязана выходить за него замуж? Конечно, нет. Я свободный человек… да, совершенно свободный, что бы ни говорила Ленка… Или все-таки она права? И действительно ли я так не хочу этого?.. Я давно должна была все ему рассказать… Должна? Почему — должна? Если я ему нужна, то… Нет, не то, не то, Боже мой…"
Все это вихрем пронеслось у нее в голове. Слегка отстранившись от него и посмотрев ему в глаза, Наташа сказала:
— Виктор…
— Я уже сорок три года Виктор. Ты скажи: да или нет?
— Виктор, пожалуйста… Я… я сейчас ничего не могу сказать. Нет, не перебивай. Мне и так нелегко. Я очень благодарна тебе за все, что ты для меня сделал. Не перебивай, прошу тебя… Но… дать тебе ответ сейчас я не могу…
— Почему?
— Потому что все это очень неожиданно. И потом, ты сам знаешь, что за последнее время столько всего произошло… Я сейчас просто не готова говорить об этом. Подожди немного.
— Сколько?
— Не знаю, хотя бы несколько дней.
— Ладно, валяй, — он был обижен. — Но имей в виду, завтра я уезжаю в Волгоград по делам. Вернусь через десять дней, и тогда ты дашь мне ответ. Лады?
Когда они вернулись к столику, говорить было уже не о чем. Виктор выглядел обиженным и не скрывал этого, а Наташе хотелось одного — поскорее уйти. Гардеробщик, подобострастно изогнувшись, подал ей плащ и, получив от Виктора чаевые, приподнял форменную фуражку. Когда они подошли к машине, Наташа сказала:
— Знаешь, не нужно меня провожать — я, пожалуй, пройдусь. Спасибо тебе и… не обижайся, хорошо? — она улыбнулась.
— Да я не обижаюсь, чего там. Но только помни: как вернусь — приду за ответом. Так что ты подумай.
"Вот и дождалась, — думала Наташа по дороге к метро. — И что я теперь буду делать? И почему я так боюсь сказать ему "нет"?.. Я не боюсь, мне неловко. Мне просто неловко. И мне не хочется его обижать. В конце концов, я стольким обязана ему. Если бы не он, Сережа мог бы погибнуть. Он помог с квартирой, помог с похоронами. Он сделал для меня то, чего не сделал бы никто. Наверное, он действительно меня любит. За что же я буду его обижать?.. Что значит "обижать"? Не выходить же мне за него замуж только потому, что я испытываю к нему чувство благодарности? Или я вру самой себе?
Или на самом деле я бы хотела выйти за него, но просто не знаю, как сказать ему о ребенке? Гордость не позволяет? Боже мой, какая гадость… Все это не так. А как? На самом деле, я не знаю, как поступить. Может быть, надо просто честно сказать ему, что у меня будет ребенок, что если он готов жениться на женщине с двумя детьми, то… А я, я сама, готова к этому? Я же не люблю его. Ну и что? Я же знаю теперь, что бывает, когда выходишь замуж за того, кого любишь. Дело не в этом: тогда мне просто не повезло… Да, мне не повезло. Два раза. Может, Ленка права? Может, она права, когда говорит, что надо выходить замуж не за того, кого любишь, а кто надежен, кто не подведет? И как, действительно, мы будем жить? Сережа хочет подрабатывать, но это же безумие, ему надо учиться… А денег нам хватит совсем ненадолго. И что потом?.. Потом как-нибудь, с Божьей помощью, проживем. Жили же как-то до сих пор. К тому же Сережа его не любит. Не любит или ревнует? Все равно, разве я могу выйти замуж за Виктора, если Сережа этого не хочет? Я с ним поговорю, сегодня же. Я должна понять, что он имеет против него. Может быть, не надо было рассказывать ему про развод? Может быть, он теперь просто боится? А я сама? Неужели я могу выйти за него замуж? Неужели это возможно? Я же его не люблю, не люблю, не люблю…"
Она спустилась в метро и, выйдя на платформу, увидела пожилую пару, выходящую из вагона. В мужчине, одетом в светлый полотняный костюм и панаму, она узнала профессора Меретинского, который когда-то на ее факультете читал теорию литературы.
— Здравствуйте, Леонид Евгеньевич, — сказала Наташа. — Здравствуйте, — добавила она, поклонившись старушке.
— Здравствуйте, — Меретинский приподнял панаму и галантно поклонился. — Позвольте… э-э…. — профессор поднял указательный палец, — позвольте… Лиеви-на… э-э…
— Наташа Лиевина.
— Да-да, Наташа Лиевина. Совершенно верно. Я помню, как вы отвечали мне… э-э… жанровые системы. И получили "отлично", я не ошибаюсь? Это было э-э… в 1981 году и вы тогда были… в интересном положении, не правда ли?
— Да, Леонид Евгеньевич, у вас прекрасная память.
— И что же: у вас сын, дочь?
— Сын.
— Вот как! Молодой человек. Ну что же… прекрасно, прекрасно. И ему уже, стало быть, э-э…
— Тринадцать лет, — подсказала Наташа.
— Тринадцать, — профессор помолчал, задумчиво глядя куда-то вдаль. — Что ж, прекрасный возраст, прекрасный возраст… А что же вы, Наташа Лиевина, пригодилось ли вам в жизни знание жанровых систем?
— Боюсь, что нет, профессор: толку из меня не вышло, — улыбнулась Наташа и немного рассказала о своей работе в институтской библиотеке. И вдруг подумала: "Что, если я спрошу его?.."
Она собралась с духом и выпалила:
— Скажите, Леонид Евгеньевич, вы случайно не знакомы с Филиппом Левеком?
Меретинский переспросил:
— Филипп… как вы сказали?
— Филипп Левек.
— Ах, да! Филипп Левек… Да, с Филиппом Левеком я знаком. Очень приятный молодой человек! — Меретинский, которому перевалило за восемьдесят, всех мужчин моложе пятидесяти, именовал "молодыми людьми". — Мы не так давно познакомились… э-э… позвольте, в апреле, у Николая Константиныча, на юбилее, ты помнишь, Маша? — Он повернулся к жене.
— Конечно, помню! Он так заразительно смеялся, когда ты рассказал эту историю про Достоевского и Огарева, — сказала старушка.
— Да-да! Ха-ха-ха! — Оба рассмеялись при приятном воспоминании. — Так вы тоже знакомы с Филиппом Левеком? — профессор опять обратился к Наташе.
— Да, мы познакомились, случайно…
— Ведь он, кажется, русского происхождения? — спросил Меретинский.
— Его бабушка была русской.
— Да-да, совершенно верно, он что-то рассказывал в этом роде. Он прекрасно говорит по-русски… Ну что же, Наташа Лиевина, будьте здоровы! — профессор приподнял панаму и улыбнулся.
— До свидания, всего хорошего! — Наташа покивала профессору и его супруге и побежала к поезду.
"Осторожно, двери закрываются! — произнес механический голос. — Следующая станция — "Охотный Ряд"". За окнами вагона замелькал перрон, пассажиры, потом поезд, громыхая по рельсам, въехал в тоннель, а Наташа все стояла, машинально держась за поручень, и повторяла про себя: "Так вы тоже знакомы с Филиппом Левеком?" Да, она знакома с Филиппом Левеком. Скоро будет уже пять месяцев, как она с ним знакома.
"Пять месяцев… Боже мой… Как давно я не видела его… Что же это было? Я решила, что он лгал мне. Почему, почему? Как это все произошло? Сейчас я вспомню. Вспомню. Я обернулась и увидела, как он говорит с этим человеком, там, в аэропорту, и решила, что… Почему я так решила? Ведь он мог заговорить с ним случайно? Или нарочно, если видел, как этот тип что-то передал мне? Как же это тогда не пришло мне в голову? Нет, нет, надо вспомнить, почему я была так уверена, что он замешан в этой истории. Прежде всего, он взял у меня деньги и сказал, что я не должна везти их через границу. И был прав: если бы у меня их нашли, я бы, наверное, была уже где-нибудь далеко, потому что вместе с деньгами у меня наверняка нашли бы и конверт, а что там было — неизвестно… И потом, он же сказал тогда, что мне надо вначале выяснить, что это за деньги, и, если с ними окажется все в порядке, он привезет их в Москву. Значит, дело не в этом. Что было дальше? Дальше я вспомнила, что он все время был рядом со мной, начиная с Шереметьева. Сперва в очереди на регистрацию багажа, потом в самолете. Могло это быть простым совпадением? Конечно, могло. А потом? Потом, когда мы прилетели, он достал сверху мой багаж, в том числе и пакет со свертком, и подал мне. И в этом тоже нет ничего особенного, потому что французы всегда очень вежливы. Потом, он наверняка был где-то рядом, когда я получала эти деньги, но это тоже ничего не доказывает: мало ли почему он мог оказаться рядом в этот момент? И все? Нет, не все. Когда он провожал меня, он не дошел со мной до конца, и я решила, что он сделал это специально, чтобы тот человек мог спокойно подойти ко мне. На самом деле это все могло быть не так. Нет, не надо торопиться. Почему я сейчас решила, что ошибалась, что он ни в чем не виноват? Потому что он действительно знаком с профессором Меретинским? А тогда? Тогда я говорила себе, что про профессора Ме-ретинского он все выдумал, потому что мой бывший муж научил его этому, зная, что я всегда восхищалась им. Для чего? Чтобы "войти в доверие", как говорят мошенники? Значит, я ошибалась. А мой бывший муж, когда мы встретились с ним ночью в день моего приезда, сказал… как же он сказал? Он спросил, чем я недовольна, ведь я получила деньги? Да, да, он спросил именно так. Почему же я… что я ему сказала? Я помню, я не ответила ему "из гордости", я решила, что это насмешка! Что он все знает про Филиппа и смеется надо мной. А сейчас? Сейчас мне это насмешкой уже не кажется? Если бы он знал, что деньги у меня кто-то забрал, он бы не стал спрашивать, я уверена: он был подлецом совсем иного склада… И зачем было давать мне деньги, чтобы потом отобрать? Почему же тогда я не понимала всего этого? Какое затмение на меня нашло? Стоп, стоп, не рано ли я радуюсь? Предположим, что все происшедшее было сплошной чередой случайностей и совпадений, предположим, что Филипп действительно никакого отношения к этой истории не имеет, а я просто сошла с ума. Почему же тогда он не разыскал меня? Да, вначале не работал телефон, а он не работал до самого переезда, но потом? Он же мог позвонить потом? Позвонить и поговорить с Виктором? Наконец, он собирался через месяц после нашей встречи быть в Москве. Мог же он предположить, что у меня действительно не работает телефон? Ведь он не оставил мне ни адреса, ни телефона, то есть он знал, что я сама не могу с ним связаться? Или он позвонил несколько раз, а потом ему это надоело? Что я могу знать о его чувствах? Разве можно когда-нибудь быть уверенной в чувствах другого человека? Мне казалось, что он любит меня, но на самом деле что я могу об этом знать? У меня ведь есть кое-какой опыт, я знаю, как это бывает… А что, если он звонил и действительно говорил с Виктором, а Виктор из ревности… Ерунда! Нет, не может быть. Да и откуда бы Виктор мог догадаться, какое отношение ко мне имеет Филипп? Вряд ли Филипп стал бы что-нибудь рассказывать постороннему человеку. Все равно, надо у него спросить. Может, он просто забыл мне сказать, не придав этому звонку значения?"
Выйдя из метро, Наташа медленно шла вдоль трамвайных путей по направлению к дому. Было уже совсем темно, и ветер, не сильный и еще довольно теплый, гнал по асфальту сухие листья. "Никогда мне не узнать, что произошло. Никогда". Наташа понимала, что даже если Филипп и звонил, то теперь все равно уже поздно. У нее не было ни адреса, ни телефона, да и не стала бы она сама искать его. И только одна мысль не давала ей покоя: почему она не встретила профессора Меретинского раньше? Ей не было бы так страшно тяжело все это время, она бы не чувствовала себя такой униженной, никому не нужной. Она вспомнила, как летела из Парижа, какую страшную ночь провела дома в день приезда и все, что случилось потом… Она сама, сама во всем виновата, ведь все могло сложиться по-другому! Когда Виктор придет, она спросит его, конечно, но… ах, Господи, ведь он придет совсем по-другому поводу, он придет за ответом. Ну что ж, теперь она знает, что ему сказать.
Прошло несколько дней, и как-то утром, когда Сережа ушел в школу, Наташа решила съездить в свой старый дом в Сивцевом Вражке, повидать Людмилу Ивановну. "Когда родится ребенок, мне будет не до визитов, — подумала она. — Да и Виктора я сегодня не встречу, он еще наверняка не приехал".
Через полтора часа она уже выходила из поезда на станции "Кропоткинская".
— Здравствуйте, тетя Люда, — сказала Наташа, когда Людмила Ивановна открыла ей дверь..
— Ах, Господи, Наташа! Входи, входи скорей! Куда ж ты пропала?
— Пропала, тетя Люда, так получилось…
— "Получилось", — передразнила Людмила Ивановна. — Что ж хорошего, что получилось? Вешай свой плащ сюда, — она показала на прибитый к дверному косяку крючок. — Тебя тут разыскивали-разыскивали, а мне и сказать-то нечего: куда делась, куда пропала?
— Кто разыскивал?
— Да приходил такой, интересный, француз, что ли…
Наташа почувствовала, как у нее слабеют колени.
— Когда, тетя Люда?
— Да, Господи, когда… Недели две-три как вы переехали, точно не помню…
— И что вы ему сказали?
— Что сказала, да то и сказала: мол, переехали, квартиру продали и переехали. Уж он убивался, бедный! Говорит, звоню, звоню, никто не подходит, вот сам и приехал. А я ему: телефон-то, говорю, у них не работал. Ну и рассказала ему: говорю, так, мол, и так, мать у ней заболела и сынок тоже, а почему квартиру продали и куда переехали — не знаю. Ты бы хоть позвонила, сказала, что да как, или Зина бы позвонила, если тебе некогда….
— Тетя Люда, разве вы не знаете? — спросила Наташа и добавила совсем тихо: — Мама ведь умерла.
— Ой, Господи, ты что говоришь-то? — Людмила Ивановна перекрестилась. — Откуда ж мне знать, что ты? Когда?
— Двадцать первого июня. Разве Виктор вам не сказал?
— Упокой, Господи, ее душу… — Она опять перекрестилась. — Никто ничего не сказал… Какой Виктор?
— Который живет в нашей квартире…
— Не сказал, ничего не сказал. Я его и видела-то всего один раз.
— Я просила вам передать, думала, вы, может быть, захотите прийти проститься…
— Ах, Господи, да как же это? Конечно, пришла бы, а как же? Сколько лет рядом прожили… Ах, Господи, как же так? Упокой, Господи, ее душу… Какая она хорошая была женщина, ты бы знала! Что, сердце прихватило?
— Да, тетя Люда, сердце.
— Ну, хоть она не страдала… Мне Зина-то сколько раз говорила: только бы умереть сразу, не болеть, а то уж больно обузой быть не хочется. Вот Бог и дал. Ах ты, Господи… вот в чем дело-то… А я смотрю, не позвонит никто, не зайдет, не скажет. Ну, думаю, пропали. Ты сама-то как? Тебе теперь без матери…
— Да, тетя Люда, — Наташа сделала усилие, чтобы не расплакаться. — Вы-то сами как живете? Не болеете?
— Да в мои годы жаловаться-то грешно: жива, да и ладно. Тут поболит — пройдет, там поболит — пройдет. Ничего, я не жалуюсь.
— Слава Богу, что не болеете… Он мне никакой записки не оставил?
— Записки? Ах, Господи, да что ж это я? Оставил, оставил, погоди, — Людмила Ивановна бросилась к комоду, бормоча на ходу: — Памяти-то совсем не стало, что ты будешь делать! Вот, — она достала сложенные листки. — Что оставил, все сохранила. И ему сказала: пишите, мол, все передам. На вот, бери.
Наташа взяла письмо, рука ее дрожала. Она развернула листочки и, когда начала читать, ей показалось, что она слышит его голос: "Любимая, я приехал… твой телефон… старая дама, твоя соседка… буду ждать…" Слова мелькали у нее перед глазами, и от волнения она не могла связать их в единое целое, но одно было ясно — он не забыл, не предал ее. Она принялась перечитывать письмо. Да, она была несправедлива к нему: он не мог дозвониться и приехал, и искал ее, и не мог найти. "Je t’ai cherchée, mon amour, mais je ne t’ai pas trouvée"[11],— вспомнились ей строчки из любимого когда-то в юности стихотворения Превера. Но почему как-то странно обрывается последняя фраза? Наверное, тетя Люда дала ей не все?
— Тетя Люда, посмотрите, пожалуйста, нет ли еще листочков? Здесь не все, должен быть конец.
— Не все, говоришь? Не знаю, что было — все дала. Вот, смотри, — она снова выдвинула ящик комода, достала жестяную коробку, в которой хранила письмо, и открыла ее. — Вот! Что было, то дала. А больше у меня ничего нету.
— Тут не хватает листочка — видите, слово обрывается… а должен быть телефон или адрес.
— Что ты будешь делать? — разволновалась Людмила Ивановна. — Наташа, вот говорю тебе как есть: он мне это письмо дал, я его на стол, вот сюда, — она показала, — положила. Я это вот как сейчас помню. Еще жилец-то новый приходил, выключатель мне починил. Вот здесь и сидел. И письмо вот тут под вазочкой лежало. А как ушел, так я это письмо в комод-то и спрятала. И с тех пор я его и не видела даже, письмо-то это. Мне оно зачем? Я положила, сохранила, все, как он просил. А телефон там должен быть: он мне еще говорит, я, мол, телефон и адрес тут записал. Так что как только позвонит, так вы ей сразу письмо-то и отдайте. Я все помню, вот как вчера. И как сидел тут, чай пил со мной. Я его чай-то позвала пить, а к чаю у меня варенье прошлогоднее, которое еще Катя варила, из своего крыжовника. Ну, я ему и говорю, что, мол, чай-то не с чем пить. А уж он потом вернулся и целую сумку мне принес: и хлеб, и пастилу разную, и конфет, и шоколад… — Людмила Ивановна засмеялась, — я его и не ем-то, шоколад этот. И еще, говорит, в июле приеду. Да, в июле. Обязательно, говорит, приеду. Я ему: приезжайте, они небось к июлю-то объявятся. А оно вон как вышло. Не знаю, почему не приехал. А еще деньги дал, — вспомнила Людмила Ивановна. — Только вот не пойму, что за деньги? Я их понесла в этот, пункт, как его, а они говорят: мы, бабуля, такие деньги не меняем, мы только доллары. Идите, говорят, в банк. Так что не пойму, что за деньги такие! — Она опять открыла комод, достала пятисотфранковую бумажку, оставленную ей Филиппом, и протянула Наташе.
— Это французские деньги, тетя Люда, их вам в сберкассе обязательно поменяют. Вы за них получите около двух тысяч.
— Да что ты? Вот спасибо… А ты что же, уходить собралась?
— Да, тетя Люда, пойду.
— Куда ж ты собралась-то так рано, не успела прийти и уже уходишь. Ты как живешь-то? Поправилась ты, что ли, не пойму… — Она оглядела Наташину фигуру.
— Нет, тетя Люда, я жду ребенка.
— Да что ты? Вот радость-то… А я смотрю, вроде ты располнела. Да как же ты, замуж, что ли, выходишь?
— Нет, тетя Люда, не выхожу. Я пойду, хорошо? Мне пора.
— Да ты постой, как же ты?.. Ах, Господи, ты ребенка-то от него, что ли, ждешь? От француза этого?
Наташа кивнула, ее душили слезы.
— Да как же ты… — суетилась Людмила Ивановна, — так и пойдешь?
— Да, пойду. Спасибо вам.
— Чего спасибо-то? Ты напиши ему или адрес хоть оставь. Или телефон. Вдруг приедет еще?
— Нет, больше уже не приедет. Если в июле не приехал, как обещал, значит, уже не приедет… А телефона у нас пока нет… — Она отступила к двери, ей хотелось скорее уйти.
— Где живете-то? — спросила Людмила Ивановна, открывая ей дверь.
— "Улица Подбельского", — ответила Наташа, уже стоя на площадке.
— Это где ж такое?
— Конечная остановка, за Сокольниками.
— Далеко-то как!
— До свидания, тетя Люда, смотрите, не болейте.
— Ты заходи, не забывай! Как Сережа-то?
Но Наташа уже спускалась по лестнице, слегка опираясь о стену, на которой сквозь толстый слой масляной краски проступала процарапанная детской рукой старая надпись: "Наташа дура". Да, она дура. Она напридумала Бог знает чего и потеряла его. И на сей раз — навсегда.
Она вышла из подъезда и бросилась к метро. "Скорее уйти отсюда, пока не встретился никто из знакомых.
Скорее уйти, не видеть этих домов, деревьев, дворов. Все забыть. Прийти домой, лечь, закрыть глаза и постараться ни о чем не думать, не вспоминать, не сожалеть, не загадывать. И не пытаться понять. Теперь все равно. У нее больше нет сил, она устала, Боже, как она устала от всего этого. За несколько месяцев она пережила столько, сколько иным людям не выпадает пережить за целую жизнь. Ничего, сейчас она придет домой и успокоится. Ведь ничего не произошло, абсолютно ничего — почему же ей так больно? Еще недавно она жила с мыслью, что он обманул ее, унизил, бросил. И ничего. Она жила, ведь она жила с этим и собиралась жить дальше. А теперь она знает, что никто ее не предавал и не обманывал. Чего же еще?"
Наташа пыталась успокоиться, взять себя в руки, но мысль о том, что он был здесь, был так близко от нее, был, возможно, в тот момент, когда она больше всего нуждалась в нем, и не нашел ее, и теперь она никогда, никогда больше не увидит его, а он никогда не узнает, что у них будет ребенок, терзала ее сердце. Внезапно она остановилась.
"Виктор. Он наверняка что-то знает. Не может быть, чтобы Филипп, который зашел к Людмиле Ивановне, не пытался что-то выяснить обо мне в квартире, где я раньше жила. Этого просто не может быть. Неужели Виктор?.."
Эта мысль уже как-то приходила ей в голову, но она отогнала ее, потому что подозревать кого-то в том, чего она сама никогда не могла бы совершить, казалось ей недостойным, но теперь… Что сказала тетя Люда? Что Виктор приходил к ней на следующий день после Филиппа. Да, кажется так. Он приходил, чтобы что-то починить. И больше, сказала тетя Люда, она его не видела.
Когда же это было? Тетя Люда сказала, что недели через две-три после того, как они переехали. Значит, примерно тогда, когда умерла мама. "А ведь я просила его сказать ей об этом, я даже объяснила ему тогда, что мама прожила рядом с ней пятьдесят лет, что она не чужой нам человек. Почему же он ничего не сказал? И совершенно неважно, когда он у нее был — до или после смерти мамы, — важно, что я просила его об этом, а он почему-то этого не сделал, хотя и познакомился с ней. Да вовсе и не надо быть знакомым для того, чтобы выполнить такое поручение. Да, и что-то еще… Что-то еще она сказала о его приходе. Ну, конечно! Она показала на стол и сказала: вот тут он и сидел. Да-да, он чинил выключатель. А письмо лежало на столе, в самом центре, она еще показала — вот здесь. И если Виктор что-то знал о Филиппе, то есть если Филипп искал меня по прежнему адресу, а иначе и быть не могло, значит, Виктор знал, наверняка знал. И что? Увидел письмо и вытащил один листок? То есть прочитал его, все понял и вытащил самое главное, то есть адрес и телефон? Как это может быть? Этого просто не может быть!
Нет, подожди, не спеши, — говорила она себе, — ты должна все спокойно обдумать. Ты уже наделала столько глупостей, что давно пора остановиться. Откуда Виктор мог знать, что Филипп был у тети Люды? Не мог он этого знать".
И вдруг она вспомнила, что через глазок прекрасно видна дверь Людмилы Ивановны.
"Прежде чем зайти к тете Люде, Филипп наверняка позвонил в нашу квартиру. Если он все рассказал ей, то вполне мог что-нибудь сказать и Виктору. Значит, Виктор все знал про наши отношения или, по крайней мере, догадывался и видел через глазок, что Филипп пошел к ней. Значит, когда он был у нее, он увидел письмо и понял, от кого оно. И если он был способен соврать Филиппу, что не знает, где я, то почему бы ему не прочитать письмо? Тем более что это всего несколько маленьких страничек. И если он его прочитал, то прекрасно все понял, а главное, сообразил, что без адреса и телефона мне его никогда не найти. Значит, совершенно ясно — все это происходило до смерти мамы. Он не мог допустить, чтобы я увиделась с тетей Людой, потому что иначе она бы рассказала мне все… И скрыл от нее, что мама умерла. Неужели? Неужели это может быть? Не насочиняла ли я опять страшных историй? Ведь один раз со мною это уже было? Может быть, вернуться и еще раз ее расспросить? Нет, не хочу копаться в грязи. Я просто спрошу у него сама, когда он придет. А ведь он придет за ответом…"
Начались дожди, похолодало, но топить еще не начали, и когда в следующую субботу пришел Виктор, Наташа куталась в старый шерстяной платок, который раньше принадлежал ее матери. Он, как всегда, протянул ей цветы и пластиковый пакет с бутылкой шампанского. Наташа почувствовала, что если сейчас, сразу, ничего не скажет, то потом уже никогда не сможет этого сделать. И еще она подумала: "Если я спрошу его, он солжет". Она посмотрела ему в глаза и тихо сказала: "Я виделась с Людмилой Ивановной. Я все знаю", — и по тому, как изменилось его лицо, поняла, что, подозревая его, была права.
— Вот, значит, как, — сказал Виктор и что-то пробормотал про себя. Наташе показалось, что он выругался. — И что ты знаешь?
— Все. Я знаю, например, что ты вытащил из письма, которое лежало на столе, страничку с адресом. Ты сказал Филиппу, что не знаешь, где меня искать. Ты не сказал Людмиле Ивановне, что умерла мама, потому что не хотел, чтобы…
— Ну, ладно, хватит! Никаких писем я не читал, ничего ниоткуда не вытаскивал, про похороны сказать забыл, потому что бегал высунув язык по твоим делам, за что ты сейчас мне и говоришь спасибо. А соседку твою я видел только один раз: зашел к ней, чтобы посмотреть проводку, а она мне про свое — мол, кран течет. Я кран ей починил, как дурак, а за это она про меня, значит, такое наговорила. А ты поверила.
"Он даже не спросил, кто такой Филипп. Он лжет", — подумала она и сказала:
— Я не верю ни одному твоему слову.
— Не веришь? А что ж ты раньше верила, когда тебе это было нужно?
— Боже мой…
— Когда твоего пацана надо было найти, верила? Когда квартиру хотела продать, верила? Мать похоронить — я пригодился? А сейчас что — ничего не нужно, раз ты мне такое говоришь? — Он шел за ней по коридору, пока она не вошла в комнату и не села на диван.
— Я уже говорила: я всегда буду тебе благодарна…
— Да что мне от твоей благодарности? Что я ее, спать с собой, что ли, положу, твою благодарность? Я вот квартиру твою купил, чтоб тебя выручить, а ты спросила, легко ли мне это было? Может, я на этом деньги потерял?
— Ты же сам предложил… Ты говорил, что все равно ищешь себе жилье…
— Мало ли что я говорил! Я же видел, что тебе деньги нужны, вот и предложил, чтобы тебя выручить. А теперь вот вижу, какая у тебя благодарность.
— Ты что, не понимаешь? — она не верила своим ушам. — Я потеряла маму. Она умерла от тоски, понимаешь, от тоски! Я продала квартиру, чтобы спасти своего сына. Если бы… если бы я знала, что… что… — она не договорила, — может быть, всего этого и не случилось бы… А ты, ты даже не понимаешь, что ты сделал… И зачем, Господи, зачем? — она всхлипнула и закрыла лицо руками.
Виктор положил цветы и пакет на стол, подошел и встал рядом с ней на колени.
— Выходи за меня, а? — Он попытался взять ее за руки, но Наташа отстранилась:
— Это невозможно.
— Почему?
— Человек, который меня искал и которого ты обманул… я люблю его.
— Ну и ладно! Все равно выходи. Я для тебя все сделаю, все, что захочешь. Люби его, а выходи за меня. Не пожалеешь. Зачем он тебе? Хочешь за границу? Я тебя отвезу, куда скажешь. — Он попытался обхватить руками ее колени. Наташа оттолкнула его и встала.
— Нет. Нет. Это невозможно.
— Почему? — он снова подошел к ней и снова попытался ее обнять. — Почему невозможно? Все возможно, если только ты захочешь… Ты только скажи, слышь, я все сделаю… Денег у меня много… Хочешь, уедем куда-нибудь? Хочешь, за границу поедем? А нет, так у моей матери дом под Волгоградом: сад, яблони, вишни. Ты у меня как королева будешь жить… Ни в чем тебе отказа не будет…
— Пожалуйста, не надо. Оставь.
— Я люблю тебя, слышь, люблю…
— Зачем ты это сделал?
— Что ты понимаешь? Сделал, не сделал… Что ты в этом понимаешь? Я для тебя все, что хочешь… а он даже найти тебя толком не смог. Ну какой он мужик после этого? Одно слово — француз… Зачем он тебе? Ты лучше на меня посмотри, не отворачивайся. Ну, чем я плох? Слышь, ты скажи, чем я для тебя плох?
Наташа посмотрела ему в глаза.
— Если ты хочешь что-нибудь для меня сделать, если хочешь, чтобы мы остались друзьями, верни мне его адрес и телефон.
— Да говорю же, нету у меня адреса, понимаешь, нету! А был бы — все равно бы не дал. Вот наказание! — Он отошел от нее и сел на стул.
Наташа тихо проговорила:
— Больше мне ничего не нужно…
— Это ты сейчас думаешь, что не нужно. А когда станет нужно, что будешь делать, ты подумала? Смотри, не пожалей… Позовешь — поздно будет.
Наташа отвернулась.
— Уходи.
— Я-то уйду… а ты-то вот с кем останешься?
— Прошу тебя, уходи.
Наташа встала и открыла дверь.
Виктор взял со стола букет и шампанское, вышел в коридор, подошел к входной двери, сунул цветы под мышку, чтобы освободить руку, повернул собачку замка и, не оборачиваясь и не произнося ни слова, вышел из квартиры. Наташа постояла несколько секунд, потом вернулась в комнату, поправила на столе скатерть, села на диван и откинулась на кожаную спинку. "Ну вот и все", — подумала она и закрыла глаза.
Прошло четыре дня. Наташа ждала Сережу из школы. Когда старые настенные часы, которые она недавно починила, пробили пять, она еще не начинала волноваться, потому что Сережа предупредил ее, что задержится в школе после уроков. В семь было уже темно, и она подумала, что пора бы ему вернуться, когда услышала звонок в дверь. "Иду!" — крикнула она и пошла открывать. Перед ней стоял Денис Копылов, которого она не видела со дня их возвращения из клиники.
— Здравствуй, Денис! — сказала Наташа. — Сережи еще нет, но ты проходи. Он сейчас придет.
— Теть Наташ, он не придет! — выпалил Денис, который долго придумывал, как сообщить ей новость, которую принес, так, чтобы она не испугалась, но так ничего и не придумал.
— Как не придет? — только сейчас она заметила, что мальчик взволнован. Она почувствовала, что у нее холодеют ладони, и тихо повторила: — Как не придет?
— Теть Наташ, вы не бойтесь! Я знаю, где он. Я поеду с вами. — Заметив, что она побледнела, Денис быстро проговорил: — Он жив, с ним все в порядке.
— Где он?
— Он у этих, которые его прошлый раз…
— Господи… Откуда ты знаешь?
— Он позвонил нам — у вас телефона-то нет! И потом, я про него все знаю, он мне в больнице все рассказал.
— Что рассказал?
— Он просил, чтобы я вам все объяснил и поехал с вами на старую квартиру.
— Зачем?
— Чтобы вы попросили этого… как его… Виктора дать вам одну вещь.
— Господи, какую вещь? Ты знаешь, где Сережа? Опять в Отрадном?
— Нет, не в Отрадном. Но я знаю где.
— Денис, говори скорей. Я сейчас пойду в милицию.
— В милицию нельзя. Если вы пойдете в милицию, его убьют.
Наташа села.
— Теть Наташ, вы не бойтесь. Вы только сделайте, что он просит, и все.
Наташа постаралась взять себя в руки.
— Объясни скорее, что произошло.
Денис набрал полные легкие воздуха и начал свой рассказ, из которого Наташа узнала, как двадцать пятого мая бандиты схватили Сережу у дома Павловского, как привезли на склад за Киевским вокзалом, как пытались узнать, не оставил ли ему отец какой-нибудь предмет вроде дискеты на сохранение, и как Сережа сказал, что ничего не знает. И что только в самолете, когда они летели в Алма-Ату, вспомнил, что в марте отец был у них дома и, судя по всему, что-то спрятал у них в кухне.
Денис с Сережиных слов объяснил, в каком именно месте это могло находиться.
— Но ведь потом там был ремонт!
— Сережа сказал, что надо спросить у Виктора, не находил ли он там дискеты.
— О, Господи, у Виктора… — Наташа схватилась за голову. — Что же делать!
— Он сказал, чтобы вы не вызывали милицию, иначе его убьют. Еще он сказал, что если его отец вам что-то давал на сохранение, то вы должны привезли это с собой.
— Где он?
— В Сосновке, справа от железной дороги. Большой кирпичный дом.
— О, Господи…
Наташа попыталась представить себе реакцию Виктора, когда она придет к нему и спросит про дискету, и не смогла. После того, что произошло…
— Теть Наташ, скорее. Я поеду с вами.
— У Виктора наверняка никакой дискеты нет. А если есть, он не даст. Надо идти в милицию.
— Нельзя в милицию, говорю вам — его убьют.
— Что же делать? И почему он не спросил у Виктора раньше? И что там на этой дискете, он тебе сказал?
— Он и сам не знает. А еще он думал, что на новом месте его не найдут. Он вообще-то хотел к этому Виктору залезть в квартиру. И меня просил, чтобы я помог. Я согласился, а он потом передумал. А говорить с ним он не хотел.
— Почему же он мне ничего не сказал?
— Не знаю…
Денис насупился и как-то странно посмотрел на нее.
— Не знаешь?
— Нет.
— Ты что-то не договариваешь! Денис, если тебе что-то известно — скажи.
— Я правда не знаю. Он сам не хотел говорить.
— Что не хотел говорить?
— Я спросил, почему он вам ничего не сказал, а он как-то странно…
— Что?
— Не знаю я… Он мне еще говорит: ты извини, я тебе все рассказал, а это сказать не могу.
— Что — "это"?
— Да не знаю я!
— Господи! Ладно… Надо собираться.
Наташа старалась не думать о том, чем все это может кончиться. Она выпила несколько глотков воды, потому что у нее пересохло во рту, и начала одеваться. Через сорок минут они уже были возле ее старого дома в Сивцевом Вражке.
— Подожди меня здесь, — бросила она Денису и, преодолевая слабость, вошла в подъезд.
Виктор оказался дома и, увидев ее в дверях, мрачно протянул:
— А-а… это ты.
Он повернулся к ней спиной и направился вглубь квартиры. Наташе показалось, что он слегка пошатывается.
— Я не хотела тебя беспокоить, извини. Я только хотела спросить…
— Да? — перебил он, поворачиваясь к ней, и улыбнулся какой-то кривой улыбкой. — Ну, давай, спрашивай!
"Боже мой, — подумала Наташа, — он, кажется, пьян".
— Ты не находил здесь какой-нибудь дискеты, когда делал ремонт? В кухне, например?
— Какой дискеты? У тебя, если я правильно понял, компьютера нет.
— Пожалуйста, скажи! Мне очень нужно. — Она старалась держать себя в руках, не злиться и не нервничать.
— Тебе нужно? — повторил он насмешливо. — А мне-то какое дело?
— Никакого. Но я тебя очень прошу — если ты нашел дискету, отдай ее мне.
— А что мне за это будет?
Наташа помолчала.
— А что ты хочешь?
— Чего я хочу? Ты сама знаешь. Но ты же меня прогнала? Я же для тебя не гожусь. Ну, не гожусь и ладно. Только я что-то не пойму: ты зачем пришла? Передумала, что ли?
— Нет. Но мне сейчас очень нужна твоя помощь. Выслушай меня…
— Ты даешь… Что ты вообще о себе понимаешь? Что вы все о себе понимаете? Я с тобой носился как с писаной торбой, и сынка твоего, наркомана, искал, и квартиру с убытком для себя купил, мамашу твою схоронил, а ты же меня за все это и выгнала… Я тебя выгнала не за это. И ты прекрасно это знаешь.
— А-а, вот, значит, как. Значит, ты потому меня выгнала, что француз твой появился. А если бы не появился, значит, не выгнала бы?
— Ты прекрасно знаешь, что он не появлялся. Просто ты не должен был мне врать. А сейчас я прошу тебя помочь мне в последний раз.
— А почему я должен тебе помогать?
— Ты не должен. Я просто очень прошу тебя.
— А я тебя не просил? Просил. Ты мне что ответила? Куда ты меня послала?
Наташа почувствовала, что больше не выдержит.
— Прошу тебя, помоги… Иначе Сережа погибнет.
— Опять этот… Ладно, я помогу. Говори, что надо. Но учти — потом ты сделаешь то, что скажу я.
Терять было нечего.
— Мне нужна дискета. Ты находил здесь дискету?
— Никаких дискет тут не было. Что еще?
— Этого не может быть… — Наташа почувствовала, что сейчас потеряет сознание. — Ты же сказал, что… Можно я пойду на кухню?
Виктор ничего не ответил: только пожал плечами и пошел следом за ней. Наташа вошла в кухню, которую теперь невозможно было узнать, и огляделась.
"Денис говорил про этот угол. Здесь были полки. Мы их сняли и увезли на новую квартиру. Никакой дискеты на полках не было: полки снимали при мне. Где еще? Может быть, в вентиляционной трубе? Но она закрыта новой решеткой. Если дискета была там, Виктор должен был ее найти. Если только…"
— У тебя есть стремянка? — спросила она.
— Есть. Зачем?
— Я хочу посмотреть в вентиляции.
Виктор усмехнулся, вышел в коридор и через минуту вернулся со стремянкой в руках.
— А отвертка?
— Ну и дела! — Виктор покачал головой, но отвертку достал.
Наташа скинула туфли и стала подниматься по лестнице. Остановившись на третьей ступеньке, она почувствовала, что у нее кружится голова и дрожат ноги, но делать было нечего. Держась за перекладину стремянки, она начала вывинчивать шурупы. Когда решетка была снята, она поднялась еще на одну ступеньку, просунула руку в вентиляционное отверстие и тут же в ужасе отдернула ее. Внутренняя сторона была покрыта пылью и паутиной, а Наташа всегда, всю жизнь, смертельно боялась пауков. "Господи, — подумала она, — что же делать?"
Помощи, однако, ждать было неоткуда. Если Виктор, видя, что она беременна (ведь не может же он этого не замечать, подумала она) не предложил залезть вместо нее наверх, то и это ей придется сделать самой.
Наташа закрыла глаза и, затаив дыхание, просунула руку в трубу и начала шарить по стенкам. Ее рука, испачканная пылью и паутиной, наткнулась на что-то твердое и плоское. Сердце у нее замерло — неужели дискета? Она без усилий оторвала предмет от стенки и вытащила руку из трубы. Это была дискета, завернутая в тетрадный лист, аккуратно заклеенный скотчем.
Когда Наташа спустилась со стремянки, Виктора в кухне уже не было. Она заглянула в комнату, чтобы поблагодарить его и попрощаться, и увидела, как он опрокинул себе в рот почти целый стакан спиртного.
— Ну что? — спросил он. — Нашла? Поздравляю.
— Спасибо, — тихо сказала она и направилась к двери.
Виктор вышел в прихожую.
— Плевал я на твое спасибо! Ты думала, скажешь "мерси" и пойдешь? Не-е-ет. Ты побудь со мной, посиди, уважь хозяина.
— Если хочешь, я посижу, но не сейчас, — сказала она и почувствовала, что он больно схватил ее за руку чуть выше локтя.
— Нет, ты постой… Ты что ж думаешь, я такой дурак, что меня можно…
Он не договорил. Наташа видела его лицо совсем близко от себя, но ей не было страшно: она не верила, что он сможет причинить ей зло.
— Пожалуйста, отпусти меня, — сказала она. — Я правда должна бежать. Меня ждет Сережа…
Виктор перебил ее:
— Плевать я хотел, кто тебя ждет. Я тебя жду, я, поняла? Столько жду, что другой давно бы плюнул, а я как дурак… Иди сюда! — Он потащил ее в комнату.
— Пусти, прошу тебя, — она попыталась вырваться, но он был сильнее ее. — Пусти, мне больно. Что ты хочешь от меня?
— А ты не догадалась? Нет? — он опять улыбнулся длинной пьяной улыбкой, потом грубо толкнул ее на диван и всем телом навалился на нее.
Только сейчас до нее дошло, какой опасности она подвергается.
— Нет! — закричала она. — Нет!
— Ничего, ничего… — бормотал Виктор, обдавая ее запахом перегара. Одной рукой он прижимал ее к дивану, так как она делала отчаянные попытки вырваться, а другой пытался задрать ей юбку.
— Пусти меня! — Она с трудом высвободила одну руку и вцепилась ему в лицо. — Какая же ты мразь!
— Ах ты сука! — прошипел Виктор и ударил ее по лицу. Удар был так силен, что на мгновение от боли и неожиданности она потеряла способность сопротивляться, и тогда он рванул на ней свитер и впился губами в грудь.
— Нет! — завопила она от ужаса и боли. — Нет! Я не могу! Пусти! Пусти! Господи! Я жду ребенка!
В ту же секунду он оторвался от нее и тупо уставился ей в глаза.
— Ах ты б… — проговорил он, задыхаясь, — ах ты б… То-то я смотрю, ты стала как бочка… Что ж ты меня!.. Ах ты, б… — повторил он и встал. — А ну, давай, чеши отсюда, пока я…
Он отошел к столу, снова плеснул что-то в стакан и залпом выпил. Наташа не заставила себя ждать. Не глядя на него, она трясущимися руками поправила на себе юбку, надела на разорванный свитер плащ, схватила сумочку и бросилась к двери.
Выйдя из квартиры, она на минуту остановилась перевести дыхание и пытаясь сообразить, не нужно ли сейчас зайти к Людмиле Ивановне, чтобы все-таки вызвать милицию. Но, посмотрев на часы и увидев, что уже начало девятого, бросилась вниз по лестнице. Денис, который ждал ее, стоя у подъезда, с ужасом уставился на нее: на левой щеке красовалась ссадина, оставленная перстнем, который Виктор носил на среднем пальце.
— Что это у вас?
— Ничего. Пройдет… — Она достала носовой платок и приложила его к ранке. — Ничего, пошли скорей!..
Они выбежали на бульвар, где им почти сразу подвернулось такси.
— На Казанский вокзал! — сказала Наташа и откинулась на заднее сиденье.
По дороге надо было обдумать, что делать дальше. Брать с собой Дениса она не могла: подвергать мальчика риску она не имела права, а ехать одной было очень страшно. Что, если она не найдет этот дом? Ведь уже темно. Что, если с Сережей что-нибудь случилось? Что, если его там нет? Что она тогда будет делать?
— Денис, я поеду одна. Дискету я оставлю в камере хранения, а ты постараешься запомнить шифр. И будешь ждать нас с Сережей где-нибудь неподалеку. Если ты увидишь, что какие-то люди забирают из нашей ячейки дискету, а нас с Сережей поблизости нет — вызывай милицию. И все им расскажи. Сможешь?
— Смогу. Но лучше я поеду с вами. Как вы там одна?..
— Ничего. Спасибо тебе, но будет лучше, если ты останешься здесь. Договорились?
Наташа храбрилась, но душа ее замирала от страха — за Сережу и за жизнь ее второго, еще не родившегося ребенка. Она купила билет до Сосновки: электричка уходила через пять минут. Она бросилась к камере хранения, набрала в качестве шифра год рождения Дениса, чтобы он не забыл, положила дискету и побежала к платформам. Как только она вскочила в электричку, раздался голос машиниста: "Осторожно, двери закрываются!"
Сосновка встретила ее мелким дождем. Она вышла на пустую платформу, скупо освещенную фонарями, и огляделась. Денис сказал, что дом надо искать справа от железной дороги. Она спустилась с платформы и оказалась на большой асфальтированной площадке, в глубине которой виднелось множество коммерческих ларьков — все они были закрыты. Наташа подошла ближе, снова огляделась и в двухстах метрах от площадки заметила большой красный кирпичный дом. Типичная дача новых русских. Дом был почти полностью погружен во тьму, только в одном маленьком окошке виднелся неяркий свет. Наташа испугалась: "Почему там темно? И как я туда войду? Ведь дом наверняка обнесен забором. Господи, помоги. Как мне страшно!"
Она стала искать дорожку к дому, но, не найдя ее и ободрав в темноте ногу о какую-то проволоку, вернулась к платформе. И только сейчас заметила, что от шлагбаума прямо к дому ведет асфальтированная дорога.
Пройдя метров пятьдесят и обогнув дом, она увидела глухие ворота и два ярко освещенных окна на первом этаже. Она стала искать звонок, как вдруг раздался негромкий щелчок. Она вздрогнула и чуть не закричала от неожиданности. И сразу же, по донесшимся до нее голосам, поняла, что в доме открылась дверь. Ее ждали.
Через минуту она сидела на большом кожаном диване в гостиной, куда ее проводил молчаливый охранник.
— Ждите здесь, — сказал он и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь.
Наташа не успела оглядеться, как дверь опять открылась, и на пороге показался красивый человек, одетый в черное.
— Что с вами? — спросил он, подойдя ближе. — У вас лицо в крови.
Она поднесла к щеке дрожащую ладонь и спросила:
— Где мой сын?
— Здесь. Принесли?
— Сперва я хочу убедиться, что он жив и здоров.
Она сама не понимала, откуда у нее вдруг взялись силы.
Человек в черном что-то крикнул на незнакомом ей языке. В ту же минуту открылась дверь, и в комнату вошел Сережа в сопровождении охранника, который крепко держал его за плечо. Увидев мать, мальчик вырвался и с криком "Мама!" бросился к ней. Наташа прижала его к себе.
— Ты здоров? С тобой все в порядке? — голос у нее дрожал, но она старалась не плакать в присутствии этих людей.
— Да, а ты? Что это у тебя? — спросил Сережа, увидев ссадину у нее на лице. — Это они?
— Нет. Я оцарапалась. Случайно.
— Ну, вы удовлетворены? — раздался насмешливый голос человека в черном. — Как видите, мы свое обещание сдержали. Теперь ваша очередь. Где дискета? — Он опять кивнул своему человеку, и тот, подойдя к ним, взял Сережу за локоть.
— Дискета спрятана в камере хранения на Казанском вокзале. Если вы отвезете нас туда, я покажу, где она находится.
— Вам не кажется, что вы зарываетесь? — спросил Абдюханов. — Я ведь могу и рассердиться.
— Можете. Но если вы хотите ее получить, вам придется сделать то, что я сказала. — Наташа сама не понимала, как ей удается говорить с ним в таком тоне.
— Вы храбрая женщина, — сказал Абдюханов и внимательно посмотрел на нее. — Храбрая и красивая. Очень красивая… Что ж, попробуем вам поверить. Моряк, поедешь ты и Муму. — Он отдал еще несколько распоряжений и удалился.
Через несколько минут темно-зеленый "ниссан" вез их в сторону Москвы. Все молчали. Наташа держала Сережу за руку и прислушивалась к движениям ребенка у себя в животе.
Когда машина подъехала к Казанскому вокзалу, первым вышел Муму и направился к камерам хранения, чтобы посмотреть, не ждет ли их милиция. Он обошел помещение и, не обнаружив ничего подозрительного, вышел к стоянке.
— Порядок, — бросил он Моряку.
— Имей в виду, — сквозь зубы проговорил Моряк, — если выкинешь какой-нибудь номер или твоя дискета окажется фуфлом, пеняй на себя.
Наташа ничего не ответила. Они молча дошли до камеры хранения: возле одной из ячеек стоял Денис и ел мороженое. Заметив приближавшихся к нему людей, он перестал есть и от волнения открыл рот.
Наташа подошла к камере и набрала шифр. Моряк, не выдержав, оттолкнул ее, достал дискету, повертел в руках и мигнул Муму, который тут же пошел вперед, чтобы убедиться, что за ними по-прежнему никто не следит. Потом опять повернулся к Наташе, ожидавшей окончания процедуры.
— Если это фуфло, пеняйте на себя… — повторил он и зашагал прочь.
Наташа закрыла глаза, словно не веря, что все позади, и глубоко вздохнула.
— Пошли отсюда, — прошептала она наконец, и они втроем вышли из здания вокзала.
— Я поеду домой, — сказал Денис, — меня мама ждет.
— Мы сейчас возьмем такси и отвезем тебя.
— Не надо. Мне далеко, на Юго-Запад. И потом, на метро мне быстрее. — И не слушая возражений, побежал к освещенному входу.
Наташа повернулась к Сереже:
— Возьмем такси?
— Давай лучше на метро, — предложил Сережа.
Они спустились на платформу и сели в поезд. Наташа молчала.
— Мам, ты чего? — спросил Сережа.
— Я? — переспросила она. — Ничего.
— Я же вижу…
— Да нет, Сережа, все в порядке.
— Ты испугалась?
— А ты как думал? — Глаза ее смотрели в одну точку.
Они еще помолчали.
— Мам?
— Да?
— Если хочешь выйти замуж за Виктора — выходи. Я не возражаю.
Наташа улыбнулась. Сережа еще ребенок: он не знает, что только в американских боевиках герои, пройдя сквозь кровавые испытания, бросаются друг другу в объятья. В жизни все бывает иначе.
— Я вовсе не хочу за него замуж. С чего ты взял?
— Не знаю, мне так показалось. Я думал, ты не выходишь за него из-за меня.
— Ты здесь ни при чем.
— Правда?
— Правда.
Они снова помолчали.
— Мам, ты прости меня, пожалуйста.
— За что?
— За все.
— Ты не виноват. А если и виноват, то только в том, что не сказал мне об этом вовремя. Тогда ничего бы не случилось…
Сережа отвернулся и тихо сказал:
— Я не мог.
— Почему? Почему не мог?
— Потому что я все знаю.
— Что знаешь?
— Все.
— Я не понимаю… Что ты знаешь? Ну? Говори!
— Я прочитал письмо.
— Господи, Сережа, какое письмо?
— Которое ты мне написала в тот день, когда…
— Зачем? Зачем ты его читал? Ведь оно было запечатано.
— Я не нарочно. Так получилось.
— Ну хорошо. И что же? Какая связь между письмом и тем, что произошло?
Сережа нахмурился.
— Я же сказал: я все понял. — И, взглянув на нее, быстро добавил. — Я тебя не осуждаю. Ты имела право… так сделать.
— Что сделать? Сережа, говори же!
— Убить отца, — сказал Сережа так тихо, что, если бы она не ожидала такого ответа, она бы его не расслышала.
— Сережа, посмотри на меня, — сказала она. — Это не я. Понимаешь? Не я. Это сделал кто-то из бандитов, у которых ты был.
— Нет.
— Как — нет? Откуда ты знаешь?
— Знаю.
— Господи, Сережа, откуда ты можешь это знать?
— Я слышал их разговор — они сами ищут убийцу.
— Тогда кто же убил?..
Капитан Григорьев вошел в кабинет, выдвинул ящик стола и достал папку. В ней было собрано всё — вся жизнь Юрия Дмитриевича Павловского лежала перед ним как на ладони. Жизнь и смерть. Павловский — школьник, Павловский — студент университета, Павловский — подающий надежды аспирант, Павловский — блестящий ученый. И он же — хладнокровный преступник, использовавший свои знания для создания сильнодействующего синтетического наркотика, способного искалечить жизни миллионам людей. И наконец, Павловский — убитый вечером одиннадцатого мая этого года в своей квартире выстрелом из пистолета Макарова.
Они поставили на уши всех — братков, с которыми он сотрудничал, братков из враждующих группировок, информаторов, коллег, знакомых, соседей, бывших жен, женщин, с которыми он спал, и тех, кого он бросил. Убийцы среди них не было. "Что ж его, бесплотный дух, что ли, замочил?" — спрашивал себя капитан и не находил ответа.
У него оставалась единственная зацепка, даже зацепочка, которой он всерьез не придавал и не мог придавать значения, но она с первых дней расследования как заноза торчала у него в мозгу. Этой зацепочкой была Наталья Владимировна Лиевина. В убийстве капитан ее не подозревал, но был уверен, что она знает больше, чем сказала.
Пока он искал среди тех, кто был более всего заинтересован в устранении Павловского, ему было не до нее. Но теперь, когда отпали все возможные и невозможные варианты, он задал себе простой вопрос: что она скрыла от него?
Капитан отправился в большой старый дом в Сивцевом Вражке и там, у жильца тридцать девятой квартиры, узнал ее новый адрес.
Филипп шел по бульвару Сен-Жермен со своим патроном, Жаком Лефевром, беседуя об издательских делах. В Париже тоже наступила осень, и под ногами шуршали опавшие листья платанов, росших вдоль бульвара. Они остановились у витрины одного из многочисленных книжных магазинов. В самом центре был выставлен альбом известного французского фотографа, посвященный России. Лефевр, с которым Филипп иногда говорил о своих личных делах, посмотрел на него и спросил:
— Ты бы не хотел съездить на пару дней в Москву?
— Зачем?
— Я рассказывал тебе о совместном проекте — издание, посвященное двухсотлетию Пушкина…
— Да, и что же?
— Переговоры с русским издательством вел Бессон, и в принципе мы пришли к соглашению. Осталось обсудить кое-какие подробности и, если хочешь…
— Когда?
— В начале следующей недели. Поедешь?
— Да.
— Ну и прекрасно. Сегодня же дам факс в Москву, чтобы они сделали тебе приглашение. Но имей в виду, отпустить тебя могу только на два дня.
На следующий день Филипп заказал билет на двадцать седьмое октября.
На сей раз Москва встретила его мокрым снегом. Выйдя из гостиницы на Тверской, Филипп, несмотря на погоду, решил пойти пешком и, свернув на Бульварное кольцо, двинулся в сторону "Кропоткинской". Завтра он встретится с русскими коллегами, а сегодня у него свободный вечер, и он зайдет к Людмиле Ивановне, чтобы спросить, нет ли новостей. "Конечно, нет, — думал Филипп. — Если бы они были, она бы давно позвонила…"
Филипп не верил, что сможет что-нибудь узнать о Наташе, и был почти спокоен. Ему казалось, что чувство обиды стало понемногу заглушать в его душе чувство любви. Но забыть ее, как ни старался, он не мог, и каждый раз, глядя на ее карандашный портрет в старинной рамке, принадлежавшей когда-то его русской бабушке, вспоминал ее серые глаза — в них светилось счастье, когда она смотрела на него. У Филиппа сжалось сердце. Неужели они никогда больше не увидятся?
Филипп подошел к уже знакомому дому и поднялся на четвертый этаж. Вот дверь ее бывшей квартиры. Он прислушался: за дверью было тихо. Он немного подумал, позвонил Людмиле Ивановне и сразу же услышал шаркающие шаги.
— Кто там?
— Это я, Филипп, Наташин знакомый.
— Батюшки! — воскликнула Людмила Ивановна и открыла дверь. — Приехал? Ну, проходи, проходи. Промок, небось.
Филипп вошел, поставил зонт в угол под вешалкой и снял плащ. И только сейчас заметил, что Людмила Ивановна, приложив руку к щеке и покачивая головой, в ужасе смотрит на него.
— Что-нибудь случилось? — спросил он в испуге.
— Да как же! Наташа-то приходила…
— Когда? — он почувствовал, что сердце его сделало перебой.
— Да когда, неделю назад, что ли….
— Что она сказала? Вы дали ей мой телефон?
— Да, Господи, все дала! Ты мне письмо-то тогда оставил, я и дала. А она говорит, листочка не хватает.
— Какого листочка?
— Говорит, листочка, где адрес и телефон. Помните, вы написали?
— Конечно, помню. И что же?
— Вот как есть Бог, клянусь, что никакого листочка не брала. Вот вы мне как письмо это дали, так я его вот сюда и положила, — Людмила Ивановна опять открыла комод и для большей убедительности показала Филиппу коробочку, в которой хранила письмо, — а какой листочек и куда подевался, хоть режьте меня, не знаю.
— Но ведь Наташа, наверное, оставила вам свой адрес?
— Да не оставила она, что ты будешь делать!.. Я ведь говорила ей: адрес-то оставь, вдруг приедет. А она: нет, теперь, мол, не приедет. Раз, говорит, в июле не приехал, значит, все. А что все? Ну не смог в июле, приедет в августе, а нет, так и в октябре. А она свое: пойду, тетя Люда, и все тут. Я уж ей и на лестнице кричала: оставь адрес-то, да где там…
— А что же она… Что с ней случилось? Что она про себя сказала?
— Да горе у ней — мать она похоронила. Зина-то, мать ее, умерла. Я смотрю, они не звонят, не приезжают. Что, думаю, такое стряслось? А оно вон как все вышло. А я и не знала ничего — не пошла ни на похороны, ни на девять дней, ни на сороковины…. А ведь мы вместе пятьдесят лет прожили, и чтоб ссоры какие или что, Боже сохрани.
— А ее сын? — Филипп пытался справиться с биением сердца.
— Сережа-то? Сережа ничего, говорила, вроде здоров, в школу ходит.
— А про меня она что-нибудь спрашивала?
— А как же! Она и приходила-то, чтоб про вас спросить. Говорит, я, мол, навестить вас, тетя Люда, а сама все про вас, все про вас…
— Что же она и телефон свой не оставила? Ни адреса, ни телефона?
— Нету, нету, говорит, телефона. А адрес не оставила, потому что расстроилась: не приедет, говорит, больше. Видать, любит она вас.
Филипп испытующе посмотрел на старую женщину. Что же это такое? Можно ли в это поверить? Его адрес куда-то пропал, а свой она оставить не захотела — почему? Может ли это быть правдой?
— Любит, а адреса не оставила, — он попытался улыбнуться. — Как же я ее найду?
— Не оставила, потому что расстроилась, говорю тебе. Она ведь… Батюшки, я и забыла совсем: вот головато стала, как решето. Она ведь беременная, Наташа-то.
— Что? — Филипп решил, что ему послышалось.
— Что-что, беременная она, вот что. Ребенок у ней будет, понимаешь? Я же говорю: любит она тебя.
— Как… как это может быть?
— Известно, как может быть. Что ты бледный-то такой стал? На-ка вот тебе воды, попей. — Людмила Ивановна налила воды из стеклянного графина, стоявшего на подоконнике. — Попей, попей, а то на тебя смотреть страшно. Может, чаю тебе налить?
Но Филипп не стал пить.
— Она сама вам сказала, что ждет ребенка?
— Сама, а кто же еще? Я ей говорю: что-то ты поправилась, что ли? А она: нет, говорит, тетя Люда, беременная я. Я еще спрашиваю, что, мол, замуж собралась? А она — нет, тетя Люда, замуж не иду. А она ведь мальчишку-то, первого своего, вот Сережу-то, сама подняла, без мужа. Вот только Зина и помогала ей. А как она теперь без матери будет, не знаю. Вот и расстроилась. Говорит, не приедет он больше. А я ей: ребенок-то от него, что ли, от француза этого? — Людмила Ивановна посмотрела на него и почему-то шепотом добавила: — Да, говорит, от него.
Филипп почувствовал, как на глаза у него навернулись слезы. "Боже, Боже, — повторял он про себя. — Наташа, любимая, что же делать?"
— Неужели она не сказала хотя бы приблизительно, где живет?
— Сказала, сказала. Адрес не дала, а сказала. Вот только не вспомню, улица какая-то… за Сокольниками, говорит, улица, как же ее, Подбельского, что ли? Подбельского, точно. На улице Подбельского она живет. За Сокольниками.
Филипп встал.
— Я пойду ее искать.
— Да куда ж ты пойдешь? Ночь на дворе. И адреса у тебя нет…
— Я приехал на два дня. Сегодня понедельник. В четверг утром я улетаю.
— Вот завтра и пойдешь. Иди домой, отдохни с дороги, а то вон, извелся совсем…
— Если она зайдет или позвонит… вы передадите ей?
— А как же, все передам, чай, не нехристь какой… Только вот, боюсь, не скоро она теперь появится.
— Все равно, я оставлю вам деньги, и адрес, и телефон. Если вы что-нибудь узнаете… И мой телефон в гостинице, на Тверской. Завтра я вам еще позвоню.
— Звони, милый, звони. Ох, Господи, вот девка… Ведь говорила я ей: оставь адрес, вдруг приедет… Ну, до свиданья. Вы не бегите так, она завтра-то еще не родит. У ней живот-то еще вот какой… — Людмила Ивановна показала, какой у Наташи был живот.
Филипп вышел из дома, и ветер рванул на нем плащ. Он шел по темному безлюдному переулку, не раскрывая зонта и, как приговоренный к смерти, вспоминал свою жизнь. Вспоминал Мириам, свою бывшую жену, которую никогда не любил. Зачем он на ней женился? Они работали тогда в одной редакции, и она была скорее его товарищем, чем любовницей, и, тем не менее, они прожили вместе четырнадцать лет. Детей у них не было, и уже давно каждый из них жил своей жизнью. После того как год назад Мириам завела себе постоянного любовника, они решили развестись.
Наташа понравилась ему сразу. Она была непохожа на женщин, которых он знал. Что-то было в ней трогательное, беззащитное, почти детское. То ли застенчивая улыбка, то ли руки без маникюра, с заусенцами, как у школьницы, то ли рыжие завитки на нежной шее, то ли взгляд серых глаз. Но впереди у него был развод, поездка в Коррез к отцу, которого он давно не видел, поиски квартиры, новая должность в издательстве… Зачем ему сложности с этой русской? Но когда, сидя на террасе кафе на бульваре Сен-Жермен, он увидел ее снова, это была уже другая Наташа. По-другому смотрели ее серые глаза, и когда они стояли на верхней площадке Эйфелевой башни, он внезапно почувствовал, как в душе у него поднимается волна нежности. Потом они бродили по весеннему Парижу, останавливаясь у лавок букинистов и рассматривая старые издания, сидели на террасах кафе, глядя на текущую мимо нарядную толпу, бродили по тенистым аллеям Люксембургского сада, и Филипп понял, что влюблен. Впереди у них оставалось три дня, всего три дня, наполненных любовью и солнечным светом, который играл у нее в волосах… Он вспомнил слова своей бабушки, когда-то учившей его русскому языку: "Я бы хотела, чтобы у тебя была русская жена". Тогда он принял это за шутку, а теперь он идет по московской улице, и у него перед глазами стоит Наташино лицо. "Что же делать? Где ее искать?".
Филипп вернулся в гостиницу, зашел в маленький бар, расположенный на его этаже, купил бутылку виски, заперся в номере и напился.
На следующий день, встретившись с издателем, с которым они готовили совместный проект, он поехал в адресное бюро. Немного постоял в очереди к маленькому окошечку, где сидел молодой человек в очках и стучал на компьютере. Филипп объяснил, что ищет женщину, несколько месяцев назад поменявшую адрес и живущую теперь на улице Подбельского. Он знал ее имя, фамилию, год рождения, прежний адрес, знал, как она смеется, знал, что над левой грудью у нее маленькая темная родинка, знал, что она прячет пальцы, потому что стесняется своих заусенцев. Он знал о ней все, но на мерцающем экране ее адреса не было.
— Как это может быть? — спросил Филипп. — Ведь она живет в Москве, я это точно знаю.
— Это очень даже может быть, если она не прописалась по новому месту жительства.
Что было делать? Филипп решил, что поедет на улицу Подбельского и будет искать ее, пока не найдет.
Он спустился в метро, по кольцу доехал до "Комсомольской", сделал пересадку на радиальную линию и решил, что ему повезло: конечная станция так и называлась — "Улица Подбельского". Откуда ему было знать, что Наташа жила вовсе не на этой улице, а Людмиле Ивановне просто назвала ближайшую станцию метро?
Поезд остановился, Филипп с другими пассажирами вышел на платформу и огляделся. Ему направо. Он поднялся по лестнице и вышел на воздух. Перед ним расстилалась унылая улица бесконечной длины, по которой с грохотом проносились грузовые автомобили. Он постоял на краю тротуара, стараясь угадать, куда ему лучше пойти, направо или налево. По обеим сторонам громоздились одинаковые пятиэтажные дома грязнобелого цвета. Немногочисленные прохожие, перепрыгивая через лужи, спешили укрыться от дождя. В нескольких шагах от него женщины продавали яблоки и какую-то снедь в полиэтиленовых пакетах. Им овладело уныние. Найти здесь Наташу?.. Он медленно пошел вдоль домов, скользя взглядом по окнам первых этажей. Чья-то кухня, заставленная убогим скарбом, цветы на подоконнике, темное окно, детский плач, ковер на стене, рыжий кот. Чужая жизнь. Сердце у него сжалось. Как тоскливо должно быть ей в этом Богом забытом районе, как одиноко. Прижать ее к себе, согреть, утешить.
Он шел все дальше и с каждым шагом все яснее понимал, что не найдет ее. И вдруг увидел приклеенные к фонарному столбу объявления. "Продается". "Ремонт холодильников". "Уроки математики". Что, если?.. Он обклеит своими объявлениями все столбы, все подъезды, он развесит их в магазинах, везде. Рано или поздно она увидит, она должна увидеть…
Филипп вернулся в гостиницу и обратился к администратору за помощью. Нужно было отпечатать и ксерокопировать несколько десятков объявлений. На него посмотрели как на сумасшедшего, но за огромную сумму в долларах согласились помочь. Когда он вернулся на улицу Подбельского с пачкой объявлений и несколькими тюбиками канцелярского клея, было уже темно. Если повезет, думал Филипп, она увидит их завтра же. Для этого ей нужно только выйти в магазин…
Он обклеивал фонарные столбы, заборы, двери жилых домов, магазинов, контор… Кое-кто из прохожих останавливался при виде хорошо одетого иностранца, который хотел то ли продать, то ли купить, то ли черт его знает, чего он хотел, и было совершенно непонятно, что означали странные объявления: "НАТАША ЛИЕВИНА — ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА — ФИЛИПП" и несколько телефонных номеров. "Наверное, мафия, какая-нибудь…"
Среда подходила к концу. Филипп сидел у себя в номере и ждал одиннадцати вечера, чтобы позвонить Людмиле Ивановне в последний раз. Завтра утром он улетит в Париж. Один. Без Наташи. Правда, через пару недель он вернется. Вернется, даже если его не будут отпускать. Но что он будет здесь делать через две недели? Опять расклеивать объявления? Или, может, обратиться в Интерпол? У Робера там, кажется, кто-то работает, не то дядя, не то двоюродный брат. Конечно, рано или поздно он найдет ее. В следующий раз у него будет больше времени, и он что-нибудь обязательно придумает. Но она? Он — мужчина, сильный, выносливый, он будет бороться за свою любовь, ему все-таки легче. А она, слабая, хрупкая женщина, которая к тому же ждет ребенка, она — живет без надежды.
Филипп поговорил с Людмилой Ивановной, в очередной раз убедился, что от Наташи новостей нет, разделся, лег, потушил свет и, пока ветер трепал бумажные язычки объявлений, шептал: "Je t’ai cherchée, mon amour, mais je ne t’ai pas trouvée"[12].
В тот вечер, когда Филипп в безумной надежде шел все дальше и дальше по улице Подбельского, Наташа отправилась к Вере, которую не видела несколько месяцев — с того дня, когда убили Павловского.
— Представляю, что тебе пришлось пережить, — сказала Вера, с замиранием сердца выслушав ее рассказ.
Наташа слабо улыбнулась.
— Ничего, все уже позади.
— Скоро? — спросила Вера, кивнув на ее живот.
— Месяца через два… А твой отец? Как он?
— Мой отец умер. В конце августа.
— Прости… Я не знала.
Они помолчали.
— А знаешь, — сказала Наташа, — ко мне все-таки приходили из милиции.
— Когда?
— Два раза — недели через две после того, как я у тебя была, и совсем недавно.
— Ко мне тоже.
— Ты… что-нибудь сказала?
— Про тебя? Конечно, нет. А ты?
— Первый раз — ничего. А теперь рассказала про дискету и про бандитов. Впрочем, про бандитов они и без меня знают.
Наташа помолчала и добавила:
— Зато они до сих пор не знают, кто убил Павловского.
Вера не ответила.
— Странно, ты не находишь? — спросила Наташа: — Так никого и не нашли…
— Его убил мой отец.
Наташа отшатнулась.
— Твой отец?
На губах у Веры мелькнула жуткая усмешка, в которой была смесь ненависти и торжества.
— Отец считал, что из-за него умерла мама. Что из-за него болела Оля. Считал, что из-за него заболел он сам. Я думаю, что все эти двенадцать лет он только и мечтал об этом. Он ненавидел его. Когда ты пришла ко мне тогда, он все слышал. И решился.
— Но как? Как он?.. Он же был болен?.. Как… как же он потом?..
— Он умер счастливым.
Вера рассказала, что произошло.
Вечером того дня, когда Наташа побывала у нее, часов около семи, Николай Александрович Рогулин неожиданно встал с постели и сказал, что хочет съездить к своему врачу. Вера возражала, предлагала вызвать врача на дом, но отец отказался, заявив, что уже обо всем договорился, и попросил заказать такси. Вера знала, что он упрям и спорить с ним бесполезно, но в то же время была рада, что отец нашел в себе силы: он не вставал уже несколько недель. Она помогла ему одеться и не стала настаивать, когда он сказал, что поедет один. Она знала: врач, который лечил его много лет и с которым они дружили, не оставит его без помощи.
Она немного удивилась, когда увидела, что отец берет с собой свой старый портфель, но ничего не сказала. Она вызвала такси и, посадив его в машину, позвонила врачу, чтобы он вышел встретить его. Тот страшно удивился и сказал, что ничего не знает о его приезде — наверное, Николай Александрович собирался ему позвонить, но забыл. Сказал, что сейчас же спустится вниз и будет ждать. Вера поняла, что что-то неладно, но ей тоже оставалось только ждать.
Ждать, однако, пришлось недолго. Прошло около часа, когда раздался звонок в дверь. Она бросилась открывать. Отец стоял на пороге, и Веру поразило выражение его лица.
— Где ты был? — спросила она.
— Я хочу лечь.
— Тебе плохо? Почему ты не поехал к Алексею Константиновичу?
— Передумал.
— Он тебя ждал.
— Так позвони ему!
— Ты можешь толком сказать, где ты был?
— Сделай мне чаю, я хочу лечь.
В тот вечер Вера так ничего и не добилась. Но когда тремя часами позже зашла Наташа и рассказала об убийстве, Вера, сопоставив время, заподозрила неладное.
— Ты был у Павловского? — спросила она отца на следующий день. — Я должна знать.
И он рассказал.
Такси, доставившее его к дому бывшего зятя, осталось внизу. Он поднялся на лифте, вытащил из портфеля пистолет, снял с предохранителя и опустил в правый карман.
Дверь открылась, на пороге стоял Павловский, с изумлением глядя на бывшего тестя. Тот, ни слова не говоря, сделал шаг вперед. Павловский немного отступил, и в тот момент, когда с его губ готов был сорваться вопрос, Верин отец вынул из кармана правую руку, крепко сжимавшую пистолет, и выстрелил. Схватившись за живот и продолжая с изумлением смотреть в лицо своему убийце, Павловский качнулся вперед, потом заплетающимися ногами сделал два шага назад и упал. Рогулин не торопясь положил пистолет в портфель, повернулся и вышел из квартиры.
Когда он сел в поджидавшее его такси, на часах было ровно восемь.
— Не бойся, — сказал он Вере на следующий день. — Они никогда не догадаются.
— Давай уедем.
— Зачем? Куда?
— В Германию, например. Петер Вольф с удовольствием примет тебя.
Рогулин усмехнулся.
— Ни в какую Германию я не поеду. Мне скоро предстоит гораздо более увлекательное путешествие… Налей мне чаю.
Когда Вера принесла чай, он лежал с закрытыми глазами, откинувшись на подушки, и улыбался. Он был действительно счастлив.
Провожая Наташу, Вера сказала:
— Жаль, что ты пришла без Сережи.
— Я хотела, но не знала, как ты к этому отнесешься.
— Как я могу к этому отнестись? Они же с Олей все-таки брат и сестра.
— Значит, мы еще придем… Или лучше вы к нам. Хорошо?
— Ну конечно! Ведь ты так ничего и не рассказала про вашу теперешнюю жизнь…
Они жили в двух трамвайных остановках от станции метро, на третьем этаже пятиэтажного панельного дома без лифта. По утрам Наташа выходила из дома вместе с Сережей: они доходили до угла, потом Сережа сворачивал к школе, а она шла по магазинам, стараясь выбрать продукты подешевле. Потом готовила обед и ждала сына. Стоя у окна и с грустью глядя на голые деревья, думала: "Скоро зима… снег…" Вечерами они устраивались на кожаном диване, переименованном в "дедушкин", и вместе читали, слушали музыку или говорили о ребенке, которого она ждала. "Мальчик", — говорил Сережа, прикладывая ухо к ее животу. "Девочка, — отвечала Наташа, взъерошивая волосы у него на затылке, и добавляла: — Разве ты не хочешь маленькую сестру?" — "Лучше брата, — отвечал Сережа, — но если будет сестра, тоже ничего". — "А знаешь, у тебя уже есть сестра…" — "Как это?" — "Скоро узнаешь".
Иногда приезжал Аркадий Николаевич. Он, как всегда, садился с Сережей играть в шахматы, а потом они на кухне вместе пили чай, и Аркадий Николаевич рассказывал про своего сына, который десять лет назад погиб в Афганистане. "Вы меня простите, — говорил он, — но мне и поговорить-то о нем не с кем, жена сразу начинает плакать".
В общем, они жили не так уж плохо, но иногда… иногда ею овладевала тоска, и, если Сережа был дома, она терпела и, плотно сжав губы, возилась у плиты или с остервенением оттирала пятна со вздувшегося линолеума. Но когда он был в школе или гулял, она, уронив голову на скрещенные на столе руки, выла, как одинокая волчица, и живущая за стеной старуха, переехавшая сюда в шестьдесят первом году из огромной коммуналки в Марьиной роще, где ее прозвали Тухлая Кость за худобу и склочный характер, с наслаждением прислушивалась.
В день отъезда Филиппа дождь перестал, и выглянуло неяркое осеннее солнце. Филипп вышел из гостиницы и прямо на Тверской поймал такси.
До Шереметьева оставалось меньше двух километров, когда таксист, простоватый парень с добродушным лицом, спросил его:
— Куда летите-то?
— В Париж.
Парень удовлетворенно кивнул:
— Я так и подумал.
— Почему?
— А сразу видно!
Филипп промолчал.
— Понравилось у нас?
— Нет.
— Чего так?
— Долго рассказывать.
Филипп смотрел, как раскачивается подвешенный к зеркалу заднего вида брелок — такой же, как тот, который он подарил Наташе за день до ее отъезда.
— Чего смотрите? — осклабился парень. — Понравился?
— Понравился.
— Так это ж ваш, французский! — воскликнул тот, словно удивляясь, как может нравиться столь легко доступный предмет. Филипп не ответил.
Мне его одна красивая баба подарила, — парню явно хотелось поговорить. И добавил убежденно: — У вас таких баб нет. Такие только в России водятся.
Филипп внимательно посмотрел на него:
— Как ее зовут?
— Кого?!
— Эту… бабу.
— Ну откуда я знаю? — Парень рассмеялся. — Я ее вез…
— Как она выглядела?
Парень дико посмотрел на него.
— Пожалуйста, — акцент его стал резче, — я вас очень прошу, скажите, как она выглядела?
Филипп вынул из кармана бумажник и трясущимися руками начал доставать деньги.
— Вы чего? Не надо. Ну вы даете!.. Я так расскажу.
Парень, улыбаясь, постарался как мог описать Наташу. Когда Филипп услышал: "Такие еще у нее кудряшки на шее, вроде как рыжие…", — сердце у него отчаянно забилось. Парень продолжал:
— Денег у нее не было. Расплатилась она, знаете, как? Часики дала такие классные…
— Черные, в форме ромбика?
— Да вроде…
— Они у вас?
— Не, я их ей назад отдал. Жалко мне ее стало. За это она мне эту штуковину и подарила.
— Почему жалко? — У Филиппа бешено стучало сердце.
— Так сын у нее вроде наркоман.
— Откуда вы знаете?
— Я ее в диспансер возил. Она мне сама сказала.
— Когда это было?
— Так вскоре после майских праздников.
— Везите меня в этот диспансер.
Парень опять дико посмотрел на него:
— А как же самолет-то?
— Неважно. Поехали.
— Так я вам тогда лучше дом покажу, где она живет. Я ее от дома возил, а потом опять домой.
— В Сивцевом Вражке?
— Ну.
— Она там больше не живет.
— А чего в диспансере-то делать? Диспансер районный. Если она переехала, то теперь в другой диспансер ходит.
— Все равно. Я спрошу.
— Так кто вам там чего скажет? Там матери родной никто ничего не скажет. А вы… иностранец.
За что вы так иностранцев не любите?
— Так кто вас знает, что у вас на уме? Вон американцы…
Филипп не слушал. Его мысли были сосредоточены на одном — последний шанс. Последний шанс, который судьба подбросила ему в лице этого разговорчивого парня.
Машина развернулась и быстро покатила к Москве.
— А вы чего, знаете ее? — спросил таксист.
— Да, — ответил Филипп и, помолчав, добавил: — Это моя жена.
Через полчаса машина остановилась около невзрачного строения желтого цвета.
— Подождите здесь, — Филипп стремительно бросился из машины.
Войдя в здание, он увидел длинный коридор, по обеим сторонам которого вдоль стен, покрашенных зеленой масляной краской, сидели люди в ожидании приема. Справа, перед регистратурой, освещенной лампами дневного света, стояла небольшая очередь. Он встал в очередь за молодым человеком в кожаной куртке и стал терпеливо ждать. Подойдя к окошку, он наклонился и увидел толстую женщину в белом халате и чепчике с завязками, которые болтались у нее по плечам. Филипп вежливо поздоровался и сразу почувствовал, что у него, как бывало всегда, когда он волновался, резко усилился акцент. Толстая регистраторша подняла глаза и в изумлении уставилась на него: такие птицы не часто залетали в их диспансер.
— Я вас слушаю, — строго сказала она.
— Пожалуйста, помогите мне, я вас очень прошу… — быстро проговорил Филипп.
— Что случилось? — отшатнулась регистраторша.
— Несколько месяцев назад в ваш диспансер обращалась женщина по поводу своего сына. Мне необходимо ее разыскать. Может быть, у вас есть какие-нибудь данные о…
Она перебила его:
— Мы справок не даем.
— Пожалуйста, выслушайте меня. У меня билет на самолет, — Филипп полез во внутренний карман плаща. — Вот, я должен был вылететь сегодня в Париж, но только что совершенно случайно узнал, что она обращалась в ваш диспансер, и…
— Я вам еще раз повторяю, мы справок не даем.
— Мне нужен только адрес. Или номер другого диспансера, если она больше не числится в вашем. Пожалуйста. Я готов заплатить, сколько вы скажете.
— Слушайте, здесь диспансер, а не адресное бюро.
— Я там уже был, там данных о ней нет…
— Чего же вы от нас хотите? Я же объяснила…
Филипп, начинавший терять терпение и вместе с терпением последнюю надежду, открыл рот, чтобы, спросить, в каком кабинете принимает бывший Наташин врач, и вдруг услышал за спиной резкий голос:
— Что здесь происходит?
Филипп обернулся и увидел высокого пожилого человека в белом халате. Толстая регистраторша плаксиво сказала:
— Аркадий Николаевич, невозможно работать!
Филипп обратился к нему:
— Простите, вы врач?
— Да, в чем дело?
— Мне надо с вами поговорить, — и быстро добавил, заметив его нетерпеливый жест: — Я займу у вас не больше пяти минут.
Аркадия Николаевича ждали больные, но что-то во взгляде этого иностранца заставило его согласиться.
— Ну, хорошо, идемте.
Они поднялись на второй этаж и вошли в кабинет.
— В мае этого года, — начал Филипп и опять почувствовал, как усиливается его акцент, — в ваш диспансер обратилась женщина по поводу своего сына. Ее зовут Наташа Лиевина.
Доктор внимательно посмотрел на него:
— Так. И что же?
— Все, что мне нужно, это узнать ее новый адрес, так как она переехала. Может быть, есть какая-нибудь отметка в документах, может быть, известно, в каком диспансере она теперь…
Аркадий Николаевич перебил его:
— Зачем, позвольте узнать, вам ее адрес?
Лицо Филиппа исказила судорога.
— Я люблю эту женщину.
Доктор Левин молча посмотрел на Филиппа, достал из внутреннего кармана потрепанную записную книжку и тихо сказал:
— Запишите адрес.
Раздался звонок. Наташа убрала листочки с письмом Филиппа в ящик стола, вытерла слезы и пошла открывать, запахнув халат. Для Сережи было еще слишком рано, а больше она никого не ждала.
За дверью стоял паренек в ватнике и резиновых сапогах.
— Картошка нужна?
— Нет, спасибо.
Наташа закрыла дверь, но не успела дойти до конца коридора, когда снова позвонили.
— Я же сказала, мне не нужна картошка! — крикнула она, не отпирая.
— А я тебе еще нужен? — спросил знакомый голос с сильным французским акцентом.
В это время над Подмосковьем в прозрачном воздухе, пронизанном неярким октябрьским солнцем, таял крошечный серебристый самолет компании "Эр Франс".