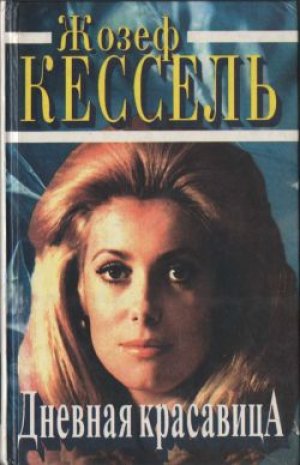
«Дневная красавица» и «Яванская роза» — романы о странностях любви и странностях человеческой жизни. Их автор — французский писатель Жозеф Кессель — принимал эти странности нашего существования, потому что сам испытал их сполна. Выходец из российской еврейской семьи, родился он в Аргентине в 1898 году, а умер во Франции в 1975. Его роман «Княжеские ночи», написанный в 1928, был посвящен жизни российских эмигрантов в Париже и принес ему славу, но Кесселя привлекла журналистика и театральная критика, которой он долго занимался. Потом настал черед авиации. Военному братству посвящены его романы «Экипаж» и «Братство в бою».
За этими книгами последовали романы исторические и «географические». А наиболее известная книга писателя «Лев» (1958) до сих пор считается самым переводимым французским романом.
В 1962 году Кессель был избран членом Французской Академии.
Романы, представленные в этой книге, были написаны Жозефом Кесселем в двадцатые годы, и, если «Яванская роза» отдает дань модным в те времена «колониальным» романам и в интонации перекликается с романами Клода Фарера, то «Дневная красавица» показывает писателя как отважного психолога, который не боится говорить с читателем о трагедии любви, черных глубинах страсти, которые живут в каждой человеческой душе.
Вторую жизнь этот роман обрел в широко известном фильме знаменитого кинорежиссера Луиса Бунюэля «Дневная красавица», исполнение главной роли в котором принесло французской актрисе Катрин Денёв мировую славу.
В нашей стране оба произведения выходят на русском языке впервые.
― ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА ―
Пролог
Чтобы попасть из своей комнаты в комнату матери, восьмилетней Северине нужно было пройти по длинному узкому коридору. Этот неприятный ей путь она всегда пробегала бегом. Но вот однажды утром Северине пришлось остановиться на полпути. Дверь ванной отворилась, и оттуда вышел водопроводчик. Он был небольшого роста, коренастый. Его взгляд, сочившийся меж редких рыжих ресниц, остановился на Северине. И она, девочка в общем-то не робкая, вдруг испугалась, попятилась назад.
Это движение придало мужчине решимости. Торопливо оглянувшись, он обеими руками притянул Северину к себе. В нос ей ударил запах газа и грубой силы. Плохо выбритый подбородок оцарапал ей шею. Она стала отбиваться.
Рабочий беззвучно смеялся чувственным смехом. Его руки гладили под платьем нежное тело. Внезапно Северина перестала сопротивляться. Тело ее одеревенело, лицо покрылось мертвенной бледностью. Мужчина положил ее на паркет и бесшумно удалился.
Гувернантка нашла Северину лежащей на полу. Все предположили, что она поскользнулась и упала. Так стала думать и она сама.
I
Пьер Серизи проверял упряжь. Северина, надев лыжи, спросила:
— Ну что, ты готов?
На ней был синий мужской костюм из грубой шерсти, но и он не мог скрыть чистых, тугих линий ее нетерпеливого тела.
— Я так дорожу тобой, что никакая предосторожность не кажется мне чрезмерной, — ответил он.
— Милый, я ведь ничем не рискую. Снег такой чистый, что падать — одно удовольствие. Ну, давай, решайся.
Легким движением Пьер вскочил в седло. Лошадь не шелохнулась, даже не вздрогнула. Это было сильное, спокойное животное, широкое в боках, привыкшее скорее возить, нежели скакать. Северина крепко сжала ручки длинных, прикрепленных к упряжи постромок, и слегка раздвинула ступни. Этот спорт был ей в новинку, и от сосредоточенности черты ее лица слегка исказились.
Из-за этого обнаружились некоторые мелкие недостатки ее внешности, почти невидимые в нормальном, оживленном состоянии, — чересчур квадратный подбородок, выступающие скулы. Однако Пьеру нравилось это выражение неистовой решимости на лице жены. Желая полюбоваться ею еще хотя бы несколько секунд, он притворился, что поправляет стремена.
— Все, поехали, — крикнул он наконец. Постромки в руках Северины натянулись, и она почувствовала, что начинает медленно скользить.
Сначала она заботилась только о том, чтобы сохранять равновесие и не выглядеть комично. Прежде чем выбраться на открытое пространство, им нужно было проехать вдоль единственной улицы маленького швейцарского городка. В это время там можно было встретить буквально всех. Пьер, сияющий, приветствовал знакомых по бару и по совместным занятиям спортом, девушек в мужских спортивных костюмах, молодых женщин, возлежавших в ярко разукрашенных санях. Северина же никого не замечала, сконцентрировав все свое внимание на окружающем ландшафте, который указывал на приближение сельской местности: вот они проехали скромную церквушку на маленькой площади… каток… очень темную реку в обрамлении ослепительно белых крутых берегов, миновали последнюю гостиницу с окнами в поле.
За гостиницей Северина облегченно вздохнула. Теперь не страшно и споткнуться — ее падения все равно уже никто не заметит. Никто, за исключением Пьера. Но он… От прилива любви Северина сразу похорошела, ее чувство, словно мягкий живой зверек, шевельнулось у нее в груди. Она улыбнулась загорелому затылку и прекрасным плечам мужа. Он родился под знаком гармонии и силы. За что бы он ни брался, все у него выходило как-то ловко, аккуратно и естественно.
— Пьер! — позвала Северина.
Он обернулся. Яркое солнце ударило ему в глаза, заставив его прищурить большие серые глаза.
— Как хорошо! — проговорила молодая женщина. Заснеженная долина тянулась, мягко, будто специально, закругляясь. В вышине, между пиками гор, плавали облака, похожие на пухлое молочно-белое руно. Вниз по склонам скользили лыжники, своими легкими, незаметными движениями напоминающие птиц. Северина повторила:
— Как хорошо!
— Это еще что, — ответил Пьер.
Он крепче сжал коленями бока лошади и пустил ее рысью.
«Ну, началось», — подумала Северина.
Ее тело охватила сладкая истома, постепенно перераставшая в ликующую уверенность в себе. Молодая женщина крепко держалась на ногах. Тонкие, удлиненные полозья, казалось, несли сами. Северине оставалось только подчиняться их движению. Ее мускулы расслабились. Теперь она с легкостью управляла своим эластичным телом. Им навстречу иногда попадались неторопливые, нагруженные дровами сани, на которых сбоку, свесив ноги, сидели возницы с квадратными фигурами и обожженными лицами. Северина улыбалась им.
— Очень хорошо! Очень хорошо! — время от времени кричал ей Пьер.
Молодой женщине казалось, что этот радостный, любящий голос вырывается из ее собственной груди. И когда она услышала его предупредительное «осторожно», разве она уже не чувствовала, что сейчас удовольствие станет еще более острым? Дорога вибрировала от благородного ритма галопа. Этот ритм захватил Северину. Скорость помогала легко удерживать равновесие, и Северина перестала заботиться о нем, полностью отдалась простой, охватившей все ее тело радости. В этот момент для нее больше ничего не существовало, кроме пульсаций собственного тела в такт скачке. Теперь уже не посторонняя сила увлекала ее за собой, а она сама управляла этим безудержным, ритмичным движением. Она царила над ним, раба его и властительница одновременно. А вокруг, куда ни кинь взгляд, всюду яркая, сияющая белизна… И этот ледяной ветер, текучий, как напиток, чистый, как родник, молодость…
— Быстрее, еще быстрее! — кричала Северина.
Но Пьеру не нужно было подсказывать, и конь тоже не нуждался в подбадривании. Втроем они составляли единое целое, некое единое счастливое животное.
Свернув с дороги, они сделали неожиданно крутой поворот. Северина не смогла удержаться и, отпустив поводья, оказалась почти с головой зарытой в снежном сугробе. Однако снег был такой мягкий, такой свежий, что она, даже не обратив внимания на потекший ей за воротник ледяной ручеек, испытала еще одно наслаждение. Не успел Пьер подскочить к ней на помощь, а она уже стояла на ногах, сияющая от счастья. И они продолжили свою гонку. Когда дорога привела их к небольшому постоялому двору, Пьер остановился.
— Дальше пути нет, — сказал он. — Отдохни.
В этот ранний час в трактире не было ни одного посетителя. Пьер окинул взглядом зал и предложил:
— А может быть, нам лучше сесть снаружи? Солнце так греет.
Пока хозяйка устраивала их перед домом, Северина сказала:
— Я сразу заметила, что ресторанчик тебе не понравился. А почему? Он ведь такой чистый.
— Слишком чистый. Вылизан до того, что у него ничего не осталось. Вот у нас в любом, даже в самом крохотном кабаке какая-то есть своя патина. Там иногда в едином вдохе ощущаешь сразу целую провинцию. А здесь все на виду: дома, люди. Ты не заметила? Нет никакой тени, никакого тайного замысла, а значит, и никакой жизни.
— Очень мило с твоей стороны, — со смехом проговорила Северина, — то-то я смотрю, ты каждый день повторяешь, что любишь меня за мою ясность.
— Правильно, но тут уж ничего не поделаешь: ты моя слабость, — возразил Пьер и коснулся губами волос Северины.
Хозяйка принесла им серого хлеба с шероховатой поверхностью и пива. Все это очень быстро исчезло со стола. Пьер и Северина ели с завидным аппетитом. Время от времени они бросали взгляды на узкое ущелье, извивающееся у их ног, на ели, бережно державшие на своих ветвях снежные подушки, вокруг которых небо и солнце создавали голубовато-пепельное свечение.
Неподалеку от них села птица. У нее было ярко-желтое брюшко и серые в черную полоску крылья.
— Какой великолепный жилет, — заметила Северина.
— Это синица, самец. У самок расцветка обычно бывает более блеклая.
— Выходит, прямо как у нас с тобой.
— Я не вижу тут…
— Ну-ну, милый, ты ведь знаешь, что из нас двоих ты явно самый красивый. Как я люблю тебя, когда ты смущаешься.
Пьер отвернулся в сторону, и Северина видела теперь только его профиль, в котором от замешательства появилось что-то детское. Именно это выражение на его мужественном лице больше всего трогало ее.
— Мне хочется расцеловать тебя, — сказала она. Пьер, дабы справиться со смущением, комкал в руках снежок.
— А мне хочется залепить в тебя вот этим, — заявил он.
И не успел закончить фразу, как пригоршня рассыпчатого снега полетела ему в лицо. Он не замедлил отомстить. В течение нескольких секунд они ожесточенно кидали друг в друга снегом. Услышав шум опрокинутых стульев, на порог дома вышла хозяйка, и они, застеснявшись, прекратили сраженье. Но старая женщина лишь по-матерински улыбнулась, и точно такая же улыбка появилась на лице Северины, когда она пригладила взъерошенную шевелюру Пьера, перед тем как он сел на лошадь. Возвращаясь обратно, они гнали по городку лошадь галопом и, давая волю переполнявшей их радости, кричали что есть мочи, призывая прохожих расступиться и дать им дорогу.
Северина и Пьер занимали в гостинице номер из двух смежных комнат. Войдя к себе, она тут же сказала мужу:
— Пьер, иди переоденься. И хорошенько разотрись. Утро выдалось очень прохладное.
Видя, как она дрожит с мороза, Пьер предложил ей помочь переодеться.
— Нет, нет, — вскрикнула Северина. — Говорю тебе иди.
По взгляду Пьера и по собственному ощущению неловкости она поняла, что запротестовала слишком резко, обнаружив, что причиной отказа была не только забота о муже. «И это после двух-то лет совместной жизни», — казалось, говорили его глаза. Северина почувствовала, что краснеет.
— Поторопись, — добавила она нервно. — А то из-за тебя мы оба сейчас простудимся.
Когда переодетый Пьер вернулся в комнату, она подошла к нему и сказала, прижавшись на мгновение к его груди:
— Милый, как все-таки прекрасно мы прогулялись. С тобой каждая минута жизни получается такой наполненной.
Теперь жена была в черном платье, под которым легко угадывалось прекрасное, упругое тело. Несколько секунд они стояли не шевелясь. Они с удовольствием смотрели друг на друга. Затем он поцеловал ее в мягкий изгиб шеи у ключицы. Северина погладила его лоб. Пьер почувствовал в этом жесте какой-то прежде всего дружеский нюанс, который всегда немного обескураживал его. Он быстро поднял голову, чтобы отстраниться первым, и сказал:
— Пойдем вниз. А то мы уже опаздываем.
В венской кондитерской их ждала Рене Февре. Эта маленькая, живая, элегантная женщина, казалось, вся состоявшая из быстрых жестов и высоких интонаций, вышла замуж за одного из друзей Пьера, тоже хирурга. К Северине она прониклась глубокой и необузданной нежностью, которая победила сдержанность молодой женщины, и они быстро подружились.
Едва лишь завидев на пороге чету Серизи, Рене тут же закричала через весь зал, махая платком:
— Идите сюда, я здесь. Вы что думаете, мне очень весело сидеть тут одной среди разных англичан, немцев и югославов? Вам, наверное, хочется, чтобы я ощутила себя иностранкой.
— Ради Бога, извини нас, — ответил Пьер. — Наш чистокровный скакун занес нас слишком далеко.
— Я видела, как вы возвращались. Вы оба просто великолепны. А ты, Северина, так здорово смотришься в этом синем мужском костюме… Ну, что будем пить? Мартини? Коктейль с шампанским?.. А вот и Юссон. Он сейчас поможет нам выбрать.
Северина слегка нахмурила свои густые брови.
— Не приглашай его, — шепнула она.
Рене чересчур быстро — во всяком случае, так показалось Северине — ответила:
— Увы, моя дорогая, слишком поздно. Я уже подала ему знак.
Анри Юссон ловко и небрежно пробирался к ним, лавируя меж столами. Он поцеловал руку Рене, затем прильнул к руке ее подруги. Прикосновение его губ было Северине неприятно, словно за этим жестом таился какой-то двусмысленный намек. Когда Юссон выпрямился, она поглядела ему прямо в глаза. На изможденном лице Юссона от этого безмолвного вопроса не дрогнул ни один мускул.
— Я только что с катка, — доложил он.
— Где заставили зрителей замирать от восхищения? — спросила Рене.
— Нет. Выполнил всего несколько фигур, и все. Там была такая сутолока. Я больше смотрел, как катаются другие: это довольно интересно, когда движения выполняются правильно. Тут возникают даже мысли о какой-то ангельской алгебре.
У него был лихорадочно возбужденный, богатый интонациями голос, который контрастировал с неподвижными и изнуренными чертами его лица. Юссон пользовался им сдержанно, словно не догадываясь о его великолепии. Пьер, любивший слушать, как говорит Юссон, спросил:
— А женщины хорошенькие были?
— Да, где-то с полдюжины, что в общем-то много. Но мне интересно, где они одеваются? Вот, например, мадам (он повернулся к Северине), вы, наверное, обращали внимание на ту высокую датчанку, что живет в нашей гостинице… Представьте себе, на ней было полосатое оливковое трико с розовато-кремовым шарфом.
— Какой ужас! — вскричала Рене.
Юссон продолжал говорить, не отрывая глаз от Северины.
— Между прочим, этой девочке с ее бедрами и грудью лучше всего было бы вообще ходить голой…
— А вы, я бы сказал, не слишком требовательны, — заметил Пьер со смехом. — Это вы-то…
Он дотронулся до мохнатой шубы, в которую, несмотря на жару в помещении, был укутан Юссон и из которой выглядывали только длинные, худые, изящные кисти его зябких рук.
— Одежда у женщины — это своеобразный аксессуар ее чувственности, — заявил Юссон. — Если ты целомудренна, то одеваться, мне кажется, просто неприлично.
Северина сидела, повернув голову в сторону, но продолжала ощущать на себе его цепкий взгляд. Ее смущение было вызвано даже не столько словами Юссона, сколько тем упорством, с каким он предназначал их специально ей.
— Одним словом, ангелы катка вам не понравились? — спросила Рене.
— Я этого не сказал. Но дурной вкус раздражает меня, что уже приятно.
— То есть, чтобы вам понравиться, — произнесла Рене весело, но, как показалось Северине, менее естественным, чем обычно, тоном, — нужно одеваться безвкусно.
— Да нет, отнюдь, — сказал Пьер. — Я очень хорошо понял. Просто в некоторых сочетаниях цветов есть какая-то провокация. Напоминает злачное место, так ведь, Юссон?
— Сложные существа, эти мужчины, ты не находишь? — спросила Рене Северину.
— Слышишь, Пьер?
Он рассмеялся своим мужским и одновременно нежным смехом.
— О, я только стараюсь все понять, — ответил он.
— Когда немного выпьешь, то это довольно легко.
— А вы знаете, — сказал вдруг Юссон, — что вас принимают за молодоженов, совершающих свадебное путешествие? Совсем неплохо для супругов, проживших два года вместе.
— И немного смешно, не правда ли? — спросила Северина явно агрессивным тоном.
— Отчего же? Я ведь только что признался, что зрелища, вызывающие у меня раздражение, мне отнюдь не неприятны.
Пьер испугался ярости, отразившейся вдруг на лице жены.
— Скажите-ка, Юссон, — поспешил он сменить тему, — вы сейчас в форме для заезда? Надо непременно выиграть у оксфордцев.
Они заговорили о бобслее, о командах соперников. И в конце разговора Юссон предложил супругам Серизи поужинать вечером вместе.
— Это невозможно, — возразила Северина. — Мы уже приглашены.
На улице Пьер спросил ее:
— Юссон тебе так неприятен, что ты даже начинаешь лгать. Но почему? Смелый спортсмен, превосходно начитанный человек, не злословит…
— Не знаю. Терпеть его не могу. У него такой голос… как будто он постоянно ищет в тебе что-то такое, чего тебе не хотелось бы… А его глаза… ты заметил, они все время какие-то неподвижные? И еще этот его зябкий вид… Да и знакомы мы с ним всего две недели… — Здесь она сделала резкую паузу. — Скажи, мы ведь не будем встречаться с ним в Париже? Ты молчишь… Уже успел пригласить. Ах, мой бедный, мой милый Пьер, ты неисправим. Ты такой доверчивый, так легко сходишься с людьми… Не возражай. Это одна из твоих прелестей. Ладно, я на тебя не очень сержусь: в Париже все проще. Я смогу не встречаться с ним.
— А вот Рене не будет так избегать его.
— Ты думаешь…
— Я ничего не думаю, но в присутствии Юссона она молчит. Это не случайно. Кстати, где мы будем сегодня ужинать? Не должны же мы страдать от собственной хитрости.
— Да у себя в номере и поужинаем.
— А потом? Может, сходим поиграем в баккару?
— Нет, милый, я тебя умоляю. Причем вовсе даже не из-за денег, которые ты можешь проиграть; просто ты же сам говоришь, что после этого у тебя во рту остается привкус золы. А кроме того, у тебя завтра соревнования. И мне хочется, чтобы ты выиграл.
— Ладно, пусть будет по-твоему, дорогая.
И он добавил как бы помимо собственной воли:
— Вот никогда бы не подумал, что можно повиноваться и испытывать от этого такое удовольствие.
Оттого, что Северина нежно смотрела на него своим чуть тревожным девичьим взглядом.
Вечером они пошли в театр. Труппа из Лондона давала «Гамлета». Хельсингерского принца играл молодой, но уже знаменитый актер-еврей.
Северина, хотя она и воспитывалась в Англии, к Шекспиру особой любви не питала. Но когда они возвращались домой, сидя в санях и глядя на мерцающие в лунном свете снежинки, она старалась не нарушать молчания Пьера. Она догадывалась, что он все еще пребывает во власти благородной печали, и, не разделяя ее, любовалась ее отражением на красивом лице мужа.
— Мовельский и в самом деле гениален, — прошептал Пьер, — …просто невероятно гениален. Любовь к плоти у него ощущается даже в безумии, даже в смерти. Нет искусства более заразительного, чем то, где речь идет о плоти. Ты не согласна со мной?
Северина медлила с ответом, и тогда он задумчиво добавил:
— Хотя да, ты не можешь этого знать…
II
В последние дни их пребывании в Швейцарии у Северины поднялась температура, она чувствовала себя больной и подавленной. И, едва добравшись до Парижа, она слегла с воспалением легких.
Болезнь протекала исключительно тяжело. На протяжении всей недели, когда ее испещренную скарификатором кожу терзали банками, а ее кровью кормились пиявки, Северина задыхалась и находилась буквально в преддверии смерти. Иногда приходя в себя, молодая женщина различала рядом с кроватью сухой силуэт матери и слышала со смутным удовлетворением звук чьих-то шагов в комнате, но не узнавала их. Потом снова погружалась в горячечное, глухое существование окруженного опасностями растения.
Однажды утром, когда слабый свет подкрался, словно какое-то странное, не внушающее доверия животное, к ее постели, она вышла из этого растительного состояния. У нее страшно болела спина, но дышалось ей уже гораздо легче. Рядом, на стуле, кто-то сидел. Наверное, это Пьер, подумала Северина. Имя мужа, как-то автоматически вернувшееся в ее сознание, вызвало у нее лишь смутное ощущение безопасности. Рука Пьера коснулась ее лба, погладила его. Северина отвернулась. Пьер решил, что это было бессознательное движение, но Северине и в самом деле не хотелось, чтобы он дотрагивался до нее. Она чувствовала себя так хорошо, ей настолько никто не был нужен сейчас, что она испытывала потребность забыть все, что было не ею.
Эта тяга к одиночеству, этот ее эгоизм обособления от всего вокруг проходили у нее очень медленно. Она часами могла созерцать свои похудевшие, синие от проступивших нежных вен запястья или еще сохранившие болезненно-сиреневый оттенок ногти. Когда Пьер что-то говорил ей, она не отвечала. Любовь мужа была ничем по сравнению с той любовью, которую она испытывала к своему собственному телу. Оно было таким драгоценным, таким огромным и обильным! Северине казалось, что она явственно различает нежный ропот питающей его крови. И она сладострастно прислушивалась к тому, как с каждым днем прибывают ее силы.
Иногда по выражению ее замкнутого, словно хранящего тайну лица можно было догадаться о каких-то странных видениях, теснящихся у нее в сознании. Если в такие минуты Пьер заговаривал с ней, Северина отвечала ему взглядом, наполненным одновременно и нетерпением, и негой, и смятением.
Когда ей казалось, что она уловила в том или ином жесте мужа что-то похожее на желание, ею тут же овладевало чувство протеста и отвращения.
А Пьер в такие мгновения любовался лицом Северины. От перенесенной болезни она так похудела, что стала походить на хрупкого подростка. И из-за этого казалась воплощением юности и целомудрия.
Силы быстро вернулись к Северине, но это не доставило ей радости. По мере того как горячка оставляла ее тело, улетучивалась и появившаяся вместе с болезнью какая-то неопределенная, неведомая ей ранее чувственность. На ноги Северина встала с ощущением неуверенности в себе. Она бродила из комнаты в комнату, как бы пытаясь вновь научиться жизни.
Все в квартире, включая кабинет Пьера, Северина обставила по своему вкусу. До болезни она любила следить за порядком, созданным ее заботами, потому что благодаря ему в квартире было просторно и уютно, и еще потому, что он нес на себе печать ее власти. Конечно, она и сейчас гордилась своим домом, но эта гордость утратила отныне свою конкретность, обесцветилась. Теперь вся ее жизнь — легкая, обеспеченная, размеренная — показалась ей однообразной. Родители, которых она видела гораздо реже, чем гувернанток, годы пансиона в Англии, заполненные спортом и дисциплиной… Да, конечно, у нее есть Пьер, собственно, кроме него, у нее вообще никого нет… Мысленно представляя себе столь милое ей лицо мужа, Северина мягко улыбалась, но дальше в своих мечтаниях не шла. Однако в ней сохранилось еще какое-то ожидание, смутное, упорное, властное, незаметно обходившее стороной образ Пьера, скользившее за образуемую им неосязаемую массу к незнакомому горизонту, ожидание, которое тревожило ее и которое ей никак не хотелось признавать.
«Вот сыграю несколько раз в теннис, и все уладится», — говорила она себе, словно отвечая на какой-то невысказанный упрек.
Так думал и Пьер, когда видел ее задумчивой, апатичной.
Во время этого странного выздоровления был один день, который показался Северине более ярким, чем все остальные, — когда она впервые получила цветы от Юссона. Прочтя вложенную в букет записку, она сначала ощутила что-то похожее на потрясение. Она успела уже забыть о существовании этого человека, а вот теперь у нее было такое ощущение, словно она ждала, чтобы это имя вновь зазвучало в ее жизни. До самого вечера она думала о нем со смешанным чувством тревоги и неприязни. Но это нервозное замешательство настолько соответствовало ее состоянию и настроению, что оно переросло у нее в какое-то щемящее удовольствие.
За первым букетом последовали другие.
«Ведь он же видел, что я терпеть его не могу, — подумала Северина. — Я не благодарю его и Пьеру тоже запретила делать это. А он все продолжает…»
Она представила себе неподвижные глаза Юссона, его зябкие губы и вздрогнула от отвращения, которое медленно поднималось в ней откуда-то изнутри.
Между тем к ней каждый день заходила Рене Февре. Она входила торопливо, не снимая шляпы, заявляла, что у нее в распоряжении всего несколько минут, и просиживала часы. Северина охотно погружалась в поток ее речей. Пустая трескотня, оглушая, одновременно успокаивала. Она переносила ее в незатейливый мир, где все разговоры сводились к платьям и разводам, к любовным связям и румянам… Временами, правда, Северине казалось, что какая-то горестная усталость старит лицо подруги и что в самой ее живости есть что-то машинальное.
Как-то раз, когда они сидели вдвоем, Северине принесли визитную карточку. Она повертела ее немного в руках, потом сказала Рене:
— Анри Юссон. Наступило молчание.
— Ты не примешь его, — внезапно вскричала Рене.
Этот резкий, напряженный тон был настолько не похож на ее обычную манеру говорить, что Северина чуть было не подчинилась не раздумывая. Но когда удивление ее прошло, она спросила:
— Отчего же?
— Не знаю, так… Мне помнится, он тебе не нравился. И потом, я должна еще так много рассказать тебе.
Не поведи себя Рене таким странным образом, Северина скорее всего постаралась бы не встречаться с Юссоном, но столь явное намерение подруги помешать этой встрече пробудило у нее одновременно и любопытство, и желание настоять на своем.
— Могу же я изменить свое мнение, — проговорила она. — И потом… все эти цветы, которые он мне посылал.
— А… он тебе посылал…
Рене порывисто встала, словно собиралась бежать, но ей никак не удавалось надеть перчатки.
— Что с тобой, дорогая? — спросила Северина, обеспокоенная этим смятением. — Со мной ты можешь быть совершенно откровенной. Ты что, ревнуешь?
— Нет, вовсе нет… Я бы сразу тебе сказала. Ты любишь, чтобы все было начистоту, и поняла бы меня. Нет, просто я боюсь. Он играет мной. Теперь я в нем разобралась. Это очень извращенная личность. Он получает удовольствие только от мозговых комбинаций. Он, например, сделал все, чтобы я начала презирать себя… и весьма преуспел в этом… А с тобой наоборот, у тебя он старается еще больше развить то отвращение, которое ты к нему испытываешь. Он находит в таких вещах огромное наслаждение. Будь осторожна, милая, он опасен.
Ничто в такой мере не могло подстегнуть решимости Северины, как эти слова.
— Ты сама сейчас посмотришь, — сказала она.
— Нет… нет, я не могу.
После ухода Рене Северина встала с кушетки и попросила пригласить Юссона. Увидев ее сидящей за небольшим столиком и как бы защищенной вазой с густым букетом ирисов, сквозь которые ее было плохо видно, он улыбнулся. Эта его затянувшаяся улыбка, подчеркнутая неестественным молчанием, поколебала спокойствие Северины.
Она почувствовала себя еще неуютнее, когда Юссон, усевшись напротив нее, отодвинул цветы в сторону.
— Серизи нет дома? — спросил он внезапно.
— Естественно. А то бы вы его уже увидели.
— Я полагаю, что он не отходит от вас, когда бывает дома. И… и вам его не хватает?
— Очень.
— Прекрасно вас понимаю, я и сам получаю огромное удовольствие от одного только его вида. Он красив, весел, не склонен к опрометчивым поступкам, отличается верностью. Такой спутник жизни большая редкость.
Северина резко сменила тему. Любая похвала, изрекаемая этими устами, принижала, обесцвечивала образ Пьера.
— Благодаря одной подруге, которая навещает меня каждый день, я не слишком скучаю, — сказала Северина.
— Госпожа Февре?
— Вы видели, как она выходила из дома?
— Нет, я чувствую запах ее духов, какой-то немного умоляющий, как и она сама.
Он засмеялся, вызвав у Северины приступ отвращения.
— На секунду к вам возвратился ваш обычный вид, — заметил Юссон.
— Я так сильно изменилась? — спросила молодая женщина, слегка вздрогнув.
Она тут же рассердилась на себя за неуместное беспокойство, которое, как она почувствовала, прозвучало в ее вопросе.
Юссон ответил:
— Я нахожу, что у вас исчезло ваше девичье выражение лица.
— Благодарю за комплимент.
— Обычно вы более откровенны наедине с собой… Северина ожидала, что он как-нибудь объяснит свои слова. Но объяснения не последовало. Чтобы показать свое недовольство, Северина слегка привстала и сделала вид, что ей нужно поправить стоящие рядом с ней цветы.
— Вы, наверное, устали сидеть, — сказал Юссон.
— Не надо стесняться меня. Вам следует прилечь.
— Уверяю вас, я привыкла…
— Нет, в самом деле, а то Серизи будет сердиться на меня. Ложитесь.
Он встал и отодвинул кресло, чтобы пропустить ее.
Северине захотелось ответить ему жестко и четко, как это ей обычно легко удавалось до болезни, но сейчас она не могла найти нужных слов. Не желая, чтобы это становящееся смешным противоборство излишне затянулось, она, раздраженная и смущенная, все-таки прилегла на кушетку.
— Если бы вы знали, насколько лучше вы смотритесь в такой позе, — мягко возобновил беседу Юссон. — Вы, должно быть, полагаете — и, похоже, вам об этом не раз говорили и другие, — что вы созданы для движения. У людей поверхностный взгляд на вещи. Еще в самый первый раз как только я вас увидел, то сразу же представил вас лежащей. И я был прав! Какая внезапная мягкость! Какая исповедь тела…
Продолжая говорить, он подался немного назад, так, чтобы Северина не видела его лица. Остался лишь его голос, тот самый голос, богатых возможностей которого обычно он вроде бы и не замечал и который сейчас превратился у него в опасный музыкальный инструмент. Он проникал исподволь и растворял волю, воздействовал не столько даже на уши, сколько на нервные клетки. Внутренне сжавшись, Северина внимала ему и никак не могла найти в себе силы, чтобы заставить его замолчать. Ослабевшая от чрезмерных для нее усилий, плененная вкрадчивыми звуковыми волнами, молодая женщина испытывала такое чувство, будто, как и в период своего выздоровления, она опять погрузилась в то безликое сладострастие, которое окутывало ее тогда.
Вдруг на плечи ее легли две руки, жадное дыхание обожгло ей губы. В течение какой-то не поддающейся измерению доли секунды она вся находилась во власти острого удовольствия, которое, однако, тотчас же уступило место безграничному отвращению. Не помня себя, она встала и торопливо, тихим, пришедшим откуда-то из глубины ее плоти голосом прошептала:
— Нет, вы не созданы для насилия.
Они долго глядели друг на друга. В эту минуту между ними исчезли буквально все барьеры. Каждый открывал в глазах другого чувства, инстинкты, являвшиеся, может быть, тайной за семью печатями даже для них самих. Так Северина прочитала в глазах Юссона восхищение, от которого ей стало не по себе.
— Вы правы, — проговорил он наконец. — Вы заслуживаете нечто намного более ценное, чем я.
Прозвучавшая в его голосе полная непритворного почтения нежность была сродни той нежности, что витает вокруг избранных Богом жертв.
После ухода Юссона чувства Северины были какими-то нейтральными, невыразительными, и в них не было призыва к действию. Она поняла вдруг, что не испытывает больше к нему ни злости, ни отвращения, и не удивилась этому. Знала она и то, что никогда не уступит ему и что он тоже больше ничего не предпримет по отношению к ней. Тем не менее теперь она воспринимала его как своего сообщника.
Неожиданно ей пришло в голову, что стоило бы рассказать об этой сцене Пьеру. Она так привыкла все ему рассказывать, что у нее не появилось даже и тени желания что-либо утаить от него на этот раз. Хотя при мысли об этом рассказе ею овладевала тоска. Пьер казался ей настолько чуждым этому миру, в котором она только что побывала.
— Пьер, Пьер…
Северина заметила, что повторяет имя мужа как заклинание, словно надеясь, что благодаря этому он вот-вот предстанет перед ней сам. Но действие своеобразной анестезии продолжалось еще долго. Когда она услышала шаги Пьера, то не стала беспокоиться по поводу того, как ей лучше сообщить мужу о попытке Юссона. Он, наверное, сразу же заметит по ее лицу, что произошло нечто ненормальное, начнет расспрашивать, и она расскажет… Разве это так уж важно?
Однако, вопреки ее ожиданию, Пьер не стал влюбленно и внимательно вглядываться в лицо жены. Он лишь едва коснулся губами ее щеки. Такое поведение мужа вернуло Северину к реальности гораздо быстрее, чем это сделали бы настойчивые расспросы. У нее возникло ощущение, что она лишается своей постоянной опоры, которую она даже перестала замечать, что почва уходит у нее из-под ног. Ее поразило лицо Пьера. Осунувшееся, безучастное, оно, казалось, принадлежало какому-то другому человеку. В его больших глазах, несмотря на все его старания казаться невозмутимым, застыли растерянность и тревога.
— Ты чем-то огорчен, милый? — спросила Северина. Пьер вздрогнул и взял себя рукой за подбородок, словно пытаясь сдержать дрожание нижней челюсти.
— Не беспокойся, — сказал он. — Просто неприятности по работе…
Он попробовал улыбнуться, но почувствовал, что улыбка получилась жалкая, и отказался от своих попыток. Раньше Пьер все время старался оградить ее от всех печальных подробностей своей тяжелой, сопряженной с кровью работы, никогда не посвящал ее в свои профессиональные дела, и Северина решила, что вряд ли он станет распространяться о причинах своей печали. Но на этот раз ноша, очевидно, была слишком тяжела, и Пьер продолжил:
— Знаешь, это просто ужасно… Я никак не предполагал… Ничто не предвещало… Такой веселый малыш итальянец…
Так как он не договорил, Северина очень тихо спросила:
— Умер, да? Во время операции?
Пьер хотел что-то ответить, но не смог унять дрожание губ. И тут все, что было в душе Северины смутного, несовместимого с Пьером, внезапно исчезло. Осталась одна только безграничная нежность, огромное материнское чувство, в котором, казалось, растворилось все ее сердце. Она обхватила руками голову Пьера и зашептала какие-то непроизвольно вырывающиеся у нее слова утешения:
— Маленький мой, ты же не виноват. Не надо терзать себя. Когда ты мучаешься, я понимаю, что вся моя жизнь — это только ты.
III
Северина проснулась очень рано. Несмотря на то, что отдых оказался непродолжительным, она чувствовала себя такой свежей и проворной, что первым ее побуждением было поскорее вскочить с постели. Но ее остановило присутствие неподвижного тела, распростертого рядом с ней и ограничивающего свободу ее действий. Пьер был с ней… впервые после ее болезни они провели ночь вместе. Как же хорошо ей спалось — без снов, без сомнительных ощущений.
Значит, это он защищал ее? Неужели, отдавая себя, она избавилась от наваждения?
А ведь к Пьеру ее подтолкнуло только желание помочь ему как можно скорее одолеть свою печаль. Для нее же, как и раньше, вся ее невинная услада сводилась к сознанию, что она делает его счастливым. Когда он прижал ее к себе, у Северины промелькнуло в голове, не превратятся ли сейчас те смутные удовольствия, что томили ее во время выздоровления, в неведомый ей восторг. Но когда Пьер разомкнул объятия, то увидел, что взгляд Северины остался таким же девственным, как и прежде. Посетившее ее на мгновение неясное разочарование тут же исчезло, когда она увидела, как лицо Пьера, только что омраченное тяжелыми мыслями, вновь обрело свою мужественность, свою мягкость.
В полумраке рассвета она едва видела Пьера, но ей достаточно было его неподвижного силуэта и очертаний головы, чтобы ясно представить себе прекрасные черты мужа. Спящий Пьер дышал доверчиво, словно маленький мальчик. Глядя на него, Северина ощутила глубокое волнение. Два года их совместной жизни прошли день за днем у нее в памяти, напомнив ей яркий, ровно горящий костер. Какими же легкими сумел их сделать для нее Пьер! В его заботливости не было ни одного изъяна. С какой покорностью он, чья гордость во взаимоотношениях с другими была ей так хорошо известна, делал все ради ее счастья!
Тишина в спальне располагала к благодарности и угрызениям совести.
«Способна ли я оценить его любовь?» — мысленно спрашивала себя Северина. — «Всегда ли старалась доставлять ему радость? Все, что бы он ни делал для меня, я принимала как нечто само собой разумеющееся, как должное».
Она не без удовольствия адресовала себе эти упреки. Ничто так не подталкивает решительную натуру к действию, как признание собственных ошибок, когда созрело желание их исправить. Желание и средства. А между тем к Северине пришло одновременно и понимание того, чем она обязана Пьеру, и сознание того, как велика ее власть над ним. Еще день назад ей и в голову бы не пришло, что ее голос и ее руки в состоянии так быстро вернуть покой впавшему в уныние сердцу.
«Теперь я знаю, — подумала Северина, — он зависит от меня, как ребенок».
Она вспомнила, что Пьер называл ее иногда своим наркотиком. Она не воспринимала мрачную и властную тень этого слова, не любила само его звучание, настолько ей было отвратительно все, что отклонялось от здоровья и нормы. Она никогда не задумывалась о тех своеобразных знаниях, которые, вероятно, накопились у мужа до встречи с ней. Что им еще надо, если между ними царит такая нежность, такая простота?
Северина подумала об ослепительной улыбке Пьера, о его прохладных, решительных руках. На какое-то мгновение она испугалась, что и эта улыбка, и свежесть его рук находятся всецело в ее власти.
«Сколько же зла я могу ему причинить!» — подумалось ей.
К этому беспокойству не примешивалось никакого самодовольства. Возникшая у нее мысль позволила Северине лишь отчетливее осознать всю глубину и цельность своей любви. На всем свете у нее не было никого, кроме Пьера, единственного дорогого ей человека.
Ее уверенность была столь сильна, имела столь глубокие корни, что мимолетное опасение вызвало у Северины лишь улыбку. Что бы ни случилось, Пьер никогда не будет страдать по ее вине. Какая чудесная теплота разливается у нее в сердце при мысли об этом человеке с дыханием ребенка. Коль скоро в ее руках находятся и его боль, и его радость, она сумеет сделать так, чтобы каждый день был для него счастливым. И так будет всегда, до конца их неразлучной жизни. До последних дней своих пройдут они рука об руку, ничем не омрачая их. Северина сознавала, что она в ответе за это прекрасное пламя, горящее в их душах, но чувствовала в себе столько силы, чистоты и любви, что эта миссия показалась ей и великолепной, и не очень трудной.
Другая, возможно, вспомнила бы тут и про свои навязчивые сны после болезни, и про странные узы, не далее как вчера образовавшиеся между нею и Юссоном. Однако полученное Севериной воспитание, скорее физическое, нежели духовное, не очень подверженное недугам тело, уравновешенный характер, естественная предрасположенность к покою и веселью весьма успешно уберегали ее от самоанализа. Она обращала внимание лишь на поверхностный слой своих эмоций, контролировала лишь внешнюю часть самой себя. Поскольку Северина полагала, что в полной мере управляет собой, то она даже и не догадывалась о существовании ее основных, еще дремлющих сил и, стало быть, не имела над ними никакой власти. Так как эти скрытые резервы до сих пор служили опорой некоторым склонностям, которые ее разум считал нормальным, ее желания всегда отличались нетерпеливой, неукротимой силой, которой она уступала сразу и без колебаний.
Северине не терпелось продемонстрировать Пьеру свою новую, переполнявшую ее нежность, и, не удержавшись, она поцеловала его долгим поцелуем в лоб. Пребывая еще в том зыбком состоянии полусна, когда неуправляемое тело подчиняется инстинктам, Пьер прильнул к Северине. Несколько секунд он оставался сопряженным с этой темной и теплой вселенной, как воспринимается любимая женщина, прежде чем стать фактом сознания. Потом он прошептал еще полным грез голосом:
— Любовь моя, дорогая моя любовь.
Северина осторожно зажгла лампу, стоявшую на низком столике возле постели. Ей нужно было видеть чистое, бесхитростное, высшее счастье, которое отразилось в этих словах. Свет, пробиваясь сквозь непрозрачный шелк, мягко распространился по комнате. Пьер не вздрогнул, не пошевелился, но то, что Северине хотелось увидеть, — биологическую таинственность лица в тот момент, когда оно еще принадлежит только теням и жизни, — успело улетучиться. К нему вернулось отчетливое восприятие окружающего.
— Как же я счастлив вновь обрести тебя… — сказал он. — Мне так не хватало тебя.
Вдруг Пьер открыл глаза.
— Да, вот так… — проговорил он, — маленький Марко… этот маленький итальянец. Он очень любил, когда я играл с ним.
На этот раз Северине достаточно было лишь погладить волосы Пьера, чтобы он тут же успокоился.
— Я уже не ощущаю боли, — сказал он вполголоса.
— Я настолько переполнен тобой. И у меня уже не хватает отзывчивости на остальных.
— Молчи. Если бы все были такими, как ты, жизнь была бы намного лучше. Знаешь, — с чувством сказала Северина, — я столько сейчас думала о тебе.
— Так ты, значит, уже давно проснулась? Но ведь еще такая рань, только-только рассвело. Ты что, плохо себя чувствуешь? А я-то разоспался.
Северина нежно рассмеялась.
— Не пытайся поменяться ролями, — проговорила она. — Я только хотела сказать тебе, как ты мне дорог, и узнать, как сделать тебя счастливым…
Она замолчала, словно взяла фальшивую ноту. На лице Пьера отразились легкое изумление и сильное смущение.
— Я тебя умоляю… — пробормотал он. — Очень мило, просто чересчур мило с твоей стороны. Но только это ты мой ребенок.
— В любом случае, — продолжила свою мысль Северина, — нужно, чтобы я больше участвовала в твоей жизни. Я хочу знать все, что ты делаешь: твоих больных, твои операции. А то я ни в чем не помогаю тебе.
Вместо чувства признательности за эти слова Пьера охватило чувство вины. Подобно всем деликатным и сильным мужчинам, он был устроен таким образом, что, любя, воспринимал даже самую незначительную заботу о себе как проступок, совершенный им по отношению к Северине.
— Вчера вечером я распустился, — ответил он, — и вот ты уже беспокоишься обо мне. Мне прямо стыдно. Не волнуйся, родная, тебе больше не придется страдать из-за таких вещей.
Северина сделала едва заметное нетерпеливое движение. Как же это все-таки трудно — исполнить подсказанное любовью настойчивое намерение. Прямо все оборачивалось против ее замысла. Она хотела быть полезной Пьеру, а получилось, что это он непрестанно оказывал ей свои услуги.
Конечно, кроме его работы была еще и духовная жизнь, были любимые им книги, его мысли, которые она могла бы попытаться разделить с ним. Но здесь Северина, несмотря на все свои старания, чувствовала себя бессильной. Для того чтобы заняться тем, к чему ее никогда не тянуло, ей не хватало культуры, способностей, увлеченности.
Чувствуя, как ею овладевает растерянность, и испытывая одновременно огромную потребность дарить и помогать, она прошептала:
— Ну что, скажи мне, любовь моя, могу я для тебя сделать?
То, как было это сказано, заставило Пьера с вниманием склониться к ней. Они пристально смотрели друг на друга, словно впервые открывая себя. И молодая женщина прочла в глубине его больших серых глаз трепещущую мольбу:
«Ах, Северина, Северина, если бы ты отдавала мне свое тело не только ради моего удовольствия, но и сама смогла бы познать наслаждение и раствориться в нем».
Во взгляде Пьера был такой сильный, такой страстный призыв, что Северина почувствовала такое волнение плоти, какого не испытывала еще никогда. То, что накануне она на какое-то мгновение ощутила с Юссоном теперь она почувствовала снова, но уже вместе со счастьем нежности. Пусть вот сейчас Пьер схватит ее руками — сила их ей была хорошо известна, и она столько раз видела его перекатывающиеся сильные бицепсы, — пусть крепко обнимет ее, и она, наверное, обязательно растает от наслаждения, которое он давно жаждет ей подарить. Однако, оказавшись в объятиях Пьера, Северина уловила в его взгляде отблеск признательности. И опять, как и прежде, отдалась ему с материнским чувством.
Потом Пьер и Северина долго лежали без движения.
О чем, о ком думал Пьер? Может быть, о любовницах, которые были у него прежде и которых он даже не любил, но, независимо от этого, они все же достигали с ним почти запредельного блаженства… А может быть, о несправедливости судьбы, наградившей лежавшую рядом с ним любимую и любящую его женщину, ради которой он отдал бы жизнь, бесчувственным телом, не способным на то абсолютное слияние, которого он жаждал с безудержной, фанатичной страстностью.
Северину охватывало печальное оцепенение от мысли, что она, обладая огромной властью над Пьером, так и не добилась, чтобы принадлежавшая ей душа раскрылась перед нею. Эта душа, сама того не ведая, отвергала ее, так же как ее тело отвергало его плоть.
Установившееся молчание было насыщено горечью поражения.
К счастью, между ними существовала пылкая, все сглаживающая дружба. Ни одно из их сближавших чувств не пострадало. Напротив, они испытывали еще большую потребность в общении, подтверждавшем, что все осталось как прежде. Сама того не замечая, Северина вложила свою руку в ладонь мужа. Он крепко сжал ее, без всякого чувственного волнения, просто как товарищ, как спутник, идущий вместе с ней по жизни. Она ответила ему тем же. Они осознавали, что их любовь была выше диссонанса, в котором они не были виноваты.
«Наслаждение, — подумалось им одновременно, — это всего лишь скоротечное пламя. А мы владеем более редким и более надежным сокровищем».
Наступил день, рассеивающий таинственные, чересчур глубокие разноречия инстинктов, этих лиан мрака. Пьер и Северина смотрели друг на друга и улыбались. Юный свет, беспощадный ко всему увядающему, был милосерден к их юным лицам. Полные свежести, входили они в новый день.
— Еще так рано, — сказала Северина. — У тебя до работы еще есть время? Проводи меня в Булонский лес.
— Ты не боишься, что устанешь?
— Да я уже давно выздоровела, одевайся быстро. Когда Пьер вышел из комнаты, Северина вспомнила, что еще не рассказала ему о Юссоне.
«Не буду ничего говорить, — решила она. — Мне не хочется, чтобы он расстраивался из-за пустяков».
Оттого, что она впервые что-то скрыла от Пьера, Северина почувствовала нечто вроде гордости за себя и поэтому же — еще больший прилив любви к мужу.
IV
У Северины было такое ощущение, словно из нее изгнали злых духов. Незнакомка, стоявшая недавно на пороге смерти, поддавшаяся в период болезни и потом, в период возвращения к жизни, соблазнам, игре каких-то необычных, порочных образов, которые на несколько недель примешались к ее чистому существу — единственному, признаваемому Севериной, — и уже начали было разлагать элементы ее нравственности, теперь отделились от нее, как ей казалось, навсегда. Порождение болезни, эта тень рассыпалась в прах, как только к Северине вернулось здоровье и ее сознание начало нормально воспринимать окружающий разумный мир.
Она уверенно заняла в нем свое место. Питание, сон, нежная привязанность, здоровые удовольствия — все, как и прежде, служило Северине и помогало поддерживать душевное равновесие. Обновленные желания, возросший интерес к деталям бытия стимулировали ее жизненные силы. Она ходила из одной комнаты в другую, как будто ожидала каких-то открытий. Мебель, предметы сообщали ей о своей глубокой и полезной взаимосвязи. Она снова научилась управлять ими, управлять прислугой, управлять своими чувствами и своей жизнью.
На ее серьезном лице эти окрепшие силы и убыстрившееся внутреннее движение отражались лишь в виде сдержанного сияния. Еще никогда Пьер не находил ее столь соблазнительной, и она тоже никогда прежде не выказывала ему такой действенной нежности, так как единственным заметным следом, оставшимся у Северины от неприятного кризиса после болезни, было принятое ею решение делать все, что только возможно, для счастья мужа. Из первой слишком откровенной попытки ничего не вышло, но изначальное желание от неудачи не пропало. Оно проявлялось в модуляциях голоса, в неизменной ее кротости, которая одновременно и трогала Пьера, и беспокоила его. Ее заботливость смещала ось, по отношению к которой выстраивалась до сих пор его жизнь.
Однако его опасения рассеяли две черточки, в которых он узнавал прежнюю Северину: она выказывала все ту же, почти суровую стыдливость, что и прежде, и она не изменила своей манеры одеваться.
Туалеты Северина обновляла с радостной готовностью, какую привносила теперь буквально во все, но, как и раньше, выбирала ткани и фасоны, рассчитанные на молодых девушек. Иногда Пьер сопровождал ее к портным и модисткам, чтобы разделить удовольствие Северины от этих визитов и еще чтобы цены, как бы высоки они ни были, не поколебали ее решимости. Но настоящим неразлучным спутником Северины в этих долгих походах была Рене Февре. Среди отрезов, манекенщиц, закройщиц, продавщиц эта молодая женщина обнаруживала свое истинное призвание. Она привносила в это дело определенную долю лиризма, неподдельную заинтересованность и безукоризненный вкус. Северина, менее предрасположенная к таким занятиям и всегда склонная побыстрее их заканчивать, очень ценила самоотверженную помощь Рене.
Но вот однажды вечером, когда ей нужно было отправиться на решающую примерку, она прождала подругу напрасно. Рене присоединилась к ней лишь позже, у портного, когда Северина уже успела надеть новое платье.
— Извини меня, — воскликнула Рене, — но если бы ты только знала…
Она едва взглянула на платье Северины, никак не выразив своего мнения, а потом, когда закройщица на минуту отошла, быстро зашептала:
— Я пила чай у Жюмьежей и узнала невероятную вещь. Анриетта, представь себе, наша подруга Анриетта регулярно ходит в дом свиданий.
Поскольку Северина никак не отреагировала на это сообщение, Рене продолжала:
— Не веришь? Сначала я тоже не поверила, но мне рассказали всякие подробности, из-за которых я, собственно, и опоздала. Тут не может быть никаких сомнений. Жюмьеж сам, когда телефонистка соединила его с Анриеттой, собственными ушами слышал ее беседу с содержательницей заведения. А ты ведь знаешь Жюмьежа. Он хоть и болтун, но не лжец. Ну и потом, это уже было бы преступлением… Естественно, все должно оставаться в тайне. Жюмьеж попросил никому не рассказывать.
— Ну, значит, это станет известно всем на свете, — безмятежно проговорила Северина. — А что все-таки ты думаешь о моем платье? Ведь мне его нужно надевать завтра вечером.
— Ой, извини, дорогая. У меня не такая крепкая голова, как у тебя. Ладно… Послушайте, мадемуазель.
И она стала делать скрупулезные замечания портнихе, хотя Северина чувствовала, каких усилий воли стоило Рене это занятие, которое обычно поглощало ее целиком. Когда закончилась примерка, Рене спросила:
— Что ты собираешься сейчас делать?
— Еду домой. Пьер вот-вот вернется.
— Тогда я провожу тебя. Должна же я рассказать тебе об Анриетте. Я тебя не понимаю…
Едва они сели в машину, как Рене тут же возобновила разговор:
— Нет, в самом деле, я совершенно не понимаю тебя… О таких вещах тебе рассказываю, а ты — хоть бы что.
— Да, но ведь я видела Анриетту от силы два раза. Ты же сама знаешь…
— Неважно, сто раз или два раза. Уже сам факт, один только факт, даже если бы речь шла о какой-нибудь совершенно незнакомой женщине, которая… которая… у меня слов просто нет… Ну ты представь себе на минуту, а то я смотрю, у тебя все мысли о твоем платье… Женщина нашего круга, победнее нас, конечно, но в общем-то такая же женщина, как ты или я, — и вдруг ходит в дом свиданий.
— Дом свиданий? — машинально повторила Северина.
Удивленная тоном подруги, Рене сначала опешила, а потом, через несколько секунд, понизив голос, сказала:
— Мне следовало бы подумать об этом раньше. Ты ведь далека от всего этого… Ты чиста, и тебе просто не понять этот ужас. Лучше уж…
Однако неодолимая потребность выплеснуть свои эмоции не позволяла Рене молчать.
— Нет, ты все-таки должна знать, — вскричала она. — Вреда это тебе не причинит: нельзя же жить с закрытыми глазами. Послушай, даже с мужчиной, к которому не испытываешь ничего, кроме нежности («она имеет в виду своего мужа», — подумала Северина и тут же упрекнула себя за то, что сама подумала о Пьере), и то некоторые вещи неприятны. А тут, моя дорогая, а тут, представь себе, каково вытерпеть, когда это происходит в одном из таких домов. Быть в полной власти первого попавшегося, какой бы он ни был — безобразный, грязный. Делать то, что он хочет, буквально все, что он хочет… Незнакомые мужчины, которые меняются каждый день. И мебель, принадлежащая всем и всякому. Эти постели… Представь себе хоть на минуту, всего лишь на минуту, что ты занимаешься этим ремеслом, и ты увидишь…
Она говорила об этом долго, и, поскольку Северина не отвечала, Рене все сгущала и сгущала краски, добавляя ужасов в картину, которую рисовала, чтобы вырвать наконец какой-нибудь крик из этого упорного молчания.
Рене так ничего и не добилась, но если бы сумерки не успели сгуститься, то выражение лица Северины испугало бы ее. С неподвижным, словно на него надели железную маску, лицом, почти не дыша, с отяжелевшими руками и ногами, отяжелевшими настолько, что, как ей казалось, они уже больше не смогут пошевелиться, Северина чувствовала, что умирает. Она не могла понять, что с ней происходит, только знала, что ей уже никогда не забыть ни этого полумертвого состояния, ни этой невыразимой тоски, от которой останавливалось ее сердце. Перед ее глазами все то полыхало, то вдруг затуманивалось, и тогда сквозь мглу она различала какие-то искривленные обнаженные фигуры. Ей хотелось закрыть глаза руками, потому что веки ее застыли так же, как и вся остальная плоть, но руки не повиновались.
— Хватит, хватит, — крикнула бы она Рене, если бы могла.
И тем не менее каждая произнесенная подругой фраза, каждая нарисованная той гнусная картина проникала в самое нутро Северины, и, пользуясь ее оцепенением, они оседали там, ужасно живые, где-то глубоко-глубоко…
Северина не помнила, как она вышла из машины и как вошла в квартиру. Смутное восприятие реальности и самой себя вернулось к ней лишь в комнате и вызвало у нее сильное потрясение. Когда она оказалась у себя, какая-то неведомая сила увлекала Северину прямо к большому зеркалу, перед которым она обычно одевалась. Она долго и неподвижно стояла, внимательно глядя на свое отражение, так близко от него, словно хотела слиться с ним. Только тут, в этой таинственной зеркальной стуже она обрела себя вновь. От оцепенения и благодаря какому-то чисто физическому защитному импульсу она сначала подумала, что перед ней — посторонняя женщина. Однако мало-помалу до сознания дошло, что эта женщина приближается к ней, надвигается на нее со всех сторон, сливается с ней. Северина попыталась оторваться от зеркала, чтобы избежать полного слияния, которое претило ей. Но возобладало другое желание, с неумолимой силой удержавшее ее. Ей во что бы то ни стало нужно было изучить тянущееся к ней лицо. Она не смогла бы объяснить, для чего именно ей это нужно, только чувствовала, что нет для нее сейчас ничего более важного, более неотложного, чем это разглядывание.
Видение было пронзительно четким. От этих белых, как меловая поверхность, щек, от этого выпуклого, открытого лба над впалыми глазами, от этих непропорционально больших, пунцово-красных, хотя и безжизненных, губ веяло чем-то настолько звериным и ужасным, что Северина смогла выдержать представшее ее глазам зрелище всего одно мгновение. Она кинулась к двери, потом в другую комнату, чтобы как можно дальше убежать от той, застывшей, гладкой, отвратительной, которая смотрела из зеркала. Северина повернула защелку, но дверь не открывалась. Оказалось, что она была заперта на два оборота. Внезапно кровь бросилась ей в лицо.
— Значит, я хотела спрятаться, — громко сказала она. Гордость заставила ее резко распахнуть дверь, и в порыве откровенности она прошептала:
— Спрятаться?.. От кого?
Но порога переступать не стала. А вдруг образ той женщины в зеркале, который — она была в этом уверена — продолжал жить на поверхности зеркала, будет появляться и в других местах, а не только там, где он застал ее врасплох.
Северина вновь толкнула створку двери и, избегая смотреть на предметы, в которых могло отразиться ее лицо, подошла к креслу и упала в него. Она сжала ладонями пылающие, ноющие виски. Ладони были ледяные. Мало-помалу их прохлада успокоила странную горячку Северины, и наконец к ней вновь вернулась способность размышлять, ибо все, что происходило в ней до этого момента, сводилось к внутренней сумятице, инстинктивным движениям, импульсам, о которых она уже успела забыть. Воспоминание об увиденной маске обезумевшего животного тоже куда-то пропало.
Северина вынырнула из этого хаоса на поверхность, не испытав иных чувств, кроме ощущения нестерпимого стыда. Ей казалось, что ее так густо полили грязью, что у нее не осталось ни сил, ни желания смывать эту грязь.
— Да что же это такое со мной? Что со мной происходит? — снова и снова стонала она, качая головой из стороны в сторону.
Она попыталась выстроить в единую цепь разрозненные и бесформенные обрывки воспоминаний о только что прожитых минутах. Но тщетно. Как бы она ни напрягала волю, какая-то глухая заслонка, более мощная, чем все ее усилия, какой-то запрет, идущий из глубины подсознания, куда ее разум не имел никакого доступа, мешали ей восстановить речи Рене.
Вдруг Северина встала, прошла в кабинет Пьера, где стоял телефон, сняла трубку и назвала номер своей подруги.
— Послушай, дорогая, — сказала она спокойным голосом, где уже не осталось никаких признаков смятения, — у меня в машине, кажется, было что-то вроде головокружения. Представь себе, я не помню, как мы с тобой расстались.
— Да обыкновенно. Я не заметила ничего особенного. Северина глубоко вздохнула. Значит, она не выдала себя. Она не задумывалась, как и что могло бы ее выдать. Этого она просто не знала.
— Сейчас тебе уже лучше? — спросила Рене.
— Да, все уже прошло, — с живостью ответила Северина. — Я даже Пьеру ничего не скажу.
— Тебе следовало бы все-таки поберечься. Эти весенние вечера так опасны. Ты довольно легко одеваешься…
Северина слушала, едва сдерживая нетерпение, но беседу не прерывала. Она ожидала, опасалась, надеялась, что Рене разговорится. Может быть, она вернется к этой истории…
«Тогда бы я, наверное, поняла, что со мной произошло», — мысленно говорила себе Северина.
Она искренне полагала, что это — единственная причина, приковавшая ее к телефонной трубке.
Однако не успела Рене покончить со своими советами, как Северина услышала шаги Пьера, и ее вдруг снова охватил все тот же необъяснимый страх, который заставил ее запереть дверь в комнату. Если бы Рене заговорила сейчас об Анриетте, Пьер по лицу Северины обязательно догадался бы. И снова она не стала спрашивать себя, о чем именно он мог догадаться, так как сама не имела об этом ни малейшего представления, и быстрым лихорадочным движением повесила трубку.
— Ты только что пришла, дорогая? — спросил Пьер.
— Нет, уже минут десять, как…
Северина замолчала в полной растерянности. Она еще не успела снять ни пальто, ни шляпу. Она поспешно искала оправданий:
— Десять минут… То есть… Я даже не могу точно сказать… скорее всего, меньше. Я вспомнила, что мне нужно спросить об одной вещи у Рене… я позвонила ей, у меня не было времени, только ты не подумай…
Понимая, что каждое слово только усиливает ее чувство вины, совсем парализовавшее ее и неизвестно откуда произрастающее, Северина пробормотала:
— Одну минуту, я пойду разденусь.
Когда она вернулась, ее ясный, почти мужской ум уже справился с еще не известным ей врагом, скрывавшимся где-то глубоко, в самом потаенном уголке ее существа. Она осознавала, что ее поведение странно, что оно граничит с безумием. Она ведь знала, что ни в чем не виновата. Откуда же тогда взялась эта потребность оправдаться? Откуда эта наводящая на подозрения растерянность?
Северина обняла мужа. Соприкосновение с ним, как и прежде, подействовало на нее лучше всяких доводов, она тут же расслабилась, почувствовала себя в безопасности. Впервые за этот вечер, когда все происходило, словно повинуясь чьей-то чужой, разнузданной, деспотической воле, Северина почувствовала себя свободной. У нее вырвался радостный и такой красноречивый вздох облегчения, что Пьер спросил:
— У тебя какие-то неприятности? Повздорила с Рене?
— Откуда, милый, у тебя такие предположения? Наоборот, я страшно довольна. Платье получилось чудесное, и мне хочется развлечься. Может, сходим куда-нибудь?
Северина заметила, что Пьер сразу погрустнел. Она вспомнила, что это был единственный за всю неделю вечер, который у них был свободен и который они собирались провести в интимной обстановке дома. Она также вспомнила о своем до этого дня строго соблюдаемом решении делать все на радость мужу, но почувствовала неодолимую потребность сменить обстановку, чтобы с помощью новых впечатлений отгородиться от всех пережитых ужасов.
Вначале она преуспела в своем намерении. Шумный, ярко освещенный мюзик-холл, куда они направились, а потом дансинг дали ей необходимую психологическую разрядку. Однако стоило им покинуть танцевальное заведение, как знакомая тоска тут же опять пронзила каждую клетку ее тела. Шум мотора, мелькающие в салоне автомобиля светлые пятна и тени, неясно вырисовывающийся за стеклом силуэт шофера напомнили Северине ее поездку с Рене, когда та рассказала…
В лифте Пьер увидел бледное лицо Северины.
— Видишь, эти выезды утомляют тебя, — заметил он мягко.
— Не в этом дело… Уверяю тебя. Я расскажу тебе… На какое-то мгновение Северине показалось, что она окончательно освободилась от наваждения. Она решила, что надо будет довериться Пьеру, и тогда все станет на свои места, наступит просветление. Он ведь много повидал до знакомства с ней. Опираясь на примеры из своей жизни, он, наверное, все объяснит и уймет наконец это сатанинское беспокойство.
Но почему ее вдруг опять бросило в жар, почему так заныли виски? Только ли в предвкушении близкой развязки? Или же виной тому было нечто иное, еще пока неясное, но от этого не менее тревожное и могущественное? Чтобы отогнать страх, Северина заговорила с Пьером сразу же, как только они вернулись домой.
— Меня тут очень расстроила одна история, которую мне по секрету рассказала Рене. Одна из ее подруг, Анриетта, ты ее знаешь, часто ходит в… дом свиданий.
Последние слова были произнесены таким срывающимся голосом, что Пьер удивился. Он спросил:
— И что дальше, дорогая?
— Но… это все.
— И это тебя так взбудоражило? Пойдем присядем. Они все еще стояли в прихожей. Пьер повел Северину к себе в кабинет. Там она безвольно опустилась на диван. Ее била легкая, но столь частая и быстрая дрожь, что она отнимала у нее все силы.
Однако при этом внимание ее было напряжено, и она с нетерпением и отчаянием ждала, что же скажет Пьер. Уже не желание покоя владело ею, а непреодолимое любопытство, органическая, похожая на голод потребность узнать о вещах, которые она боялась даже вообразить.
— Ну говори же, объясни мне, — сказала она, и в голосе ее прозвучала мольба, страх и ярость.
— Бедненькая ты моя, ведь это же довольно банальная история. Жажда роскоши, не более того. У этой Анриетты муж зарабатывает мало? Так ведь? Чего ж тут удивляться, ей тоже хочется одеваться так же, как Рене, как ты. В результате… Я, как и все, встречал подобных женщин в местах, о которых идет речь.
— А ты туда часто ходил?
На этот раз Пьера испугала интонация Северины. Он взял ее за руку и сказал:
— Да нет, успокойся. Я и не подозревал, что ты будешь ревновать меня к прошлому, самому обычному прошлому любого молодого человека.
У Северины хватило смелости улыбнуться. Однако чего бы она только не сделала, чтобы утолить жажду, которая буквально иссушала ее.
— Я вовсе не ревную, — ответила она. — Мне просто хочется больше знать о тебе. Продолжай… продолжай…
— Ну что тебе еще сказать? Эти женщины — я имею в виду таких, как Анриетта, — обычно ласковые, покорные, пугливые. Вот и все, моя милая, и поговорим о чем-нибудь другом, потому что эти удовольствия относятся к разряду самых унылых на свете.
Если бы Северина страдала какой-нибудь формой токсикомании, она бы поняла природу овладевшего ею невыносимого наваждения. Она была так же близка к помешательству, как морфинист, у которого отобрали наркотик перед самым уколом. Все разъяснения Пьера лишь весьма отдаленно соответствовали тому, чего она от них ожидала. Они были начисто лишены пикантности, глубины. Северина почувствовала, как в ней накапливается злость против мужа: раздражение, которого она никак от себя не ожидала, зарождалось у нее где-то в кончиках пальцев и постепенно распространялось по всему телу, не щадя ни единого нерва, ни единой клетки, достигало груди, горла, мозга. Теряя голову, она прошептала:
— Ну говори же, говори.
Но Пьер слишком внимательно посмотрел на нее, и тогда она закричала:
— Молчи! Довольно… Я больше не могу… Следовало бы запретить… Пьер, Пьер, ты не знаешь…
Она больше не могла говорить из-за сотрясающих ее рыданий.
— Северина, милая, маленькая моя Северина.
Пьер гладил щеки жены, ее волосы, плечи с жалостью, которая даже превосходила его тревогу, потому что Северина ухватилась за него, словно он должен был спасти ее от страшной погони, и когда она судорожно отнимала руки от лица, на нем было страдальческое выражение обиженного ребенка.
Наконец среди ее жалоб Пьер смог различить связные слова:
— Не презирай меня, не презирай…
Он подумал, что Северина устыдилась своих слез — она никогда раньше не плакала, — и сказал с обожанием в голосе:
— Ну что ты, милая моя девочка, я люблю тебя сейчас еще больше. Какая же ты чистая, если тебя так сильно ранила вся эта история.
Северина резко отпрянула от Пьера и, поглядев на него, оторопело покачала головой.
— Ладно. Ты прав, — сказала она. — Пойду я лучше спать.
Она с трудом встала. Жест Пьера, хотевшего помочь ей, замер в воздухе. Он вдруг почувствовал, что стал чужим Северине. Однако, увидев, как она стоит, растерянная, с осунувшимся лицом, все же робко предложил:
— Хочешь, я тоже пойду лягу с тобой?
— Ни в коем случае.
Но увидев, как побледнел Пьер, она добавила чуть позже:
— А вот если бы ты посидел рядом с моей кроватью, пока я не засну, мне было бы приятно.
Пьер не впервые дежурил у постели Северины, но никогда еще ему не приходилось делать это с таким тяжелым сердцем. В полутьме он угадывал, что Северина лежит с открытыми глазами и все время смотрит на него. Наконец Пьер не выдержал и склонился над ней. Он увидел, что взгляд ее застыл, как у мертвой.
— Что же все-таки случилось, милая? — спросил он.
— Я боюсь. Она вся дрожала.
— Но я же рядом. Кого ты боишься? Чего?
— Если бы я знала.
— Ты веришь мне?
— О, Пьер, конечно!
— Тогда скажи себе, что завтра будет прекрасная погода. Видишь, сколько звезд на небе. Скажи себе, что завтра ты пойдешь играть в теннис, что оденешься во все белое и выиграешь три сета подряд. Закрой глаза, приложи все силы, чтобы представить это. Ну как, тебе уже лучше?
— Лучше, — ответила Северина, а между тем поселившаяся в ней ненавистница, — а ненавистница ли? — которая сопровождала каждую ее мысль какими-то таинственными образами, примешивала к видению летающих на солнце мячей зябкую улыбку Юссона.
После того памятного их свидания Северина и Юссон не раз оказывались одновременно то в одном месте, то в другом, но она всякий раз упорно делала вид, что не узнает его. А Юссон без обиды терпел такое ее отношение к себе. Но когда однажды утром он увидел на корте идущую к нему Северину, то не удивился.
— Вы еще не начали играть? — спросила Северина.
— Еще нет, — ответил он, — и начну лишь тогда, когда у вас пропадет желание беседовать со мной.
Как и предчувствовала Северина, в их общении не возникло ни малейшей неловкости. Вот только странная почтительность Юссона по отношению к ней, как тогда, после его фиаско, немного насторожила молодую женщину. И все же она сказала:
— А мы с Рене как раз вчера вечером говорили о вас. («Он видит, что я лгу», — трезво и безразлично оценила Северина.) Она сообщила мне новость, которая наверняка вас заинтересует. Речь идет об одной ее подруге, которая бывает в одном из этих домов…
— Это об Анриетте, так ведь? Как же, знаю… Знаю… Говоря это, он не смотрел на Северину, но, казалось, долго прислушивался к ее дыханию, прежде чем продолжить.
— Случай не очень интересный. Здесь все сводится к деньгам. То есть он не интересен сам по себе, — поправился он ровным, без модуляций голосом, словно желая дать Северине немного привыкнуть к нему, — но для человека, который в состоянии извлечь из него пользу, он отнюдь не лишен пикантности. Перед нами женщина, которая в обычной для нее обстановке имеет право на уважение или, по крайней мере, на вежливое обращение, а тут ей можно навязывать любые свои желания. Самые прихотливые и, как говорится, самые постыдные. О! Фантазия мужчин вообще-то, как правило, слишком далеко не заходит, но так обходиться со светской дамой — это много хуже или, если хотите, много лучше, чем изнасилование.
Северина слушала, держась очень прямо и лишь слегка наклонив голову. А Юссон между тем продолжал своим безразличным голосом:
— Я-то в эти дома уже почти не хожу. Я их достаточно насмотрелся. Но раньше я очень любил там бывать. В них царит атмосфера бедного порока. Там лучше понимаешь, для чего созданы человеческие тела. Есть в таком разврате что-то смиренное, причем это проявляется и у тех, кто этим живет, и у тех, кто им платит. Погонщик волов может, и не без основания, претендовать на такое же внимание, как, к примеру, я. Я говорю здесь, разумеется, о скромных заведениях, так как и в этом деле тоже роскошь может все испортить, о таких, скажем, как в доме 42 на улице Рюиспар, или в доме 9-бис на улице Вирен, или… впрочем, я мог бы перечислять их долго. Как я только что заметил, сам я в них уже больше не захожу, но пройтись мимо мне бывает приятно. Вполне респектабельные с виду дома возле гостиницы «Вант» или возле Лувра, а внутри неизвестные мужчины раздевают женщин-невольниц и овладевают ими, как им вздумается, ничего не боясь. Это дает пищу воображению.
Северина отошла от Юссона молча, не протянув ему на прощание руки. Их взгляды ни разу не встретились.
С того момента мириады неясных догадок и желаний, терзавших Северину, стали перерастать в устойчивое наваждение. Она не сразу осознала это, но перегородка, отделявшая ее видимую сущность от заповедных уголков подсознания, где шевелились слепые и всемогущие личинки инстинктов, уже была сломана. Уже установилась связь между упорядоченным миром, в котором она всегда жила, и миром, открывшимся ей под напором естества, силу которого она пока еще не решалась осознать. Уже началось взаимопроникновение, уже происходило взаимное сцепление ее прежней, привычной личности и нового существа, накопившего за время своего долгого сна непомерную силу.
У Северины ушло двое суток на то, чтобы понять, чего же оно, это существо, от нее требует, двое суток, в течение которых она продолжала делать те же жесты и произносить те же слова, что и прежде. Никто, даже Пьер, не заметил ее состояния трепещущего самоприслушивания, в котором Северина пребывала эти дни. А она… она уже ощущала вонзившуюся ей в плоть отравленную занозу, жгучую и беспощадную.
Все эти часы ее преследовал, пробуждая смуту в душе, один и тот же образ. Он появился не впервые: Северина предавалась двусмысленным играм с этим образом еще в самом начале выздоровления. За ней гнался в каком-то грязном квартале мужчина, лицо которого не выражало ничего, кроме тупого желания. Она бежала от него, но так, чтобы он не потерял ее из виду. Она углублялась в какой-то тупик. Мужчина настигал ее, она слышала скрип его ботинок, слышала его дыхание, вдыхала его. Тоскливое ожидание, предвкушение какого-то неведомого наслаждения. Но мужчине никак не удавалось найти ее в том углу, где она пряталась. И он уходил. А Северина тщетно, отчаянно, мучительно искала этого хама, уносившего с собой ее самую важную тайну.
В ее сознании возникали и другие картины из тех, что навязчиво стояли у нее перед глазами, когда она поправлялась, и даже еще более низменные, еще более невнятные, но этот образ превратился в своего рода магистральную тему, вокруг которой располагались, мельтешили все прочие видения. Два дня и две ночи звала Северина мужчину из этого тупика, а затем однажды утром, когда Пьер, как обычно, ушел в свою больницу, она оделась попроще, спустилась на улицу и окликнула шофера.
— Отвезите меня на улицу Вирен, — сказала она, — а там поезжайте помедленнее и провезите меня по ней до самого конца. Я никак не могу вспомнить номер дома, но сам дом я узнаю.
Автомобиль ехал по набережным. Вскоре Северина увидела массивный контур Лувра. Горло ей сдавил такой тугой узел, что она поднесла к нему руки, словно собираясь развязать его. Они подъезжали.
— Улица Вирен, — громко оповестил шофер, притормаживая.
Северина повернула голову в сторону с нечетными номерами. Один фасад… другой… и вот еще до того, как машина успела проехать мимо, она догадалась, что это тот самый дом, который она искала. Он ничем не отличался от других, но в его крытый подъезд только что проскользнул мужчина, и Северина, успевшая разглядеть лишь спину, все же узнала его. Массивное сложение, поношенная куртка, эти плечи, этот вульгарный затылок… Он шел к послушным женщинам… Он просто не мог ходить в другое место. Северина отдала бы голову на отсечение — настолько была велика ее уверенность. Смутная интуиция заставила ее мысленно разделить с мужчиной поспешность его шагов, невольную сконфуженность его рук и еще — грубое сладострастие, которое гнало его в дом.
Автомобиль доехал до конца короткой улицы. Шоферу ничего не оставалось, как сообщить об этом Северине. Тогда она попросила отвезти ее домой.
Теперь ее навязчивая идея получила реальную пищу. Мужчина, крадучись входивший в дом на улице Вирен, и мужчина, упустивший ее в тупике, слились в единое целое. Стоило ей только вспомнить про силуэт, исчезнувший в предосудительном доме, как от упоительного страдания начинало медленнее биться сердце. Она мысленно представляла себе его низкий лоб, мясистые, волосатые руки, грубую одежду. Он поднимался по лестнице… звонил. Подходили женщины. Тут мысль Северины останавливалась, так как потом была сплошная мешанина из теней тел, яростных вздохов.
На какое-то время ей хватило этих образов, но затем от частого появления и интенсивности они поблекли. И у Северины вновь возникла потребность увидеть тот дом. В первый раз она попросила отвезти ее туда, во второй — отправилась пешком. Ей было так страшно, что она не посмела даже остановиться на миг, чтобы прочесть надпись на табличке, прикрепленной возле двери, а лишь с глубоким волнением коснулась на ходу рукой старых стен, как будто и они тоже были пропитаны тем унылым и неистовым развратом, которому дали пристанище.
В третий свой приход Северина решилась быстро прочесть неброские буквы на табличке:
А оказавшись там в четвертый раз, она вошла.
Северина даже не осознала ни то, как она поднялась по лестнице, ни то, как, войдя в открывшуюся дверь, столкнулась лицом к лицу с приятной, высокой и еще молодой блондинкой. У нее перехватило дыхание. Ей захотелось бежать, но у нее не хватило духу сделать это.
— Что вам угодно, мадемуазель? — услышала Северина.
— Это вы… это вы занимаетесь… — пробормотала она.
— Я госпожа Анаис.
— Тогда, тогда я хотела бы…
Северина взглядом заблудившегося животного окинула прихожую.
— Проходите, поговорим спокойно, — сказала госпожа Анаис.
Она проводила молодую женщину в комнату с темными бумажными обоями и большой кроватью под красным покрывалом.
— Ну что ж, моя милая, — тотчас приветливо начала госпожа Анаис, — вам хотелось бы намазать на ваш кусок хлеба немного масла. Я готова вам помочь. Вы миленькая и свеженькая. Такие девочки, как вы, здесь нравятся. Половину вам, половину мне. На мне ведь расходы.
Не в силах отвечать, Северина кивнула головой. Госпожа Анаис обняла ее.
— Немного волнуетесь, я смотрю, — сказала она. — Первый раз, не так ли? Увидите, это вовсе не так ужасно. Сейчас еще рано, ваших будущих подруг пока еще нет. А то бы они вам сказали. Когда начнете?
— Не знаю… я подумаю.
Вдруг Северина, словно испугавшись, что больше не сможет выйти отсюда, громко воскликнула:
— Во всяком случае, в пять часов мне нужно будет уходить!.. Мне нужно.
— Как пожелаете, моя милая. С двух до пяти — хорошее время. Вы будете Дневной Красавицей, а? Только придется быть пунктуальной, а то мы поссоримся. В пять часов вы будете свободны. Вас будет ждать дружок, не так ли? Или муженек…
V
«Или муженек… Или муженек… Или муженек…»
Это были последние слова, которые она услышала от госпожи Анаис перед тем, как внезапно покинула ее, и Северина упорно повторяла их снова и снова. Она не понимала их смысла, но они удручали ее.
Она прошла мимо колоннады Лувра, поглядела на его такой благородный фасад, простота которого на секунду принесла ей облегчение, но тотчас отвернулась в сторону: она уже не имела права смотреть на него.
В одном месте дорогу ей преградили два остановившихся трамвая. Один из них направлялся в Сен-Клу и Версаль. Северина вспомнила, как однажды, когда они с Пьером вышли из музея, он сказал ей, что любит этот маршрут, соединяющий прекрасные места обитания королей. Пьер… Пьер Леско, творец Лувра… Пьер, ее муженек… Человек, который так хорошо вписывается в безупречные дворцовые ансамбли и парковые пейзажи, так это у него жена…
Все смешалось в голове Северины: звонки трамваев, величественные сооружения, мадам Анаис, она сама. Она вслепую пересекла шоссе и, очнувшись, обнаружила, что стоит облокотившись на парапет моста, а под ней — Сена. Она немного отдышалась. Река несла свою весеннюю грязь. Внимание Северины привлек насыщенный, сомнительный цвет потока. Она постояла, потом прошла на набережную.
Открывшийся пейзаж и люди показались Северине такими незнакомыми, словно принадлежали какой-то другой жизни. Эти кучи песка, груды угля, железный лом, покрытые копотью плоские суда, по которым неуклюже перемещались молчаливые люди, эти стены, такие невообразимо высокие, такие прочные, и особенно эта вода, мутная, обильная, непроницаемая… Северина подошла ближе к реке, нагнулась, еще, еще немного, опустила в нее ладонь.
Она тут же мгновенно отдернула руку, с трудом подавив крик. Вода в заворожившем ее потоке оказалась холодной, как сама смерть. Северина только в эту минуту поняла, что она собиралась сделать, и ужаснулась: еще немного — и она тоже могла бы стать добычей реки, смешаться со всей этой плывущей по Сене грязью. Но что же такое она совершила, чтобы захотела похоронить себя в этом густом, ледяном потоке? Госпожа Анаис… разумеется, она ходила к этой женщине, разговаривала с ней. Но ведь Пьер, если бы она только рассказала ему о своем жестоком страдании и о том, какое неодолимое тягостное наваждение притащило ее на улицу Вирен, он первый — она знала его и любила его за это — пожалел бы ее. Если по справедливости, то ее не презирать нужно, не сердиться на нее — ей сострадать нужно. Северина почувствовала прилив щемящей боли от жалости к самой себе.
Разве наказывают человека за приступ безумия? А как иначе назвать то, что она сделала? Ее следовало бы полечить от неожиданно поразившего ее недуга, и тогда от этой ужасной недели не осталось бы и воспоминания. А исцеление, подумалось ей, исцеление уже пришло, потому что ей смертельно стыдно за свой безумный поступок, потому что уже одна лишь мысль о новой встрече с госпожой Анаис заставляла ее содрогаться от ужаса, потому что…
Поток мыслей, с отчаянной скоростью подгонявших друг друга, в мозгу Северины вдруг оборвался, резко сменившись абсолютной неспособностью о чем-либо думать, в сознании возник какой-то полный провал. Ей казалось, что чей-то ненасытный рот высасывает из нее душу, и та постепенно покидает тело. Она подняла глаза… Совсем близко, почти касаясь ее, стоял мужчина; в своем горячечном споре с собственной тенью она даже не услышала, как он подошел. У него была открытая мощная шея, широкие спокойные плечи. Скорее всего он работал каким-нибудь кочегаром на одной из самоходных барж, причаленных поблизости от Нового моста: его синяя рабочая блуза и его лицо были в пятнах сажи и машинного масла. От него пахло крепким табаком, смазкой, силой.
Пристальным, тяжелым взглядом он уставился на Северину, может быть совершенно не отдавая себе отчета в том желании, которое она ему внушала. Вскоре ему предстояло плыть вниз по реке к Руану, к Гавру, а вот сейчас он остановился возле красивой женщины. Он понимал, что для него она слишком хороша, слишком хорошо одета, но он хотел ее и потому смотрел на нее.
Оказываясь на людях, Северина часто ощущала на себе алчные взгляды, но не испытывала от этого ничего, кроме досады и смущения. А вот с такой похотью, грубой, циничной, ничем не прикрытой, она еще никогда не сталкивалась; разве что у мужчины, который преследовал ее в сновидениях, да потом еще у того, которого она видела на пороге дома мадам Анаис. И вот теперь тот же мужчина — потому что это был именно он — стоял перед ней. Стоило ему только протянуть руку, и она ощутила бы его прикосновение, о котором в мыслях страстно молила. Но ведь он не отважится, он же не посмеет…
«А если бы я была на улице Вирен, то за тридцать франков…» — внезапно мелькнула в голове Северины до ужаса отчетливая мысль.
Она стала пристально вглядываться во все лица, рассматривать тела, сосредоточившиеся в этой крохотной примитивной вселенной между твердой стеной и плотной массой реки. Возчик, державший коренника за ноздри, чтобы притормозить на спуске, — он, казалось, нес в своей огромной ручище и саму лошадь, и бутовые камни, лежавшие в телеге; грузчик с низким лбом, будто вросший в землю; чернорабочие, нагрузившиеся вином и сытной пищей, — все они, эти мужчины, о существовании которых Северина до сих пор даже не подозревала, мужчины, сделанные совершенно из другого теста, стали бы в доме госпожи Анаис за тридцать франков распоряжаться ее телом.
У Северины не было времени, чтобы понять, что за спазма сжала ей грудь. Кочегар с баржи сделал шаг назад. И ею овладел страх, причем страх тем более невыносимый, что вырастал он не из реальности. Она опять устремилась в погоню за своим сновидением. Она испугалась, что и этот мужчина тоже вот-вот растворится в воздухе, как тот, другой, который был в тупике. Северина почувствовала, что во второй раз не сможет вынести горечь его исчезновения, у нее просто не хватит сил. Она не сможет, нет, нет.
— Погодите, да погодите же, — простонала она. Затем, погружая взгляд своих блестящих глаз в ничего не выражающие глаза кочегара, добавила:
— В три часа, улица Вирен, дом девять-бис, у госпожи Анаис.
Он тупо потряс головой с забитыми углем волосами.
«Он не понимает или уже не хочет, — подумала Северина с ужасом, понятным лишь тому, кто хоть раз находился во власти кошмара. — А может быть, у него нет денег».
Не спуская с него глаз, она порылась в своей сумочке и протянула ему стофранковую купюру. Мужчина оторопело взял бумажку, стал внимательно рассматривать ее. Когда он поднял голову, Северина уже быстро поднималась вверх по склону, ведущему от берега к набережной. Кочегар пожал плечами, сжал полученную купюру в кулаке и побежал к баржам. Он и так уже потерял слишком много времени. Его баржа отчаливала ровно в полдень.
Начавшийся перезвон старинных колоколов в старом Париже, возвестивший, что уже двенадцать часов, заставил Северину поторопиться. Пьер как раз скоро заканчивал свое дежурство в больнице. Нужно было встретиться с ним прежде, чем он уйдет оттуда. Как и все остальные решения, которые Северина принимала в последние дни, это решение явилось неожиданным для нее, но тут же показалось ей подсказанным законом всесильной необходимости.
Маятник, приведенный в движение внешней силой, тотчас устремляется обратно. Так было и с сердцем Северины: оно рванулось навстречу Пьеру тем сильнее и безогляднее, чем больше и решительнее она предавала его забвению всего лишь несколько мгновений назад.
Северина вовсе не надеялась, что Пьер защитит ее от того, что уже свершилось. Она была твердо уверена, что никто и ничто не сможет помешать ей быть в назначенное время на улице Вирен. Она не пыталась оправдать себя, ссылаться на случай, который подсунул ей на берегу того мужчину. Теперь, когда решение было принято, она чувствовала, что воспользовалась бы любым предлогом, но нашла бы этого мужчину на любом перекрестке вроде бы знакомого, как ей раньше казалось, города, но вдруг оказавшегося населенным какими-то корявыми, скотоподобными, своенравными людьми, которым она отныне должна будет принадлежать. Но пока жертва, исполненная то ли ужаса, то ли блаженства, еще не была принесена, и она со всех ног бежала к Пьеру, чтобы он в последний раз увидел ее такой, какой любил, потому что приближался миг, когда прежней Северины не станет.
— Доктор Серизи уже ушел? — с тоской в голосе спросила Северина у привратника больницы.
— Он выйдет с минуты на минуту. А вот и он, уже идет переодеваться.
Пьер, окруженный тесной толпой студентов, пересекал двор. Все они были в белых халатах. Северина смотрела на молодое лицо своего мужа, к которому были обращены еще более молодые лица. Она никогда не испытывала особого благоговения к интеллектуальным переживаниям, но эта группа студентов излучала такую жажду познания, от нее исходило столько нравственной чистоты и так ясно было, что центром этой чистоты и разума является Пьер, что Северина не осмелилась окликнуть его.
— Я подожду его здесь, — сказала она тихим голосом.
Но Пьер, словно предупрежденный инстинктом своей любви, повернул голову в сторону жены и, хотя она стояла в тени подъезда, узнал ее. Она видела, как он что-то сказал молодым людям, которые были рядом с ним, и пошел к ней. Пока он шел, Северина жадно вглядывалась в него, самого дорогого ей человека, как будто видела его в последний раз. У Пьера было непривычное выражение лица, оно еще сохраняло печать часов, проведенных в иной стихии, в мире, который принадлежал только ему, его учителям, его ученикам… Следы любимой тяжелой работы, следы терпеливой доброты, выражение руководителя, разговаривающего со своими людьми, или, может быть, выражение, какое бывает у хорошего мастера, стоящего за верстаком, — вот что отметила Северина, глядя на него, на его белый халат, такой пронзительно белый, что тут же невольно возникала мысль о священном красном цвете крови.
— Не сердись на меня за то, что я отрываю тебя от твоих дел, — проговорила Северина с влюбленной и виноватой улыбкой, — но мы все время обедаем не вместе, и вот я оказалась тут поблизости… понимаешь…
— Сердиться на тебя! — воскликнул Пьер, тронутый столь ей несвойственными нетерпением и робостью.
— Сердиться на тебя, дорогая, когда ты доставила мне такую радость… Я так горд, что могу показать тебя своим товарищам. Ты не заметила, как они глядели на тебя?
Северина чуть опустила голову, стараясь скрыть бледность, холодившую ее щеки.
— Подожди меня минуту, — сказал Пьер. — У меня есть полчаса. Эх, жаль! Патрон пригласил меня пообедать сегодня у него, а то с какой радостью я остался бы с тобой.
Погода стояла теплая. Северина, которую привлекло это самое безгрешное место, потянула Пьера за собой в сторону небольшого сада, зеленеющего возле собора Нотр-Дам. Весна здесь проявляла себя более скромно, чем в других районах города. Нездоровые кварталы, обступавшие ратушу, сгоняли румянец с лиц игравших там детей. Солнце, изредка прорывавшееся сквозь апрельские облака, отражалось в водосточной трубе или тонуло в таинственной субстанции какого-нибудь витража. На скамейках сидели и беседовали старые рабочие. Были видны остров Сен-Луи и спокойная набережная левого берега.
Северина взяла мужа под руку, и они несколько раз обошли вокруг сада. Пьер говорил о жизнях, еще теплившихся у стен собора, но Северина слушала только звук его голоса, который он невольно приглушал. Что-то медленно, зловеще ломалось в ней. Когда Пьеру уже пора было уходить, она не стала провожать его до ограды.
— Я хочу побыть здесь еще немного, — сказала она.
— Иди, милый.
Она горячо, судорожно обняла его и глухо повторила:
— Иди, мой милый, иди.
Затем она с трудом добралась до скамьи и там, присев между двумя женщинами с вязаньем, беззвучно расплакалась.
Ей не хотелось ни есть, ни куда-то идти. Она сосредоточилась и вслушивалась в то, что в ней не смог бы расслышать никто на свете. Так прошло два часа. Потом, не взглянув на часы, Северина отправилась из сада прямо на улицу Вирен.
Госпожа Анаис, увидев ее, не стала скрывать своей радости.
— Я, право, и не рассчитывала на вас, моя милая, — сказала она. — Сегодня утром мы расстались так внезапно, и я подумала, что вы испугались. А пугаться тут нечего — сами убедитесь.
Засмеявшись ласковым, здоровым смехом, она провела Северину в небольшую комнату, выходящую окнами на темный двор.
— Оставьте ваши вещи здесь, — весело скомандовала госпожа Анаис, открывая стенной шкаф, в котором Северина увидела два пальто и две шляпы.
Северина повиновалась без слов, потому что челюсти у нее как будто приросли одна к другой. Между тем она лихорадочно думала только об одном: «Мне же нужно ее предупредить… Сказать, что тот мужчина, который придет, он придет ради меня… чтобы только он один». Но ей не удавалось выдавить из себя ни звука, и она продолжала слушать госпожу Анаис, чье искреннее воодушевление одновременно и убаюкивало ее, и ужасало.
— Знаете, моя милая, когда я не нужна, то обычно сижу здесь. Тут, правда, не очень светло, но возле окна за моим столиком для рукоделия видно достаточно хорошо. Когда девочки свободны, они тоже помогают мне. Матильда и Шарлотта — обе они очень славные. Я вообще могу работать только с людьми воспитанными и веселыми. Нужно, чтобы работа шла весело и чтобы не было историй. Именно поэтому пять дней назад я уволила Югетту. Красивая девочка, надо сказать, а вот беседу вести совсем не может. Зато вы, моя милая, вы, я смотрю, настоящая дама, изысканная… А кстати, как вас звать?
— Мне… мне не хотелось бы говорить этого…
— Глупышка, никто у вас свидетельства о рождении и не требует. Выберете себе имя сами. Чтобы оно было милое, кокетливое… В общем, чтобы оно нравилось. Ладно, здесь голову ломать не надо. Мы с девочками придумаем какое-нибудь такое имя, что оно будет вам впору, как перчатка.
Госпожа Анаис прислушалась. Из другого конца коридора донесся смех.
— Матильда и Шарлотта, — сказала она, — сейчас занимаются с господином Адольфом, это один из лучших наших клиентов. Он коммивояжер, много зарабатывает… и такой забавный. Почти все наши посетители — люди приличные. Вам наверняка понравится у меня. А пока пойдемте-ка выпьем чего-нибудь, выпьем за ваш приход. Что вы предпочитаете? В моем погребке есть ликеры на любой вкус. Смотрите.
Из другого шкафа, стоявшего напротив того, куда Северина повесила свое пальто, мадам Анаис вынула несколько бутылок. Северина наугад показала на одну из них, проглотила содержимое рюмки, даже не почувствовав вкуса, тогда как госпожа Анаис растягивала удовольствие и долго вдыхала аромат анисового ликера. Когда же она наконец выпила его, то сообщила:
— Пока мы будем называть вас Дневной Красавицей. Вы не против? Нет? Вы вообще покладистая. Правда, немножко робкая, но это вполне естественно. Главное, значит, уходить в пять часов, так ведь, а остальное устраивает… Вы его любите? (Северина слегка подалась назад.) О, я не настаиваю, выпытывать секреты я не собираюсь. Скоро вы сами захотите ими со мной поделиться. Я ведь не начальница, а товарищ, настоящий друг. Я понимаю жизнь… Разумеется, мое место мне нравится больше, чем ваше, но тут уж ничего не поделаешь — это общество создавали не мы с вами. Ну поцелуйте же меня, моя милая Дневная Красавица.
Хотя в голосе госпожи Анаис звучало искреннее дружелюбие, Северина вдруг резко отстранилась от нее. Нахмурив брови, напрягшись и сильно побледнев, она повернула голову в сторону комнаты, откуда несколько минут назад донеслись взрывы смеха. Теперь там царило молчание, нарушаемое приглушенными шумами. Северине показалось, что под эти шумы начинает подстраиваться биение ее сердца. Она пристально посмотрела на госпожу Анаис, и в глазах ее отразилась такая животная тоска, что у той, возможно, на какое-то мгновение возникло смутное ощущение той плотской драмы, которая разыгрывалась изо дня в день не без ее участия. На ее доброжелательных губах появилось что-то похожее на смущение. Она тоже повернулась в сторону комнаты, которой она добросовестно торговала, потом ее глаза опять встретились с глазами Северины. Женщины обменялись одним из тех понимающих взглядов, о которых всегда впоследствии сожалеют, потому что они выдают слишком глубоко спрятанную истину, которую жизнь не хочет знать. Взгляд этот был боязливой сексуальной жалобой.
— Ну полно, полно, — сказала наконец госпожа Анаис, тряхнув белокурыми локонами, — вы мне портите темперамент. Я же вам только что сказала, что это общество создавали не мы с вами.
Они услышали немного хрипловатый, но жизнерадостный голос:
— Хозяйка, хозяйка, вы нам нужны.
— Наверняка Шарлотте захотелось пить, — сказала госпожа Анаис.
Она вышла с ободряющей улыбкой на устах.
Как только Северина осталась в комнате одна, все тело ее напряглось, а в голове лихорадочно заметались мысли. Бежать… бежать… Нет, сейчас она убежит… Она больше ни минуты не может оставаться здесь… Ей никак не удавалось увязать свое присутствие в этом месте с чем-нибудь реальным, возможным. Она забыла про кочегара с баржи, про Пьера, про госпожу Анаис. Она не знала, какая цепь событий привела ее сюда, и эта тайна наполняла ее безумным желанием свободы. Однако Северина не шелохнулась.
Из комнаты голос мужчины с упреком произнес:
— Новенькая, а вы ее еще не привели. Нехорошо. Затем вошла госпожа Анаис, взяла Северину за руку и увлекла за собой.
— А вот и Дневная Красавица! — воскликнула молодая женщина с черными как смоль волосами.
Северина оказалась в той самой комнате, которую утром ей уже показывала госпожа Анаис. Теперь она ее не узнала, хотя вместе с тем и не обнаружила в ней ничего такого, что делало бы ее похожей на ненасытное, похотливое логово разврата, какой она представлялась ей еще минуту назад. В меру помятая постель, висящий на спинке стула жилет, аккуратно поставленные рядышком ботинки — все свидетельствовало о том, что распутство здесь ограничено рамками буржуазной упорядоченности. Да и мужчина в кресле, который, блаженно смеясь, ласкал, словно из чувства долга, груди крупной молодой брюнетки, тоже не соответствовал представлению Северины о завсегдатаях подобных обителей почти мистической, как ей казалось, извращенности. Мужчина был без пиджака. Широкие подтяжки повторяли округлость его игривого брюшка. На жирной и слабой шее сидела лысеющая голова с добродушным и самодовольным лицом.
— Привет, моя красивая, — сказал он, помахав слишком маленькими ступнями в ярких носках, — выпей-ка с нами и с нашей старой подругой Анаис бокал шампанского. Разумеется, после того завтрака, который я слопал, водочка пошла бы лучше, но Матильда (он указал на довольно щуплую женщину, которая, сидя на кровати, заканчивала одеваться) хочет шампанского. Она хорошо поработала, а я человек не черствый.
Господин Адольф проводил взглядом госпожу Анаис, которая пошла за вином. Ее крепкая, хорошо сложенная фигура вызвала у него вздох сожаления.
— Тебе что, хочется еще? — спросила Шарлотта, которую продолжал ласкать коммивояжер.
— Ах, клянусь, хоть вы меня и утомили, но ради нее я бы забыл про усталость.
Матильда ласково заметила:
— Забудь об этом, это нехорошо. Госпожа Анаис слишком приличная. Займись-ка лучше новенькой. А то видишь, она даже не решается сесть.
— Дневная Красавица, миленькая, — сказала госпожа Анаис, возвратившаяся с бутылкой и бокалами, — помогите мне немного с приборами.
— А у нее и в самом деле вид юной девушки, — заметила Шарлотта, — только это скорее какой-то английский тип, из-за костюма, наверное, правда же?
Она подошла к Северине и очень приветливо сказала ей на ухо:
— Знаешь, надо носить платья, которые снимаются как рубашки. С этим ты будешь терять уйму времени.
Коммивояжер услышал последнюю фразу.
— Нет, нет, — закричал он, — малышка права. Этот костюм здорово ей идет. Подойди-ка покажись поближе.
Он притянул Северину к себе и прошептал возле ее шеи:
— Тебя, наверное, раздевать — одно удовольствие. Но тут вмешалась госпожа Анаис, обеспокоенная выражением, внезапно появившимся на лице Северины:
— Дети мои, шампанское станет теплым. За доброе здоровье господина Адольфа!
— Такое и у меня мнение, я его разделяю, — сказал тот.
Северина слегка заколебалась, когда тепловатый и слишком сладкий напиток коснулся ее губ. Она вдруг мысленно увидела молодую женщину с обнаженными плечами, саму себя, сидящую возле красивого, нежного мужчины по имени Пьер, и эта женщина выбирает самое сухое вино, и даже самое холодное вино всегда кажется ей недостаточно холодным. Но сейчас Северина чувствовала себя обреченной делать то, что от нее ожидают, и допила свой бокал. Бутылка быстро опустела, за ней — еще одна. Шарлотта долгим поцелуем поцеловала Матильду в губы. Госпожа Анаис без конца заливалась своим добропорядочным смехом. Шутки господина Адольфа претендовали на эффект остроумной непристойности. Молчала одна лишь Северина, которая никак не могла опьянеть. Неожиданно господин Адольф схватил ее за талию и посадил к себе на жирные ляжки. Она увидела совсем рядом с собой его влажные глаза, услышала, как его голос размягченно прошептал:
— Дневная Красавица, теперь твой черед. Мы будем вместе счастливы.
И снова выражение лица Северины стало таким, каким ему не следовало бы быть в доме на улице Вирен, и снова госпожа Анаис предотвратила вспышку гнева, который женщине по прозвищу Дневная Красавица никак не подобал. Она отвела Адольфа в сторону и сказала ему:
— Я сейчас уведу на минуту Дневную Красавицу, но только не будь с ней слишком резким, а то она совсем новенькая.
— У тебя?
— Не только у меня, но и вообще. Она никогда не работала в домах.
— Значит, я буду первый? Ну спасибо, Анаис. Северина вновь оказалась в комнате со шкафом и столиком для рукоделий.
— Ну что, мой маленький, думаю, вы довольны, — проговорила госпожа Анаис. — Не успели войти, как вас уже выбрали. И потом — мужчина щедрый, воспитанный. Не волнуйтесь, господин Адольф не слишком требовательный. Просто будьте покладистой и пусть он сам занимается вами — ему больше ничего и не надо. Туалетная комната налево, но входите одетой; вот так, как есть. Он приметил вас благодаря вашему английскому костюму. И будьте немного поулыбчивей. Нужно, чтобы они всегда думали, что женщине хочется так же, как и им.
Северина, казалось, не слышала ее. Втянув голову в плечи, она дышала с трудом. Этот прерывистый шум был теперь у нее единственным проявлением жизни. Госпожа Анаис мягким, но решительным жестом подтолкнула ее к двери.
— Нет, — сказала вдруг Северина, — нет, это бесполезно. Я не пойду.
— Э, милая моя, вы что это, вы где, по-вашему, находитесь?
Хотя чувствительность Северины была притуплена, она содрогнулась всем телом. Она никогда бы не подумала, что в любезном голосе госпожи Анаис может прозвучать такая твердость и что ее ясное лицо вдруг может стать таким властным, даже жестоким. Но дрожь, пробежавшая по телу Северины, возникла не от страха и не от негодования, а из-за нового ощущения, примитивного и восхитительного, которое она вдруг открыла для себя, которое пронзило ее всю до самых кончиков пальцев. Она всегда жила с такой спокойной гордостью в душе, что никто и никогда не смеет ее ни в чем ущемить. И вот только что содержательница борделя прикрикнула на нее, словно на какую-то провинившуюся служанку. Смутный проблеск признательности появился в надменных глазах Северины, и, чтобы испить до самого дна сильнодействующий напиток унижения, она повиновалась.
Господин Адольф этот короткий промежуток времени даром не потерял. Он сложил свои брюки и артистично расположил подтяжки на круглом столике. За этим занятием Дневная Красавица его и застала. Увидев коммивояжера в длинных пестрых трусах, она столь явно попятилась назад, что господин Адольф поспешил встать между нею и дверью.
— А ты, милочка, и в самом деле дикарка, — сказал он с удовлетворением. — Но видишь, я умею жить, я выпроводил остальных. Вдвоем у нас будет больше задушевности.
Коммивояжер подошел к Северине, и она увидела, что он ниже ее ростом. Господин Адольф взял ее за подбородок и спросил:
— Так, значит, это правда, что ты впервые делаешь это не с возлюбленным? Что, денежки понадобились? Нет? Ты хорошо одета, но это еще ни о чем не говорит. Тогда… может быть… мы любим немножечко порок?..
Отвращение Северины было таким сильным, что она вынуждена была отвернуться, чтобы не поддаться искушению и не ударить что есть сил по этому чересчур бледному лицу.
— Ты стыдишься, подумать только, ты стыдишься, — шептал господин Адольф, — но ты получишь удовольствие, вот увидишь.
Он хотел снять с Северины жакет, но она резким движением увернулась от него.
— Это и в самом деле не «липа»! — воскликнул господин Адольф. — Ты возбуждаешь меня, милая, ты возбуждаешь меня.
Он попытался было обнять Северину, но удар в грудь заставил его отступиться. На какую-то долю секунды он опешил, но внезапно желание раздосадованного мужчины, который платит, произвело в его блеклых глазах, в добродушных чертах его лица такую же перемену, как та, что заставила Северину повиноваться приструнившей ее госпоже Анаис. Он схватил женщину за запястье и, приблизив к ней побледневшее от ярости лицо, выговорил:
— Ты уж часом не сумасшедшая ли, а? Я люблю немного пошутить с потаскушками вроде тебя, но это уж слишком.
И в этот момент жуткое сладострастие, подобное тому, которое она ощутила несколько минут назад, но только еще более жгучее, лишило Северину всякой силы к сопротивлению.
Она выскочила из дома, едва успев привести в порядок одежду, не слушая обвинений и упреков госпожи Анаис. Удовольствие от испытанного ею унижения мигом рассеялось, как только к ней прикоснулся тот, кто вызвал его. Господин Адольф взял ее лишенной признаков жизни.
Северина бежала по влажным сумеречным набережным, по шумным широким улицам, которые она не узнавала, по площадям, громадным, как ее отчаяние, заполненным кишащими гусеницами, столь же бесчисленными, как и те, что терзали ее мозг, бежала прочь от улицы Вирен, от господина Адольфа, от того, что натворила, и, главное, от того, что ей еще предстояло сделать. Она не хотела больше думать об этом — настолько ей казалось недопустимой сама мысль, что вот сейчас она возвратится к себе домой и найдет там все на своих местах. Она шагала все быстрее и быстрее, не думая о направлении движения, словно важно было лишь количество сделанных шагов, словно она хотела увеличить все труднее преодолеваемое пространство между нею и ее квартирой. Так она шла, то пробираясь сквозь плотную толпу, то плутая по безлюдным переулкам, как затравленный зверь, бегом своим пытающийся унять боль в ранах. Наконец усталость остановила ее. Она прислонилась к какой-то стене, спряталась в отбрасываемую ею тень. И тут ее сознание опять наполнили удручающие картины. Снова пытаясь освободиться от них, она зашагала дальше. На этот раз изнеможение одолело ее очень быстро. И тогда она предалась воспоминаниям о прожитом дне. Не получая от этого ничего, кроме смертельного ужаса, Северина все перебирала и перебирала их, пока могла, так как они по крайней мере защищали ее от необходимости принять какое-то решение. Но мало-помалу они утратили способность заполнять все ее сознание. Фантастическими пятнами у нее перед глазами проплыли подъезд их дома, взгляд консьержа, улыбка горничной, зеркала, все зеркала, одно за другим отражающие лицо, зацелованное воспаленными губами господина Адольфа. Уж лучше немедленно бежать назад, к госпоже Анаис, и попросить у нее приюта на всю жизнь, на все ночи и дни.
— Дневная Красавица… Дневная Красавица, — произнесла Северина.
Разве это имя давало ей право возвращаться домой?
Внезапно она устремилась к автомобилю с медленно мигающими лампочками и прокричала шоферу свой адрес, добавив:
— Быстро, быстро. Речь идет о моей жизни. Наконец она сумела уяснить главную причину своей тревоги. Как она ни пыталась заслониться от образа Пьера, он все же проник в ее сознание, и Северина поняла, что для нее сейчас не имеют значения ни унижения, ни страх, что главное — обязательно вернуться домой раньше Пьера и сделать так, чтобы он не страдал.
— Начало седьмого, — прошептала она с дрожью, входя в свою комнату. — В моем распоряжении всего полчаса.
Она стремительно сбросила с себя всю одежду, несколько раз вымыла все тело, до боли растирая его. Она была бы рада сменить кожу.
Что касается верхней одежды и белья, то она с трудом устояла перед искушением развести огонь и сжечь их, как после какого-то преступления.
Пьер увидел жену уже в пеньюаре. Когда он обнял ее, Северина, похолодев от ужаса, вспомнила:
— Волосы, я же совсем забыла про них.
Она была уверена, что от них исходит запах, узнаваемый среди сотен других, запах улицы Вирен, и была удивлена, когда Пьер сказал ей своим обычным голосом:
— Ты уже почти готова, милая. Я тоже сейчас потороплюсь.
Северина вспомнила, что за ними вот-вот должны заехать друзья, чтобы вместе поужинать, а потом отправиться в театр. На какой-то миг она даже обрадовалась этому, но тут же поняла, что ей претит мысль о возвращении вместе с Пьером, мысль о той прелестной полуночной нежности, которая крепко соединяла их, когда они оставались одни.
— Я себя не очень хорошо чувствую, милый, — поколебавшись, сказала она. — Думаю, сегодня утром в сквере я слегка простудилась. Я предпочла бы остаться дома, а тебе стоило бы съездить… Пожалуйста, поезжай, милый. Вернуа очень любезны с нами. Да и пьесу тебе хочется посмотреть. Ты сам говорил, и мне было бы жаль, если бы ты из-за меня отказался от спектакля.
Ночь явилась для Северины долгим и жестоким испытанием. Несмотря на бесконечную физическую и душевную усталость, она не могла заснуть. Она боялась возвращения Пьера. Пока он еще ничего не заметил, но где уверенность, что, когда перед сном он войдет к ней в комнату (а он всегда так делал), чудо продлится и дальше. Ведь не может же быть, чтобы на ней, в ней, около нее не осталось ни единого следа от этого чудовищного дня. Не раз Северина резко вскакивала с кровати и смотрела в зеркало, пытаясь обнаружить на лице какую-нибудь особую морщину, какую-нибудь неизгладимую печать. В таком маниакальном самоистязании проходили часы.
Наконец Северина услышала, как открылась дверь комнаты. Она притворилась, что спит, но все мускулы ее были так напряжены, что, если бы Пьер подошел к ней, притворство тут же обнаружилось бы. Он побоялся разбудить ее и бесшумно удалился. Первой реакцией Северины было мрачное изумление. Неужели это так просто — скрыть столь невероятное потрясение от человека, который знает ее лучше, чем кто бы то ни было? Она не стала задерживаться на этой мысли, которая, поначалу успокоив ее, почти одновременно стала причинять боль. Должно быть, это всего лишь отсрочка, даруемая темнотой. Кара настигнет ее, как только наступит день. Взглянув на нее завтра, Пьер наверняка все поймет.
— И тогда, тогда… — стонала она, садясь и опираясь спиной на смятые подушки, как больная, которой не хватает воздуха.
Неспособная представить себе, что последует за этим открытием, неспособная различить, от какой боли она будет страдать больше — от той, что ощутит сама, или от той, что причинит Пьеру, — Северина закрыла глаза, словно темнота в комнате была недостаточной, чтобы скрыть ее отчаяние.
Это чередование ужаса и бессилия сделало Северину почти бесчувственной: вскоре у нее не осталось больше ни стыда, ни сожаления. Она просто стала ждать утра и приговора. Утро настало, но ничего не произошло. Хотя она не сомневалась, что шитая белыми нитками уловка не сможет спасти ее два раза подряд, Северина снова сделала вид, что спит, и Пьер опять поверил.
Однако время шло, и свет наступившего дня заронил в душу Северины искорку надежды. Она еще до конца не верила в возможность избежать разоблачения, но у нее возникло желание постоять за себя. Целое утро она без передышки названивала по телефону, приглашая к себе гостей и сама напрашиваясь на обеды и ужины, договариваясь о встречах в разное время дня и стремясь занять хотя бы часть своих ночей. Прочитав получившийся в итоге список, она облегченно вздохнула. В течение всей недели у нее не будет ни единой минуты, чтобы побыть с мужем наедине.
Пьер скорее всего удивился такой неистовой жажде развлечений, но Северина, как бы прося прощения, бросила на него такой жалобный взгляд, что он, не зная, чему приписать эту горячую мольбу, был потрясен и обезоружен ею. Теперь они возвращались домой только тогда, когда Северина, вконец обессиленная, едва не засыпала на банкетке в ночном ресторане. Дома она тотчас проваливалась в тяжелый сон и спала так долго, что утром это позволяло ей избегать встречи с Пьером. День съедался тысячами возложенных ею на себя обязанностей. Ну а вечером повторялись те же суета и усталость, что и накануне. Постепенно Северине удалось притупить свои страхи, и даже воспоминания она стала принимать менее болезненно. Водоворот событий бесконечно удалял, стирал в почти нереальную пыль тот день, когда она посетила дом на улице Вирен. Она надеялась, что скоро у нее исчезнет необходимость постоянно воздвигать преграды между собой и Пьером.
И тут с Севериной произошло то, чего редко удается избежать людям, которых ведет по жизни слишком сильный инстинкт. Как игрок, подавленный на время крупным проигрышем, начинает, оправившись от шока, снова мечтать об обитом зеленым сукном столе, снова стремится увидеть знакомые лица, держать в руках карты, слышать привычный игорный жаргон; как любитель приключений, решивший немного отдохнуть от опасностей, вдруг вновь поддается искушению одиночества, борьбы и необъятных пространств; как курильщик опия, вроде бы освободившийся от своей мании, вдруг со сладким ужасом опять ощущает вокруг себя запах дымящегося наркотика, Северина незаметно оказалась окруженной воспоминаниями об улице Вирен. Подобно всем своим собратьям по запретным желаниям, она думала даже не столько об удовлетворении желания, сколько о прелюдии этого удовлетворения, о подступах к нему.
Лицо госпожи Анаис, прекрасные груди Шарлотты, двусмысленная атмосфера покорности, царящая там, сам запах квартиры, который, как Северине казалось, она принесла в своих волосах домой, — все это неотступно преследовало ее плотскую память. Сначала эти воспоминания заставляли ее содрогаться от отвращения, потом она примирилась с ними и, наконец, стала получать от них удовольствие. Присутствие Пьера и щемящая любовь к нему несколько дней хранили ее. Однако судьба Северины была отмечена особой печатью, и написанное на роду не могло не сбыться.
VI
Госпожа Анаис, проводив очередного клиента, предалась размышлениям — насколько верны ее наблюдения. Шарлотте с Матильдой нужно было подыскать подругу. Какими бы приятными они ни были, дому недоставало разнообразия. Кроме того, такое расточительство — пустующая комната. И все же госпожа Анаис не торопилась с поиском замены Дневной Красавице. Та очень подходила ей и своим воспитанием, и своей сдержанностью. А может быть, госпожа Анаис никак не могла забыть тот взгляд, который на какой-то миг соединил их.
Шарлотта и Матильда лежали на постели голые и отдыхали. Волосы Матильды были светлее плеча, на котором они разметались, и Шарлотта нежно поглаживала их.
— Я помешала вам, дети мои, — сказала госпожа Анаис, — но мне нужно поговорить с вами о делах. Нет ли у вас кого на примете для работы у меня?
Первой ответила Матильда, как всегда, в своей боязливой манере, словно чувствовала за собой какую-то вину, неведомую ей самой, но, вероятно, известную другим.
— Вы же знаете, мадам, я ни с кем не вижусь. Вся моя жизнь проходит только здесь и дома.
— А у вас, Шарлотта? Может, среди ваших прежних подруг?
— Мне это не совсем удобно. Когда я уходила из прежнего заведения, то сказала, что меня берут на содержание. Так что если я вдруг встречусь с кем-то из них, то, разумеется, от своих слов отрекаться не буду.
Госпожа Анаис вздохнула, чтобы показать, что стыдится своей слабости, и спросила:
— Я все думаю… Дневная Красавица… Может быть, она еще вернется… Вы как считаете?
— Э нет, дудки! — чувственно потянулась Шарлотта.
Госпожа Анаис направилась было к двери, но Матильда остановила ее. Это было существо пассивное и романтическое, она обожала беседы, дающие пищу мечтаниям.
— Я сразу тогда подумала, что мы ее больше не увидим, — сказала она. — Думаю, это женщина не нашего круга. У нее есть какая-то тайна.
— Тайна! Тайна! — вскричала Шарлотта. — Тебе везде мерещится кино. У нее кто-то был. Потом бросил ее, а она нашла себе другого — вот и все.
— То, что ты говоришь, не вяжется с тем, что мы о ней знаем. Она сказала, что ей нужно уходить в пять часов, значит, кто-то у нее тогда был. Нет, какая-то тайна у этой женщины все-таки есть.
Госпожа Анаис внимательно слушала разговор. Эта тема обсуждалась каждый день почти в одних и тех же выражениях, с неиссякаемым терпением людей, заточенных в четырех стенах, но госпожа Анаис надеялась, что какая-нибудь новая, брошенная наугад фраза даст ей наконец более или менее приемлемое объяснение. Она медленно проговорила:
— Сама я тоже не могу сказать ничего определенного, но думаю, что вы обе не правы… Потому что… Дневная Красавица вернется. Шарлотта вот смеется, но, когда ждешь, всегда ошибаешься — до самой последней минуты.
Этому предчувствию суждено было сбыться несколько минут спустя: первым человеком, который позвонил в дверь, была Северина.
— А, это вы, — произнесла госпожа Анаис своим самым спокойным, но одновременно и самым холодным тоном, — и по какому поводу?
Капельки пота, дрожавшие на висках Северины, свидетельствовали об усилии, какое ей пришлось приложить, чтобы удовлетворить преследовавшую ее отвратительную и разрушительную потребность. Усилие это было так огромно, что, позвонив в дверь, она растратила весь свой запас энергии и уже больше ничего не желала. Однако, когда она увидела, как ее встречает госпожа Анаис, от ее апатии не осталось и следа. Неужели ей откажут в комнате, о которой она мечтала, словно о каком-то непристойном рае? Где же ей еще утолить этот голод, который, как ей казалось, уже угас, но который пробудился вновь, еще более неутолимый, чем прежде, от того, что она вкусила отравленных яств?
— Я хотела… хотела узнать, — прошептала Северина, — не могла бы я…
— Опять вернуться на свое место? И потом снова исчезнуть на столько, на сколько вам заблагорассудится, даже не давая о себе знать? Нет, моя милая, мне не нужна любительская работа. Для этого есть улица.
Чего бы только не сделала сейчас гордая Северина, чтобы вновь увидеть приветливое выражение на лице у госпожи Анаис. Все ее тело умоляло, упрашивало не отправлять его на поиски другого пристанища порока. Этот дом она уже знала, здесь она уже оставила, как в мягкой грязи, свой след.
— Прошу вас… ну прошу вас… — пробормотала она. Госпожа Анаис подтолкнула ее в комнату отдыха и откровений и сказала:
— Можете считать, что вам повезло, поскольку вы имеете дело со мной. Другая на моем месте выставила бы вас за дверь, но вы мне симпатичны, я вам в некотором роде прихожусь крестной матерью, и вы этим пользуетесь.
Она смотрела на Северину с ненаигранной нежностью.
— Ну скажите, милая моя Дневная Красавица, — спросила она, — разве с вами тут плохо обращались? Разве вы не почувствовали себя здесь как у себя дома?
Северина, еще не в состоянии произнести ни слова в ответ, с пугливой улыбкой кивнула головой. И в самом деле, когда она увидела столик для рукоделия, он ей показался каким-то привычным, родным.
— Можно? — спросила она, поднося руку к шляпе.
Не дожидаясь разрешения госпожи Анаис, она положила шляпу в стенной шкаф. Только после этого лицо ее приняло спокойное выражение.
— Разумеется, — отчетливо произнесла госпожа Анаис, — но при условии, что вернулись вы для того, чтобы работать серьезно.
Тут Северина сделала последнюю попытку сохранить что-нибудь от своей свободы.
— Да, да, но только не каждый день, а через день, — смиренно попросила она. — Уверяю вас, я не могу…
— Согласна, — проговорила госпожа Анаис, сделав небольшую, но многозначительную паузу. — Очень скоро вы сами попроситесь приходить каждый день.
Затем неожиданно радостным голосом, так, что Северина даже вздрогнула, позвала:
— Шарлотта! Матильда! Дневная Красавица пришла.
Обе подруги тут же прибежали, голые и недоверчивые. На их лицах было написано изумление, а Северина при виде их почувствовала, как у нее задрожали колени. Эти раздетые тела, одно возле другого, бесстыдно разные по колориту, наполнили ее сознание какой-то необыкновенно приятной истомой.
Она ласково, будто с сожалением спросила:
— Вы не простудитесь?
— Мы привыкли, — ответила Шарлотта. — Не говоря уж о том, что в квартире еще и топят. На этом госпожа Анаис не экономит.
Двусмысленная улыбка обнажила ее ослепительно белые зубы, и она добавила:
— Попробуй, сама убедишься. Ощущение бесподобное, правда же, Матильда?
И вот она уже начала раздевать Северину, которая не оказывала никакого сопротивления. Когда проворные, теплые руки сняли с нее всю одежду, взор ее затуманился от смущения.
И тут в комнате воцарилось молчание, которое привело ее в себя. Несмотря на немалый профессиональный опыт окружавших Северину женщин, они испытали в этот момент какое-то странное волнение, даже как бы застеснялись. В ее тонком, здоровом и крепком теле чувствовалась какая-то необыкновенная чистота и настоящая порода.
Госпожа Анаис спохватилась первой. Гордость за свой дом была в ней столь же сильна, как и заинтересованность в доходе, и тут удовлетворенными оказались оба эти чувства.
— Лучшей фигуры просто не бывает, — почтительно заметила она.
Шарлотта запечатлела горячий поцелуй на плече Северины, и в этот момент зазвенел звонок. Северина побледнела, но посетитель оказался поклонником Шарлотты.
— Раз уж вы хотите чувствовать себя здесь как дома, — сказала госпожа Анаис, — Матильда покажет вам вашу комнату. А у меня есть дела. Если позвонят, не забудьте надеть платье. Выглядеть надо прилично.
Комната, предназначенная для Дневной Красавицы, была меньше той, где она оставалась с господином Адольфом, но во всем остальном ничем от нее не отличалась: те же темные бумажные обои на стенах, те же темно-красные, почти черные гардины, кресло, покрывало на постели и те же предметы туалета за ширмой.
— Уже пора зажигать свет, — прошептала Северина. Однако она не стала этого делать и подошла к окну.
Улица Вирен была серой, узенькой, но по ней ходили туда-сюда свободные мужчины и женщины. Матильда, подошедшая к окну вслед за Севериной, тоже посмотрела на прохожих и робко спросила:
— Вы тоскуете здесь, мадам Дневная Красавица? Северина обернулась, словно захваченная врасплох.
Она забыла о присутствии Матильды, сейчас этот нерешительный голос, эта тень, чуть более светлая, чем полумрак комнаты, и такая неподвижная, что даже не чувствовалась нагота девушки, почему-то наполнили ее душу бесконечной печалью.
— О! Я не спрашиваю вас о причине, — быстро добавила Матильда, неверно истолковав движение Северины. — У каждого свои секреты, ведь правда? Я не говорю о себе, потому что я, понимаете… потому что Люсьен, мой муж, он обо всем знает. Это не моя вина и не его. Он болен, ему нужно жить в деревне. Что ж тут поделаешь?
Не дождавшись ответа, который позволил бы ей продолжить разговор, она прошептала:
— Вы меня простите, я своими историями, наверное, нагоняю на вас тоску. Госпожа Анаис и Шарлотта правы, когда говорят, что я немножко не в себе. А у меня потребность все высказать… Делиться с вами — это еще ничего, а вот с клиентами…
«Ей хочется, чтобы кто-нибудь объяснил, почему она принадлежит всем, когда любит одного-единственного», — рассеянно подумала Северина. История Матильды ее нисколько не интересовала. Это жалкое существование легко вписывалось в законы плохо отлаженного мира. Вот кто бы ей самой объяснил, почему она, такая богатая, у которой есть Пьер, находится в этом месте.
— А Шарлотта? — резко спросила Северина.
— О, она совсем другое дело. Она была манекенщицей, поэтому ей было не так трудно освоиться здесь. И потом ей нравится делать это почти с каждым, даже со мной. А мне это неприятно, но я не умею перечить. Так что приходится делать то, что она хочет.
Матильда немного помолчала, потом неуверенно сказала:
— Знаете, мадам Дневная Красавица, мне вас жалко. Я ведь видела в прошлый раз…
До вечера было далеко, но в комнате уже царил полумрак и все красные пятна обивки казались черными, как ночью. В этой темноте Матильда не могла видеть, как бешеный гнев исказил черты Северины, но полный злобы голос заставил ее вздрогнуть.
— Убирайтесь, — проговорила Северина, — немедленно… Вы не имеете права.
Собрав всю свою волю, Северина не позволила себе разрыдаться. Неожиданно она прижала к себе Матильду и повелительным тоном сказала:
— Не обращай внимания… Я немного ненормальная. И раз у нас есть время, покажи мне, как это вы делаете с Шарлоттой.
«Зачем? Ну зачем? — то и дело повторяла Северина, стиснув зубы, так сильно, что они не разжались даже от тряски в такси, которое везло ее домой. — Зачем вся эта проституция, которая мне совершенно не в радость?» Она с отвращением вспомнила пассивные движения Матильды, слезы этой несчастной, ее преклонение перед Севериной, которое ей было в тягость, доводило ее просто до исступления. Предоставленная затем в распоряжение пожилому мужчине, она даже не почувствовала той дрожи унижения, которая заставила ее принять ласки господина Адольфа. Правда, в тот момент, когда госпожа Анаис делила с ней ничтожную плату за ее тело, удовольствие, которому Северина даже не пыталась найти название, все же слегка коснулось ее. Но не слишком ли ничтожная награда в сравнении со взглядом Пьера, навстречу которому она ехала?
На этот раз Северина уже не пыталась уйти от этого опасного испытания, не бросилась в паническое бегство. Ее движениями теперь управлял опыт, полученный в первый раз. Но ужас ее был все так же велик. По мере приближения к дому он овладевал ею все больше и больше. Однако даже это испытание страхом Северина предпочитала попыткам анализировать свою абсурдную, чудовищную, неразрешимую извращенность: она бы сошла с ума, если бы продолжила это безысходное дознание. Сейчас ей предстояло защищать свое единственное достояние, и она полагала, что знает, как это сделать.
Выйдя из ванной, Северина оделась. Она не привыкла притворяться, да и характер ее был мало приспособлен к этому, но инстинкт самосохранения подсказывал ей, что вторично уже не следует прибегать к однажды уже использованному средству. Поэтому она не стала предлагать Пьеру куда-нибудь поехать и у нее хватило сил оставаться естественной до самого ужина. Но как она ни старалась, кусок не лез ей в горло. Пьер расспрашивал ее о чем-то своим любящим голосом, который действовал на нее как сильный раздражитель. Она отвечала невпопад. Она была еще слишком неискушенной в неправедности, чтобы с блеском сыграть избранную роль, и в то же время уже слишком хорошо все понимала, чтобы положиться на свою животную интуицию, как она делала это двумя неделями раньше. Во всех ее словах и жестах видны были замешательство и поспешность человека, чувствующего за собой вину.
На лице Пьера застыло выражение смутного беспокойства. Назвать это настоящей тревогой было бы нельзя, но во всем его поведении появилась настороженность, близкая к подозрению. Заметив это, Северина разволновалась еще больше. К счастью, ужин уже закончился.
— Ты будешь работать? — спросила она Пьера.
— Да, приходи, — нервно ответил он.
Северина совсем забыла, что, когда Пьер писал какую-нибудь статью, она обычно устраивалась с книгой у него в кабинете. Это вошло в привычку с тех пор, когда она решила, что будет уделять мужу больше внимания.
Воспоминание о том раннем утре, полном таких прекрасных и таких чистых обещаний, подействовало на Северину удручающе, но нарушить традицию она не осмелилась. Едва оказавшись в кресле, в котором она обычно сидела, Северина поняла, что даже неудачный предлог, которым она могла воспользоваться, чтобы остаться одной, был бы лучше этой фальшивой интимности. Строгая обстановка комнаты, благородная атмосфера библиотеки, приглушенный свет, серьезное лицо Пьера — как вынести эту очную ставку с приблизившимися, бросившимися ее осаждать образами улицы Вирен? Замешательство, в котором барахталась Северина, было столь ужасным, что она даже не замечала взглядов, которые время от времени бросал на нее муж. Вдруг она услышала, как он поднимается из-за стола. Она поспешно уткнулась глазами в книгу и побледнела. Страницы оказались перевернутыми вверх ногами, и изменить что-либо было уже поздно. Пьер сделал вид, что ничего не заметил, и освободил Северину от лишних объяснений.
— Тебе хочется помечтать в одиночку, — сказал он. — Иди лучше спать.
Никогда еще Северина не замечала в нем этой властности. С боязливой покорностью она встала.
Пьер выждал некоторое время, чтобы справиться с голосом, и спросил:
— Разве ты не поцелуешь меня перед сном?
Эти слова окончательно уничтожили Северину. Она, конечно, и сама хотела, чтобы какой-нибудь повод помешал Пьеру вопреки обыкновению прийти посмотреть, спит ли она, но он не пришел и так, без всякого повода. Значит, он о чем-то догадывается, значит, он, может быть, уже знает, что…
Северина рухнула на кровать и впилась зубами в подушку, чтобы сдержать вой, готовый вот-вот вырваться из горла. Потом все ее существо заполнила страстная мольба, огромная, как ее отчаяние, чтобы ей еще раз, в самый последний раз удалось ускользнуть от опасности, и тогда она навсегда прекратит эти гнусные, эти безумные опыты.
Порыв был столь живым, столь всепоглощающим, что он успокоил ее.
Она начала раздеваться. И тут, по мере того как она снимала с себя одежду, в ее памяти стали возникать, шевелиться смутные линии двух тел. Удовольствие, которое она получила от этого, было поначалу прозрачно чистым. Оно замутилось, когда Северина узнала бесстыдные формы Матильды и Шарлотты. Она недолго всматривалась в них, всего лишь какое-то мгновение, но этого оказалось достаточно, чтобы Северина поняла, что тот обет, с помощью которого она пытается переломить судьбу, невыполним. Она никак не хотела согласиться с этим, и, чтобы избежать угрожающего ее рассудку диалога с собой, чтобы не броситься в конце концов к Пьеру и не признаться ему во всем, она проглотила снотворное, которым пользовалась еще во время болезни.
После лекарства ее сон был крепким, но недолгим. Северина проснулась с восходом солнца. Болела голова. Мысли ее напоминали прелые листья, перекатываемые ветром с места на место. Когда она немного пришла в себя, борясь со своей тяжелой расслабленностью, в комнату вошел Пьер. При его появлении как раз в тот момент, когда к ней стало возвращаться понимание происшедшего, глаза Северины расширились от ужаса, словно ей только что вынесли приговор. Этот взгляд рассеял колебания Пьера, и он решился на разговор.
— Северина, так больше не может продолжаться, — сказал он. — Я не хочу, чтобы ты боялась меня.
Она все так же пристально, не мигая, смотрела на него. Он продолжил немного быстрее:
— Ты слишком искренняя, чтобы играть в эту игру. Что с тобой, милая? Ты можешь сказать мне все. Ничто не может причинить мне больше страданий, чем твое поведение в последнее время. Пощади, откройся мне… Ты не хочешь довериться мне, а ведь я хочу помочь тебе… Послушай… может быть, — видишь, я разговариваю с тобой так же нежно, как и всегда, хотя и не спал ночь, размышляя об этом, — может быть, ты полюбила другого? Ты не изменяешь мне, я уверен в этом. Кстати, какое неподходящее для нас слово, но может быть, тебя влечет к другому, ты страдаешь и…
Взрыв пронзительного, как-то странно прозвучавшего смеха остановил его. Потом последовали отчаянные протесты Северины.
— К другому!.. И ты мог… Я люблю тебя и не смогла бы любить никого, кроме тебя, мой милый, жизнь моя… Я твоя… Разве у меня не могут расшалиться нервы?.. Да я готова умереть за твое счастье…
Теперь во взгляде Северины уже не было растерянности. Влажный и сияющий, он светился таким смиренным обожанием, что Пьер больше не сомневался в своей ошибке. И все показалось ему удивительно простым. Северина была права. Ведь недавно она была буквально на волоске от смерти, и такое испытание не могло пройти бесследно для всего ее организма. Он был просто глуп, и теперь чувствовал себя счастливым.
— Мне следовало бы всегда помнить выражение твоего лица, когда ты ждала меня у подъезда больницы, — проговорил он.
Северина возбужденно прервала его:
— Я буду ждать тебя там каждый день, вот увидишь… и даже… погоди… я через минуту оденусь, я провожу тебя.
Ему не удалось убедить ее отказаться от намерения проводить его и от решения постоянно приходить ждать его у больницы. Она дошла с ним также и до той клиники, где он оперировал ежедневно после обеда. А когда рабочий день Пьера закончился, она уже встречала его в комнате ожидания.
Северине хотелось бы превратиться в служанку Пьера, но при этом она не смогла решиться принять его в постели, когда он, тронутый таким ее пылом, сказал ей о своем желании.
Плотское влечение придало лицу Пьера какую-то красивую суровость, но, лежа ночью без сна, Северина почему-то невольно переносила это вожделение мужа на гнусные физиономии, мелькавшие на фоне подозрительных декораций из темных обоев и красных пятен, которые превращались в пятна ночи. Сейчас у нее не было желания видеть их, но она знала, что очень скоро снова ощутит эту безудержную потребность. Если она не будет соблюдать своих обязательств, то дверь дома госпожи Анаис навсегда захлопнется перед ней. Опасение, что ее убогий разврат перестанет получать необходимую пищу, погнало ее туда сразу же, как только она попрощалась с Пьером на пороге клиники, до которой она проводила его и в этот день тоже.
С этого времени у Северины началась настоящая интоксикация: привычка стала преобладать над удовольствием. Отныне на улицу Вирен ее нес уже не прежний неудержимый и бесконтрольный порыв, а какая-то вялая покорность судьбе, где с каждым разом оставалось все меньше и меньше подлинных импульсов. В этот период она уже не испытывала той радости, на какую рассчитывала вначале, но ей было приятно снова и снова приходить в жарко натопленную квартиру, ощущать сомнительный уют своей комнаты. Она без всякой досады, словно расслабляющую колыбельную песню, выслушивала нескончаемые разговоры госпожи Анаис и своих подружек. Она и сама стала участвовать в них. Чтобы удовлетворить любопытство девушек, Северина сочинила себе прошлое, которое в какой-то степени перекликалось с историями Матильды и Шарлотты. У нее был любовник, который соблазнил ее, когда она была девушкой. Она боготворила его, он ее бросил. Теперь ее содержал другой, много хуже прежнего, но она его жалела. Отсюда ее осмотрительность и невозможность задерживаться у госпожи Анаис подольше.
Теперь Дневной Красавице приходилось много работать. Дом жил в основном благодаря постоянным клиентам. И все они набросились на новенькую. Северина терпела оказываемое ей предпочтение без волнения и без удовольствия. Она часто с ностальгией вспоминала свои первые страхи непокорного животного, но теперь даже господину Адольфу, иногда выбиравшему ее, не удавалось их возродить. Она удивлялась, как этот бесцветный человечек сумел пробудить в ней такие сильные ощущения.
Ей пришлось учиться всем хитростям ремесла, которым она занималась, даже самым изощренным. Эта учеба, случалось, возмущала ее, вызывала у нее ощущение, как будто она превратилась в некую непристойную машину, и она содрогалась от извращенного унижения. Однако разнузданность плоти имеет свои быстро достигаемые пределы, если нет взаимной страсти, способной раздвинуть их до бесконечности. Северина обнаружила это и вновь перестала что-либо чувствовать. Ее стыдливость поизносилась, страх исчез. Она могла принадлежать мужчине на глазах у нескольких других, Шарлотта или Матильда, а то и обе сразу могли подключиться к упражнениям, пикантной привлекательности которых она не понимала, — теперь Северине все было безразлично. И лишь одно сохранилось у нее — вялая дрожь в момент, когда госпожа Анаис звала ее, чтобы клиент сделал свой выбор, а она, покорная, шла к нему. Чем она наслаждалась в эту пору — так это своей покорностью.
Временами, когда Северина вспоминала о своей немалой когда-то гордости, которой она обладала так долго, ей начинало казаться, что на месте ее осталось незаполненное, пустое пространство. От такого же непонятного душевного вакуума мучился и Пьер. Ему не удавалось вновь обрести ту абсолютную простоту и ту чудесную легкость жизни, которые ему давала некогда близость Северины. Восторг от сознания, что страхи, грозившие разрушить его жизнь, оказались напрасными, некоторое время уберегал его от собственной проницательности. Однако вскоре Пьера стало удивлять неестественное и затянувшееся смирение жены. Внезапные перемены настроения можно было объяснить расшатанностью нервов, но как понимать эту боязливую и жалобную нежность, эту торопливую готовность услужить, это полное отсутствие собственной жизни и интересов у молодой женщины, которая еще месяц назад так привлекала его своим волевым характером и своей настолько естественной гордостью, что она казалась такой же неотъемлемой ее частью, как, например, ее сердце?
Пьер не мог найти ни одного сколько-нибудь приемлемого ответа на мучившие его вопросы. Он больше не сомневался в любви Северины, мало того, никогда еще его уверенность в ее любви не была такой сильной, но она не приносила ему радости, а только усиливала беспокойство. Временами ему невольно вспоминался тот день, когда он впервые увидел Северину растерянной: она рассказала ему тогда об истории с Анриеттой… о домах свиданий. Но он тут же отбрасывал этот вариант. Северина была не из тех, на кого могли подействовать чувственные образы, да еще такого рода. Пьер мучился, каждое утро надеясь вновь увидеть на лице Северины черты властности, которых так недоставало для его счастья, но каждое утро он неизменно видел рядом с собой покорное существо, единственной заботой которого было угождать ему. Северина отдавала себе отчет в том, что любовь ее вопреки всему принимает форму рабской покорности, но ничего не могла с собой поделать. Она взирала на Пьера из глубины той ямы, куда упала, и он казался ей стоящим так недосягаемо высоко, что это угнетало ее. И в то же время он стал ей еще более дорог. Чувствуя себя страшно постаревшей, она боготворила его молодость и чистоту. Но чем больше она любила его, тем больше мучилась из-за тех страданий, которые сама же и доставляла ему.
Забыть об этой безысходной ситуации Северине удавалось лишь на улице Вирен. Стоило ей переступить порог дома госпожи Анаис, как образ Пьера тут же исчезал. Это был верный признак ее любви к нему. Та же любовь, обрекавшая ее на невыносимые муки, толкала Северину к госпоже Анаис уже не три раза в неделю, а каждый день.
Ежедневная проституция не приносила ей ничего, кроме усталости и тоски. Дома же ее ожидал Пьер со своими переживаниями. Вконец измученная постоянными потрясениями, Северина не раз мысленно спрашивала себя, возвращаясь домой по ставшей ей родной набережной, как долго еще холодная вода Сены сможет удерживать ее от чуть было не предпринятого однажды шага. Как знать, может быть, речникам в один прекрасный день и пришлось бы извлекать из воды ее окоченевший труп, если бы за свои долгие и неоплатные муки она не получила в конце концов награду.
Вознаграждение пришло к ней однажды вечером, когда Северина, по обыкновению оскверненная и разочарованная, уже готовилась попрощаться с госпожой Анаис. Она направилась к гардеробу за своей шляпой, и тут в дверь позвонили. По тому, как госпожа Анаис их позвала, обитательницы заведения догадались, что работа будет малоприятной. Они не ошиблись. Ждавший их клиент был пьян. Одетый в блузу, какие носят рабочие Центрального рынка, он поглядывал то на свои грязные башмаки, то на обстановку явно понравившейся ему комнаты. Его очень крепкие рабочие руки лежали на коленях.
— Вот эту, — сказал он, кивнув головой в сторону Дневной Красавицы, — и стаканчик рома.
Пока он пил ром, Северина раздевалась. Он молча наблюдал за ее движениями. Взял он ее без единого слова. Тело у него было тяжелое. У него вообще все было более плотным, чем у других мужчин, даже белок, даже радужная оболочка глаз. Северина, почувствовав вдруг грубое исступление этого тела, его животное сладострастие, застонала еще неведомым ей стоном. Тут на ней удовлетворялось уже не какое-нибудь цивилизованное, мелочное желание, а желание всех тех троих мужчин, погоня за которыми бросила ее в эту постель. Мужчина из тупика, мужчина с неприличным затылком, кочегар с баржи утоляли на ней свою потребность в лице того, кто давил на нее сейчас своей огромной массой, терзая ее узловатыми ручищами. Северину захлестнула такая волна наслаждения, какой она еще не знала. Ее лицо отражало изумление и страх. Она слегка заскрежетала зубами, а потом внезапно на лице у нее появилось такое выражение покоя, блаженства и юной свежести, что любой другой на месте мужчины, добычей которого она стала, был бы потрясен.
А этот положил на ночной столик не раз клеенную и переклеенную купюру и ушел.
Северина еще долго продолжала лежать без движения. Она знала, что ей нужно быстрее уходить, но это ее мало заботило. Ей казалось, что отныне она уже ничего не будет бояться. Она только что обрела такое благо, на которое другие и смотреть-то не имеют права. Наконец-то она после своего долгого, жуткого бега достигла цели, и вот теперь оказалось, что финиш является стартом. Ее духовная радость даже превосходила всколыхнувшую ее до основания физическую радость. Что-то, значит, оправдывало все те усилия, которые она делала после своего выздоровления и которые казались ей отвратительным в своей бесполезности безумием. Она обрела то, что искала вслепую, и это достояние, полученное ценой такого ада, дурманило ее какой-то странной, огромной гордостью.
Шарлотта сочувственно спросила у нее:
— Тебе было не слишком неприятно с этим животным?
Северина ничего не ответила, лишь заливисто засмеялась. Женщины дома Анаис в изумлении переглянулись. Только теперь они заметили, что до этого Дневная Красавица никогда не смеялась.
Пьеру в тот вечер тоже пришлось удивляться Северине.
— Мы поедем ужинать за город, иди живо лови машину, — приказала она радостным, не допускающим возражения голосом.
Северина не пыталась выявить те элементы, которые лежали в основе ее чувственного откровения. Ей не хотелось исследованием нарушать целостность своего открытия. Она даже не спрашивала себя, каким образом смогла бы повториться та восхитительная молния, что пронзила ее. Узнав, что эта молния существует, что она хранится у нее в лоне, Северина была уверена, что теперь она будет сверкать всегда. Однако ни одному из тех, кто выбирал Северину в течение последующих дней, не удалось ее зажечь; молодая женщина, нетерпеливая, возбужденная, безуспешно пыталась получить наслаждение, которое, будучи один раз пойманным, вновь бежало от нее. И Северине стало ясно, что для наслаждения ей требуются особые условия, но какие именно, сказать она не могла. Вскоре ей представился случай проанализировать собственные ощущения и разобраться в самой себе.
Однажды в середине дня в заведении госпожи Анаис появился высокий молодой человек со свертком под мышкой.
— Я не расстаюсь с ним, — заявил он тотчас же, — он слишком дорог мне.
У него был очаровательный голос, который весело выговаривал каждый слог, будто впервые открывая для себя, что из них образуются слова, и как бы удивляясь тому, что все они имеют одно значение, хотя вполне могли бы иметь сотню иных.
Подобно большинству женщин, госпожа Анаис недолюбливала иронию. Однако его ирония не вызывала у нее подозрений, так как тут ее сопровождала бесконечная любезность. Кроме того, молодой человек был строен, широкоплеч, со вкусом одет, а на лице его без труда читались ум, нежность и какая-то детскость.
— Я приглашаю дам, не так ли? — спросила госпожа Анаис.
— Надеюсь, если быть последовательным. Скажите им, что меня зовут Андре. Я придаю этому большое значение, так как предвижу, что они будут обращаться ко мне на ты и что дружеское отношение, если оно не анонимно, перерастает в близость. К тому же они не имеют права быть не только уродливыми, но и просто сносными, ибо я, мадам, не выбирал ваш дом. Я пришел к вам с закрытыми глазами, ткнув пальцем в колонку привлекательных объявлений. Так что меня привел сюда случай. А он никогда не ошибается, и если…
Госпожа Анаис, засмеявшись, прервала его.
— Будь вы менее любезным, я бы немного испугалась вас, — сказала она.
Потом Матильда и Шарлотта долго еще вспоминали время, проведенное вместе с Андре. Разговоры Андре были очаровательно шаловливы. Девушки понимали далеко не все из того, что он говорил, но чувствовали, что слова его рассчитаны на умы более высокого полета. И то, что этот молодой человек не смотрит на них только как на машины для получения удовольствия, а щедро делится с ними тем, что, как они догадывались, было у него самого лучшего, трогало их — как-то смутно, но сильно.
Лишь Северина оставалась глуха к этой беседе, хотя единственная из всех была способна постичь и присущую молодому человеку оригинальность воображения, и безукоризненный ход его мысли. Даже Матильда, шокированная такой холодностью, сказала ей на ухо:
— Будьте же немного помягче с этим мальчиком. Такие, как он, нечасто сюда приходят.
Андре подумал, что Матильда не осмеливается высказать какое-то пожелание.
— Милые мои подружки, вы у меня ничего не просите. И я этому рад, причем вовсе не из скупости, а из тщеславия. Даже если бы я был богатым человеком, мне все равно не хотелось бы ощущать себя богатым. Но вот сегодня у меня есть немного денег, и я хочу обратить их в вашем обществе в самое дорогое вино.
Госпожа Анаис вопросительно посмотрела на других женщин. В их глазах тоже отражались растроганность и нерешительность.
— Спасибо, — проговорил Андре с большей признательностью, чем он старался показать. — Но, может быть, вы предпочитаете, чтобы я отнес свои гроши в другое место? Или вы откажетесь обмыть мою первую книгу?
— Ты пишешь книги? — воскликнула Шарлотта недоверчиво, так как она часто спрашивала себя, из какого же теста сделаны люди, чьи имена написаны на обложках книг, выставленных в киосках.
Андре снял с камина свой пакет и развязал его. Там было пять книг с одним и тем же названием.
— Надо же, все верно, — сказала Шарлотта. — Андре Мийё — это ты?
Андре улыбнулся с такой наивной гордостью, что она показалась наигранной.
— Я не знала, — простодушно продолжала Шарлотта. — Ты бы уж тогда дал мне одну книжку.
— Да это… это же первые экземпляры.
— Ну и что, мой милый?
У Андре не хватило духа сказать, что он собирался их продать. Нежность и искренность, с какими были сказаны эти слова, обычно пустые в доступных за плату устах, тронули его. Он протянул Шарлотте один экземпляр. Отдавая книгу, он встретил робкий взгляд Матильды. Устоять перед ним он не смог. После этого у него возникло опасение, как бы госпоже Анаис и Северине не показалось, что он относится к ним с пренебрежением.
Покачав головой, Андре поглядел на единственный оставшийся у него экземпляр, сунул его в карман, а на остальных сделал сердечные надписи всем четырем женщинам.
Подали шампанское. Никогда еще у госпожи Анаис не пили его так радостно и непринужденно.
Однако вот зазвонил звонок. Странное смущение и печаль заставили Шарлотту и Матильду опустить головы.
— Пойду открою, — словно извиняясь, сказала госпожа Анаис.
Андре, удивленный возникшим молчанием, — ибо не в состоянии был понять, какую жестокую милость он оказал этим несчастным душам, — поочередно посмотрел на Матильду, Шарлотту и Северину. Глаза последней, более блестящие, выражали радость избавления.
— Во всяком случае вы останетесь со мной, — сказал Андре.
И тут Дневная Красавица почувствовала, что ничто на свете не заставит ее согласиться на объятия этого молодого человека, милого и чистого.
Тихим голосом, так, что услышал только он один, она прошептала:
— Извините меня, прошу вас.
По выразительному лицу Андре пробежала дрожь. Впоследствии он часто мысленно возвращался к этой просьбе, сдержанность которой не вязалась с прозвищем этой женщины и с ее положением. Но в тот момент, услышав ее слова, он едва заметно поклонился и повернулся к Шарлотте. Та страстно обняла его.
— Бедняжка, вам не повезло, — сказала госпожа Анаис Северине. — А я-то готова была биться об заклад, что он выберет вас. Ну да… А теперь вас ждет господин Леон, и у него всего четверть часа.
Дневная Красавица знала господина Леона, всегда торопящегося торговца, который владел небольшим кожевенным заводом неподалеку от улицы Вирен. Северина уже и прежде не раз была объектом его благосклонности и сохранила о нем невеселые воспоминания. Однако на сей раз этот коротышка, весь, вплоть до дыхания, пропитанный запахом необработанной кожи, с его жадным стремлением воспользоваться ею за такой короткий промежуток времени, заставил Северину затрепетать от веселой тоски и сладострастного жара в груди, которые она уже отчаялась испытать вновь.
После нескольких мгновений забытья она удалилась в комнату, где обычно сидела госпожа Анаис. Той в комнате не оказалось, и Северина услышала ее смех за перегородкой, откуда доносился и благородный голос Андре. Северина села за столик для рукоделий и, подперев подбородок еще влажными от наслаждения ладонями, прислушивалась к потаенному голосу своего тела.
Когда она вновь обрела способность воспринимать окружающее, лицо ее выражало спокойствие и решительность. Теперь она знала.
Она знала, что отвергла Андре потому, что он принадлежал к тому же классу — физическому и духовному, — что и мужчины, окружавшие ее в нормальной жизни, к тому же классу, что и Пьер. С Андре она бы обманула мужа, которого нежно, безмерно любила. Она пришла на улицу Вирен искать не нежности, не доверия, не ласки (этим щедро одаривал ее Пьер), а того, чего он не мог ей дать, — восхитительных животных наслаждений.
Элегантность, воспитание, стремление нравиться противоречили чему-то такому в ней, что желало быть сломанным, покоренным, грубо укрощенным, дабы расцвела ее плоть.
Северина не впала в отчаяние, осознав фатальное расхождение между нею и тем, кто был для нее всей жизнью. Напротив, она испытала бесконечное облегчение. После стольких недель мучений, когда она чуть было не сошла с ума, Северина наконец поняла себя, и тот ужасный двойник, который управлял ее поведением посреди жути и мрака, теперь постоянно рассасывался в ней. Сильная и спокойная, она вновь обрела внутреннюю целостность. Коль скоро судьба так распорядилась, что она не могла получать от Пьера то удовольствие, которое доставляли ей грубые незнакомцы, то что она могла поделать? Стоило ли отказываться от наслаждения, которое у других женщин совпадает с любовью? Выпади ей такое счастье, разве пошла бы она по этому ужасному пути? Кто же может упрекать ее за то, что заложено природой в клетки, из которых она состоит и за которые она не может нести ответственности? Она, как и всякая божья тварь, имеет право познать священные спазмы, которые заставляют весной содрогаться землю влажной дрожью.
Это откровение преобразило Северину или, точнее, заставив ее прекратить жалкие слепые поиски, вернуло ей прежнее лицо. Она вновь обрела уверенность в себе и свою прежнюю внутреннюю энергию. Она чувствовала себя даже более безмятежно, чем прежде, поскольку ей удалось обнаружить и засыпать ров, наполненный чудовищами и блуждающими болотными огоньками, долгое время являвшийся чем-то вроде ненадежного и опасного фундамента ее жизни.
Да и появись у Северины хоть малейшее беспокойство при мысли о том пути, на который она сознательно вступила, глаза Пьера, глаза, которых она до последнего времени так боялась, тут же убедили бы ее в том, что она права. Эти глаза с трогательной радостью наблюдали за воскресением Северины, и у них было достаточно времени, чтобы в полной мере насладиться им, так как молодая женщина, соблюдая осторожность, не торопила события. Незаметно, постепенно она отказалась от своего смирения, от своей боязливой бдительности. Каждый день она делала один шаг назад, но только один, не больше. Каждый день она навязывала Пьеру одно свое новое желание, но не более одного. Она ясно видела, что он сгорает от желания повиноваться ей, но чувствовала, что если вдруг резко изменит свое поведение, то разбудит в Пьере новые подозрения и тревогу. А этого она не хотела, как не хотела отказываться и от своих визитов к госпоже Анаис. Она добивалась равновесия между этими двумя главными полюсами своей жизни, добивалась для себя полноценного существования.
Благодаря великому и стойкому терпению она достигла этого. Было ли это лицемерием? Все происходило настолько естественно, что Северина не считала свое поведение двуличным. Никогда еще она не чувствовала себя более полно, более непорочно принадлежащей Пьеру, как по возвращении с улицы Вирен, где она оставляла своих злых духов. Два часа, ежедневно проводимые у госпожи Анаис, образовывали непроницаемый, изолированный, самодостаточный промежуток времени. Пока они протекали, эти два часа, Северина просто забывала, кто она такая. Тайна ее тела жила обособленно, вдали от всего остального, подобно тем необычным цветам, что раскрываются на несколько мгновений, а потом возвращаются в состояние девственного покоя.
Вскоре Северина даже перестала замечать, что ведет двойную жизнь. Ей казалось, что жизнь эта была предопределена уже задолго до ее рождения.
Последняя особенность этой привычки заключалась в том, что физически она снова стала женой Пьера. У нее уже не было ощущения, что она отдает мужу недостойную плоть, так как чувствовала, что, проходя путь от улицы Вирен до своего дома, она вся обновляется, вплоть до составляющих своего тела. В его объятиях она вела себя, как и прежде, по-матерински, поскольку, не признаваясь себе в этом, опасалась, как бы каким-нибудь слишком страстным или слишком слабым движением не обнаружить перед ним недозволенного знания Дневной Красавицы.
VII
В первые мгновения, увидев Марселя, Северина едва обратила на него внимание. Он пришел вместе с Ипполитом, и, вполне естественно, вначале молодую женщину заинтересовал этот последний. Еще до того, как она вошла в комнату, где находился Ипполит, ее заинтриговала атмосфера тревоги, воцарившаяся в доме с его приходом.
— Будьте понежнее с Ипполитом, — посоветовала госпожа Анаис девушкам, не глядя ни одной из них в глаза.
— Можете быть спокойны, — занервничала Шарлотта. — А я-то думала, что от него уже избавились.
Госпожа Анаис пожала плечами и вздохнула:
— Это человек с причудами. Может быть, мы никогда больше его не увидим, а может, он останется здесь на всю неделю. Словом, будьте с ним любезны, и вы не пожалеете.
В коридоре Северина поинтересовалась:
— Кто он?
— Никто не знает, — прошептала Матильда.
— Богатый?
— Скажешь тоже! — воскликнула Шарлотта. — Он никогда не платит.
— Так в чем же дело?
— Все за него улаживает госпожа Анаис. Мы сначала думали, что он был ее любовником, оказалось, что нет. Полагаю, он хаживал к ней когда-то и с тех пор она у него в руках. Хорошо еще, что он бывает нечасто. Два визита за полтора года. Иначе ноги бы моей здесь не было.
— И моей тоже, — сказала Матильда.
Они подошли к двери большой комнаты и остановились в нерешительности. Северина продолжала расспросы:
— Он пылкий? Грубый?
— Этого не скажешь, верно ведь, Матильда? Скорее спокойный и даже не злой. Трудно объяснить почему, но он нагоняет страх.
Северине понадобилось несколько секунд, чтобы разделить мнение подруг. Ипполит оказался верзилой, он был гораздо плотнее, шире в плечах и выше других мужчин. Ничего специфически жестокого в его лице вроде бы и не было: жирное, толстое, оно просто выглядело необычно широким. А может быть, причина крылась в сильном контрасте между величественной, почти мертвенной неподвижностью и дикой животной сущностью, которая окрашивала его губы в темно-красный цвет, заклинивала его челюсти, похожие на капкан для хищных зверей, и превращала его кулаки в две булавы из костей и мяса? Или в особой манере скручивать и заклеивать языком сигарету? Или, наконец, в крошечном золотом колечке, которое он носил в правом ухе? Ответить на эти вопросы Северине было бы столь же трудно, как и Шарлотте, но в жилы ее медленно проникал страх. Как зачарованная смотрела она и не могла оторвать взгляда от этого загорелого, огромного, идолоподобного мужчины.
Хотя взгляд его был устремлен куда-то в ему одному известную точку, явно находящуюся за пределами комнаты, Ипполит заметил замешательство и страх трех женщин. Не соблаговолив что-либо сказать по этому поводу, он только лениво произнес с оттенком глубочайшего пренебрежения:
— Как поживаете, детки?
После чего замолчал. Было заметно, что он не очень любит разговаривать и что молчание — непереносимая стоячая вода для большинства людей — вовсе не смущает его. Зато у Шарлотты появилась потребность нарушить его.
— А вы, господин Ипполит? — спросила она с наигранной веселостью. — Вы ведь не показывались у нас уже несколько месяцев.
В ответ он не проронил ни слова, только глубоко затянулся сигаретой.
— Разденьтесь, а то тут жарко, — предложила Матильда, которой тоже было не по себе от долгого молчания Ипполита.
Ипполит жестом приказал ей подойти, и она помогла ему снять пиджак. Под сорочкой из тончайшего шелка обозначились мышцы рук, плеч и груди. Тугие, как сталь, они казались сопряженными вместе для неведомого тяжелого труда.
— Я вам кое-кого привел, — объявил Ипполит. — Это мой друг.
Интонация, с какой он произнес последнее слово, заметно отличалась от его обычного, высокомерно-небрежного тона. Весомое и звучное, оно, казалось, было единственным из всего словарного запаса человечества, которому Ипполит придавал какое-либо значение.
Северина повернула голову в сторону молодого человека, сидевшего немного поодаль от Ипполита, как бы в его тени. Она сразу заметила, что его глубоко посаженные, ярко блестевшие глаза прикованы к ней, но ее внимание вновь привлек колосс, который сказал:
— У нас мало времени. Шампанским я вас угощу в другой раз. Новенькая, ну-ка подойди сюда.
Северина направилась к Ипполиту, но была остановлена неожиданно теплым, протяжным голосом молодого человека.
— Оставь ее мне, — проговорил он.
Шарлотта с Матильдой нервно зашевелились: им казалось совершенно немыслимым, что кто-то осмелился встать на пути Ипполита. Но тот усмехнулся с грубоватой мягкостью, положил свою чудовищную лапу на хрупкое плечо компаньона, которое, однако, легко выдержало ее тяжесть, и сказал:
— Развлекайся, малыш, какие твои годы!
Северина чувствовала, что физически ее сильнее притягивает Ипполит, причем во время этого циничного обмена она даже не испытала чувства облегчения, так как худощавый молодой человек внушал ей, может быть, еще большее беспокойство.
— Значит, ты мне и в самом деле понравилась, раз уж я попросил тебя у моего друга, — сказал он, когда Северина привела его к себе в комнату.
Такой фразы обычно бывало достаточно, чтобы остудить все чувства Северины, которая жаждала молчания, торопливости и грубого обращения. Она удивилась тому, что тут, напротив, это сдержанное желание взволновало ее. Она повнимательнее пригляделась к молодому человеку, которому ее уступил невозмутимый Ипполит. Обильно набриолиненные, блестящие волосы, дорогой, но слишком яркий галстук, чересчур приталенный пиджак, наконец, кольцо с крупным бриллиантом на безымянном пальце — все здесь было сомнительного свойства, равно как и внешность: плотная кожа лица, глаза, беспокойные и одновременно непреклонные… Северина вспомнила, что под рукой Ипполита его узкие плечи не дрогнули. Ею овладело какое-то щемящее чувство.
— Говорю тебе, ты мне нравишься, — повторил молодой человек, не разжимая зубы.
Северина отметила, что у него не было намерения сделать ей комплимент, что он просто жаловал ей нечто вроде подарка и теперь раздражается оттого, что не видит с ее стороны никаких признаков благодарности. Она подставила ему приоткрытые губы. Он с хорошо рассчитанным пылом соединил с ними свои. Потом отнес Северину на постель. Какой невесомой чувствовала она себя в его не слишком мускулистых руках! На самом деле друг Ипполита только казался слабым. Пальцы его красивых, тонких рук обладали жесткостью стилета. Его тонкие бедра заставили Северину застонать от боли, когда он сжал ее ими, и тут же ее пронзила сладкая судорога, более острая, чем самые сильные из всех прежних блаженств.
Молодой человек достал из дорогого портсигара сигарету, зажег ее и спросил:
— Как тебя звать?
— Дневная Красавица.
— А дальше?
— Просто Дневная Красавица.
Он с безразличием иронично скривил губы и сказал:
— Ну-ну, если ты решила, что я из полиции…
— А тебя как зовут? — спросила Северина, впервые испытывая чувственное удовольствие от обращения на ты.
— Мне нечего скрывать. Меня зовут Марсель, а еще Ангел.
Северину охватил легкий озноб, настолько это двусмысленное прозвище соответствовало циничной чистоте лица, зарывшегося в подушку возле ее головы.
— А еще, — поколебавшись, продолжал Марсель, — а еще… Не стесняться же мне тебя в самом деле, а еще — Золотая Пасть.
— Почему?
— Гляди.
Только теперь Северина заметила, что он старался не открывать нижней губы, все время держал ее как бы приклеенной к десне. Он пошевелил ею, и Северина увидела, что все зубы под ней были золотые.
— Выбили одним ударом, — усмехнулся Марсель, — а кроме того…
Он не стал продолжать, за что молодая женщина была ему признательна. Она только содрогнулась от ухмылки, которая вдруг исказила его губы.
Марсель быстро оделся.
— Ты уже уходишь? — неожиданно для самой себя спросила Северина.
— Да, мне нужно, один приятель…
Вдруг он с удивлением и немного раздраженно прервал себя:
— Вот те на, я чуть было не начал перед тобой оправдываться.
Он ушел, даже не посмотрев на нее, но на следующий день пришел снова, уже один. Поскольку Северина была занята, к нему вышли Шарлотта и Матильда.
— Не беспокойтесь, — сказал Марсель. — Я хочу Дневную Красавицу.
Он стал терпеливо ждать. Время для него, как и для Ипполита, не имело обычного измерения. Он обладал способностью животных давать дышать своему телу, не вмешиваясь в его безупречную работу. То, что при этом происходило в его голове, ни названием, ни формой не напоминало мысли.
Шум шагов Северины тут же рассеял его бдительное оцепенение. Она радостно направилась к нему, но Марсель резким жестом ее остановил.
— Ну наконец-то, — проговорил он.
— Я не виновата, что тебе пришлось ждать.
У него было желание пожать плечами. Речь действительно шла об ожидании! Но как признаться женщине, почему сердишься, когда не желаешь признаваться в этом даже самому себе.
— Хорошо, — сказал он грубо. — Тебя ни о чем не спрашивают.
Он поцеловал ее в губы. И так как он не пытался больше скрывать свою золотую челюсть, то Северина одновременно почувствовала и тепло губ, и холод металла. Вряд ли она когда-нибудь забудет вкус этой смеси.
Марсель пробыл у Дневной Красавицы очень долго. Казалось, он хотел одним махом утолить истомившую его жажду. И Северина где-то в самой глубине сердца почувствовала неясную дрожь. Его объятия доставляли ей слишком большое удовольствие, ей было слишком приятно лежать, прижавшись к нему. Несколько раз она поймала себя на том, что ей хочется погладить невидимое в темноте тело Марселя. Наконец она не выдержала и слегка дотронулась до его плеча. Но тут же отдернула руку, коснувшуюся какого-то разрыва кожи. Марсель презрительно свистнул.
— Нет у тебя привычки к шрамам, — сказал он.
— Что ж, сейчас выработаем.
Он взял запястье Северины и провел ее пальцами вдоль своего тела. Все оно — руки, бедра, спина, живот — было покрыто шрамами от резаных ран.
— Но откуда это у тебя?.. — вскричала Северина.
— Может, ты еще попросишь меня перечислить все мои судимости? Мужчинам вопросы не задают.
Нравоучительная строгость собственного голоса явилась для Марселя своего рода сигналом.
— Ладно, пока, — сказал он.
Северина не смотрела, как он одевается. Она не хотела пересчитывать взглядом его шрамы и рубцы, опасаясь, как бы вид этих загадочных мужских отметин не сделал еще более тесными и так уже слишком крепкие узы, связавшие их.
Силу своей привязанности она смогла оценить только в последующие дни, когда Марсель не показывался в доме. По охватившей ее неотступной тревоге, по странной непреодолимой истоме Северина чувствовала, как ей недостает Марселя. Она боялась, что разонравилась ему, но больше всего ее пугало, как бы не оказалось, что ему нечем заплатить госпоже Анаис, как бы эта причина не развела их в разные стороны.
Вот почему через неделю, снова увидев его красивое, искаженное недоброй гримасой лицо, Северина предложила:
— Если у тебя нет денег, то я могу…
— Замолчи, — закричал он.
Марсель шумно задышал, потом произнес с оскорбительной надменностью:
— Я хорошо знаю, что, если б только захотел… Но понимаешь, меня и так содержат уже трое… Но чтобы еще и ты… нет, я не хочу. Поняла?.. А деньги, вот они, деньги — смотри!
Он бросил на стол мятую пачку. В ней были стофранковые купюры вперемешку с мелкими бумажками.
— Я даже не знаю, сколько там, — пренебрежительно сообщил он. — А когда кончатся эти — найдутся другие.
— В таком случае…
— Что в таком случае?
— Почему ты не приходил?
Он почувствовал, как в нем поднимается волна протеста — его обычная реакция на вопросы Северины, — и отрезал:
— Довольно, поговорили. Я сюда не для беседы пришел.
Однако в его голосе угадывался скрытый надрыв.
После этого он не пропускал ни одного дня. Поначалу раздраженный и молчаливый, он постепенно становился мягче, как бы уже не пытаясь бороться с захватившим его увлечением. И с каждым разом он все сильнее затрагивал чувства Северины, и с каждым разом ей становилось все труднее освободиться от воспоминания о нем. Так мало-помалу разрушалась каменная стена, до сих пор строго разделявшая две жизни Северины. Брешь в этой стене возникла, несомненно, еще задолго до того, как она заметила ее, но Северина решила, что своим существованием эта брешь обязана следующим обстоятельствам.
В тот день Марсель только что ушел, и пережитые с ним ощущения заставили Северину позабыть о времени; вдруг она вспомнила, что вечером ей предстоит ужинать с Пьером и его друзьями, что Пьер, скорее всего, уже вернулся и тревожится, не обнаружив ее дома. Но, утомленная и еще не остывшая от поцелуев Марселя, она не стала преодолевать свою леность, подсказавшую ей, что возвращаться домой не следует. Она одевалась очень медленно, чтобы ее опоздание стало непреодолимым препятствием, затем позвонила Пьеру, сообщив ему, что примерка задержала ее дольше, чем она предполагала, и что она приедет сразу в ресторан.
Вот так впервые из общества госпожи Анаис, ее пансионерок и клиентов Северина сразу попала в свое обычное окружение. Она почувствовала легкий укол в сердце, когда ожидавшие ее мужчины, увидев ее, поднялись, и перед глазами у нее промелькнуло мимолетное, но отчетливое видение Ипполита, заставившего Матильду снять с него пиджак.
Пьер с Севериной были приглашены двумя молодыми хирургами. Один из них, тот, у которого волосы были потемнее, слыл мужчиной, пользующимся неизменным успехом у женщин. Его движения несли отпечаток чувственного смысла, а лицо выражало то непреклонность, то уступчивую решимость, и женщинам было трудно этому противостоять. С ощущением ироничной беспечности Северина вспомнила об этом, когда он пригласил ее на танго. Всегда почтительный к Северине, этот друг Пьера на сей раз, должно быть уловив какие-то исходящие от нее флюиды, в течение всего танца дерзко прижимался к ней. Эта нескромность, совершенно не смутившая Северину, непроизвольно вызвала на ее лице выражение презрения. Насколько все-таки желание этого человека, известного своей резкостью, соответствовало его хорошему воспитанию, настолько оно было беднее и немощнее того, объектом которого каждый день после обеда становилась Дневная Красавица! В одном-единственном непроизвольном жесте Марселя, в одном только прикосновении его похожих на стальные клещи рук было больше деспотизма, больше обещаний, чем во всех усилиях этого соблазнителя светских дам. Какие бы попытки он ни делал, ему была недоступна простосердечная дикость того, другого, изукрашенного шрамами, который носил на пальцах либо небрежно совал в карман плату за любовь, которой он соизволил кого-либо осчастливить.
В этот момент нечистый ангел с золотым ртом был Северине ближе, чем эти окружавшие ее мужчины, и с губ ее в адрес партнера по танцу готовы были сорваться слова, которые она в мрачном порыве бросила однажды вечером Юссону: «Вы не способны изнасиловать».
Образ Марселя не покидал ее весь вечер. Она все еще оставалась связанной с ним через платье, которое было на ней и которое он снимал с нее, через кожу, которую он ласкал и которую она не стала очищать. Северина чувствовала, что в этот вечер была очень красива, ощущала извращенный восторг от того, что в ней смешались две Северины, и, выходя из ресторана, она обняла Пьера с пылом, который был предназначен не ему одному.
Однако она сильно испугалась, когда почувствовала попятное движение мужа, и на протяжении всего обратного пути почти физически осязала нечто бесформенное и тяжелое, разделявшее их. Всего из-за какой-то секундной оплошности она поставила под угрозу весь свой долгий прилежный труд. Она вновь причинила боль Пьеру.
В полной мере всю неистовую силу своей любви Северина ощущала лишь в часы растроганности или опасности, но сейчас она завладела ею до тоскливой спазмы в груди. Она вдруг осознала, что ходит теперь к госпоже Анаис не ради анонимного сладострастия, а ради Марселя, и что ее тайная жизнь, столь удобно ограниченная стенами дома на улице Вирен, вторгается в другую, посвященную Пьеру, и что этот мутный поток, если его не остановить, грозит унести с собой все. Необходимо было любой ценой залатать прорванную плотину. Опасная трещина возникла из-за Марселя, из-за того, что она так привыкла к нему. Ей надо его забыть. Это будет жертвой, но Северина смирялась с ней, глядя на профиль Пьера, вырисовывавшийся в тени. Итак, она решила подправить ход судьбы.
Госпожа Анаис восприняла решение Северины с удовлетворением, к которому подмешивалась тревога.
— Вам не хочется его видеть, и я вас одобряю, — сказала она. — Мне ничего не известно об этом парне, но я бы предпочла, чтобы он находился где-нибудь в другом месте, а не у меня. Вот только как он воспримет это? Друг Ипполита… ну в конце концов я скажу ему, что вы больны. Может быть, ему надоест ждать.
Четыре дня спустя, когда Северина выходила из дома свиданий, дорогу ей преградил силуэт, который она узнала, даже еще не увидев самого человека, по отбрасываемой им тени. Тень эта была огромной, и молодой женщине показалось, что она затмила собой весь вечерний свет.
— Я провожу тебя немного, — мирно проговорил Ипполит.
От неожиданности Северина утратила способность реагировать. Но когда коротенькая улица Вирен, представлявшаяся Северине чем-то вроде прихожей госпожи Анаис, осталась позади, когда они оказались на площади Сен-Жермен-л'Осеруа, молодая женщина пробудилась словно от какого-то внезапного внутреннего вскрика. Еще бы, ведь она вышла за пределы улицы Вирен и попала туда, где она была воплощением добродетели и нравственного здоровья, туда, где она вновь становилась женой Пьера, — и вдруг она идет в сопровождении посетителя дома госпожи Анаис, да еще какого посетителя! Чтобы не позволить этому ограниченному четырьмя стенами существованию бросить тень на ее обычную жизнь, она отказалась от своего самого знойного наслаждения, и вот эта другая жизнь протягивает к ней свои щупальца, причем не только в виде игры воображения, а приняв вполне реальный облик этого ужасного Ипполита.
Испуг, вызвавший у Северины дрожь, был связан даже не столько с появлением Ипполита, сколько с неумолимой поступью судьбы, которую она попыталась было перекроить на свой лад. Минуту спустя страх уступил место инстинкту самосохранения. Напряженная до предела, готовая взывать о помощи, Северина ринулась к проезжавшему мимо такси. Но тут же споткнулась. На ее плечо легла рука Ипполита, и Северина ощутила тупую безнадежность, какую испытывают каторжники при первых попытках двигаться с цепью на ногах. Тяжесть этой руки тут же истощила всю энергию молодой женщины.
— Без глупостей, — произнес Ипполит, не повышая голоса. — Я должен поговорить с тобой, и я с тобой поговорю. Тебе хочется в укромное местечко? Идем.
Он направился к небольшому винному погребку на площади. Хотя он давно убрал руку и даже не глядел на Северину, она послушно следовала за ним.
Тесный зальчик был пуст. Только какой-то рабочий пил за стойкой белое вино. Причем делал он это с таким явным удовольствием, что Ипполиту тоже захотелось немного выпить. Он дождался, пока его обслужат, и повернулся к Северине.
— Хорошенько выслушай меня, — произнес он наконец, — и не заставляй меня повторять дважды. Если тебе захочется узнать, чего стоит мое слово, спроси на Монмартре или на Центральном рынке, кто такой Ипполит-Сириец. Так вот, говорю тебе, если хочешь, чтобы у тебя не было неприятностей (от этого безобидного слова на Северину повеяло холодом), не шути с Марселем.
Он медленно допил вино и с видимым усилием задумался — выразить свою мысль ему было нелегко.
— У тебя вид честной и хорошей девушки, — проговорил он наконец, — и я хочу тебе кое-что объяснить. Марсель — это парнишка, который спас Ипполиту жизнь. Ты можешь себе это представить? Теперь он для меня больше, чем сын. Вот только есть у него один недостаток — падок на женщин. В прошлом году без меня он уже… Ладно, хватит об этом. Когда он попросил тебя, мне следовало бы догадаться, что он снова влипнет, да разве же все предусмотришь. Вначале он преодолевал себя… Даже делая глупости, оставался мужчиной. А потом расслабился… Он такой непосредственный, этот малыш. Можешь не думать, что он поверил выдумке о твоей болезни. Если бы я его не удержал, сегодня вечером с тобой говорил бы не я, а он. Я решил, что лучше мне сходить. А то он чересчур горячий.
Ипполит снова погрузился в тягостную задумчивость. Северина подумала даже, что он вовсе забыл о ней.
— Короче, ты меня поняла, — произнес он наконец. Он снова положил ей руку на плечо, поглядел на нее неподвижным взглядом и заключил:
— Можешь идти, да поживее. А то я сегодня не в духе. В окне погребка Северина еще раз увидела его громадный, размытый силуэт, склонившийся над пустым бокалом.
Хотя молодая женщина была уже на улице, она резко отвела взгляд в сторону. Этот силуэт влиял на нее парализующе. Однако нужно было действовать без промедления, Северина чувствовала это всем своим обезумевшим от страха нутром. Еще один день — и она попадет во власть этих двух мужчин, и неизвестно, кого из них она должна больше бояться, а за ними ей виделись другие, такие же опасные, готовые повиноваться и Ипполиту, и Марселю.
Северина быстро вернулась на улицу Вирен.
— Я ухожу, — объявила она госпоже Анаис.
— Вы виделись с вашим другом? Он берет вас с собой в отпуск? — спросила госпожа Анаис, никак не предполагая, что Северина задумала окончательно порвать с ее заведением.
— Да, да, — немногословно ответила молодая женщина, чтобы не пускаться в объяснения.
Даже если предположение госпожи Анаис и не предопределило решения Северины, то оно по крайней мере избавило ее от дальнейших колебаний. Северина почувствовала слепое желание бежать, еще когда разговаривала с Ипполитом. Однако просто бежать из дома на улице Вирен было недостаточно. Северина не хотела, не могла больше дышать тем же воздухом, что и ее преследователи. Нужно было сделать так, чтобы от Марселя и Ипполита ее отделяло большое расстояние. Начиналось лето. Конечно, у Пьера была привычка брать отпуск позднее. Он станет говорить о больнице, о клинике, о графике отпусков. Но Северина чувствовала, что выпавшие на ее долю испытания достаточно подготовили ее к тому, чтобы уговорить мужа. В который раз любовь заставляла ее во время своих самых грустных треволнений прибегать к самой искренней нежности.
Как Северина и предполагала, ей удалось довольно легко убедить Пьера, сославшись на плохое самочувствие и на желание побыть с ним наедине. Спустя неделю после предостережений Ипполита чета Серизи села в поезд и отправилась к пустынному пляжу неподалеку от Сен-Рафаэля.
Но даже уже стоя на перроне, Пьер и Северина продолжали нервничать: он — потому, что внезапный отъезд расстроил его рабочие планы, она — оттого, что боялась неожиданного появления тонкой, как золотая нить, недоброй улыбки Марселя или гигантской тени Ипполита. Первые же толчки тронувшегося поезда оставили позади, развеяли все их заботы. Северину и Пьера обволокла дивная уединенность купе, движущегося навстречу ночи. Их глаза зажглись одним и тем же молодым желанием. Они чувствовали, что в их любви столько же свежести, как и во время их первой поездки, но только больше глубины. Северину особенно радовало приближение спокойных, наполненных нежностью дней, которым, как ей казалось, не будет конца.
Эти дни оказались самыми прекрасными в ее жизни. Недели, которые она только что пережила, угрозы, еще недавно тяжелым камнем давившие на нее, только усиливали ее желание счастья. А оно было у Северины могучим, разносторонним и уже давно служило ей, не иссякая. Море, пляж, солнце, аппетит, сон — из всех этих слагаемых жизни она извлекала максимальное наслаждение. Погода стояла прекрасная, небо переливалось всеми оттенками лазури. Воздух был похож на драгоценное, легкое масло. Он ласкал тело Северины, и она уже даже не вспоминала, что это именно то тело, которого касалось столько рук: теперь оно принадлежало ей и целомудренно расцветало.
Пьер тоже был счастлив. Оттого, что отдыхал, оттого, что его окружала природа, которую он любил, и, главное, оттого, что постоянно видел рядом с собой цветущую, непорочно-чистую молодую женщину, которая была его высшим счастьем. Они вместе плавали. Когда они брали лодку, их весла гребли в одном и том же ритме. На песке они возились, словно два маленьких сорванца. Только при такой жизни Северина чувствовала себя по-настоящему близкой Пьеру. В Париже их разделяли его больные, его книги, его статьи, тогда как тут эти неистовые и чистые физические упражнения, в которых она была почти так же искусна, как и он, сплачивали их, вносили в их отношения теплоту братского союза.
Как же Пьер был ей дорог и желанен в течение всех этих бесподобных дней! Как же она жалела себя, презирала себя за то, что подвергала риску такую гармонию!
После чрезмерной дозы наркотика или в результате сильного морального потрясения некоторые виды интоксикации внушают своим жертвам такой ужас, что они содрогаются при одном воспоминании о прошлых усладах и полагают, что навсегда освободились от них. Так же обстояло дело и с Севериной. Купаясь в чистой радости и переживая счастье обновленной любви, она сочла бы сущим безумием любые помыслы о доме на улице Вирен. Не ощущая больше покалываний иглы, гнавшей ее к тому темному пристанищу, она с отвращением думала о том, что когда-то обрекала себя на подобное рабство. Она вовремя освободилась. От ее пребывания в стенах дома госпожи Анаис не осталось никаких следов. Никто, даже Ипполит, не сможет больше разыскать Дневную Красавицу. Ее безопасность находилась в ее собственных руках. Да и как было ей не почувствовать себя неуязвимой в июльскую жару, на берегу покорного моря, под надежной защитой Пьера?!
Однако эти защитные средства обернулись против нее самой. Она слишком быстро успокоилась, рано поверила в свою силу. Отдаленность от Парижа способствовала тому, что вещи, выглядевшие в городе кошмарными видениями, обрели нормальные человеческие пропорции. Когда Северина со своим реалистическим умом стала воспринимать квартиру госпожи Анаис как обычную квартиру, Матильду — как несчастную девушку, Марселя — как заурядного сутенера, и когда даже Ипполит превратился для нее в нечто вроде циркового борца с неразвитой речью, она сочла себя окончательно спасенной. Именно в тот момент у нее из рук выпал самый надежный ее щит — мистический ужас. Теперь защищаться от наваждения она могла только с помощью разума.
Враг, притаившийся во мраке чувственных закоулков, вновь обрел плоть и кровь.
Однажды с утра зарядил дождь. Впоследствии Северина не раз думала о том, что, будь в тот день хорошая погода, всего еще можно было бы избежать, как будто силы, увлекавшие ее за собой, не обладали бесконечным терпением, как будто они не поджидали годами удобного момента, чтобы наброситься на свою очаровательную и жалкую жертву.
Из-за дурной погоды Пьер с Севериной вынуждены были сидеть в четырех стенах. Пьер воспользовался этим, чтобы отшлифовать текст своего выступления на хирургическую тему. А Северина стала машинально перелистывать тонкие иллюстрированные журналы, купленные в Париже перед отходом поезда, ни разу не раскрытые ими в дороге и с самого их приезда в беспорядке валявшиеся на столе. Она просмотрела два из них и раскрыла третий. Статьи и иллюстрации к ним были самыми заурядными, Северина решила взглянуть на объявления. И тотчас ее глаза остановились на строчках, смысла которых она поначалу даже не поняла. Потом буквы образовали слова, и смысл их дошел наконец до ее сознания:
«Улица Вирен, 9-бис Госпожа Анаис в окружении трех своих граций принимает ежедневно в своем интимном пансионе. Элегантность, обаяние, особое обслуживание.»
Северина перечитала объявление несколько раз. Ей показалось, что там проскользнуло ее имя. Потом она вспомнила, что на улице Вирен знали только ее прозвище; она бросила испуганный взгляд на Пьера — он увлеченно работал — и стала разглядывать почти успокоившееся море и начавшее светлеть небо.
— Пойдем на воздух, — неожиданно предложила она, — вот-вот появится солнце.
Но ни купание, ни бег по пляжу не вытеснили из памяти навязчивого, набранного жирным шрифтом объявления. Ложась спать, она вновь взяла журнал и, согнув его так, чтобы Пьер не заметил, устремила на объявление потускневший взгляд. Это был призыв содержательницы, сигнал сбора у постели Дневной Красавицы… Как все-таки имя госпожи Анаис в напечатанном виде отличалось от того, каким оно воспринималось в разговоре. И как по-иному выглядели, как были унижены ее дом, женщины, наконец, сама Северина, этими эпитетами, более непристойными в своей пошлости, нежели самые гнусные выражения…
«Интимный пансион… три грации… особое обслуживание».
Северина почувствовала во рту странный, роковой привкус знакомого и одновременно нового наркотика. Ее охватил постыдный и в то же время благотворный жар. Она подсчитала, что отпуск Пьера приближается к концу, и испытала чувство жалости — не к себе, а к нему.
Как все же Марсель узнал о возвращении Дневной Красавицы? Он так никогда и не сказал ей этого, но стоило Северине прийти на улицу Вирен и пробыть там всего час, как она услышала его голос. У нее закружилась голова. В общем-то она предполагала увидеть Марселя, но то, что он пришел так быстро, убедило ее в упорстве этого человека и в его информированности. У нее не было времени подумать об этом подольше. В дверь яростно заколотили. На пороге стоял Марсель, бледный, дрожащий от накопившегося за многие дни гнева.
— Ты, значит, одна, — произнес он почти беззвучно. — Ну ладно! А то я даже предпочел бы, чтобы с тобой был еще и мужчина.
Северина непроизвольно, сама того не заметив, отступила к самой стене.
— Мне пришлось уехать, — прошептала она, — я тебе объясню.
Марсель ухмыльнулся всей своей золотой челюстью.
— Объясню! Погоди, сейчас я буду тебе кое-что объяснять.
Он снял опоясывающий его узкие бедра ремень, закрыл дверь на ключ. Северина следила за его движениями тупым, непонимающим взглядом. Но тут ремень взметнулся в неистовой руке, со свистом рассек воздух.
Откуда только в Северине взялась ловкость и сила, чтобы ей увернуться от удара и схватить ремень? Из каких запасов извлекла она ту дикую энергию, чтобы укротить Марселя в тот момент?
— Не шевелись, — произнесла она, — а то, что бы вы тут все ни делали, ты меня больше никогда не увидишь.
А потом они долго стояли друг против друга, разделенные пространством комнаты. Тишину заполняло их прерывистое дыхание. Постепенно они успокоились, и так же постепенно рассеялся жуткий образ, который заставил Северину сконцентрировать всю свою энергию: гнусная рана поперек лица и смотрящий на нее Пьер. Вместе с этим образом исчезла и ее сила. Но Северина больше в ней не нуждалась. Марсель, опустив голову, произнес:
— Ты не похожа на других женщин. Что бы Ипполит ни говорил…
Он поднял глаза, услышав приглушенный стук. Это Северина упала на пол. Он бросился к ней, отнес ее на кровать. В полубессознательном состоянии она подняла руки, чтобы защититься.
— Не бойся, не бойся, дружочек, — повторял Марсель невнятно…
В тот день он не прикоснулся к ней. Его лицо падшего ангела выражало чувство более глубокое, чем желание.
На следующий день он постарался взять себя в руки и вошел к Северине со своей обычной ухмылкой. Но когда он обнял ее, то по какому-то едва заметному напряжению его мышц она почувствовала, что он боится сделать ей больно и старается доставить удовольствие. Но именно поэтому на этот раз она получила его меньше. И оно непрерывно уменьшалось, по мере того как Северина обнаруживала присутствие некой силы, несводимой к голой чувственности.
Незадолго до побега Дневной Красавицы Марсель предложил ей в один из ближайших вечеров куда-нибудь сходить. Она, естественно, категорически отказалась. Поскольку тогда он еще дорожил своим престижем, то лишь пожал плечами и больше к этой теме не возвращался. Теперь же он стал вновь настойчиво повторять свое предложение. Ему хотелось, чтобы между ним и этой его любовницей, в которой он смутно различал нечто непривычное и чуждое ему, возникли более утонченные узы, чем повседневные встречи в публичном доме.
Северина же со своей стороны подчинялась фатальному стремлению к примитивным, лишенным духовности наслаждениям, которые, притупляясь, заставляют человека, дабы обрести их вновь, искать все новые и новые искусственные средства. Пытаясь укрепить свою привязанность к Марселю, она все чаще задумывалась об окутывающей жизнь молодого человека опасной тайне. Однако ее воображение быстро исчерпало эту тему. Поэтому настойчивость Марселя, желавшего куда-нибудь сходить вместе с ней, стала восприниматься ею все более и более благосклонно. Ей думалось, что, прикоснувшись к его другой, темной жизни, она обретет вновь, пусть хотя бы на некоторое время, тот страх, который составлял глубинную основу ее сладострастия. К тому же этот вечерний выход она представляла себе с тем большей легкостью, что считала его неосуществимым. Ну разве могла она пойти куда-нибудь поздно вечером без Пьера?
Однако подсознательно Северина искала такого случая, и случай представился, как он всегда представляется тем, чья скрытая сущность его поджидает. Как-то раз Пьеру в связи с операцией в провинции пришлось на целые сутки отлучиться из Парижа.
Марсель и Ипполит ждали Северину в погребке винного торговца около церкви Сен-Жермен-л'Осеруа. Они молчали, как всегда, когда находились вместе, но в тот вечер они не чувствовали той абсолютной безопасности, которая обычно питала их молчание. То, что Марсель будет с женщиной, мало волновало Ипполита. Их подружки знали свое место и не мешали мужчинам говорить между собой или мечтать. Но ему не нравилось, что этой женщиной была Дневная Красавица. Как может Марсель оказывать ей такую милость и на целый вечер приглашать ее в их компанию после того оскорбления, которое она нанесла ему, уехав без его разрешения? Он даже не сумел хорошенько ее наказать — Ипполит был уверен в этом. И он страдал, видя в поведении друга признак слабости, которая ему самому была не свойственна, но от которой у него на глазах ломались многие, в ком он любил храбрость и порядочность.
— Ну не несчастье ли, — проворчал Ипполит, — а ведь я же сам и привел его к Анаис.
Затем, поскольку непроницаемое прошлое научило его мудрости, он свернул сигарету и стал размышлять о том, что пора бы поесть, так как он уже проголодался.
Северина пришла раньше назначенного часа. Этот признак уважения немного смягчил гиганта. Понравился ему и небрежный тон, с которым Марсель сказал Дневной Красавице:
— А ты в шляпе ничего.
Однако сам молодой человек по овладевшей им в этот момент хмельной радости почувствовал, что, не будь сейчас рядом Ипполита, тон этот ему бы не удался.
— Куда пойдем ужинать? — спросил тот. Марсель назвал несколько известных ресторанов на бульварах. Северина категорически отвергла их один за другим.
— Помолчи, — приказал ей Ипполит. — Марсель, я думаю, разговаривает со мной, а не с тобой.
Потом, обращаясь к другу, добавил:
— Ну, ладно, хватит трепаться. Нам предстоит серьезная работенка, идем к Мари. Там все в норме.
Когда Ипполит принимал решение, ему не требовалось, чтобы кто-либо с ним соглашался. Вот и сейчас он молча расплатился и вышел. Остальные последовали за ним, хотя Марсель глазами все же посоветовался с Севериной. Но животная бдительность Ипполита перехватила этот взгляд.
— Проходи вперед, Дневная Красавица, — приказал он.
Оставшись наедине с Марселем, он сказал таким голосом, в котором угроза странным образом соединялась с мольбой:
— Если ты не хочешь, чтобы я вышел из себя, веди себя как мужчина… По крайней мере при мне.
Ресторан, предложенный Ипполитом, находился в самом начале улицы Монмартр. Они отправились туда пешком. Северина, словно в дурном сне, шагала между этими двумя молчаливыми мужчинами, которые вели ее неизвестно куда по опустевшим рядам Центрального рынка. Если бы Марсель был один, она не пошла бы с ним туда, но стоило ей услышать бесшумные шаги Ипполита, как воля тут же оставляла ее. Однако интерьер ресторана, куда они наконец попали, немного успокоил ее. Подобно всем тем, кто незнаком с тайной жизнью Парижа, Северина полагала, что, коль скоро ее спутники находятся на обочине общества, то и вся их жизнь протекает в разбойничьих притонах. Между тем маленький ресторанчик оказался чистеньким и гостеприимным. У входа — сияющая поверхность стойки. Обстановку довершала дюжина столов с расставленной на них чистой посудой.
— Вот Мари-то обрадуется, — сказал стоявший за стойкой мужчина в шерстяном джемпере, приветливо глядя на них.
В тот момент, когда он вежливо приветствовал Северину, из расположенной в глубине зала небольшой двери выкатилось окутанное запахами чеснока и пряностей некое подобие колобка в ночной кофточке и нижней юбке, которое как раз и оказалось хозяйкой ресторана.
— И не стыдно вам, бандиты! — вскричала она, пылко целуя двух друзей. — За четыре дня ни разу не заскочить к Мари!
Ее голос, ее южный говорок трогали своей теплотой, молодостью, и Северина улыбнулась, когда женщина посмотрела на нее, — настолько добрыми были ее восхитительные глаза, огромные, несмотря на заплывшее от жира и оттого слишком рано деформировавшееся лицо.
— Здравствуй, милашка, — сказала ей Мари. — Ты с кем из них?
— Подожди, я представлю, — степенно промолвил Ипполит. — Господин Морис, друг (это был мужчина за стойкой). Госпожа Морис (это была Мари).
Кивнув на Северину, он сказал:
— Госпожа Марсель.
— Так я и думала, — по-матерински сказала Мари. — Уж этот Марсель.
Она стала серьезной и доверительно спросила:
— Что будете есть, детки? Мою фаршированную капусту, разумеется? А потом?
Ипполит уставился в меню. Морис предложил аперитив.
Марсель прижал к себе Северину, которая почти нежно подалась к нему, потому что в этом зале была какая-то сильная, мужская атмосфера с оттенком чего-то запретного.
Мужчины входили, обменивались рукопожатиями с Морисом, Ипполитом, Марселем и приветствовали Северину. Некоторые из них были с женщинами. Женщины не задерживались у стойки, а шли к столику, на который им взглядом или отрывистым словом указывал спутник, и скромно присаживались. У всех мужчин, как бы сильно ни отличались они друг от друга сложением, одеждой или говором, был некий не поддающийся определению общий признак, делавший их всех людьми досуга. Праздность присутствовала в их жестах, словах, в манере держать голову, в их проворных и одновременно ленивых взглядах. Их разговоры в основном сводились к скачкам и к каким-то делам, упоминавшимся лишь полунамеками.
В плохо проветриваемом помещении становилось жарко. Обильная, сытная, не в меру сдобренная специями пища и крепкие вина поднимали температуру, изрядно добавляя внутреннего огня. И хотя обстановка за всеми столами была, как любил выражаться Ипполит, «в норме», грубоватые манеры сотрапезников, их напряженные плечи и склоненные затылки вызывали у Северины ощущение, что она присутствует на какой-то подпольной, опасной пирушке. Она ни на кого не смотрела и не прислушивалась ни к медлительным речам за соседними столами, ни к разговорам Ипполита с Марселем. Северина пребывала в каком-то смутном, не лишенном чувственного уюта ожидании — совокупность этих незнакомых, подозрительных, блатных (она, наконец, поняла это часто произносимое Марселем слово) жизней действовала на нее, как сильное приворотное зелье.
Никто из присутствовавших не уходил, за исключением женщин, одна за другой покидавших ресторан.
«Трудиться? На каком поприще?» — мысленно спрашивала себя Северина, сладко вздрагивая от наплыва неясных образов, в своем жалком сладострастии намного превосходивших те образы, которыми переполняла ее сознание улица Вирен.
— Пора, — сказал вдруг Ипполит. — Последний стаканчик опрокинем в другом месте.
Марсель поколебался немного, потом шепнул ему на ухо:
— Я не могу… Дневная Красавица.
— Скажи-ка, Морис, — спросил Ипполит, повышая голос, — если бы тебе в каком-нибудь месте угрожала неприятность, ты бы взял с собой свою жену?
— Она бы сама попросилась.
Ипполит встал. За ним встали Марсель и Северина. На улице Ипполит снисходительно подставил Дневной Красавице свою руку.
— А ты все-таки молодец, — сказал он. Затем, пожав плечами, обратился к Марселю:
— Так, ну а теперь о неприятном.
Смертельный страх вселился в сердце Северины, и возник он не столько из-за неизвестной угрозы, сколько из-за какой-то безумной и все усиливающейся близости с людьми из чуждого ей мира. Однако странным образом близость Ипполита и своеобразный характер той среды, которую она только что покинула, не позволяли этому страху вылиться наружу.
Место, куда Ипполит привел их, оказалось маленьким ночным баром напротив овощного рынка. Вот тут действительно попахивало вертепом. Перепачканные столы, отбросы на скользких плитах пола, абсолютно пустой зал и какое-то необычное освещение, тусклое и в то же время режущее глаза, действовали на нервы. За окном лоснящиеся лошади медленно тянули груженные неведомо какой добычей повозки, на которых дремали возницы в больших сапогах и с огромными кнутами в руках. Что-то варварское витало в воздухе.
Ипполит и Марсель пили водку и, казалось, совсем потеряли интерес ко всему остальному. Заметив на пороге бара группу людей, Северина вдруг ухватилась за рукав своего любовника, который показался ей в эту минуту единственной защитой против какой-то неведомой, но жуткой опасности.
— Спокойно, — процедил сквозь зубы Марсель… Я хорошо сделал, что пришел. Их трое.
Люди мирно присели к их столику, и один из них, самый маленький, с изрытым оспой лицом, бросил быстрый взгляд в сторону Северины.
— Ты можешь говорить, — сказал Ипполит, — это женщина Марселя.
Голова у Северины была пустая и тяжелая, но, даже если бы мысли ее были ясными, она все равно ничего бы не поняла из начавшегося разговора, из каких-то отрывистых и загадочных фраз. Она сидела между Ипполитом и рябым. Друзья двух собеседников поддерживали каждую из сторон своим присутствием и своим молчанием. Вдруг Северина услышала, как маленький пробормотал:
— Вор.
Потом она увидела, как Марсель поднес руку к карману пиджака и три его противника сделали то же самое. Но на руку Марселя опустилась ладонь Ипполита.
— Только без историй, малыш, — ласково сказал он ему. — Это жулье того не стоит.
Он слегка отодвинул от себя стол, схватил рябого за запястье и извлек его руку из кармана. Пальцы рябого судорожно сжимали револьвер. Ипполит приставил оружие к своему животу и сказал:
— Ну что, стреляй.
Казалось, что рябой вот-вот выстрелит. Потом взгляд его дрогнул, не выдержав взгляда Ипполита. Тогда гигант приказал ему:
— Ладно, давай. У тебя с собой, я знаю.
Словно загипнотизированный, рябой вытащил из другого кармана пакет и отдал его Ипполиту.
— Вес подходящий, — сказал Ипполит. Мы вас больше не задерживаем.
Троица направилась к выходу. Марсель крикнул им вслед:
— А что касается «вора», как ты выразился, то я не буду действовать исподтишка. Мы с тобой еще встретимся.
— Горячий он у тебя, этот твой мужчина, — с гордостью сказал Ипполит Дневной Красавице.
У Северины немного закружилась голова и в глазах появился ослепительный свет, но не от страха. Ее расширившиеся глаза стали красивее и смотрели теперь в глаза Марселя. Он понял, что она не осталась равнодушной к его храбрости, к тому, что он первый был готов начать смертельную драку.
— Ничего, он еще получит от меня то, что заслужил, этот рябой, даже если мне придется искать его в Вильпараизо, как того…
Ипполит резко прервал его:
— Тебе что, не терпится покрасоваться, будешь сейчас рассказывать про свои подвиги? Давайте идите-ка лучше спать. У меня еще есть дела.
Он повернулся к Северине.
— Ты хорошо держалась, — сказал он. — Хочешь немного?
Она не поняла, что он ей предлагает, но на всякий случай отказалась.
— И правильно делаешь, — сказал Ипполит. — Это нужно только чокнутым.
Оставшись наедине с Марселем, Северина спросила:
— Что это такое он мне предлагал?
— Кокаин, — с явным отвращением ответил ее любовник. — Взял полфунта у рябого, ты сама видела. Теперь он его пристроит, так что в этом месяце будем при деньгах.
Северина не захотела идти ни к Марселю домой, ни даже выходить за пределы квартала. Ей казалось, что квартал, включающий улицу Вирен, винный магазин, ресторан Мари и бар, откуда они только что вышли, был единственным подходящим для ее беспутств местом. Однако, перевозбудившись от всего того, что ей только что пришлось пережить, она испытывала к Марселю острое желание и позволила ему отвести себя в расположенную по соседству какую-то подозрительную гостиницу и там, в гнусном номере, испытала самое чудесное в своей жизни наслаждение.
Едва наступил рассвет, Северина была уже на ногах.
— Мне нужно идти, — сказала она.
В первый момент Марсель отреагировал, как подсказали ему вернувшиеся за ночь его обычные инстинкты.
— Ты что, смеешься? — с угрозой в голосе спросил он.
— Нужно, — повторила Северина.
Он почувствовал, что, как и в тот день, когда она вырвала у него ремень, молодую женщину поддерживает какая-то неведомая и неодолимая сила.
— Ладно, — недовольно проворчал он, — я провожу тебя.
— Нет.
И опять непреклонный взгляд существа, защищающего свою жизнь, заставил Марселя уступить. Он довел Северину до такси и позволил ей уехать. Пока были видны фонари автомобиля, он словно зачарованный смотрел ей вслед. Потом грубо выругался и пошел за советом к Ипполиту.
Только у себя в постели Северина смогла наконец подумать о том, что бы произошло, если бы у Ипполита реакция оказалась не такой быстрой или если рябой коротышка все-таки выстрелил бы. И вот тут она задрожала, словно от приступа лихорадки.
Пьер вернулся из поездки несколько часов спустя с осунувшимся от усталости лицом.
— Не оставляй меня одну, — умоляющим голосом попросила Северина. — Я не могу жить без тебя.
Марсель не появлялся на улице Вирен несколько дней. Северина не беспокоилась — она больше ничего от него не ждала. Когда она увидела его вновь, он сразу же сказал ей:
— Сегодня вечером куда-нибудь сходим.
Она отказалась, теперь уже совершенно спокойно. У нее было такое ощущение, словно она находится рядом с чужим и при этом безобидным человеком. Марсель, впрочем, не стал бушевать. Он спросил ее почти нежно:
— Можешь ты мне сказать, почему не хочешь?
— Всем же известно, что я не свободна.
— Так стань свободной. Даю тебе слово мужчины, что у тебя будет все, что тебе нужно.
— Невозможно, — ответила Северина.
— Значит, ты любишь его? Северина промолчала.
— Ладно, — прошептал Марсель и вышел.
Ей казалось, что она окончательно укротила его. И все же, покидая дом госпожи Анаис, она обернулась несколько раз, чтобы убедиться, что ни Марсель, ни Ипполит за ней не следят. Не заметив ничего подозрительного, она вернулась домой.
В тот же вечер Ипполит и Марсель сидели в баре на площади Бланш и молча пили. К ним подошел какой-то невзрачный юноша.
— Я знаю все, господин Ипполит, — объявил он почтительным голосом. — Я проник туда под видом электрика.
И он сообщил адрес, этаж и настоящее имя Дневной Красавицы.
Ипполит отпустил своего шпиона и сказал Марселю:
— Ну вот теперь иди туда, когда тебе будет угодно, и делай, что захочешь.
Если бы он знал, какую недобрую службу сослужит его хитрость единственному дорогому ему в этом мире человеку, Ипполит, который в общем-то не был кровожадным, убил бы невзрачного молодого человека, явившегося доложить ему о результатах своей слежки, еще раньше, чем тот начал говорить.
VIII
В порядочности ли тут было дело или в каком-то более сложном чувстве, против которого он тщетно пытался бороться? Так или иначе, но в течение нескольких дней Марсель не решался воспользоваться оружием, которое у него было против Северины. А между тем, пока он колебался, к Северине подкралась еще одна тень.
Как-то раз в четверг около четырех часов пополудни (все эти детали глубоко запечатлелись в памяти Северины) госпожа Анаис собрала своих пансионерок и предупредила:
— Постарайтесь выглядеть получше. Это очень приличный господин. Он хочет, чтобы присутствовали все трое.
У Северины, шедшей за своими подружками, не возникло никакого предчувствия. Расправив свои красивые плечи, она вошла спокойным шагом в большую комнату. У окна стоял мужчина. Видна была лишь его спина. Однако вид этой узкой, костистой спины заставил Северину попятиться назад. Еще секунда, и она распахнула бы дверь, чтобы убежать, спрятаться где-нибудь в надежном месте. И тогда госпожа Анаис никогда бы больше ее не увидела. Но Северина не успела этого сделать. Новый клиент улицы Вирен круто обернулся, и Северина, мгновенно ослабевшая, осталась стоять, не в силах ни сдвинуться с места, ни дать выход ужасному стону, вдруг наполнившему все ее существо.
Выцветшие узкие глаза Анри Юссона остановились на ней. Этот взгляд длился лишь одно мгновение, но у Северины возникло ощущение, словно она попалась в сети, откуда уже никакая сила не поможет ей высвободиться. Какой же легкой была чудовищная масса Ипполита по сравнению с быстро скользящим острием этого взгляда!
— Здравствуйте, уважаемые дамы, садитесь, прошу вас, — сказал Юссон.
— Какой милый, правда же, Матильда? — воскликнула Шарлотта.
Звук этих слившихся воедино двух голосов, столкновение двух ее жизней окончательно подкосили Северину. Она безвольно опустилась, как бы соскользнула, на стул, сцепила пальцы, словно пытаясь удержать застывшими в смертельной судороге ладонями те малые частицы рассудка и жизни, которые у нее еще оставались.
— Вы не хотите, сударь, чего-нибудь выпить? — спросила госпожа Анаис.
— Разумеется… Все, чего пожелают эти дамы… А как, кстати, их зовут? О, замечательно, мадемуазель Шарлотта, мадемуазель Матильда и… Дневная Красавица? Дневная Красавица… Звучит оригинально и свежо.
Он стал использовать неисчерпаемые музыкальные ресурсы своего голоса, свое не оставляющее в покое ни одной нервной клетки обаяние. Руки Северины расцепились и безвольными соломенными жгутами повисли вдоль тела.
Появились напитки. Шарлотта пожелала сесть к Юссону на колени. Тот любезно уклонился.
— Попозже, мадемуазель, — сказал он. — Пока я хочу просто насладиться вашим обществом и беседой с вами.
Он говорил о тысяче самых незначительных вещей, но при этом не было в его речи ни одного выражения, в котором не чувствовалось бы тонкого расчета: с каждым словом фразы его становились все более хлесткими и каждая отрывала у Северины кусочек души. Она не испытывала ни страха, ни стыда, а только недомогание, более неприятное, чем любое из поддающихся определению ощущений. С безошибочным чутьем хорошего психолога он провоцировал Шарлотту на двусмысленные ответы и грубые приступы смеха. Он растянул эту эффектную игру на целый час, на протяжении которого почти даже и не смотрел в сторону Северины. Но когда смотрел, веки его начинали слегка вибрировать, и Северина с ужасом догадывалась, как много в этих слабых подергиваниях таится сладострастия.
«Как далеко способен он пойти ради удовлетворения этого сладострастия?» — думала она, вполне отдавая себе отчет, в какие укрытые от света теснины заводит погоня за этим божеством.
Однако Юссон заплатил за напитки, положил несколько банкнот на камин и сказал:
— Я прошу вас поделить между собой этот сувенир. До свидания, сударыни.
Северина, уничтоженная, не шевелясь, смотрела, как он покидает комнату. Но стоило ему выйти, как она, плохо соображая, что делает, бросилась догонять его. Она должна знать, удостовериться… она должна… Юссон прощался в прихожей с госпожой Анаис. Собирался ли он и в самом деле уходить, ждал ли появления Северины? Скорее всего, он и сам этого не знал, предоставляя своим изощренным инстинктам самим вести его к замысловатым наслаждениям, которые он получал исключительно в момент созерцания некоторых выражений на лицах собеседников и некоторых уродств.
— Остановитесь, — пролепетала Северина, протягивая руки к Юссону. — Нужно…
— Ну что вы, Дневная Красавица, — сказала госпожа Анаис, — это вы-то, с вашими изысканными манерами! Что подумает о вас уважаемый господин?
Юссон выждал несколько секунд, чтобы не упустить ни капли удовольствия от этой сцены. Потом сказал:
— Я хотел бы остаться наедине с госпожой… Абсолютно наедине.
— Хорошо, но что это, Дневная Красавица, с вами происходит? — воскликнула госпожа Анаис. — Проводите уважаемого господина в свою комнату.
— Не сюда, не сюда…
— Да нет же, прошу вас, не надо ничего менять ради меня в ваших привычках, — сказал Юссон с легкой дрожью в голосе.
Когда дверь за ними закрылась, у Северины началось что-то вроде истерики.
— Как вы могли? Как вы осмелились? — кричала она. — Только не говорите мне, что это случайно. Вы знали, что я здесь… Ведь это вы указали мне адрес. Зачем?.. Ну зачем?
Она не дала ему возможности ответить, потому что ее вдруг пронзила догадка.
— Вы не собираетесь, надеюсь, добиться меня таким способом, — торопливо продолжала она. — Я буду кричать прохожим, я выскочу на улицу… Не приближайтесь. Вы мне отвратительны, как никогда не было отвратительно ни одно человеческое существо.
— Это ваша кровать? — мягко спросил Юссон.
— А! Вот чего вы добивались. Да, это моя комната, да, это моя кровать. Что вы хотите еще узнать? Что я делаю, как я это делаю? Фотографии? Вы худший из всех, кого я здесь видела.
Она остановилась, потому что он слушал ее со слишком явным наслаждением.
Юссон подождал немного, потом, видя, что Северина решила молчать, взял ее ладонь и как-то зябко погладил ее своими легкими пальцами. Сильная усталость, а вместе с ней какая-то признательность, печаль, жалость старили его лицо.
— Все, что вы сказали, справедливо, — вполголоса заметил он, — но только кто может понять меня лучше, чем вы, и простить?
Этот ответ буквально подкосил Северину. Она осела на кровать. Ее растерянный вид… красное покрывало… внесли свежую струю в казалось бы уже исчерпанное наслаждение. Юссон молча упивался этим зрелищем, а потом понурился, сломленный еще более глубокой усталостью, еще более горькой печалью и жалостью.
На какое-то мгновенье Северина и он застыли, глядя друг на друга, как два несчастных животных, страдающих от неизлечимой и непонятной им болезни.
Юссон встал. Он старался двигаться бесшумно, словно опасался разбудить некую злую силу, призвавшую их обоих в это место. Однако Северина еще не получила той гарантии, которая только и могла вернуть ее к жизни.
— Минутку, еще одну минутку, — взмолилась она.
Ее страстная мольба вновь покрыла рябью чувствительные веки Юссона. Вся во власти своей тревоги, она не обратила на это внимания. Она продолжала сидеть на кровати; платье ее от порывистого движения чуть задралось, пальцы судорожно цеплялись за красное покрывало руками.
— Скажите мне… ради Бога… Пьер… он ничего не узнает? — шепотом спросила она.
При всей развращенности Юссона ему и в голову бы не пришла мысль о подобном доносе. И в это роковое мгновение она тоже не прельстила его. Но разве мог он отказаться от этой долгой сладострастной неги, которую предлагала ему сама Северина? Чтобы задержать страдальческое выражение у нее на лице, он сделал уклончивый жест.
И тут же выскочил из комнаты, чувствуя, что не сможет больше ни секунды выдержать принятой им позы, но вместе с тем ему совсем не хотелось лишиться самого нежданного и самого ядовитого из всех сорванных им в этот день плодов.
Северина услышала, как хлопнула тяжелая дверь, ведущая на лестничную площадку. Она вскочила, побежала к госпоже Анаис, схватила ее за руки и стала шептать, как сумасшедшая:
— Я ухожу, я ухожу. Забудьте меня… Если кто-нибудь придет справляться обо мне, вам неизвестно, кто я такая. Если меня заставят вернуться, вы не признаете меня. Каждый месяц вы будете получать по тысяче франков. Вы хотите больше? Нет? Спасибо, госпожа Анаис… Если бы вы только знали…
IX
Почти невозможно описать часы, проведенные Севериной в ожидании Пьера. Нетерпение, с каким она жаждала его увидеть, уравновешивалось столь же сильным страхом. Может быть, он уже знает? Скорее всего, у Юссона есть адрес его клиники, и, выйдя от госпожи Анаис… Северина вспомнила, что Юссон и Пьер состоят в одном спортивном обществе. Конечно, Пьер ходит туда очень редко, но вдруг он пойдет туда именно сегодня?
Паника, достигшая предела, похожа на ревность: и в том, и в другом случае малейшая вероятность превращается для страдающего человека в уверенность. Предположения, одно за другим возникавшие в воспаленном мозгу Северины, тут же превращались в факты. Она не сомневалась, что катастрофа уже произошла. От этого всепоглощающего неразумного страха у Северины с самых первых мгновений ее мученичества возникла и укрепилась, словно какая-то абсолютная истина, уверенность в том, что Юссон все расскажет. Какие принципы, какая мораль смогут его удержать? Разве она уже не испытала на себе ненадежность этих тормозов? Разве не отбросил он всякую снисходительность к ней в их взаимоотношениях, когда признал в ней своего двойника по извращенности? Ну разумеется, он расскажет. Когда? А вот тут все будет зависеть от того беса, которого он носит в себе.
Как она носит своего… Никому, кроме нее, несчастного создания с сухими, воспаленными глазами, не дано измерить глубину того ожесточения и того бессилия, с которыми она размышляла о своем безжалостном сладострастии. Она не испытывала ни угрызений совести, ни даже сожалений. Она слишком явно ощущала в каждом из своих растерянных жестов чью-то нечеловеческую власть, которая перетаскивала ее тело из одной рытвины в другую, каждый раз погружая его все глубже и глубже. И позволь ей судьба заново пройти любой отрезок этой знойной, грязной дороги, она повторила бы все ее этапы. Она чувствовала это, она знала. Так что в своей беспредельной тоске она была лишена даже жгучей сладости раскаяния, даже, например, такого разнообразия, как ненависть к Юссону. Он ведь тоже шел путем, проложенным специально для него какими-то окаянными, смертоносными божествами.
Вот-вот на нее должно было обрушиться чудовищное наказание за проступок, который она в общем-то совершила, но совершила не нарочно, а оступившись, как оступаются при головокружении. Осознание этой несправедливости усиливало ужас Северины, поскольку оно вынуждало ее не только мучительно размышлять о том, что станется с ней и с Пьером, но и задумываться еще о некоем сумрачном мире, который изготовил специально для нее приворотное зелье и бросал против нее своих лярв, своих гномов и исполинов.
Инстинкт, заставлявший Северину защищать свою любовь даже в самых абсурдных обстоятельствах (а именно так она воспринимала происходящее), был у нее настолько силен, что, угадав приближение Пьера, она сумела придать выражение бодрости своему осунувшемуся лицу. Но выйти ему навстречу она не решилась. Она различала звуки, связанные с каждым его движением, и они глухими ударами отзывались у нее в груди. Шаги его были спокойными. Вот он снял шляпу, остановился в прихожей перед зеркалом… все как обычно. Но, может быть, это только для того, чтобы сдержать свои слишком неистовые или слишком горькие чувства? Затаив дыхание, Северина смотрела на дверь, в которую он вот-вот должен был войти. Она увидит сразу. С каждой секундой Северина все больше и больше укреплялась в своих самых худших предчувствиях. Зачем Юссону ждать? Ей хорошо была знакома эта сила ничем не сдерживаемых порывов… Ей казалось, будто в висках у нее шевелятся какие-то крупные насекомые. Но вот они прекратили свой шелест. Ручка пришла в движение, повернулась.
Если бы Северина не чувствовала, насколько временно то сиюминутное избавление, которое посетило ее в этот момент, она благословила бы доставшиеся ей муки. Жизнь вернулась к ней и разлилась по всему ее телу, словно зажатая струя воды в фонтане, вновь обретшая свободный порыв. Пьер улыбался ей. Пьер целовал ее. До завтрашнего дня можно ничего не бояться. На глаза ее навернулись слезы счастья, чистые и нежные.
Ночь они провели вместе. Когда Пьер заснул, Северина слегка привстала. Она не хотела забываться сном. Разве приговоренный к смертной казни не лелеет свои последние мгновения любимых воспоминаний? Северина слушала дыхание Пьера.
«Он мой, он пока еще принадлежит мне, — говорила она себе. — Но скоро он уйдет…»
Его красивое тело, красивое лицо, его прекрасное, до предела наполненное ею сердце — все исчезнет. Склонившись над волосами Пьера, Северина почти бессознательно шептала:
— Мой милый, мой маленький мальчик, когда узнаешь, постарайся не слишком страдать. Почему? Ну почему? Я люблю тебя еще сильнее, чем прежде. А без всего того, что было, я бы и не знала, как сильно я люблю тебя. Поэтому не надо слишком страдать. Я не могла бы, я бы не могла…
Голова ее упала на подушку. Она оплакивала Пьера, оплакивала себя, оплакивала человеческий удел, разделивший плоть и душу на два несовместимых обломка, оплакивала злосчастие, которое все носят в себе, но не прощают другим.
Потом она вспомнила всю их совместную жизнь. Память воскрешала мельчайшие, навсегда, как ей казалось, забытые подробности. И каждая из них заставляла ее дотрагиваться до плеча Пьера, до его головы и повторять, словно заклинание:
— Не надо страдать слишком сильно… Делай со мной что хочешь, но только поменьше страдай.
За этими воспоминаниями, горестными мыслями и молитвами ее и застал рассвет. Однажды, еще после самого первого ее визита к госпоже Анаис, Северине пришла в голову мысль, что этот неясный утренний свет несет с собой конец всякой надежде. Она с грустью припомнила тот свой наивный страх. Какая же она была тогда несмышленая, если предположила, что ее можно было разоблачить без каких-либо улик. Ведь все зависело от нее самой. И тогда, и сейчас… Есть человек, который может, произнеся одно-единственное слово, облить гнуснейшей грязью любую, самую нежную жизнь. И слово это будет произнесено. Юссон не сможет устоять перед наслаждением, от которого покрываются чувственной рябью его веки.
Ее мысли прервались. Пьер проснулся. Какой короткой была эта ночь.
Северина сделала все, чтобы муж ушел в больницу как можно позже. Путь туда казался ей усеянным опасностями. На каждом перекрестке она видела Юссона, застывшего в ожидании, или если не его самого, то какого-нибудь его гонца. И все же Пьера пора было отпускать.
— Ты сегодня обедаешь, конечно, дома? — спросила она, прощаясь с ним. — Тебе ничто не помешает?.. Обещаешь?..
И утро потекло, капля за каплей, секунда за секундой, в ритме сердцебиения Северины. Любое уходящее в прошлое мгновение могло стать мгновением, когда Пьер все узнает. А время, отделяющее ее от него, состояло из стольких мгновений. Юссон… Пьер… Пьер… Юссон… Она вглядывалась то в одно лицо, то в другое, и то лицо, которое она любила, бледнело перед тем другим лицом, увеличенным и застывшим. Работа мысли свелась у нее к этой обостренной навязчивой идее, которая, впиваясь в мозг, приводит к сумасшествию. Северина поняла, что долго ей этих приступов не выдержать. Нужно, чтобы Пьер больше никогда не покидал ее. Уехать вместе? Он откажется. Разве она уже не использовала это свое самое лучшее оружие? Самое лучшее? Рано или поздно все равно пришлось бы вернуться, и Юссон ведь никуда не исчезнет…
Когда наступил полдень, Северину охватила еще большая тревога, чем накануне. Уходящее время непрерывно сокращало данную ей передышку. Опасность надвигалась, как гроза, и каждый час приближал выбранный Юссоном момент. От мысли об этом все расплывалось у нее перед глазами, предметы плыли, утрачивая свои контуры. Она почувствовала, что теперь даже присутствие Пьера уже не поможет ослабить затягивающуюся вокруг ее горла петлю.
И все же Северина продолжала бороться с невидимым, но близким противником.
— Мне грустно, — сказала она мужу, когда после всех переживаний удостоверилась, что он все еще не знает. — Тебе будет не очень сложно предупредить на работе, что ты не придешь, потому что не можешь оставить меня одну?
Она была очаровательна, как маленькая и очень больная девочка. И он не смог ей отказать.
На протяжении дня он часто с удивлением ловил на себе обволакивающие настойчивые и жадные взгляды жены. Пылкости этим взглядам добавляло ощущение жалкой хрупкости дарованной передышки. И что это была за передышка! От каждого телефонного звонка у несчастной останавливалось сердце, и она первой бросалась к трубке. В конце концов она не выдержала и сама объяснила ему.
— Разговоры помогают мне развеяться, — робко объяснила она.
Потом пришла почта. Пока Пьер, прежде чем вскрыть конверты, рассматривал их, Северина пребывала в полуобморочном состоянии.
— Ничего нового? — наконец решилась она спросить по прошествии нескольких минут, которые использовала для того, чтобы изобразить на лице спокойствие и придать голосу уверенность.
— Ничего, — ответил Пьер, совершенно не подозревая, от какого невыносимого груза он ее освободил.
И эту ночь они тоже провели в одной постели. Даже в своей квартире Северина постоянно чувствовала подстерегавшую ее опасность и немного покоя вкусила лишь благодаря контакту с мужчиной, которого ей предстояло потерять. Уснуть она не смогла и все прислушивалась, прислушивалась к счастливому, ровному сонному дыханию Пьера, которое, как она предполагала, ей, скорее всего, уже больше никогда не удастся услышать.
Вот скоро рассветет, наступит тот роковой день, когда ему все станет известно, и она уже не сможет удержать его… Разве что она сама… В какой-то миг она почти решилась. Не лучше ли будет, если он узнает от нее? Но она быстро поняла, что это ей не под силу. Значит, он уйдет в город, где тот, другой, конечно же, будет его искать. Они встретятся… И тогда… Голова ее запрокинулась назад, и Северина застыла в неподвижности.
Ее забытье длилось недолго, очнуться ей помог все тот же непреодолимый ужас, который только что стал причиной обморока. Поскольку у нее есть еще несколько часов, нужно использовать их, сейчас она поразмыслит и будет бороться. Она встретится с Юссоном, она станет умолять его… Нет… Напротив… Это была бы ее самая глупая ошибка… Он только насладится ее страхом, как там, у госпожи Анаис, когда, валяясь на своей постели проститутки, она слезно умоляла не выдавать ее… Нет… Напротив… Нужно, чтобы он понял, что она ничего не боится. Тогда, может быть… И Северина — настолько непереносимо было ее безвыходное отчаяние — уцепилась за эту надежду.
Юссон позвонил им в то же утро. Он знал, что Пьер ушел в больницу. Значит, к телефону подойдет Северина. Им руководило исключительно любопытство. Неужели Северина все еще считает его способным на ту гнусность, в которой она заподозрила его в момент замешательства?
«Если она поверит, что я умею хранить тайны, я постараюсь укрепить ее в этой вере. А если нет, я ее успокою».
Однако поведение Северины не дало ему возможности сделать ни того, ни другого. Уверенная, что Юссон хотел поговорить с Пьером, и настроенная на тот единственный метод борьбы, мысль о котором ей только что пришла в голову, она сухо ответила:
— Мужа нет дома. И повесила трубку.
Это проявление отчаяния Юссон принял за высокомерие, для укрощения которого одного лишь унижения ей оказалось мало.
«Что ж, она еще попросит у меня пощады», — подумал он.
Час спустя после телефонного звонка Юссона горничная сообщила Северине, что ее хочет видеть какой-то молодой человек.
— Он не назвал своего имени, — добавила она, — и у него какой-то странный вид… полон рот золотых зубов…
— Пусть войдет, — сказала Северина.
В любой другой ситуации появление Марселя в ее доме просто уничтожило бы Северину. Но в том состоянии, в котором она находилась теперь, оно лишь слегка удивило ее. Мысли Северины были заняты исключительно Юссоном, и эта навязчивая идея сделала ее безразличной ко всем остальным событиям. Марсель… Ипполит… У них были естественные реакции, легко предсказуемые, легко предотвратимые, легко поддающиеся удовлетворению, если уж на то пошло. А вот тот, другой, изможденный, зябкий, утоляющий свое сладострастие не от власти над плотью, а от унижения душ…
— Здравствуй, Марсель, — со странной ласковостью в голосе сказала Северина.
От такого приема все резкие слова, которые он готов был произнести, застряли у него в горле. Непринужденность Северины, ее печальный вид усилили до крайности смущение, которое он почувствовал сразу же, как только вошел в гостиную. Он смотрел на Северину нерешительно, одновременно испытывая и почти уже улетучившийся гнев, и все возрастающее восхищение. Теперь он наконец смог определить, к какому кругу принадлежит эта женщина, чьи привычки, манеры и речь всегда рождали в нем смутное и сладостное ощущение своей зависимости от нее.
— Ну так что, Марсель? — с той же отсутствующей ласковостью спросила Северина.
— Ты не удивляешься тому, что я здесь, не спрашиваешь меня, как я тебя нашел?
Она сделала такой усталый жест, что ему стало нехорошо. Он любил ее еще больше, чем предполагал, потому что уже не думал о себе.
— Что же все-таки случилось, Дневная Красавица? — спросил он, в то время как еле заметное движение его тонкого и опасного тела несло его ей навстречу.
Северина опасливо посмотрела на дверь и сказала:
— Не называй меня так. Не надо.
— Я буду делать все, как ты захочешь. Я пришел не затем, чтобы вредить тебе (он искренне забыл про шантаж, на который уже было решился). Я хотел только узнать, почему ты ушла и как я могу снова тебя видеть. Потому что (тут на его лице появилось неукротимо-волевое выражение), я говорю тебе это, я должен тебя видеть.
Северина покачала головой с нежным удивлением. Она не очень хорошо понимала, как можно еще думать о будущем.
— Но все ведь кончено, все, — ответила она.
— Что… все?
— Он ему расскажет.
Она с таким растерянным видом опустила плечи, что Марсель испугался. С самого начала их разговора у него возникло ощущение, что она не вполне в своем уме.
Он резко сжал пальцы Северины, чтобы извлечь ее из зловещей задумчивости, в которую та погрузилась.
— Выражайся яснее, — сказал он.
— Случилось большое несчастье, Марсель, мой муж все узнает.
— Да, в самом деле, ты же замужем, — медленно произнес молодой человек, причем невозможно было понять, чего больше было в его голосе — ревности или почтительности. — Это он?
Марсель кивнул на фотографию. Этот портрет Пьера Северина любила больше всех остальных. Момент был схвачен очень удачно, особенно хорошо получились глаза, живые, полные искренности и молодого задора. Северина уже давно не смотрела на него с таким вниманием, снимающим равнодушие привычки. Вопрос Марселя опять превратил этот образ в живой и осязаемый. Она вздрогнула и застонала.
— Это невозможно, скажи мне, что это невозможно… чтобы нас разъединили.
Потом, нервничая, добавила:
— Уходи, уходи, он сейчас вернется. Он и так скоро все узнает.
— Но, послушай, я могу помочь тебе.
— Нет, нет, никто мне уже не поможет.
Она подталкивала его к двери с таким исступлением, что он даже не пытался сопротивляться и только произнес:
— Я буду ждать от тебя новостей. Гостиница «Фромантен» на улице Фромантена. Спросишь Марселя, этого достаточно. Если не придешь, можешь быть уверена — через два дня я приду сам.
Прежде чем выйти за порог, он заставил ее повторить адрес.
Еще один день, еще одна ночь.
Северина ела, слушала, отвечала на вопросы лишь благодаря какому-то выработавшемуся автоматизму, не отдавая себе отчета в том, как это происходит. Захвативший ее водоворот, как выяснилось, носил ее поначалу только по самой поверхности. Теперь же она чувствовала, как ее затягивает в воронку, туда, где спирали, едва зародившись, тут же смыкаются. А рядом с ней плавали, словно картонные маски, лица Юссона и Пьера.
После третьей бессонной ночи Северина дошла до такого нервного истощения, что иногда ей даже хотелось, чтобы все как можно скорее закончилось. Однако когда Пьер, еще сидя в постели, просмотрел почту и прошептал: «Странно, после шести месяцев молчания!» — Северина мысленно произнесла мобилизовавшую все ее существо молитву, в которой просила, чтобы письмо было не от Юссона.
Между тем оно было именно от него, и Пьер вполголоса прочитал:
«Дорогой друг, Мне нужно с Вами поговорить. Я знаю, что Вы очень заняты. Поэтому чтобы Вам не отклоняться от Вашего обычного маршрута и поскольку я сам окажусь как раз в тех же местах, то буду ждать Вас завтра в сквере около Нотр-Дама в половине первого. Вы ведь в это время выходите из больницы, если я не ошибаюсь. Мое нижайшее почтение госпоже Серизи…»
— Письмо датировано вчерашним днем, значит, это на сегодня, — сказал Пьер.
— Ты не пойдешь, ты не пойдешь, — почти закричала Северина, прижимаясь к Пьеру, словно ей хотелось связать его своим телом.
— Милая, я не могу так поступить. Я знаю, что ты не любишь его, но это не основание.
Северине было хорошо известно, что в таких ситуациях Пьер оставался непреклонен и никогда не уступал ее желаниям: он поддерживал свободные и корректные отношения со всеми уважаемыми им людьми. И Северина безвольно отдалась потоку своих ужасных мыслей.
Это смирение длилось все то время, пока Пьер находился в квартире. Когда же она почувствовала, что вокруг нее воцарилась могильная тишина, когда она увидела и услышала — а она и в самом деле видела и слышала, — как Юссон начинает свой рассказ, она забегала по комнате, размахивая руками и выкрикивая, как настоящая сумасшедшая:
— Я не хочу… Я пойду… На колени… Он скажет… Пьер… На помощь… Он скажет: Анаис… Шарлотта… Марсель…
При упоминании последнего имени возвратившийся рассудок немного смягчил блеск ее глаз:
— Марсель… Марсель… Улица… улица Фромантена.
Когда она вошла в его маленькую, не внушающую доверия комнату на Монмартре, он был еще в кровати. Первой реакцией Марселя было затянуть Северину в постель. Но она даже не заметила этого, а приказала властно, как сама судьба:
— Одевайся.
Он хотел, чтобы она объяснила, в чем дело, но Северина остановила его:
— Я все тебе расскажу, но только скорее одевайся. Когда он был готов, она спросила:
— Который сейчас час?
— Одиннадцать.
— У нас есть время до половины первого?
— Время на что?
— На то, чтобы дойти до сквера Нотр-Дам. Марсель смочил салфетку, провел ею по лбу и вискам Северины, налил в стакан воды.
— Выпей, — сказал он. — Я не знаю, что с тобой случилось, но, если ты будешь продолжать в таком духе, надолго тебя не хватит. Как, немного получше?
— У нас есть время? — нетерпеливо спросила она, так как ей никак не удавалось сориентироваться, успевают они или нет: она не понимала и не слышала ничего, что не имело отношения к преследуемой ею цели.
Одержимость Северины оказалась заразительной. Марсель даже не попытался спорить с ней. Да и куда бы он только не пошел за Севериной с закрытыми глазами, после того как, отчаявшись найти ее, вдруг увидел ее перед собой — потерянную, молящую о защите. Ведь речь могла идти только об этом — он почувствовал это своей интуицией сутенера. Все подталкивало его сейчас к тому, чтобы повиноваться Северине: его любовь, природная вспыльчивость и дикий закон его среды, по которому мужчины, живущие за счет женщин, должны расплачиваться с ними своей отвагой и кровью.
— Мы будем там на час раньше, чем нужно, — сказал Марсель. — Что от меня требуется?
— Там посмотрим… Мы опаздываем.
Он понял, что Северина успокоится только тогда, когда окажется в том месте, куда стремится всем своим существом.
— Иди вперед, — сказал он.
Он быстро пошарил под подушкой, сунул руку в карман, потом нагнал Северину в коридоре. Сначала она не обратила внимания на то, что Марсель не подошел к такси, выстроившимся в ряд на площади Пигаль, а направился к крохотному гаражу на прилегающей улице. И только когда он начал там о чем-то говорить с каким-то человеком в промасленном комбинезоне, она запротестовала. Но Марсель грубо оборвал ее:
— Не лезь не в свои дела. Еще здесь ты будешь меня учить.
Потом, обращаясь к человеку в комбинезоне, добавил:
— Так я жду тебя, Альбер. Не в службу, а в дружбу. Несколько минут спустя они сели в видавший виды форд. Альбер, который теперь был в пиджаке без воротника, сидел за рулем. Он высадил их перед сквером со стороны острова Сен-Луи, как попросила Северина, знавшая, что Пьер будет идти от паперти Нотр-Дам.
— Оставайся здесь и жди, сколько потребуется, — приказал Марсель, выходя из машины.
Альбер в ответ проворчал:
— Так рисковать я согласен только ради тебя и Ипполита.
Северина и Марсель вошли в сквер.
— Ну рассказывай, — потребовал он.
Северина посмотрела на часы — еще не было двенадцати. Время для объяснений у нее было.
— Понимаешь, в самый мой последний день у Анаис к ней пришел один человек. Он друг моего мужа. И вот сегодня в половине первого он собирается все ему рассказать.
— Потому что не смог тебя заполучить?
— Если бы только это.
— Сволочь, — ругнулся Марсель. Потом намеренно холодным тоном сказал:
— Ты не хочешь, чтобы он тебя заложил, я понимаю. Только вот если бы ты сказала мне об этом раньше, все было бы гораздо проще.
— Я узнала это только сегодня утром.
Марсель был взволнован тем, что Северина сразу же, не рассуждая, отправилась за помощью к нему.
— Будь спокойна, я все устрою, — заверил он ее.
Он увлек Северину к скамейке, скрытой деревьями, и теперь со стороны паперти Нотр-Дама заметить их было совершенно невозможно. Марсель закурил сигарету, они помолчали.
— А потом? — спросил Марсель. — Да, что потом? Если все пройдет нормально, ты будешь только со мной? Разумеется, я не говорю о твоем муже.
Северина решительно кивнула. Кто же когда-нибудь выручал ее так, как он?
Марсель курил, не произнося больше ни слова. Время от времени он измерял взглядом расстояние между их скамейкой и железными воротами, открывавшимися в сторону паперти, прикидывал, как далеко от них стоит машина с работающим на медленных оборотах мотором, звук которого время от времени доносился до них. Северина, обессиленная, не способная ни о чем думать, ждала. Никогда еще она так ясно не чувствовала, что не принадлежит себе.
— Двадцать пять минут первого, — сказал Марсель и встал. — Сейчас тебе нужно будет смотреть в оба и сразу, как только он появится, показать его мне.
Северина обернулась, ее стала трясти дрожь. В сотне шагов от них, в аллее, ведущей к воротам, через которые должен был пройти Пьер, стоял Юссон. Марсель тут же угадал причину этой дрожи.
— Он здесь? — спросил он. — Покажи.
Северина не смела. На лбу у Марселя она заметила складку, которую уже однажды видела, в тот вечер, на рынке.
— Говори же, — яростным шепотом приказал он.
— Ты не понимаешь…
— Нет, нет, пошли отсюда, — пролепетала Северина. Но не сдвинулась с места. Из тени собора в сад входил Пьер. Юссон направился к нему.
— Вон тот, худой, который подходит к моему мужу, — шепнула она.
И потом с диким надрывом в голосе, с каким спускают с поводка собаку-убийцу, добавила:
— Иди, Марсель.
Он слегка пригнулся. В его напряженном затылке было нечто такое, что повергло Северину в смятение, и она, растерявшись, бросилась бежать. Инстинктивно она побежала в сторону, противоположную той, куда направился Марсель. Так что, сама того не желая, она проскочила в тот же вход, откуда они с Марселем пришли. Альбер и его машина были на месте.
— Залезай, — скомандовал он, и в его голосе прозвучало что-то похожее на ненависть.
Они прислушались. До них донеслись неясные крики. Они увидели, как туда, где кричали, побежали люди. Альбер продолжал ждать.
Шум усилился. Мимо них пробежал полицейский. Альбер с силой нажал на акселератор.
Когда Юссон писал письмо Пьеру, то не без основания предполагал, что тот будет крайне удивлен и расскажет о нем Северине. Он нисколько не сомневался в том, что Северина позвонит ему или даже придет к нему домой. Он надеялся насладиться поражением ее упрямого высокомерия, а потом прекратить игру, которая начала уже утомлять его и которой он уже стыдился. Однако утро прошло, а никаких известий от Северины так и не последовало. Он позвонил ей. Ее не оказалось дома. Юссон заколебался: стоит ли идти в сквер к Нотр-Даму? Естественно, он заготовил правдоподобную тему для беседы с Пьером, но молчание Северины заронило в его душу предчувствие какой-то смутной опасности. Однако именно это предчувствие как раз и заставило его принять окончательное решение.
Подобно многим достаточно благородным, но страдающим от какого-нибудь тайного порока людям, Юссон стремился искупить этот порок, всячески развивая свои хорошие качества. И коль скоро предстоящая встреча с Пьером вносила в его душу изрядную долю беспокойства, он решил, что не отменит ее.
Из-за этих раздумий он пришел в сад всего за несколько минут до назначенного времени. Едва он двинулся по маленькой аллее, откуда был виден левый берег, как тут же заметил Пьера и направился к нему.
Марсель рванулся как раз в этот момент.
Даже если бы решение Марселя не было таким твердым, уже один только крик Северины, страстный, смертоносный, идущий из недр плоти, заставил бы его ударить. Этот крик настраивал душу на боевой лад, подогревал кровь — именно этого опасался Ипполит, когда говорил о Марселе. А поскольку удача уже несколько раз сопутствовала ему в трудных делах, сейчас уже ничто не могло остановить его.
Он бежал, держа пальцы на раскрытом в кармане ноже со стопором. Голова у него была ясная, и Марсель размышлял: «Он упадет, я прыгну на газон, и раньше, чем меня хватятся, Альбер рванет вперед». Он верил в свою силу, в свою ловкость и в сноровку своего шофера. Но в расчетах своих он не учел возможность вмешательства Пьера и настороженности того, кого он наметил своей жертвой.
Видя, что прямо на Юссона несется какой-то человек, Пьер, шедший им навстречу, сделал повелительный предупреждающий жест. Юссон резким движением, которое не получилось бы столь быстрым, если бы инстинкт его не был начеку, обернулся и уклонился от удара. Перед его лицом что-то сверкнуло. Марсель, гибкий, как животное, тут же обрел равновесие и опять занес нож. Но Пьер бросился вперед. Рядом со своим лицом он увидел чье-то искаженное металлической ухмылкой лицо. Удар достался ему. Поразил его в висок.
Марсель еще мог бы убежать. Но он понял, что ударил мужа Северины. Его замешательство длилось всего секунду, но этого оказалось достаточно, чтобы его погубить. Пьер зашатался, Юссон схватил запястье, которое держало потускневшее оружие. Марсель попытался вырваться, но в тощем теле его противника жила редкая сила. К тому же на подмогу уже спешили прохожие, уже раздавались свистки полицейских. Марсель прекратил сопротивление. У его ног лежал неподвижный человек.
X
После всех окольных путей, поворотов и бесконечных остановок Альбер окончательно остановился на площади Бастилии.
— Ну а теперь давай сматывайся, — сказал он Северине.
Та не поняла.
— Вылезай, — с угрожающими нотками в голосе приказал Альбер. — Сегодня не тот день, чтобы слишком высовываться.
Северина вяло повиновалась и, лишь когда он уже готов был тронуться с места, спросила:
— А Марсель?
Альбер посмотрел на нее со злостью, но ее искреннее непонимание было столь очевидным, что он только проворчал:
— Читай вечером газеты! И подумать только, что все это ради тебя!
Форд быстро исчез из виду.
— Я должна возвратиться домой, — громко сказала Северина.
Двое прохожих, обернувшихся, чтобы улыбнуться женщине, которая разговаривала сама с собой, вывели Северину из оцепенения. Ее способность воспринимать действительность прервалась в тот самый момент, когда она увидела, как Марсель готовится к прыжку. Тряска в машине и бесцельная езда окончательно ее истомили. Северине показалось, что она ехала целую вечность в этом подозрительном автомобиле с этим немым, вцепившимся в руль человеком. Между тем теперь нужно было снова пускаться в путь, не зная, куда он приведет. Бросая Марселя вперед, она надеялась выстроить стену, вырыть ущелье, воздвигнуть нечто непреодолимое между собой и будущим. А тут она вдруг почувствовала, что ни одно живое существо не в состоянии вырваться из непреложного сцепления событий. С трудом, на ощупь продираясь сквозь плотную, как хаос ее мыслей, муку, она пыталась связать то, что она прожила, с тем, что ей еще предстояло прожить.
Марсель убил, в этом она не сомневалась. Это не вызывало у нее никаких эмоций. Мужчины, их поступки, как и ее собственные поступки, выглядели абстрактными знаками, преходящий смысл которых ей нужно было расшифровать. Марсель убил Юссона. Юссон должен был рассказать Пьеру то, что тому не следовало знать. Отсюда все ее страхи. Юссон больше ничего не скажет. Следовательно, ей больше нечего бояться. Значит, она может повидаться с Пьером. Даже должна. Уже пора обедать.
Когда Северина пришла домой, у нее даже не хватило сил, чтобы удивиться тому, что Пьер еще не вернулся. Она прилегла на постель и тут же заснула. Даже громкий звонок, раздавшийся часа в два в безмолвной квартире, не смог ее разбудить. Она не слышала, как горничная постучала и потом вошла.
— Мадам, мадам, — стала горничная звать все громче и громче, пока Северина наконец не открыла глаза, — там пришел доктор, он хочет сказать что-то очень серьезное о господине Серизи.
Первая мысль, которая пришла Северине в голову после короткого забытья, вернувшего ее к прежним переживаниям, была о том, что Юссон успел все рассказать и что Пьер не хочет возвращаться домой.
— Я не хочу никого видеть, — сказала она.
— Нужно, мадам, — настаивала горничная таким тоном, что Северина тут же направилась в гостиную.
Практикант из больницы был очень бледен.
— Мадам, — сказала он, — произошел несчастный случай, который просто никто не в состоянии объяснить.
Он замолчал, подыскивая слова и надеясь, что его прервут, но его не прервали. Суровое выражение, застывшее на лице Северины, внушало ему страх.
— Успокойтесь, ничего непоправимого, — быстро сказал он. — Вот… Серизи ударили ножом в висок.
— Кого?
Северина бросилась к практиканту так стремительно, что тот едва осмелился повторить:
— Серизи.
— Моего мужа? Пьера? Вы ошибаетесь.
— Я работаю с ним уже целый год, мадам, — с печалью в голосе сказал практикант, — и я люблю его, как все его у нас любят… Да, его ударил какой-то тип, который, кстати, арестован. Вашего мужа тут же привезли к нам в отделение. Разумеется, пока он еще без сознания, но сердце… в общем, у него много шансов поправиться. Мы предупредили профессора Анри, нашего патрона. Я думаю, сейчас он уже там. Я провожу вас, мадам.
Даже подойдя вплотную к Центральной больнице, Северина все еще отказывалась верить, что в этой самой больнице, где Пьер прооперировал столько тел, он сам вдруг оказался всего лишь телом, препорученным заботам белых халатов. Она узнала подъезд, где ждала Пьера в тот день, когда впервые отправилась на улицу Вирен, и это воспоминание только усилило ее неверие в происходящее. С такой степенью точности заколдованный круг замыкается только в дурных снах.
Однако она увидела профессора Анри, и защищающее ее облако рассеялось. Она несколько раз ужинала у него вместе с Пьером и теперь вспомнила, с какой трогательной радостью Пьер, разговаривая с ним, старался повторять слово «патрон» — единственное слово, в котором как нельзя лучше сочетались симпатия и глубокое уважение. От этого всплывшего в памяти слова вместе с неповторимой интонацией Пьера она чуть не упала в обморок: ведь раз профессор здесь, раз он идет к ней… Северина не успела додумать свою мысль. Врач уже держал ее руки в своих ладонях. Это был нервный человек маленького роста, сумевший остаться удивительно молодым. Эта моложавость придавала ему уверенности и позволяла избегать излишней осторожности в обращении с людьми.
— Милая моя, не теряйте самообладания, — сказал он. — Я отвечаю за его жизнь. Что касается остального, то здесь что-то определенное можно будет сказать только завтра.
— Я могу его видеть?
— Разумеется. Но он еще не пришел в себя. Завтра картина немного прояснится.
Практикант провел Северину к Пьеру. Она вошла уверенным шагом, но, хотя воображение ее и было готово ко многому, сейчас она смогла дойти лишь до середины палаты. Ей помешали приблизиться отнюдь не забинтованный лоб и не восковой цвет кожи Пьера. Помешала какая-то неестественная неподвижность его конечностей и лица, неподвижность, которая не походила ни на сон, ни на смерть, — бессильная, вялая неподвижность, от которой все тело Северины пронизала долгая дрожь, вызванная не только жалостью и ужасом, но и чувством мучительного сожаления и еще — Северина потом не признавалась себе в этом никогда — чувством отвращения. Неужели вот эта инертная, дряблая масса с обвисшим ртом, с опавшими, а не просто опущенными веками и есть прежде всегда такое подвижное и решительное лицо ее мужа? Было почти физически тяжело смотреть на всю эту расслабленную плоть, еще утром буквально лучившуюся щедростью молодости.
Северина не могла знать, что угрожает Пьеру, но в его чертах, устрашивших ее врожденный инстинкт здоровья, она прочитала, что наказание, против которого она вооружила неистовую любящую руку, обрело еще более жестокую форму, чем все те, от которых раньше ее бросало в холод.
— Я больше не могу, — прошептала она. — Мне нужно выйти.
За дверью ее ждал человек.
— Извините меня, — сказал он, — что я расспрашиваю вас в такую тяжелую минуту, но мне поручено расследование. Ваш муж пока еще не в состоянии говорить, может быть, вы могли бы что-нибудь объяснить.
Северина оперлась о стену. Ее вдруг поразила мысль, до этого не приходившая ей в голову. Она — сообщница Марселя, и ее арестуют.
— Ну, господин следователь, — воскликнул практикант, — откуда же мадам знает! Вам же господин Юссон сказал, что метили в него и что доктора Серизи ударили случайно.
Он отвел комиссара в сторону и сказал ему тихо:
— Я понимаю, это ваш долг, но все-таки пощадите эту несчастную женщину, не беспокойте ее хоть какое-то время. Они так друг друга любят, она же еле держится на ногах.
Северина посмотрела вслед комиссару, с трудом понимая, что пока ее оставили на свободе. Потом робко спросила:
— Вы говорите о Юссоне, вы его видели?
— Да я же, кажется, уже сказал вам, мадам…
Северина смутно припомнила, что по дороге в больницу практикант что-то рассказывал ей, но тогда ее сознание оказалось неспособным что-либо воспринимать. Она попросила его повторить. Только тут она с ужасающей ясностью установила для себя последовательность событий, начиная с того самого прыжка Марселя, увиденного ею, когда он лишь только обозначился в его мышцах и в линии затылка. Северина прокусила себе губу, чтобы не застонать: «Это я, я направила удар».
И, словно чувство ответственности за все произошедшее вдруг усилило опасность, которой подвергался Пьер, она прошептала:
— Он умрет.
— Нет, нет, я вас умоляю, успокойтесь, — сказал практикант. — Вы же слышали, что сказал патрон. Серизи выкарабкается, это бесспорно.
— Почему же он не шевелится?
— После такого удара это естественно. Но жить он будет, в этом я вам клянусь.
Северина почувствовала, что, хотя это заверение друга Пьера и было искренним, оно не снимало всех его тревог. Но какое имело значение, сколько продлится выздоровление и будет ли слишком неприятным лечение, если Пьер все-таки будет жить.
Остаток дня она провела у постели больного. Он был по-прежнему неподвижен. Иногда Северина, охваченная испугом, склонялась над ним, слушала его сердце. Оно тихо билось. Тогда она успокаивалась и запрещала себе думать о странном бездействии всех его мышц.
Когда начало смеркаться, профессор Анри пришел сменить повязку и осмотреть рану. Северина невольно подняла глаза на это темное отверстие. Через него вытекла самая дорогая для нее кровь и, может быть, что-то еще более драгоценное. Она видела оружие, которое проделало эту дыру. Раздеваясь, Марсель всегда клал под подушку револьвер и нож с бежевой роговой ручкой. Северина держала его в руках, поглаживая стопор. У нее застучали зубы.
— Лучше будет, если вы пойдете домой и попытаетесь уснуть, — сказал профессор. — За Серизи будет хороший уход, я гарантирую. А вам, вам понадобятся силы завтра. Завтрашний день многое решит… Речь здесь идет не о жизни, но… В общем, посмотрим. Идите отдохните.
Она повиновалась с каким-то тайным удовлетворением. Однако домой она не пошла. У нее возникло глухое, неодолимое желание, которого она испугалась лишь в тот момент, когда назвала шоферу адрес Юссона. Некий закон мощного тяготения нес ее к этому человеку, с которого все началось, которым, казалось, все должно было и кончиться, к единственному человеку, который знал о ней все.
Едва Северина увидела Юссона, как тут же поняла, что тот ждал ее прихода.
— Я знал, — отсутствующим голосом произнес он. Он провел ее в гостиную, полную роскоши и покоя.
Хотя лето было в самом разгаре, в камине полыхали дрова. Юссон сел напротив огня, опустил вниз длинные кисти рук.
— Ничего нового, так ведь? — спросил он таким же странно-отрешенным голосом. — Я только что звонил в больницу. Там сейчас определяется цена моего спасения.
Северина молчала, но у нее уже возникло и постепенно начало усиливаться необычное ощущение внутреннего благополучия. Юссон был сейчас единственным человеком, общество которого она могла выносить, и он произносил те единственные слова, которые она была способна воспринимать.
Юссон смотрел то на огонь, то на свои руки, которые постоянно подносил к огню. Такое было ощущение, что он хочет их там расплавить. Он продолжал:
— Когда он упал, у меня тут же появилась уверенность, что он не умрет. В воздухе витало нечто худшее.
Он с трудом поднял глаза на Северину и спросил:
— Вы были настолько уверены, что я расскажу? Молодая женщина ответила лишь легким взмахом ресниц.
— Как вы его любили, — немного помолчав, сказал Юссон. — Человеку вроде меня такое неведомо… И я допустил эту ошибку. Я не предполагал, на что может толкнуть подобное чувство…
Северина внимательным взглядом выразила согласие с ним. «Ему не дано было понять того, что было во мне самого хорошего, — подумала она. — А Пьеру не дано было понять худшего… Если бы он догадался, он, может быть, удержал бы меня или стал бы лечить. Но если бы он догадался, он не был бы Пьером».
— А тот-то, с ножом, — сказал внезапно Юссон, — тоже ведь какая страсть.
Он вздрогнул, придвинулся еще ближе к огню. Его голова дрожала от печали, по силе своей превосходившей печаль всех действующих лиц этой драмы.
— И только у меня одного, — прошептал он, — не оказалось никакой благородной причины. Вы все трое смертельно ранены, а я ускользнул. Почему? Во имя чего? Ради того, чтобы иметь возможность возобновить свои маленькие опыты?
Он слабо усмехнулся и задумчиво продолжал:
— Как хорошо нам сегодня вдвоем. На всей земле никто — даже самые алчущие любовники — не испытывают в этот вечер такой потребности друг в друге, как мы с вами.
— Скажите, — спросила Северина, — когда вы увидели Марселя, вы сразу поняли, что это я послала его?
Юссон мягко поправил:
— Послали мы.
Потом он погрузился в состояние беспредметной мечтательности. Прервал его мысли шум ровного дыхания. Северина уснула на диване, на котором сидела с того момента, как вошла к нему в квартиру.
«Скольких бессонниц, скольких мучений стоит ей этот сон, — подумал Юссон. — А завтра…»
Он вспомнил об опасениях профессора Анри, о расследовании, которое начнется. Каким образом эта несчастная с лицом сломленного ребенка сумеет сохранить крохи еще оставшегося у нее в голове здравомыслия? Он, конечно, поможет, но только от чего он может ее уберечь?
Юссон подошел к Северине. Во сне она выглядела такой чистой, такой невинной. Неужели это та самая женщина, которую он видел распростертой на красном покрывале там, куда сам же и направил ее однажды солнечным утром? Да и сам он, разве в это мгновение он был тем же человеком, который на жалкую мольбу Дневной Красавицы ответил безнравственным уклончивым жестом, тем жестом, который, по сути, и проделал позже дыру в виске Пьера? Его собственная тайна, в которую он столько раз вглядывался с неуемной и тщетной алчностью, покоилась на целомудренном лице Северины.
Он нежно коснулся ее волос, сходил за одеялом, выбрав самое мягкое, и тихо накрыл ее им как притомившуюся маленькую сестру.
Северина проспала до девяти часов утра. Проснулась она с ощущением, что ее физические силы восстановлены. Однако вскоре она пожалела об этом отдыхе. Он обострил ее переживания, усилил ее тревогу о здоровье Пьера. Все, что привело ее к Юссону, показалось ей жалким и ничтожным. То была слабость, невроз. Воспоминания об их беседе, вчера казавшейся такой содержательной, теперь заставили ее устыдиться.
Вошел Юссон. Он испытывал такую же неловкость. Он тоже смог поспать. Тени исчезли. Жизнь сделала еще один шаг. И от этого его глазам предстала совершенно иная картина. Поступки и слова, продиктованные созерцанием глобальных зловещих законов, капитальные поступки и слова превратились в докучливых свидетелей уже не соответствующей им чувствительности.
— Я позвонил в больницу, — сказал он. — Его жизнь вне опасности, он даже пришел в себя, но…
Северина больше не слушала. К Пьеру вернулось сознание, а ее не было рядом, чтобы встретить этот первый проблеск. Как он, наверное, ждет ее!
Она всю дорогу только и думала о том, как улыбнется Пьер, когда увидит ее, как он потянется к ней; конечно, жест его будет слабым, почти незаметным, но она поймет его, мысленно его продолжит и закончит за него. Измотавшая ее гонка приближается к концу. Он выздоровеет, она заберет его с собой. И снова будут дни в тени больших деревьев, игры на пляжах, песни горцев над гладкими снегами. Он улыбнется ей, слегка протянув к ней руки.
Глаза у Пьера были раскрыты, но он не узнал Северину. По крайней мере, так ей показалось. Как же еще можно было объяснить отсутствие не только какого-либо жеста, но и какого-либо выражения, той тончайшей вибрации, которая при приближении милого существа начинает волновать даже совсем безжизненную умирающую плоть. Пьер не узнавал ее, и для Северины это было ужасным ударом.
И все же менее ужасным, чем тот, который обрушился на нее всего несколькими секундами позже. Она склонилась над Пьером и на самом дне его глаз заметила мерцание, дрожащий огонек — призыв и бесконечную мольбу. Так он мог обращаться только к ней, но, если он ее узнал, тогда почему это страшное молчание, эта окоченелость? Северина откинулась назад, посмотрела на сестру, на практиканта. Те опустили глаза.
— Пьер, Пьер, маленький мой, — закричала, скорее завыла она, — хоть одно слово, один вздох, я тебя…
— Успокойтесь, я вас умоляю, успокойтесь, ради него, — с трудом прошептал практикант. — Я думаю, он слышит.
— Но что с ним такое? — простонала Северина.
— Нет, не говорите ничего.
Что могут знать эти люди, даже самые ученые? Она, только она, которая знает каждую извилинку этого лица, сможет разгадать его ужасную тайну. Подавляя страх, Северина вернулась к постели, страстно обхватила голову мужа, притянула ее к себе. Но руки, утратившие вдруг силу, тут же опять положили ее на подушку. Ничто не дрогнуло в этих чертах, таких же вялых, как и накануне.
Ее привел в чувство взгляд Пьера. Эти светлые глаза, которые она видела смеющимися или серьезными, задумчивыми или влюбленными, были живыми. Чего же тогда она боится? Он просто слишком слаб, чтобы шевелиться, чтобы разговаривать. Не надо быть дурой, не надо удивляться и из-за своей трусости мучить его криками и жалобами.
— Милый, любимый, ты поправишься, — сказала она.
— Твои друзья тебе ведь объяснили это, и твой патрон тоже. Ты увидишь, как быстро пойдет дело на лад.
Она остановилась и не удержалась, спросила его с тревогой в голосе:
— Ты меня слышишь, Пьер? Подай знак, чтобы я знала… маленький знак.
От нечеловеческого усилия глаза больного потемнели, но на поверхности лица ничто не дрогнуло. И Северина начала догадываться, что означали недомолвки главного врача и его учеников.
Если бы не проблеск сознания во взгляде Пьера, интенсивность которого все время менялась, она могла бы еще заблуждаться. Но тут все было предельно ясно: Пьер хотел говорить, хотел двигаться, но на всем его теле лежала печать какой-то застылости.
Северина долго оставалась склоненной над этими глазами, единственным средством общения глубокого и нежного ума. Она говорила, спрашивала и старалась прочитать ответ в их переменчивом внутреннем свете. Потом, чтобы не разрыдаться, вышла.
В коридоре вышедший вместе с ней практикант сказал:
— Не нужно отчаиваться, мадам. Только время покажет, насколько это необратимо.
— Но скажите же мне, что он не останется таким, как сейчас. Это невозможно. Это хуже…
Северина вдруг вспомнила фразу Юссона «В воздухе витало нечто худшее» и замолчала.
— Во время войны, — неуверенно сказал молодой врач, — были случаи, когда паралич полностью излечивался.
— Паралич, паралич, — глухо повторила Северина. Пока она не знала, как называется неподвижность Пьера, та казалась ей менее зловещей. Она как бы принадлежала ему одному. Она как бы еще была в его власти. Тогда как с этим диагнозом он входил в некую безымянную категорию, подвластную серым законам, которым подчиняются все люди.
— Теперь, когда вы все знаете, позвольте дать вам один совет, — добавил практикант. — Не разговаривайте с ним, пожалуйста, слишком много. Сделайте так, чтобы он как можно меньше осознавал…
— Он!
— Конечно, с Серизи это трудно, и тем не менее нужно постараться немного его усыпить. Поверьте нашему опыту. Самый живой мозг, когда приходит болезнь…
— Я не хочу, — почти грубо прервала его Северина. — Нет, он не неполноценный. У него все цело. Если вы не верите, оставьте его мне. Я все сумею.
При виде столь мощной решимости, столь мужественной любви молодому врачу захотелось пожать Северине руку как товарищу, более отважному, чем он сам.
Теперь Северина не покидала палаты Пьера. Днем и ночью она принадлежала этим глазам, которые сверкали, как затерянные сигнальные огни. Ее собственная жизнь казалась ей несущественной. Что может сравниться с жестокой драмой, разыгрывавшейся в замкнутом пространстве, в точных и неподвижных границах тела, неспособного передать движения живущего в нем духа? Но зато какую невероятную победу, как ей показалось, она одержала, когда однажды утром вроде бы увидела дрожание губ Пьера. То была едва различимая вибрация, но Северина была уверена, что не ошиблась. В течение дня вибрация повторилась, стала более уверенной. Профессор Анри погладил лоб раненого более энергичным жестом, чем накануне.
На следующий день Пьер смог изобразить губами несколько слогов, его пальцы начали делать слабые вмятины в одеяле. Нечто похожее на бескрайнюю песнь наполнило всю душу Северины. Она уже не сомневалась в грядущем полном выздоровлении Пьера, и сдержанность врачей ее раздражала. Неделю спустя она вырвала у них разрешение перевезти его домой. Рана затягивалась. Что же касается остального, то тут она полагалась только на себя. К тому же если весь низ тела по-прежнему оставался таким же инертным, как сразу после ранения, то торс и руки уже двигались, разумеется, беспорядочно, но все же это были движения. Кроме того, Пьер начал довольно непринужденно выражать свои мысли, а две предпринятые попытки читать показали, что он может и это.
Северина никогда бы не подумала, что такая простая вещь, как возвращение в свою квартиру полуживого человека, способна доставить ей столько светлой радости. Она не хотела замечать, что губы Пьера, прежде чем выговорить какое-нибудь слово, предпринимают тысячу усилий, что для того, чтобы двинуть рукой, он начинает делать движение не в ту сторону. Все должно было прийти в норму, потому что он находился в своей комнате, потому что он улыбнулся, увидев свои книги, улыбнулся тем более трогательно, что у него получилась полуулыбка. Теперь необходимо было только терпение. Северина знала, что оно у нее есть — бесконечное, нежное, готовое победить все.
Она совершенно забыла, что внутри той женщины, которая ухаживает за Пьером, нашла себе пристанище другая — проститутка и убийца. Ей пришлось вспомнить об этом на следующий же день.
Не в силах скрыть свое замешательство, к Северине обратилась ее горничная, молодая, кроткая девушка, которая служила в доме с самого начала их с Пьером семейной жизни.
— Я не хотела беспокоить мадам, — сказала она, — пока мадам оставалась в больнице и в первый день возвращения… Мадам видела газеты?
— Нет, — сказала Северина, и это было правдой.
— В самом деле, мадам? — продолжала с облегчением горничная. — Если бы мадам видела портрет убийцы…
Северина не прерывала ее, но слушать уже перестала. Ей уже не было в этом необходимости. Прислуга узнала Марселя на фотографиях в прессе.
Северине показалось, что комната, мебель, эта продолжающая что-то говорить женщина (до нее смутно донеслось: «золотой рот») вдруг стали совершать равномерные, широкие колебательные движения. Колебания захватили и ее саму. Ей пришлось сесть.
— Я вижу, мадам потрясена так же, как и я, — заключила горничная. — Я не хотела никому ничего рассказывать, не поговорив с мадам, но теперь я предупрежу следователя.
Как же Северина пожалела об этом злосчастном возвращении: в Центральной больнице, вдали от людей и от своего прошлого, она имела что-то вроде права убежища. Что за безумное ослепление заставило ее поверить в то, что она ушла от невидимых щупалец? Они сжимают ее снова. Разве ей мало уже выпавших на ее долю страданий? Какая им нужна еще дань?
— Правда же, мадам, ведь надо предупредить его? — спросила горничная.
— Разумеется, — прошептала Северина, не отдавая себе отчета в том, что говорит.
Она тут же поняла, что последует дальше: направленное против нее расследование, обвинение в сообщничестве, тюрьма и Пьер, наполовину сбросивший свой саван плоти и вдруг узнающий все те ее тайны, ради сокрытия которых она заставила его заплатить такую дорогую цену. Какая злая насмешка!
— Подождите… Нет, не надо! — вскричала она. Удивление прислуги, ее недоверчивый вид вернули Северине немного хладнокровия.
— Да, ваше… наше свидетельство… — заставила она себя исправиться, — оно ничего не потеряет за каких-нибудь два… три дня. Сейчас пока я не могу отойти, вы же понимаете.
— Как мадам будет угодно, но меня и так уже мучают угрызения совести оттого, что я столько ждала.
И снова у Северины появилось ощущение, которое, как она наивно полагала, уже не должно было к ней вернуться, — ощущение затравленного зверя. Снова она чувствовала себя преследуемой, попавшей в тупик, зависимой. Причем на этот раз ее преследовал не один человек, а целая свора, выдрессированная обществом для этой цели. А кто же будет ухаживать за Пьером, улыбаться ему, развлекать его, кормить, помогать ему заснуть? Теперь она не хотела для себя ничего, кроме этого скромного удела, и вот ей отказывают и в этом.
Ей пришла в голову мысль о смерти, и в этот момент она действительно устремилась бы всей душой навстречу холодной избавительнице. Но тут ей показалось, что в комнате, где находился Пьер, послышался какой-то шум, и все в ней мгновенно приготовилось к бою: ее любовь, над которой нависла угроза, неясный гнев, неистовый вызов.
— Я пойду до конца, — прошептала Северина, — и им не удастся причинить ему вреда.
Она позвонила Юссону и попросила его приехать.
— Это мой сообщник, — размышляла она. — Он это знает. Он поможет мне.
С первых же слов Северины Юссон весь обратился в слух.
— Дело тут более серьезное, чем вы думаете, — сказал он. — Сразу видно, что вы не читали газет. Полицейские взяли след.
— Мой?
— Почти… Рот этого парня делает его заметным… Так что у Анаис кое о чем рассказали. Установить, что Марсель приходил каждый день к одной и той же женщине и ради нее одной, оказалось не так уж трудно. По фотографиям, которых мне не удалось избежать, Анаис и другие узнали и меня. Напрашивалась мысль, что между моим визитом и вашим исчезновением существует какая-то связь. Короче, был сделан вывод, что Марсель бросился на меня из-за какой-то женщины из дома свиданий. С другой стороны, один полицейский и прохожие утверждают, что в момент покушения видели, как какая-то женщина побежала и села в машину, которую другие прохожие в свою очередь тоже заметили стоявшей перед сквером с включенным мотором с двенадцати до половины первого… Пресса переполнена такого рода деталями. Здесь есть все необходимое, чтобы подхлестнуть любопытство: нападение среди бела дня… Марсель и все его прозвища… таинственный автомобиль и особенно эта женщина… Нет ни одной газеты, которая не вынесла бы в заголовок имени Дневной Красавицы.
— А что еще, что еще? — спросила Северина.
— Вот в основном и все из того, что направлено против вас. В вашу пользу говорит то, что, несмотря на поиски, ни машины, ни ее шофера не нашли, а главное — это молчание Марселя. Молчание почти героическое, потому что, дав показания, он почти снял бы с себя вину. Но он не проговорится, это чувствуется. Вот так. Но если улики в общем собираются правильно, то психологический след ведет совершенно не в ту сторону. До настоящего времени полиция, юстиция, пресса убеждены, что Дневная Красавица является… вы извините меня…
— Говорите же… Что мне до всего этого.
Он пришел в восхищение от того, что ради любви к Пьеру она отбросила все, относящееся к ней самой (хотя тот парень, сутенер, не рискует ли он, ради любви к ней, быть приговоренным к каторге?), и продолжал:
— Для всех Дневная Красавица является публичной женщиной, а поскольку вы не оставили на улице Вирен никаких сведений о том, кем являетесь в действительности, то весьма маловероятно — разве только что-нибудь непредвиденное, — чтобы кому-то удалось установить связь между ней и вами. Но вы же понимаете, что, если ваша прислуга скажет хоть одно-единственное слово, если хотя бы одна ниточка приведет сюда, все будет раскрыто.
— Но я буду отрицать… я скажу, что она лжет… что это месть… и я…
— Я вас умоляю, — сказал Юссон, беря ее ладони в свои руки. — Сейчас тот самый момент, когда вы должны сохранять все ваше самообладание. Одной вашей горничной, может быть, и не поверят, но вас узнает Анаис, узнают другие.
— Шарлотта… Матильда… — прошептала Северина, — и… все эти мужчины.
Она стала ронять имена, словно внимая некой ужасной молве и превращаясь всего лишь в ее эхо: Адольф… Леон… Андре… Луи и другие, еще и еще.
— И все это будет в газетах, — медленно произнесла Северина, — и Пьер прочитает, потому что он уже может читать, я так этому радовалась!
Она вдруг усмехнулась, причем усмешка ее странным образом вдруг напомнила усмешку одного наполненного золотыми зубами рта, и сказала:
— Она ничего не скажет.
Северина захотела высвободить ладони, которые Юссон все еще держал в своих руках. Он сжал их еще сильнее и очень тихо сказал:
— Марсель сейчас в тюрьме, а вы сами не можете… Она вздрогнула. В самом деле. Она хотела, и она тоже…
— Понимаете, — продолжал Юссон, — а что если дать много денег?
— Нет. Она у меня работает уже давно. Я ее знаю. Я предпочитала, чтобы меня окружали честные люди.
— Но тогда…
Юссон отпустил руки Северины, потому что его собственные руки начали дрожать. Он ушел, не попросив провести его к Пьеру.
После традиционного ежедневного визита профессора Анри Северина позвала горничную. Сказала, что врач рекомендовал ей подольше не выходить из дома, и попросила не давать показания или, по крайней мере, отложить их на неопределенное время.
Все, чего ей удалось добиться от горничной, которая, как Северина чувствовала, явно подозревает ее, было обещание ничего не предпринимать в течение недели.
В предшествующие преступлению дни Северина думала, что ничто не сможет превзойти ее муки. Однако теперь убедилась, что в страдании пределов не существует. Не раз вспомнилась ей одна иностранная пословица, которую Пьер перевел ей так: «Боже, не дай человеку испытать всего, что он в состоянии вынести». Ибо Северина и в самом деле чувствовала, что страданиям нет ни конца ни края. Каждый час приносил ей непредсказуемые терзания, потому что с каждым часом она все больше понимала, насколько велика потребность Пьера в ней.
Жалкая улыбка, бедняцкая радость, загоравшаяся у него в глазах, когда он видел ее, были когда-то, в больнице, чудесными подарками для нее, а теперь превращались в ужасные удары. — Что с ним будет, когда ее арестуют? Когда узнает он, почему и как она с помощью подобранного в доме терпимости любовника не только надругалась над его любовью, но и отняла у него его могучую силу и его молодость? Ах! Ну как было бы хорошо, если бы Юссон сразу рассказал ему о своем открытии!
Тогда, чтобы выстоять, у Пьера были здоровое тело и любимая работа. А она… она бы умерла или, если бы у нее не хватило на это духа, могла бы уйти к Марселю. Грязь беспутного существования погребла бы ее в своих недрах. На улице Вирен она слышала рассказы про женщин, затянутых этой трясиной, погрузившихся в пучину деградации: когда-то у них была интересная, красивая жизнь, а потом — алкоголь, наркотики…
Алкоголь, наркотики… она бы тоже к этому пришла: она почувствовала это по той тяге к ним, которая появлялась у нее в тяжелые, словно сделанные из свинца последние дни. Однако она не имела права помышлять о них. Когда она была с Пьером, ей приходилось казаться веселой и безмятежной, а с ним она была теперь постоянно. Конечно, он не настаивал на присутствии Северины, он даже не просил ее об этом. Но, когда она выходила из комнаты, от скованного тоскливой неподвижностью лица Пьера исходила мольба, устоять перед которой было невозможно.
Она уходила в соседнюю комнату, только чтобы почитать газеты. Они стали теперь ее наваждением. Они изобиловали подробностями о ней, где в разных дозах присутствовали перемешанные друг с другом фантазии и правда. Все остальное было известно, а вот загадка Дневной Красавицы вызывала всеобщий интерес. Репортеры расспрашивали госпожу Анаис и обитательниц ее пансиона. Были описаны во всех деталях платья Дневной Красавицы, которые она носила на улице Вирен. Обсуждали, как она проводила там время. Наконец один журналист появился и у Серизи.
Северина подумала было, что она уже разоблачена, но молодой человек пришел всего лишь справиться о самочувствии раненого. Этот визит заставил Северину обратить внимание на то, что состояние Пьера не улучшается. А вечером профессор Анри сказал ей непривычным для него мягким тоном:
— В целом Серизи останется теперь таким на всю жизнь. Умственные его способности сохранятся в полном объеме. Возможно некоторое улучшение речи, движений шеи, рук. Но от таза и ниже его тело мертво.
— Спасибо, доктор, — сказала Северина.
У нее появилось желание смеяться, смеяться без конца, до конвульсий. Вот куда она завела Пьера: он не сможет больше жить, как все люди, но зато полностью сохранит их возможность страдать.
Днем позже он попросил газеты — профессор разрешил ему читать.
— Он слишком много думает обо всем, чтобы лишать его этого, еще и этого, — сказал врач Северине.
И сам Пьер, видя мучительные колебания Северины, выговорил по слогам:
— Я не боюсь…
Он хотел добавить «дорогая», но это слово у него еще не получалось.
Его руки долго блуждали, пока им удавалось взять то, что ему хотелось; Северине приходилось переворачивать ему страницы газет. Поскольку там только и говорилось что о Дневной Красавице, Пьер с любознательностью больных заинтересовался этой женщиной, из-за которой его совершенно беспричинно ударили ножом. Он не мог много говорить, но его выразительный взгляд, обращенный к Северине всякий раз, когда он читал это имя, невыносимо ее терзал. Скоро вот эти же глаза, больше чем когда-либо наполненные мыслью о ней, увидят ее фотографию под знаменитым прозвищем. Отсрочка приближалась к своему концу. Она уже знала, когда наступит час расплаты. Во вторник утром судебному следователю станет известно все. А была уже пятница.
В воскресенье горничная вошла в комнату и сказала Северине, что ее просят к телефону.
— Это какой-то господин Ипполит, — сказала она с отвращением. — У него тоже странный голос.
Северина не сразу взяла трубку. Что еще предстоит ей услышать? И насколько еще сократится отпущенная ей передышка? Но она побоялась дать толчок новой катастрофе. Ипполит, не вдаваясь в подробности, потребовал, чтобы она немедленно пришла на причал озера в Булонском лесу.
Он тяжелым взглядом провожал бежавшую по воде мелкую рябь. Плечи его слегка сутулились, что две недели назад показалось бы Северине совершенно невероятным, а щеки были цвета мышьяка. Когда Северина приблизилась к нему, огромное тело его слегка вздрогнуло, уголки губ тронула уничтожающая гримаса. Однако это длилось лишь одно мгновение, а потом лицо его снова приняло прежнее выражение.
— Садись, — сказал он безжизненным голосом, показывая на взятую напрокат лодку.
Северина решила, что он собирается ее убить, и великий покой снизошел на нее. Ипполит сделал несколько гребков. Он не прилагал никаких усилий, но его мощь даже в состоянии покоя была такова, что они быстро оказались на середине озера. Он снял руки с весел и сказал усталым тоном, который сохранял до конца разговора:
— Здесь можно говорить. В баре нас бы продали. А здесь…
Их лодка затерялась среди остальных, наполненных криками лодок. То был летний воскресный день.
— Марсель дал мне знать, чтобы я увидел тебя, — продолжал Ипполит, — и чтобы я тебе передал, что ты можешь не беспокоиться. Он тебя не выдаст. Это он так решил. Я-то, скажу я тебе, я бы сразу тебя выдал. У него хороший адвокат, это я его ему выбрал. С Дневной Красавицей, сидящей на скамье подсудимых, он мог бы в ус не дуть. Ничего преднамеренного — драма ревности, и больше ничего. Это выглядело бы красиво. Да я даже не посмотрел бы на него — выдал бы тебя. Но он велел передать мне, что тогда расскажет о тех двух парнях, которых он убил. Он так бы и сделал. Он такой.
Ипполит сжал свои челюсти, которые потеряли прежнюю упругость.
— Можно сказать, тебе повезло. Альбер избавил тебя от неприятностей, молчу и я. Марсель через меня велел тебе передать, чтобы ты его ждала. Он сбежит с каторги; он вернется — ему помогут. Он хочет, чтобы ты осталась его женщиной. Ты меня слышишь?
Ипполит сурово смотрел на Северину, но она простонала:
— К чему все это? Послезавтра Жюльетта пойдет к судебному следователю и меня арестуют.
— Какая еще Жюльетта?
— Моя горничная. Она видела Марселя у меня.
— Постой, — сказал Ипполит.
Он погрузился в глубокое раздумье. Если он не вмешается, непредвиденное свидетельское показание поможет раскрыть, кто такая эта Дневная Красавица. Честь и интересы Марселя были бы спасены. Но вот только согласится ли он на нейтралитет Ипполита? И не отомстит ли он, с его бешеным характером, так, как пообещал? В течение долгих минут Ипполит взвешивал эти противоречивые шансы, а также свой долг друга; Северина даже и не догадывалась, что в эти минуты решалась ее судьба.
— Она может пойти к следователю, — сказал наконец Ипполит, — но это ничего не изменит, если, конечно, я не захочу, чтобы что-нибудь изменилось. Анаис и ее женщины у меня в руках. Тебе надо будет только все отрицать, и тебе поверят скорее, чем твоей служанке. Но она не пойдет, так будет лучше.
— Вы собираетесь?.. — прошептала Северина.
— Не бойся. Я бью редко, и только когда это нужно. Я с ней поговорю. Этого хватит. Как я бы поговорил с другим, с тем, которого Марсель упустил.
Он направил лодку к берегу. Перед тем как причалить, он спросил:
— Ты не хочешь ничего передать Марселю? Северина посмотрела Ипполиту прямо в лицо.
— Пусть он знает, — сказала она, — что после моего мужа нет на свете мужчины, которого бы я любила больше него.
Интонация ее голоса, похоже, тронула Ипполита. Он покачал головой и сказал:
— Я читал, что твой муж наполовину погиб. А я-то говорил, что ты везучая. Все пошло наперекосяк. Ладно, а по поводу Жюльетты можешь не беспокоиться. Иди спокойно к своему больному, бедная девочка.
Возвратившись домой, Северина увидела профессора Анри, сидящего возле Пьера.
— Я воспользовался воскресеньем, чтобы побыть немного с Серизи, — сказал врач. — Я объяснил ему, как обстоят его дела. Недели через две вам нужно будет отвезти его на юг. Солнце — друг мышц.
— Ну что, милый, ты доволен? — спросила Северина, когда они остались одни.
Она постаралась говорить как можно веселее, но то, что она только что пережила, обесцветило ее голос.
Странная вещь, она даже не почувствовала облегчения. Между тем она верила слову Ипполита (Жюльетта и в самом деле на следующий же день покинула ее, не согласившись принять никаких денег), но эта безопасность, в возможность обретения которой она уже перестала верить, вместо того чтобы наполнить ее сердце радостью, создавала внутри у нее какую-то бесформенную, не имеющую названия пустоту, куда проваливалось все. Так бегун, потративший слишком много сил, падает замертво у достигнутой цели.
Северина с трудом повторила:
— Ты доволен, правда же?
Поскольку Пьер не отвечал, она обратила внимание на то, что уже сгустились сумерки, которые мешали ей увидеть реакцию лица, плохо справляющегося со своими мышцами. Она зажгла свет, села у безжизненных ног и, как обычно, стала вопрошать глаза мужа.
И тут Северина испытала более жестокое страдание, чем все те, которые одно за другим терзали ее несчастное сердце. Смущение… хуже, стыд — вот что Северина обнаружила в дрожащем, детском и преданном взгляде, стыд Пьера за свое разрушенное тело, стыд за то, что ей теперь всю жизнь придется ухаживать за ним, ей, которую он всегда так любовно опекал.
— Пьер, Пьер, я счастлива с тобой, — пролепетала она.
Он попытался махнуть головой, у него это почти получилось, и он прошептал своими непослушными губами:
— Бедная… бедная… юг… коляска… прости.
— Замолчи, пожалей меня, замолчи.
Это он-то просит у нее прощения, он, который теперь всю жизнь будет считать себя обузой и желать себе смерти — она знала его, — чтобы избавить ее от себя.
— Нет, нет, не смотри на меня так, — закричала вдруг Северина. — Я не могу…
Она прислонилась лбом к груди, когда-то такой горячей, такой сильной; как вся эта борьба и благополучное ее завершение оборачиваются против Пьера! Чем более чистой будет она выглядеть в его глазах, тем больше он будет страдать от ее забот, ее… ее… которая…
Северина была в полной растерянности. Она спрашивала себя, где истинное добро, истинное спасение. Она молила о луче света, о прозрении, о молнии.
Отчаянно пытаясь собраться с мыслями, она все сильнее и сильнее прижималась к Пьеру и вдруг почувствовала, как он непослушными руками пытается гладить ей волосы. И эти невыносимо доверчивые руки инвалида заставили ее принять решение. Северина была в состоянии вынести все. Но только не это. И она рассказала все.
Чем объяснить такой поступок? Одним только нежеланием являть собой подкрашенную добродетель тому, кого она любила бесконечной любовью? Потребностью — менее благородной — в исповеди? Подспудной надеждой получить прощение и жить затем без груза страшной тайны? Кому под силу сосчитать все импульсы, которые после столь ужасных злоключений приходят в движение, сплавляются воедино в человеческом сердце и заставляют его выплескивать истину на дрожащие губы?
Прошло три года. Северина и Пьер живут на берегу моря, в уютном, тихом местечке. Но после того как Северина призналась ему, она больше ни разу не слышала звука его голоса.
Давос, 20 февраля 1928 г.
― ЯВАНСКАЯ РОЗА ―
I
Возвращаясь из Владивостока, судно «Kita-Maru» пересекло Внутреннее море Японии и бросило якорь в порту Кобе.
Человеческий груз, доставленный на нем, медленно выгружался на пристань. Почти полностью он состоял из китайских кули и русских беженцев. Одетые одинаково в лохмотья, пропитанные запахом пота, грязи и рвоты, эти пассажиры нижней палубы не слишком отличались друг от друга. Однако, если на желтых лицах одних запечатлелась вековая привычка к лишениям и невзгодам, то на других, растерянных, изможденных, в их слишком светлых глазах читалось покорное отчаяние перед предстоящими ударами судьбы, а хрупкость сложения и деликатность черт говорили о том, что им уготована быстрая погибель. В этом человеческом стаде побеждали только самые отъявленные скоты.
Когда эти несчастные уже кончили высадку, чуть хриплый, резкий, с неожиданными модуляциями голос крикнул:
— Лейтенант Лорэн!
А затем и я услышал свою фамилию.
Мой товарищ и я, покинув узкую палубу, откуда мы смотрели, как из утреннего тумана появлялся город, вошли в столовую судна.
Японская полиция начала проверку документов пассажиров из кают.
Подозрительность, страсть к расследованию были доведены чиновниками и функционерами островов Восходящего солнца до невероятной степени. Сами профессионалы в области шпионажа, японцы, можно сказать, видели шпиона в каждом иностранце.
Полицейский в форме, перед которым я предстал, принялся молча осматривать меня. Длилось это очень долго. Маленькие, раскосые, лишенные выражения глаза обследовали каждую складку на моей куртке, каждый сантиметр моего лица, каждый его прыщ, поднялись до моего лба, а затем повторили осмотр в том же порядке.
Я уже готов был выказать нетерпение, но вспомнил, что тот не понимал по-английски. Он ждал своего шефа, позвавшего нас. Пока же он изучал меня. Уверен, что он узнал бы меня и десять лет спустя…
Лорэн — в эскадрилье его называли Боб — подошел ко мне.
— Я кончил с этим, — сказал он, — однако потребовалось, чтобы я им назвал девичью фамилию моей бабушки. Теперь твоя очередь поразвлечься.
Тут на смену своему подчиненному пришел офицер. Также маленького роста, широк в плечах; у него было усохшее лицо и белые нитяные перчатки на руках. Он подверг меня нескончаемому допросу. Однако он ничего не мог сделать против надежных документов, заверенных французскими гражданскими властями и военными властями Владивостока. Я оставил армию в Сибири и возвращался в Марсель для демобилизации. В этот же вечер я должен был сесть на судно, направлявшееся в Шанхай.
Полицейский с выступающими скулами вздохнул и вернул мои документы — я мог сойти на берег.
Боб ждал меня на палубе возле нашего багажа. Багаж был прост и легок, как и бывает у людей, которые за несколько месяцев, никогда не зная накануне, придется ли отправляться на следующий день, пересекли Атлантику, весь американский континент, Тихий океан, вязли в сибирских снегах, а теперь собирались завершить кругосветное путешествие, пройдя вдоль берегов Азии до Суэцкого канала.
Для наших сумок и чемоданов хватило двух носильщиков.
Чтобы добраться до площади, где можно было нанять автомобиль или тележку, запряженную лошадьми или людьми, пришлось пройти через карантинные, таможенные, паспортные службы. Наконец мы покончили с этими отвратительными формальностями. Между тем пассажиры нижней палубы все еще ожидали этого.
Их отвели за деревянные перегородки. Часовые, примкнув штыки, следили за ними. Несколько желтокожих шпиков в гражданском шныряли тут же.
Уж не знаю, что кто-либо из них услышал от толстой, беззубой китаянки, только когда мы проходили мимо, она, крича, стала вырываться. Удар прикладом, разбивший ей губу и нос, заставил ее замолчать. Ее муж или брат не шевельнулся. Стадо боязливо сбилось теснее.
— Видел? — машинально спросил Боб.
Я пожал плечами, ничего не сказав.
Мое безразличие, так же как и безразличие Боба, не было наигранным, напускным. Ему было только двадцать пять лет, мне двадцать один, а сцена такого рода уже не могла нас взволновать. Не напрасно мы провели несколько недель в Сибири зимой 1919 года.
Там тиф заполнял трупами улицы и поезда, и умирающие пылали в предсмертной лихорадке на ступеньках вокзалов. Там казаки атамана Семенова сажали на кол целые деревни. Там дети замерзали прямо на глазах у прохожих. Там смерть и пытка, голод и ужас стали для нас привычными.
Наши сердца — вернее, то, что под этим подразумевается, — не знали больше ни сострадания, ни жалости.
И гнетущие сцены забылись, как только нанятый автомобиль повез нас в центр города, и Япония с гравюры внезапно уступила место реальной Японии, безобразно размалеванной в европейской манере, с военными, бюрократами, полицейскими ищейками.
Красивые прически с гладкими блестящими буклями ритмично покачивались под стук деревянной обуви.
Расшитые крупными цветами, насекомыми, с изображением солнца ткани обтягивали женские фигуры. Проносились бегуны, впряженные в оглобли легких тележек. Люди подходили друг к другу с улыбками и нескончаемыми поклонами. Вековая почтительность, природная грация превращали их жизнь в некое подобие изящного танца.
Но в действительности ничего из всего этого не трогало двух молодых чужестранцев, кативших по Кобе. Боб рассеянно вытирал кровь толстой китаянки, забрызгавшую низ его пальто. Я же думал о ванне, которую собирался принять, так как наше переполненное пассажирами судно, имея ограниченный запас воды, не предоставило нам таких удобств.
Ничто так не пресыщает, как разнообразие. Мы поистине насытились открытиями. Пейзажи, климат, лица, обычаи — сколько всего мы повидали!
11 ноября 1918 года колокола в Бресте возвестили великую радость перемирия. Наше транспортное судно покинуло рейд. И с тех пор вавилонские постройки Нью-Йорка, равнины Среднего Запада, пустыня у Соленого озера, ущелья и горы, чудеса Калифорнии, миражи Гавайских островов, прелести Японии, трагические улочки Владивостока, бронепоезда Колчака, качка в Тихом океане, сибирские снега — чего только не узнали мы за три месяца!
А алкоголь и игра, а драки и женщины!
И все это по окончании фронта, смертельной пляски воздушных боев.
Мы испытывали неистовую жадность: брать, коверкать, растрачивать и отбрасывать все, что заключало в себе мгновенную и острую радость. Что до прочего, то мы отдавались во власть судьбы.
Судьба пожелала, чтобы по окончании войны нам предоставилось самое прекрасное путешествие из всех возможных, чтобы наша эскадрилья, направленная на подкрепление войскам в Сибири, покинула Францию и с тех пор, абсолютно никому не нужная, совершала прогулки между бретонскими берегами и китайским побережьем. Мы считали это абсолютно естественным.
А также и то, что наша удача утопала в попойках, времяпровождении с женщинами, безрассудствах.
Мы были пьяны оттого, что остались живы, что были слишком молоды и отмечены знаками победы на нашей униформе.
Я говорю и от себя, и от Боба. Из всех наших товарищей мы были самыми буйными. Ему, по крайней мере, все прощалось за то, что дважды он возвращался на базу на коленях убитого пилота, управляя рычагами вместо погибшего. Это может взвинтить нервы даже самого уравновешенного человека.
Мой случай был проще: я не мог обуздать свой темперамент, опасный для меня самого и для окружающих. В двадцать один год жажда жизни в полном разгаре.
Самое низкое и самое благородное — я был способен в равной степени на то и на другое, почти одновременно и без разбора. Лишь бы поступок диктовался безудержным порывом сердца, крови и нервов или чувственности — это казалось мне необходимым. Главное, чтобы все произошло мгновенно. Оценка меня ничуть не занимала. Значение имела только интенсивность. Критерием своего поведения я признавал лишь культ мужества и товарищества. В остальных случаях я действовал по своему усмотрению.
Месяц сластолюбия и пьянства в Сан-Франциско, месяц среди белого террора в Сибири привели к тому, что я превратился в существо, не знающее ни закона, ни меры. И только этим можно объяснить характер непредвиденных событий, которые должны были разыграться в течение нескольких часов.
Утро ушло на туалет и покупки.
У нас с Бобом были общие деньги. Поскольку он был старше и по возрасту и по званию, деньгами ведал он. Боб ограничивался лишь тем, что предупреждал меня, что у нас больше ни франка, ни доллара, ни рубля, в зависимости от страны, в которой мы находились. Тогда мы занимали каждый, где мог, объединяли добытые деньги и ждали конца месяца, чтобы расплатиться с долгами.
Часто наше жалованье было заложено заранее и сверх всех наших возможностей. Но своевременный отъезд или любезность кого-либо из товарищей спасали нас.
Пересекая Японию в направлении «туда», мы были вынуждены проходить мимо лавок с великолепными тканями и прекрасными масками, не заходя в них: пересечение Тихого океана было долгим и дорогостоящим. Мы совершили это на американском военном транспортном судне, доставлявшем десант на Филиппинские острова. Играть на нем было запрещено, но капитан только и мечтал о покере — партии разыгрывались в его каюте, партии неистовые, приковывавшие нас к столу нередко на двое суток кряду.
Кроме офицеров нашей эскадрильи участвовали в них и два майора из десантников. Эти двое прошли школу притонов Америки, Кубы, Панамы, Манилы. Они нам это здорово продемонстрировали. Когда транспортник высадил нас в Йокогаме, мы проиграли все, вплоть до часов. И чтобы добраться хотя бы до Йошивары, города, где женщинам грозила тюрьма за приставание к прохожим, нам пришлось устроить коллективный поход к казначею эскадрильи.
Когда мы с Бобом прибыли в Кобе, наше финансовое положение было не слишком плачевным, но и не блестящим. Мы получили деньги на проезд до Шанхая накануне отъезда из Владивостока. Последнюю ночь мы провели в «Аквариуме», где офицеры двадцати национальностей смертельно напивались, палили из револьвера в стену и растрачивали свое жалованье ради красивых глаз полудюжины довольно привлекательных проституток.
— Вот наши фонды! — объявил Боб, выложив на край ванны, где я сибаритствовал, пачку японских банкнот, каждая из которых не превышала десяти йен. — Он рассмеялся и добавил: — К счастью, папаша Волэ нас знает!
Боб имел в виду предусмотрительность казначея эскадрильи, который перевел наши деньги из Кобе в филиал крупного английского банка в Шанхае. С легким сердцем мы разделили скудные средства, которые у нас оставались, и отправились по магазинам, каждый по своему усмотрению, чтобы не зависеть от вкуса и мнения друг друга. Так мы признавали право на индивидуальность.
Боб принес черное кимоно и саблю самурая. Я купил саблю самурая и черное кимоно.
Сравнив наши одинаковые покупки со скрытым раздражением, соврав про цены, так как это было единственное, в чем мы расходились, мы отправились обедать.
Зал ресторана в «Гранд-отеле» был огромен и пышен. Широкие окна позволяли наблюдать за тем, что происходило на улице. Однако мы рассматривали только женщин, находящихся в зале.
Почти не веря себе, вспоминаю я голод нашей плоти тогда. В этом смешались природная неистовость животного, неудержимая жажда жить и отрицание какой-либо избирательности и утонченности.
Страсть, с которой мы предавались пьянству, игре, ссорам, правила и нашими любовными делами. И если весь наш образ жизни вообще вызывал у нас очень незначительные угрызения совести, то здесь они полностью отсутствовали.
Женщина была для нас необходимой добычей. Она должна была оказаться в постели, и тем все было оправдано. Не знаю, не подчинялись ли мы в своих порывах скрытому желанию реванша, не требовали ли этого способа мести все наши неутоленные ночи на фронте и в силу того, что месяц за месяцем мы испытывали жажду обладать желанным телом с нежными формами, не стали ли мы их ненавидеть.
По отношению к женщинам все в нас было циничным: слова, взгляды, жесты, внутренняя необузданность. Если случайно во мне возникало нежное чувство к одной из них, мне становилось ужасно стыдно. Мне казалось, что это унижает меня, — я тут же гасил его каким-нибудь пошлым намерением.
Мы с Бобом так далеко зашли в подобном к ним отношении, что так же, как имели общие деньги, имели и общих любовниц. К чему ревновать или деликатничать? Какая женщина стоит этого? Единственное, чего требовало наше самолюбие, так это первенства.
Однако мы очень скоро поняли, так как с самого начала путешествия вели ночную жизнь, что в этой суетной игре тщеславия рискуем извратить прекрасную суть товарищества. Мы были слишком кипучи, слишком неистовы, чтобы соперничество, даже без серьезных на то оснований, не стало бы схваткой. Молодые собаки, играя, грызутся до глубоких ран, почуяв большую кровь.
Итак, мы установили нечто вроде договора, регулирующего нашу охоту. Только тот, кто, первым указав на женщину, крикнет: «Увидел!» — имел право преследовать ее.
Второй мог заняться ею лишь через день.
У нас обоих глаз был верным. Если мы до сих пор оставались в живых, то этим в значительной степени были обязаны быстроте взгляда. И мне в самом деле верится, что даже во враждебном нам небе, полном смертельных ловушек, и Боб и я напрягали свое зрение только для того, чтобы первым заметить девицу из кабаре или танцовщицу из притона.
Женщины, обедавшие в «Гранд-отеле», были совершенно иного типа. Большей частью дамочки европейских колоний, жены коммерсантов или банкиров, грузные, вялые, одетые небрежно или же с претензией. Болтали какие-то американки, некоторые из них отличались неплохими фигурами и приятными чертами лица, но мы так ими пресытились в Сан-Франциско, что они нас больше не интересовали.
И мы принялись рассуждать вслух о предстоящих наслаждениях в Шанхае.
Внезапно меня словно ослепило, и я крикнул:
— Увидел!
Но не я оказался самым быстрым. В то же время, что и я, Боб произнес:
— Увидел!
И наши пальцы, направленные в одну сторону, указывали на молодую женщину, только что вошедшую в обеденный зал.
Не знаю, что подумали о нашем возгласе и жесте уравновешенные провинциальные клиенты «Гранд-отеля». В эту пору нас не интересовало поведение обывателей. Война приучила нас не обращать внимания на гражданских. Короче, это появление заставило нас забыть обо всем.
С того дня я редко встречал женщину, которая вызвала бы столь внезапное, столь откровенное желание. В ней смешалась кровь европейца и китаянки. Высокая и гибкая фигура говорила, что ее дальневосточные глаза не были наследием японской крови. Лицо было настолько матовым и гладким, кожа такой ровной и нежной, что, казалось, была предназначена для того, чтобы ласкать и кусать ее одновременно. Полная грудь и вызывающие бедра своими очертаниями возбуждали неодолимо. Каждое движение этого создания, несомненного плода любви, источало скрытое сладострастие, глухое, неизъяснимое, почти невыносимое. Стройная и гибкая шея походила на упругий стебель. Рисунок губ заключал в себе самые прекрасные и самые желанные тайны. Эта девушка перешагнула, казалось, тот высший предел, за которым человеческое существо растворяется в невыразимой словом красоте животного.
Еще раз мы одновременно произнесли:
— Увидел!
В наших глазах уже сиял призыв.
Молодая женщина прошла мимо нас. На какое-то мгновение ее взгляд встретился с нашими. Он сверкнул агатовым блеском, свойственным зрачкам восточных глаз, оставаясь совершенно безразличным.
Молодая женщина прошла мимо нас походкой бесстыдного и невинного животного и устроилась в одиночестве поодаль. Плечи одного из официантов закрывали ее.
Только тогда мы почувствовали, что чары рассеялись.
Боб рассмеялся своим холодным безрадостным смехом и сказал:
— Не стоит сражаться, сегодня вечером мы уезжаем.
Мы закончили обед. Прежде чем покинуть ресторан, мы в последний раз обернулись к незнакомке. Грациозным и жадным движением она подносила к своим острым зубам кусок мяса с кровью.
II
Мы должны были покинуть Кобе вечером. В феврале сумерки наступают быстро. Мы распределили обязанности.
Поскольку Боб имел лишнюю нашивку, он взялся отправиться к японским властям отметить наши воинские документы. В это время я должен был сходить в банк оформить билеты, а затем — во французское консульство, чтобы получить необходимые визы.
Банк был очень большим. Меня отсылали от окна к окну. Наконец наши проездные документы были у меня в руках. Когда я направился к выходу, впереди меня шли несколько человек. Однако среди них, причем тут же, по неуловимому толчку внутри, я узнал метиску из «Гранд-отеля». Я видел только ее спину — на ней было тяжелое меховое пальто, — но эту гордую посадку головы, это неуловимое и мягкое движение бедер — их я не забыл.
Я ускорил шаг. Мы вместе вышли на крыльцо. В тот же миг нас накрыла орущая толпа курумайя.
Всему Дальнему Востоку известна эта разновидность людей, которые выполняют функцию тяглового скота. В Китае их называют рикшами, в Сайгоне — толкачами. Я встречался с такими бегунами и их тележками в Индии. Но в Кобе этот опыт был для меня еще новым.
Поджимаемый временем, я передвигался по городу на автомобиле. Два-три раза, правда, я останавливался в местах, где находились стоянки курумайя, с удивлением наблюдая за ними. Одни, сидя между колес своих примитивных приспособлений, дремали с полузакрытыми глазами, и под опущенными веками виднелось нечто вроде капель мутной воды. Другие, опираясь на оглобли и вожжи, уже готовые к бегу, обменивались гортанными звуками. Все они были похожи: маленькие, приземистые, одетые в короткие голубые или черные куртки и узкие, по щиколотку, штаны. Заканчивалось это обувью без задника с отделением для большого пальца. Таким образом, у этих людей была раздвоенная стопа дьявола.
Они становились полностью похожими на дьяволов, как только замечали возможного клиента. Тогда они кидались к нему, не отрываясь от своих тележек, окружали, крича, жестикулируя, горланя приглашения и благословения, восхваляя свою легкость дыхания и ноги.
Подобная же буря встретила у выхода из банка прекрасную метиску. Казалось, не слыша этого, она постояла какое-то мгновение с выражением полного отрешения на нежном и чувственном лице.
— У меня автомобиль на целый день, — сказал я ей по-английски. — Готов отвезти вас куда пожелаете.
Она ничего не ответила, даже не удостоила меня взглядом, но неуловимое движение придало суровое выражение ее загадочным губам. Я повторил свое предложение. Метиска спустилась по ступенькам, рассекла горланящую толпу с раздвоенной стопой и направилась к старому, уже очень уставшему куруме, который с трудом дышал.
Так эта женщина совершила свой первый необъяснимый поступок.
Почему она выбрала явно изношенное вьючное животное? Из жалости? Милостыня в несколько сен принесла бы больше пользы.
Я подошел к метиске и сказал:
— Поедем же со мной! Ваша лошадь недалеко отвезет вас!
На этот раз я также не получил ответа, но в блестящих глазах, на миг остановившихся на мне, я увидел, как мне показалось, странную жестокость.
Молодая женщина не спеша устроилась в тележке, запахнула на груди тяжелое пальто и приказала:
— Английское консульство!
Едва старый курума двинулся в путь, как я прыгнул в соседнюю тележку и крикнул человеку, стоявшему в оглоблях:
— Следуй за этой женщиной!
Конечно, я знал, что все консульства расположены в одном квартале, но если бы даже метиска выбрала вдруг конец города, уверен, что не упустил бы ее и скорее предпочел бы опоздать на судно, чем вынести, чтобы мои предложения были отвергнуты с таким спокойным пренебрежением.
Шофер нанятого мной автомобиля подскочил ко мне.
— Жди меня у французского консульства! — крикнул я ему грубо.
Как это он не мог понять, что я хотел ехать колесо в колесо с этой девушкой, околдовавшей меня?
Мой бегун, как большинство ему подобных, был весьма резв. Он быстро догнал старого куруму и, несмотря на оживленное движение на улице, звенящей криками и стуком башмаков, держался в нескольких сантиметрах от тележки, в которой сидела метиска.
Я рассматривал ее с преувеличенной дерзостью. Она не хотела этого замечать. Однако время от времени она поторапливала человека, который тащил ее тележку. Тот переходил на рысь. Коротким броском мой курума обгонял его. Тогда я видел старое, поблекшее, морщинистое лицо, на котором уже блестели капельки пота, а мешки под глазами указывали на сердечника.
Узкие улочки, окаймленные лавочками, стали шире. Старый японский город уступил место европейскому кварталу. Я удивился аллюру, который вдруг взяли наши повозки на этом почти свободном и ровном участке. По правде говоря, фиакр не двигался бы быстрее. Казалось, что тележки, в которые впряглись наши бегуны, подталкивали их. Руки с невероятно подвижными запястьями едва придерживали оглобли. Неустойчивое, но мягкое и надежное равновесие связывало курумайя с их тележками. На толстых крепких икрах, отливающих голубыми извилинами, проступала четкими глубокими бороздами игра мышц.
С километр старик легко удерживал этот бег. Привычка и умение экономить дыхание, приобретенные в течение полувекового труда, заменяли силы, которые отняли у него возраст и болезнь.
Но когда миновали железнодорожный мост, отделявший новый город от старого, этого мастерства оказалось недостаточно.
Подъем, который вел теперь к консульскому кварталу, был так крут, что инстинктивно я сошел с тележки.
Впервые метиска взглянула на меня. Но с каким презрением! Затем она еще свободнее откинулась на соломенную спинку, как будто хотела стать тяжелее, и грубо сказала своему куруме, который, остановившись, опасливо смотрел на подъем:
— Иди!
В эту минуту я приготовился к драме. Произойдет ли это по моей вине, или по вине этой девицы, которую я вдруг возненавидел, или по вине изнуренного бегуна? Мне не хотелось заниматься предвидением, но я чувствовал приближение драмы, неизбежно, фатально.
Слишком много было надменности, вызова, ненависти в глубине этих прекрасных глаз, ставших более блестящими, в этой податливой груди, вздымавшейся от участившегося дыхания, в этих вздернутых губах. И, думаю, я правильно угадал, что метиска питала одинаковое отвращение и к молодому офицеру в блестящих сапогах и к бедному вьючному животному, которого она намеревалась прикончить. Курума был желтой расы, я — белой. Смешанная кровь метиски, хотя и дала прекрасный плод, но возбуждала ненависть к нам обоим.
Старый японец глубоко вздохнул, сдвинул плечи, напряг бедра и начал подъем. Я последовал за ним, мой курума шел рядом. Каждый шаг требовал от старика все большего и большего напряжения. Оглобли оттягивали ему судорожно сжатые руки. Все его тело было откинуто назад. Я с нездоровым любопытством наблюдал за этой отчаянной борьбой. Она продолжалась до середины подъема.
Там курума остановился, с трудом переводя дух. Я тоже остановился. Возможно, не будь меня, молодая женщина согласилась бы сойти, но под моим упорным взглядом она не хотела отступать. И приказала:
— Иди!
Старик повернул к ней голову. Неизъяснимая тоска проступала на его взмокшем лице, тоска тех, кто чувствует, как роковой зверь вцепился в изнемогающее сердце.
— Иди! — крикнула молодая женщина резким голосом.
Курума собрался, как бегун перед рывком, затем попытался одним броском подняться на вершину склона. Первые потуги были обнадеживающими. Внезапно он покачнулся.
Метиска вскрикнула. Тележка завалилась. Ее вес побеждал немощные руки — оглобли выскальзывали из рук старого курумы. Молодая женщина с ужасом оглянулась: голый, залитый светом откос оказался крутым. Если бегун упадет, повозка ринется вниз, неуправляемая, непридерживаемая. Метиска будет раздавлена в этой сумасшедшей скачке.
Как должна была она любить свое великолепное тело в эту минуту! Какой ненавистью должна была пылать к старому ослабевшему японцу!
Между тем колени курумы подгибались. Свистящий хрип рвал ему горло. Пальцы разжимались… разжимались… Тележка наклонялась все больше и больше, и я уже чувствовал, как она оживлялась той страшной силой, которую приобретают вещи, когда они выходят из-под власти человека. Высшее равновесие, от которого зависела жизнь метиски, вот-вот нарушится.
Тут она взглянула на меня, в ее взгляде смешались исступленная мольба и смертельный ужас. Она так испугалась, что не способна была ни пошевелиться, ни издать звука. Но глаза взывали о помощи.
Однако я ничего не сделал.
Чувство мести, блаженной переполненности, неутоленную страсть к убийству — вот что я испытывал. Женщине захотелось повелевать, противостоять, управлять положением вещей по своей прихоти. Пусть заплатит за свои притязания! И когда мой бегун сделал движение в ее сторону, я остановил его, подняв кулак.
Старый курума внезапно выпустил оглобли — у меня в ушах еще стоит истерический крик женщины.
Но в тот же миг старый человек отчаянным движением, в смертельном броске сунул свои руки в спицы колеса. Затем его большая голова впечаталась в пыль.
Заблокированная тележка опрокинулась набок.
Я ушел не досмотрев сцену до конца.
Придя в «Гранд-отель» с визированными документами, я рассказал Бобу о происшествии.
— Эта девица заслуживает хлыста, — произнес он задумчиво. Он потянулся, жестоко сжав губы, и добавил: — Я бы охотно сделал это.
Я увидел, что он думает о бедрах, о ягодицах метиски. И мне захотелось разбить ему физиономию.
III
Боб бросил сигарету в черную неподвижную воду, положил руку на бортовое ограждение и тут же резко отдернул ее. С отвращением он произнес:
— Какая гадость! — Затем ударил ногой по релингу: — Эта дерьмовая калоша никогда не отплывет!
Я вторил ему грязным ругательством. Мы замолчали, полные внутренних проклятий. Уже три часа мы напрасно ждали сигнала сирены — полнейшее бездействие. Чтобы обойти судно, которое должно было доставить нас в Шанхай, времени потребовалось немного. В нашем распоряжении находилось небольшое грузовое судно, где нам предстояло прожить три дня и три ночи: на нем имелись четыре каюты, сооруженные над верхней палубой, по две с каждой стороны единственного общего помещения, служившего одновременно столовой, салоном и баром. Запах прокисшего пива сделал воздух в нем с трудом выносимым.
Наш багаж стоял перед закрытым отсеком, ставшим нашим жилищем. Юнга исчез вместе с ключом. Мы не жалели об этом. Одного взгляда было достаточно, чтобы определить, что отсек годился лишь для спанья. Две койки, одна над другой, и доисторический умывальник занимали почти все пространство. Невозможно было даже одеться двоим одновременно в этой конуре, меньшей, чем купе спального вагона.
К тому же судно было омерзительно грязным. Казалось, палубу никогда не мыли. Все, к чему ни прикоснешься, оказывалось липким.
В бессильной ярости я вспомнил довольную улыбку Волэ, нашего казначея из Владивостока. Этот болван заявил нам:
— Парни, я добыл для вас два славных места. Судно грузовое, да, но судно голландское. А у голландцев, знаете, можно есть на полу. Вам будет лучше, чем на пароходе… Голландское судно, парни!
В качестве голландцев перед нами предстали китаец в очках — он молча взял наши билеты — и юнга-малаец, исчезнувший в полумраке с ключом от нашей каюты. Правда, на корме судна этой безветренной ночью висел, словно тряпка, корабельный флаг Нидерландов.
Мы провели три часа, ходя по кругу, как лошади на манеже, по узенькой и липкой палубе, не встретив ни одного человеческого лица, за исключением — мы не могли больше их выносить — людей из полиции и таможни. Но они совершенно нас не трогали. Один за другим они поднялись в апартаменты командира и больше оттуда не показывались.
Каждый раз, когда нетерпение приводило нас к месту, где жил невидимый капитан судна, мы натыкались на желтокожих людей в форме. Они делали нам знак удалиться, и мы были вынуждены снова считать мигающие огни порта Кобе.
Время шло. К судну, стоящему на рейде довольно далеко от пристани, подошла лодка: какой-то японец, совершенно усохший и старомодно одетый в кимоно, высадился с помощью двух слуг. Гребцы согнулись в бесконечном почтении и замерли в ожидании.
— Шишка! — пробурчал Боб. — Надеюсь, он арестует начальника этой помойки. Что-то здесь нечисто!
Прошло полчаса…
Покрытая плесенью лестница, спускавшаяся с полуюта, закачалась под многочисленными шагами. Старый японец показался первым, затем вышел полицейский офицер, затем жандармы и таможенники. Небольшого роста седеющий человек, почти без шеи, со сверлящими бесстрастными глазами, замыкал шествие. По его замызганной куртке с обрывками нашивок мы узнали капитана судна.
Боб произнес вслух по-английски:
— У этого мерзавца независимый вид!
Никто не обратил внимания на его слова. Шло состязание между высокими гостями и командиром в бесконечных проявлениях вежливости, в поклонах, обмене общепринятыми, освященными этикетом, расцвеченными формулами приветствиями. Затем состоялось соревнование в вежливости между офицером и старым японцем: каждый хотел предоставить другому честь покинуть судно первым. Старик, как мы и подозревали с начала этого танца, признал себя побежденным. Слуги приняли его на руки, словно священный предмет. Полицейские и таможенники сели на сторожевой катер. Заунывная жалоба наполнила ночь: сирена.
— Наконец! — сказал Боб командиру. — Знаете…
— Да, да, знаю, — прервал тот очень хладнокровно, но доброжелательно, — и от всего сердца извиняюсь, но этим японским формальностям никогда нет конца. Они поискали, поискали…
Я грубо вмешался:
— И ничего не нашли? Не так ли?
Командир немного отступил. Глаза его стали совершенно непроницаемыми. Но другой голос ответил мне:
— Совершенно ничего, представьте себе, лейтенант!
Я не слышал, как подошел этот человек, и был неприятно удивлен неслышным приближением его огромного тела — он был огромен во всех размерах: в высоту, ширину, толщину. Мне пришлось задрать голову, чтобы взглянуть в лицо колосса. И прежде всего я увидел губы. Они сразу же произвели на меня отвратительное гипнотизирующее действие. Глаза, почти не видные под толстым слоем жира, белокурые волосы, очень тусклые и уничтоженные залысинами, странная бледность щек — все это я отметил позже. Но в тот момент я был загипнотизирован только ртом, невероятно широким и мясистым, грубым и омерзительным его рисунком. Его чувственность, непристойность были сродни эксгибиционизму.
Улыбка, заключавшая в себе в высшей степени циничную уверенность и непостижимую угрозу, делала этот рот совсем гнусным; и тут человек снова заговорил:
— В самом деле, господа офицеры, мне жаль, что ваши первые впечатления на моем судне оказались тягостными. Именно так, вы на моем судне, и надо, чтобы вы это знали. Меня зовут Ван Бек, и я — владелец судна.
— Наконец хоть один голландец на борту! — хмыкнул Боб.
— Есть еще один, — невозмутимо произнес колосс. — Вот он.
Он указал на моряка с истрепанными нашивками. Тот слегка поклонился.
— Капитан Маурициус, — сказал он, — командующий «Яванской розой» к вашим услугам, господа офицеры.
Оба этих человека, в которых не было ничего комичного, скорее наоборот, казалось разыгрывали перед нами какой-то фарс, полный невидимых гримас: два мрачных клоуна на призрачной палубе…
Раздражение, накопившееся у нас внутри, вырвалось наружу. Мы вместе заорали:
— «Яванская роза»!
— Калоша!
— Клоака!
— Это разбой!
— Подлость!
Мы могли продолжать долго. Ван Бек и капитан Маурициус невозмутимо слушали нас. Их явное дружелюбие лишь разжигало нашу ярость: наши голоса становились все пронзительнее, ругательства все грубее. Словом, думаю, выглядели мы смешно, но в это время рев сирены прервал нас.
— Если вы недовольны, вы еще можете сойти, — медленно произнес Ван Бек. — Так ведь, Маурициус?
— Разумеется, — подтвердил капитан. — У них по меньшей мере пять минут до третьего свистка.
Я положил руку на плечо Боба. Мы были согласны.
— Хорошо! — сказал Боб. — Возместите плату за проезд, и мы высаживаемся.
Короткий мрачный смех всколыхнул огромную грудь Ван Бека.
— Вы слышали, Маурициус? — спросил колосс. — Они хотят деньги.
Вместо ответа капитан сплюнул за релинг.
Боб имел передо мной явное преимущество: чувство бесполезности. Отважный до безрассудства, он умел там, где всякое усилие было абсурдно, взять себя в руки и ждать, если случай предоставлял лишь один шанс из ста. Я не обладал подобным хладнокровием. Когда меня жег гнев, я становился слепым животным.
Наглость негодяев «Яванской розы» привела меня в дрожь, которую я с наслаждением ощущал, как это всегда со мной случалось, когда здравый смысл уступал инстинкту.
Волна, захлестнувшая меня, была мне хорошо знакома: я испытывал потребность нанести удар, и решительно.
Так как я понимал, что мои мускулы ничего не стоили для этих двоих, один из которых был глыбой мяса, я вспомнил о своем револьвере. Или, вернее, о нем вспомнила моя рука. Она нашла его в правом кармане кителя, прежде чем я подумал об этом. Рефлекс был таким быстрым, что Боб, я знал, не сумеет ни остановить мою руку, ни даже отвести в сторону рукоятку револьвера. Я уже наслаждался дикой радостью…
Насколько же я был изумлен, когда почувствовал, что кто-то обхватил меня сзади за пояс и держал так крепко, что моя рука оказалась прижатой к бедру!
Я рывком развернулся — объятия разжались. Я оказался перед юнгой-малайцем. Он ничего не говорил, только на его худом, возбужденном лице сверкали глаза, полные мольбы.
Последний вой сирены прозвучал в сырой ночи. Я почувствовал себя опустошенным и разбитым.
— Похоже, вы все-таки сможете совершить неплохое путешествие, если откажетесь от некоторых своих затеек, — произнес бесцветный, неприятный моему уху голос.
Сказав это, Ван Бек ушел вместе с капитаном. Они поднялись на мостик.
— Зачем ты помешал мне? — спросил я у юнги вяло, без определенного интереса.
Он робко ответил на pidgin[1]:
— Тебе досталось бы от них больше, чем им от тебя.
— А тебе что до этого?
— Ты был ко мне добр.
Мальчик оглянулся по сторонам и, никого не увидев, вынул из своих лохмотьев несколько американских, русских и японских монет. Я вспомнил, что вычистил свои карманы, дав ему эти смехотворные чаевые: это было все мое состояние.
Судно завибрировало. Огни порта сдвинулись с места.
Мы отплыли.
В который раз…
В очередной раз очертания земли, едва нам знакомой, растворились на горизонте. В который раз нашим прибежищем было судно, окруженное морем. Но каким морем! Липким, темным и до такой степени туманным, что не был виден след за кормой. Что касается судна, уже известно, чего оно стоило.
Когда стало невозможно различить неясные очертания берега, растаявшего в ночи, мною овладела настоящая тоска. Что делать в эти три нескончаемых дня?
Духовной жизни в это время у меня никакой не было. Читать, так сказать, я отвык, просматривая лишь газеты. Я существовал только благодаря встряскам, которыми какой-нибудь случай возбуждал мои чувства. Драки, карты, попойки, наслаждения — смена лиц и тел — и сам я, растворившийся в этой безудержной игре — такой представлял я себе судьбу настоящего мужчины. Вот в чем был смысл его существования. Ничто не приводило меня в такой ужас, как тоска.
Между тем я сидел на вонючей посудине без всякой надежды на проблеск, развлечение. В довершение ко всем бедам я оттолкнул этих двух людей, которые командовали судном и могли бы сократить часы рассказами о своих приключениях, отринул их без малейшего шанса на обратный ход. И чем я этого добился? Неудавшейся угрозой, бравадой, охлажденной ребенком!
Мостик «Яванской розы» был очень плохо освещен. Мне повезло: Боб не мог увидеть, как кровь бросилась мне в лицо и оно запылало. И сию же минуту я ощутил потребность разорвать окутавшую нас тишину, она становилась все отвратительней из-за однообразного скрежета судна и мерного шума от форштевня, рассекавшего текучую бездну.
— Странное судно! Странные люди! — произнес я самым непринужденным тоном, какой только сумел изобразить.
Боб не отвечал, и я продолжал:
— И странный юнга! Несомненно, он рос среди драк. Ты же видел, он догадался, что я хотел сделать?
— Я видел только, что ты вел себя как болван! — ответил Боб.
Я это знал. Но мне не понравилось, что он так сказал.
— Послушай, Боб, — начал я, — если ты считаешь себя настолько умнее…
Он сухо оборвал меня:
— Я ничего не считаю. Я не хочу прибыть в Шанхай в кандалах и вшах. Вот и все. Как только мы там окажемся и нам потребуется задать кое-кому трепку, мы это сделаем. И, поверь, я не буду последним при этом.
Он зажег сигарету. Я отчетливо увидел рисунок его губ, крепко сжатых, жестоких. Нет, Боб ничем не поможет мне в этой вселившейся в меня смертельной тоске. Эта внезапная уверенность была вызвана не нашей ссорой. Ссоры возникали у нас тысячи раз со дня отъезда из Франции. Я вдруг постиг истину озарением, внезапно освещающим подлинную суть давних отношений. Помимо некоторых элементарных инстинктов, присущих нам в равной степени, и духа соперничества молодых животных, ничего общего между Бобом и мной не было. Ничто не питало в нас взыскательность, свойственную дружбе: мы были товарищи в самом прямом и узком смысле этого слова.
В случае необходимости мы готовы были отдать последнюю рубашку и жизнь ради другого; мы любили вместе пить и посещать подозрительные заведения, кидаться на девочек и проводить ночи за картами, потому что никто из наших спутников не имел такой тяги, как мы, к подобным играм. Но, кроме этого, нам нечего было сказать друг другу, и истинная нежность, которая одна только наполняет смыслом молчание, между нами отсутствовала.
Потому-то, после нескольких затяжек, Боб машинально предложил:
— Пойдем выпьем!
Я сделал вид, будто возражаю, и пробурчал:
— У меня ни одного су.
— И у меня тоже, — сказал Боб. — Тем более надо выпить!
Изречение возымело действие. Я последовал за Бобом в обеденный зал.
Там открыли иллюминаторы. Бриз рассеял запах прокисшего пива. Стол для ужина был уже накрыт. Я насчитал пять приборов.
Перед простеньким баром, устроенным по правому борту, стоял пассажир, которого мы еще не видели. Это был белый, но он потрясающе легко и бегло разговаривал по-малайски с юнгой, обслуживающим его. Он заметил нас, лишь когда мы встали позади него. Тогда он внезапно обернулся и воскликнул, словно был захвачен на месте преступления:
— Извините! Извините меня, джентльмены! Я не мог знать, что на такой лодчонке, как у Ван Бека, будут плыть такие изысканные люди! Я не мог этого знать, так ведь? Так вот, я объяснял этому сопляку на его жаргоне, какой я хочу коктейль. Все-таки надо, чтоб он меня понял, не так ли? Эти дикари никогда не выучат английского языка! Не окажете ли мне честь выпить со мной? Однако мне неловко, не знаю, что это сегодня со мной, право, в самом деле, не знаю, — я еще не представился. Сэр Арчибальд Хьюм, да, сэр Арчибальд, сэр, вот именно, сэр Арчибальд Хьюм.
Несмотря на болезненную скорость, с которой эта речь была произнесена, мы поняли каждый слог. У нашего собеседника была прекрасная, отточенная и даже манерная артикуляция. Она показывала уровень образования лучше, нежели настойчивое подчеркивание титула.
Я рассматривал его в свое удовольствие, пока он длинной, костлявой, слегка дрожащей рукой делал юнге знак налить нам выпить. Сэр Арчибальд был довольно невысокого роста, но из-за своей необычайной худобы казался гораздо выше. Красивая седая шевелюра украшала костистое, со впалыми щеками лицо. Его зернистая кожа имела цвет высохшей на солнце рыбьей кости. Он был гладко выбрит, но на его неряшливой одежде не хватало пуговиц как раз там, где их отсутствие бросалось в глаза.
Властным жестом он поднял стакан, и, если б его рука не дрожала, жест был бы вполне официальным.
— Джентльмены, — произнес странный субъект, — позвольте же предложить тост за Французскую Республику, за победу Англии и за нашу общую победу.
Он выпил залпом, торжественно выпрямившись. Рука его стала тверже.
«Яванская роза» тихо поскрипывала.
— Джентльмены, — заговорил сэр Арчибальд, — вы не можете себе представить, какое удовольствие доставляет мне ваше присутствие. Общество изысканных людей для меня важнее, чем пища. — Речь его стала быстрее, он почти захлебывался. — Когда ты рожден в благовоспитанной среде, невозможно, не страдая, выносить грубиянов. Обстоятельства, да, именно… именно это слово, обстоятельства вынудили меня сесть на это ужасное судно. Я счастлив, что не меня одного и что я не наедине с Ван Беком и Маурициусом… — Он пожал плечами. — Маурициус! Он называет себя европейцем. Человек, родившийся на Суматре и бывший на Западе не дальше Сингапура! Его жизнь прошла между Японией и голландской Индией. Можете себе представить, джентльмены! А Ван Бек! Когда я познакомился с ним, он держал кафешантан. Да, именно, и не самый изысканный! Белые среди желтых на этом судне. Допустимо ли это, спрашиваю я вас? Первый раз, когда он меня увидел, он сказал: «Сэр Арчибальд, я так польщен, так польщен…»
— Я и теперь польщен, мой дорогой Арчи, представьте себе! — послышался голос Ван Бека.
Он уже был рядом с нами, но ни один звук не возвестил о его приближении.
Если бы судно наткнулось на подводный риф, Хьюм, вероятно, растерялся бы меньше. Плечи его сразу обвисли. Он выглядел ужасно маленьким рядом с этим колоссом. Губы его задрожали. Наконец он смог произнести несколько звуков, потом пробормотал:
— Я… я хотел… нет, то есть… я… поверьте, я ничего не говорил дурного, правда, не так ли, джентльмены?
Этот человек нас не знал. Мы не сказали ему и трех фраз (он не дал нам на это времени), и теперь униженно, в страхе, он умолял нас подтвердить его ложь.
Я бросил на Боба удивленный, полный отвращения взгляд.
— Бесполезно, — холодно сказал Боб. — Самое неоспоримое качество Ван Бека — это прекрасный слух.
— Да нет же, нет! — вскричал сэр Арчибальд. — Не думайте, джентльмены, уверяю вас… вы намекаете… нет, я не это хочу сказать. Я хочу сказать, что Ван Бек — необыкновенный человек, — он почти плакал, — нет, не это… нет, нет, так, я правильно сказал: необыкновенный…
Колосс улыбался. Рот его был похож на медузу. Он молчал, тяжелый взгляд едва видимых глаз безжалостно уперся в маленького седовласого человечка, продолжавшего лепетать бессвязные слова. Было очевидно, что Ван Бек бесконечно наслаждался этим смертельным ужасом. Чем дольше длилось его молчание, тем больше Хьюм терял контроль над собой. Я видел, что он на грани припадка, как это случается с истеричными людьми. И, несомненно, Ван Бек довел бы его до этого, если бы капитан Маурициус, появившийся в этот момент, не крикнул:
— К столу!
С ужином расправились быстро. Ван Бек и Маурициус время от времени тихо переговаривались по-голландски. Боб насвистывал военный марш. Я молча ел. Хьюм пил. Он ни к чему не прикоснулся из того, что подавал ему юнга (хотя кухня на этом судне, где всякое удовольствие, казалось, запрещалось, была удивительной), но проглотил с дюжину порций виски. Ван Бек наблюдал за ним с гнетущим удовлетворением.
— Кредит всегда открыт, Арчи! — бросил он ему, поднимаясь вслед за Маурициусом, который ушел, не попрощавшись.
Как только дверь за колоссом закрылась, Хьюм стал тем человеком, с которым мы познакомились.
— Бог мой, Бог мой! — вздохнул он. — Как трудно иметь дело с оригиналами! Но, джентльмены, не следует унывать. Теперь вечер наш, здесь теперь только мы, светские люди, не так ли? Воспользуемся же этим, воспользуемся! Что вы скажете о партии в покер, джентльмены? Бой, карты! Живо!
Жадность проступила на его изможденном, бескровном лице — я не видел этого даже тогда, когда он протягивал руку к стакану спиртного. Меня охватило такое отвращение, что я швырнул на пол липкую колоду, вынырнувшую из лохмотьев юнги.
Сэр Арчибальд воззрился на меня, затем его рот искривился, как у капризного ребенка, готового зареветь.
— Вы видите, каковы изысканные люди? — произнес Боб, отчеканивая каждый слог.
— Но все же, все же… вы выпьете со мной по стаканчику? — прошептал Хьюм.
Это было уж слишком, даже для Боба. Он взял меня за руку, и мы вышли.
Сэр Арчибальд бормотал уже что-то по-малайски.
Когда сегодня я вспоминаю эту первую ночь на «Яванской розе», меня охватывает глубокое сожаление.
Это судно, полное мрачных загадок, пыхтение которого во мраке Китайского моря я слушал, лежа на настоящей морской койке, как я должен был любить его, я должен был бы пропитаться насквозь его запахом, его тайной, его пороками!
Почему я не сошелся теснее с сэром Арчибальдом, с колоссом Ван Беком? Я смог бы выудить у них столько историй!
Но тогда я не знал, что самое необычное приключение часто выглядит гнусным, а главное, будучи совсем молодым, я хотел прожить каждую минуту своей жизнью и потому не испытывал интереса к жизни других.
IV
Боб спал мало и плохо.
Это началось с того дня, когда товарищи его эскадрильи увидели, как он вернулся на базу на самолете, который он, пилот-наблюдатель, вел вместо убитого летчика, сидя на его трупе.
Итак, открыв глаза, я не был удивлен, что находился в каюте один. Что до меня, то я спал мертвым сном, и пробуждение открывало мне жизнь, как совершенно новую стартовую дорожку, а мир — как радостную добычу.
День давно наступил. Солнце светило прямо в толстое стекло иллюминатора.
Мне достаточно было лишь спустить ноги с верхней койки, которую я занимал, чтобы коснуться пола.
Я быстро умылся, бриться не стал и выбежал наружу. Великолепное сияние царило над морем и Палубой, да такое яркое, что стушевало грязь судна. Небо, ветер, волна — все дышало переполненностью и чистотой. Поистине это было прекрасным подарком, сделанным мне в утро моего двадцатилетия.
Большие пузатые легкие джонки проносились мимо на своих странных парусах, подобные крылатым чудищам. На мачтах, на тросах суетились матросы со всего побережья и островов Дальнего Востока. Казалось, они оставляли позади себя запах пряностей, риса и опиума. Они снялись с якоря в неведомых портах. Они направлялись к неведомым портам. И вода стекала с выступавших на носу и на фланке скульптур.
«Почему мы не Пиратское судно? — спрашивал я себя с огорчением. — Мы бы взяли на абордаж эти замечательные парусники, отвели бы их в пустынную бухту — там началась бы оргия. Несомненно, на борту у них есть прекрасные китаянки».
Книжные воспоминания о флибустьерах смешались со свежими впечатлениями, полученными на Востоке, и я принялся сочинять преследования, грабеж, насилие…
Легкое облако на мгновение закрыло солнце. Это мимолетное нарушение сияющей гармонии, окружавшей «Яванскую розу», прервало мои дикие, ребяческие фантазии. Я вновь очутился на палубе дрянного судна в компании трех отвратительных лиц и без единой женщины.
Как и накануне, я сильно покраснел.
«Я навсегда останусь ребенком, — подумал я, — дуралеем! Боб прав».
Боб… Это имя изменило ход моих мыслей. Солнце приближалось к зениту. Скоро все отправятся на обед, а Боб так и не появился на палубе. Где он был? Что он мог делать?
Прежде всего я отправился в обеденный зал. Он был пуст.
Проходя по противоположному от нашей каюты коридору, в приоткрытую дверь я увидел сэра Арчибальда, распростертого в точно такой же камере, что и наша. Юнга протягивал ему стакан виски. Я дождался мальчика и спросил:
— Ты не видел второго лейтенанта?
Маленький малаец очень быстро ответил:
— Он несколько раз проходил здесь.
Мой интерес был возбужден не ответом, а смущенным тоном, которым он был произнесен.
— Здесь! — машинально повторил я, внимательнее осматриваясь вокруг.
Это был узкий проход, куда с одной стороны выходил бар, а с другой — две каюты. Одну занимал сэр Арчибальд, вторая была закрыта. Все точно так же, как по другому борту, где располагались мы. Я, конечно, ошибся, интерпретируя речь юнги. Для очистки совести я спросил еще раз:
— Кто живет рядом с нами?
— Никто.
— А там?
— Никто.
— Тогда почему меня поселили вместе со вторым лейтенантом?
— Господин Ван Бек спит у капитана, но у него много дел.
— А в трюме?
— Господин Ван Бек — хозяин.
Я отправился на поиски Боба, но его не было ни на палубе, ни на полуюте. Я спустился на пост экипажа, откуда неописуемая вонь немедленно меня прогнала. Приведенный в отчаяние этим нелепым исчезновением, я сходил даже в машинное отделение. Там я увидел только двух механиков-китайцев и капитана Маурициуса в блузе кочегара. Он осторожно чистил патрубок. Все металлические части уже блестели.
Огромным было мое удивление, когда я увидел на этом судне место, содержавшееся в чистоте, и я не смог удержаться, чтобы не сказать об этом капитану. Тут я во второй раз испытал удивление: Маурициус гордо и любезно улыбнулся и очень мягко произнес:
— Это, знаете ли, хорошее суденышко, и ходит оно быстрее, чем можно предположить. Мы нагнали половину вчерашнего опоздания. Вы будете в Шанхае послезавтра в назначенный час. Это хорошее суденышко, уверяю вас.
— Ах, в самом деле? — спросил я с таким глупым видом, что сам смутился.
Маурициус снова принял непроницаемое выражение лица.
Я поднялся на палубу. Там меня ждал Боб.
— Мы играли в игру «постараться не встретиться все утро», — сказал я, смеясь. — Откуда ты взялся?
— Из каюты.
— Естественно, единственное место, где…
Я замолчал, охваченный вдруг ощущением, которое не сразу смог определить. Боб выглядел как-то необычно, но что именно было в нем необычного?
Едва я задал себе этот вопрос, как ответ пришел сам собой. Боб выглядел обольстительно. Во всеоружии. Он надел самую лучшую свою форму. Он был начищен до блеска. Вот почему он так долго скрывался.
Этот тщательный туалет, должно быть, дался нелегко в нашем малюсеньком убежище. Машинально я провел рукой по своим колючим щекам и воскликнул:
— Но как ты красив! Это для сэра Арчибальда?
Боб никогда не задумывался ни над ответами, ни над поступками, и из всех его качеств меня больше всего привлекала точная быстрота его реакции. Однако на этот раз некоторое время он помедлил. В его жестоком и откровенном взгляде мелькнуло выражение недовольства и неловкости. Оно было едва уловимым, но для меня решающим: Боб что-то скрывал, вел нечестную игру.
Я еще больше уверился в этом, когда он небрежно произнес:
— Знаешь… Такая скучища, что надо же как-то убить время.
В какой-то момент я действительно чувствовал себя несчастным. Договор, связывающий нас, не допускал секретов, тем более — лжи. До сего дня мы свято его соблюдали, даже доводя откровенность до цинизма, чтобы быть уверенными, что не пренебрегаем нашим уговором. В этом, как в деньгах, как в мужестве, я целиком полагался на Боба. И вот теперь он уже не был самим собой.
Если бы я узнал, что он тайком от меня экономит, я и то страдал бы меньше.
Вероятно, он понял, что со мной происходит, — я совсем не умел владеть лицом, — так как он отвел глаза к сияющему морю и, казалось, задумался.
Я с тоской ждал, но Боб нахмурил брови, и я увидел, как вокруг его тонких губ залегла непреклонная, хорошо знакомая мне складка.
— Пойдем пропустим по стаканчику, — только и сказал он.
Я отказался.
Он пожал плечами и сказал:
— Как хочешь! А я хочу пить.
Я уверен, что Боб не настолько уж нарушил наш товарищеский договор, как я считал тогда. Он решил, — я убежден в этом, — на некоторое время оттянуть сообщение о своем открытии, а потом сам увлекся этой игрой. Но в тот день со свойственной моему возрасту и натуре экзальтированности я почувствовал, что меня предали.
В течение всего обеда, который подали немного спустя, я не заговаривал с Бобом. Я видел, что ему как будто не по себе, что он каждый раз вздрагивал, когда бой открывал дверь, что два-три раза он уже готов был задать вопрос капитану и с усилием подавлял это желание. Все это только разжигало мое любопытство, но вместе с тем и чувство горечи. Но я скорее откусил бы себе язык, чем задал вопрос тому, кого не считал больше своим товарищем. Он потерял мое доверие: все кончено. Беспощадная неподкупность моего чрезвычайно юного возраста подкреплялась для этого внутреннего решения необычайной переменчивостью чувств. И, вставая из-за стола, я испытывал к Бобу полнейшее безразличие.
Он пошел было за мной. Возможно, если бы я повернулся к нему, Боб открыл бы мне свой секрет, который тяготил его. Но я сделал вид, что не заметил этой молчаливой попытки. Все же он спросил:
— Что будешь делать?
— Спать! — ответил я грубо.
Это было правдой. В то время милостью природы любая неудача, любое разочарование вызывали у меня сонливость вплоть до головокружения. Это было средством защиты, экзорцизмом.
Я вышел, ни с кем не попрощавшись, — грубость приобретается быстро, — даже с сэром Арчибальдом, соблюдавшим в присутствии Ван Бека трусливое молчание побитой собаки.
Мне надо было лишь пройти по коридору, чтобы попасть в нашу каюту.
Рывком я скинул китель, сапоги и лег. Какое-то мгновение я хотел было снова одеться, чтобы последить за Бобом, но счел недостойной для себя роль шпиона.
«Я покажу ему, этому мерзавцу, что есть еще честные люди, — говорил я себе, — а он мне неинтересен со всеми своими тайнами лжесвидетеля, и наказанием ему будет то, что он потерял своего товарища».
Я уже начал представлять себе самые драматические обстоятельства, в которых мое пренебрежительное великодушие уничтожающе подействует на Боба, но тут меня настиг сон.
«Что делает здесь этот желтокожий чертяка? Зачем он с силой тянет меня за руку? Почему он выглядит таким взволнованным? Почему кричит?»
Такие мысли я осознал, когда сел на койке. Я еще не пришел в себя и не мог отделить мир сна от реальности.
Внезапно все встало на свои места. Передо мной стоял юнга «Яванской розы» и говорил:
— Идем… быстро идем… Если ты промедлишь, произойдет несчастье…
Когда дети упрашивают и испуганы, в их глазах всегда некий магнетизм, перед которым трудно устоять, особенно у туземцев, наделенных непревзойденной властной выразительностью.
Я ни минуты не колебался и, в чем был, подчинился маленькой, вцепившейся мне в запястье руке.
Я пробежал за юнгой через обеденный зал, и потом он выпустил мою руку.
Я стоял один перед обеими каютами правого борта. Каюта сэра Арчибальда была теперь закрыта. Вторая тоже, но за подрагивающей дверью слышались сдавленные крики.
Я попытался открыть ее. Тщетно. Однако по мягкой податливости деревянной панели я понял, что дверь удерживалась не замком, а человеком.
Я разогнался и ударил. Дверь поддалась. Я споткнулся о два рухнувших тела.
Одно из них — я сразу узнал по униформе — принадлежало Бобу.
Непроизвольно я бросился ему на помощь. У меня была только одна мысль: Боб обнаружил опасную тайну, и ему хотели отомстить.
Но внезапно моя рука, готовая уже нанести удар, обмякла. Противником Боба была женщина. Вглядевшись, на мгновение я потерял способность рассуждать: метиска из Кобе…
По какому неоспоримому признаку я сумел тогда безошибочно узнать ее? Не могу сказать. Инстинктивно, нутром. Напряженное, искаженное в судорожном сопротивлении лицо, совсем не было похожим ни на высокомерное явление в «Гранд-отеле» в Кобе, ни на застывшую статую, опирающуюся на старого куруму в агонии. Копна разметавшихся черных волос, закрывавшая лицо, смятое разорванное кимоно… обнаженные бедра… открытая наполовину вздымающаяся грудь — пойманное животное, изнемогшее, почти побежденное. Кстати, вот эти признаки и вселили в меня твердую уверенность и жгучий гнев.
Я почувствовал себя выше, шире и тяжелее, чем Боб. Ярость придала мне невероятную силу.
Я схватил Боба за шиворот, рывком сбросил его с тела, с которым он готов был слиться, сгреб его в охапку, вытащил в коридор и швырнул, как тюк. Он сильно ударился головой о переборку. Какое-то время лежал неподвижно. Но, придя в себя, с кошачьей гибкостью и ловкостью вскочил на ноги.
Дверь в каюту метиски сильно хлопнула и с лихорадочной быстротой закрылась на ключ.
С дикой ненавистью мы смотрели с Бобом друг на друга, с трудом переводя дыхание. Он чувствовал, что мог бы одолеть меня. На этот раз он сунул руку в карман, где был револьвер.
— Ну, стреляй! Стреляй же! Валяй! Ты видишь, у меня нет оружия.
Этот крик — он спас меня — вырвался не из-за инстинкта самосохранения. Напротив, я в самом деле хотел, да, именно хотел, чтобы Боб подтвердил, что он предатель.
Я хотел услышать выстрелы, почувствовать пули в своем теле. Умереть я не хотел. Тогда казалось, что ничто не могло меня убить. Но мне необходима была развязка, которая соответствовала бы моему яростному возбуждению своей беспредельностью, своей дикостью.
Есть минуты гнева, когда страх становится чем-то непонятным. Тогда остается одно желание — разрушать, опустошать, желание катастрофы, в которой готов погибнуть сам. Но ничего такого не произошло. Боб опустил руку. Мои неистовые крики превзошли по силе его собственное неистовство.
Захмелевший человек трезвеет при общении с более пьяным. Боб пришел в себя, опасаясь моего бешенства. Тогда глубокая усталость сменила ярость на его лице. Несомненно, она наступила вследствие неудовлетворенного сексуального возбуждения, но возможно также, и скорее всего, от внезапного осознания, в какую пропасть может скатиться юнец, подчиняющийся лишь вожделению.
Печальный сарказм скривил его губы, он потряс головой и резким тоном, но гораздо тише, чем обыкновенно, произнес:
— Ты неподражаем в качестве защитника добродетели.
Боб знал силу своей иронии. Она часто отрезвляла мои безумства. Не знаю, рассчитывал ли он в этот раз на что-нибудь в этом роде или попросту поступил обычно для себя, но на какое-то мгновение он мог решить, что вновь одержал надо мной верх. Я в самом деле застыл недвижим и молчалив, глядя на дверь метиски. Я вдруг вспомнил, что явился к ней без сапог, без кителя и галстука, с развязанными тесемками на концах брюк, растрепанный, небритый. Я содрогнулся при мысли, что молодая женщина может появиться каждую секунду, может увидеть меня, растерзанного, смешного…
А другой, тайком наведя лоск, будет злорадствовать!
Я взял Боба за плечи и шепнул ему:
— Посмотрим, кто будет смеяться последним. Пока идем к нам. Надо с этим покончить.
Боб, не сопротивляясь, пошел в нашу каюту. В тесном помещении мы стояли почти вплотную друг к другу, и в то время, как я хлестал его оскорблениями, как пощечинами, я ощущал на своем лице его горячее дыхание.
Чего только я не наговорил ему в неистовом приступе попранного доверия, уязвленного самолюбия и смутно осознаваемой ревности!
В бессвязном лопотании я напомнил Бобу наш уговор, который никогда не нарушал. Он предполагал полную взаимную откровенность, без всяких отступлений, недомолвок. И особенно в отношении женщин. Мы поклялись, дабы избежать всякой низости, атаковывать только при равных шансах. Разве не рассказал я ему во всех подробностях историю с курумой? Не признал ли он, что случай предоставлял первенство мне? А сам тайком пытался взять реванш, трусливо, позорно.
— Да, ты сдрейфил, сдрейфил передо мной! — кричал я. — Ты ушел в подполье. Ты напомадился для этой низости и смеешь думать, что у тебя есть самолюбие? И ты еще осмеливаешься давать мне уроки!
Боб ничего не отвечал на мою брань. Только его от природы бледное лицо с каждой минутой бледнело все больше. Я же, несмотря на его молчание, видя, что мои удары достигают цели, расходился все сильнее с садистским наслаждением.
Не поклянусь, что поведение Боба было единственной причиной моих яростных нападок. Когда я вновь думаю об этом, то понимаю, что в результате долго переносимого унижения они явились довольно низкой местью.
Я слишком долго восхищался самообладанием Боба, его уверенностью, его иронией и остроумием, чего не было у меня, чтобы во мне не зародилось чувство неполноценности. И к тому же он был на четыре года старше меня и часто обращался со мной с высоты своего опыта. Словом, это он сухо и жестко установил правила наших отношений. Не один раз за мои невинные проступки он мне их напоминал. Я мелочно воспользовался всем этим.
— Честь товарища! Ты ведь говорил это? Говорил? Любовь! Дружба! Пустяки! Я принимаю только закон товарищества. Вот мужской закон. Кто все это говорил, ну? Ах, как здорово!.. Ага! Вот и договорились! Заморочить мне голову высокими фразами, чтобы тайком стряпать свои делишки. И ты — товарищ? Предатель! Вор! Вот… вот ты…
Я не смог закончить. Совершенно неожиданно Боб отшвырнул меня от двери, на которую я навалился, и исчез.
Я выкрикнул ему вслед еще какие-то ругательства, хотя прекрасно понимал, что его бегство было средством избежать драки, в которой один из нас слишком дорого заплатил бы за слова, сказанные мною.
С трудом переводя дыхание, на нервном пределе, я рухнул на нижнюю койку. Но, неожиданно вспомнив, что это койка Боба, вскочил, словно обожженный раскаленным железом. Теснота помещения душила меня. Я натянул сапоги, набросил китель и кинулся на палубу.
Моя ярость растворилась в сумерках восточного моря.
Испарения, казалось, отливали всеми металлами, всеми сказочными камнями, соединяя небо с водой, но свет был необыкновенно ясным. На пороге ночи он разливался над таким спокойным, гладким морем, что все, что проступало в нем, — странные летающие рыбы, огромные чайки, джонки с развевающимися парусами — казалось видением сна, сказки или мифа.
Я очень хорошо помню, отчетливо вижу картину этого поистине необыкновенного явления. Следует признать, что чувства сами способны запечатлевать картины раз и навсегда и могут воспроизвести их в любой момент жизни. Ибо в тот вечер, о котором сейчас говорю, я ничего не видел или, вернее, то, что я видел, не доходило до меня.
Глядя на волшебный закат широко раскрытыми глазами, словно слепой, я думал: «Как он смог ее обнаружить? Как? Как?»
Боб так и не открыл мне этот секрет, но и сегодня, как и тогда, я думаю, что секрет довольно прост.
Боб встал очень рано, покинув койку из-за привычной бессонницы. Он бесцельно бродил по палубе и коридорам. Женщина, которая по неизвестным нам причинам, не показывалась (может, просто из-за морской болезни), в этот ранний час ничего не подозревала. Она решилась выйти из каюты или же открыть дверь. Банальная случайность столкнула ее с Бобом. Она тотчас же скрылась. Действия и поведение Боба красноречиво рассказали мне о том, что произошло дальше.
Его исчезновение, причиной которого было вначале тщетное выслеживание, затем тщательное одевание, спешный завтрак вследствие напрасного ожидания, — все логически выстраивалось.
А после? После?
На этой стадии размышлений кровь застучала у меня в висках.
В то время как я спал, Боб принялся вновь следить за каютой метиски. Маленький малаец по какому-то ее вызову открыл дверь — Боб ринулся туда.
Я слишком хорошо знал наглую дерзость и холодное безумие, с каким так ловко и так часто он укрощал женщин. Он делал это не раз. Возможно, если бы не я, ему бы это удалось вновь.
Если бы не я… если бы не я… конечно. Но он успел поцеловать ее. Укусить ее губы, форму, цвет которых я хранил в своей чувственной памяти. Он мог увидеть кожу, которая будоражила меня, прижать к себе ее прекрасное тело, коснуться самых тайных ее изгибов…
В эту минуту мне под ногти вонзились занозы, и я заметил, что рву руками деревянную обшивку релинга. Острая боль не охладила меня. Огонь, жгущий мне нутро, был сильнее.
— Скотина! — произнес я вслух. — Скотина! Клянусь, она будет моей раньше.
Эти слова прозвенели неожиданно на пустынной палубе — то были звуки моего собственного голоса… Разом я ощутил свое существование и освободился от образа Боба, который неотступно преследовал меня.
На нашем судне между такими же переборками, под тот же шум машин, в те же самые дни и те же самые ночи и в тот же порт, что и я, направлялась прекрасная метиска из Кобе. На что же я жаловался?
Боб попытал свое счастье. Неудачно. Он проиграл. Теперь моя очередь.
Внезапно радость залила меня. Метиска появится на следующий день. Море было таким ласковым, что не могло бы испугать даже боязливого ребенка. Обнаруженный тайник уже не тайник. Метиска должна выйти.
Я решил вернуться к себе в каюту. Следовало побриться, сменить форму. Но я сделал лишь несколько шагов. Подражать Бобу? Этим самым я дал бы ему слишком богатую пищу для насмешки, пусть молчаливой. Однако мог ли я предстать перед глазами метиски в том виде, в каком был?
Я видел, что загнан в тупик. Каково бы ни было решение, самолюбие мое будет уязвлено.
Счастливый или несчастный возраст — кто скажет, — когда способен терзаться подобными рассуждениями?
В этих сомнениях я был застигнут сигналом к ужину. Я заметно, но без особого чувства пожал плечами и направился в обеденный зал. Метиски там не было.
V
В середине ужина Боб поднялся с места.
Несмотря на плотную тишину, бывшую, казалось, законом на наших встречах, никто не повернул к нему головы. Ван Беку и Маурициусу, по всей видимости, все наши поступки были безразличны. Сэр Арчибальд пребывал под жутким гипнозом, который внушал ему колосс. Что до меня, то я хотел исключить Боба из зоны своего внимания. Но я напрасно старался. Я не смог помешать себе отметить, что Боб был совершенно пьян.
Когда он сидел, никто не мог определить степень его опьянения, какое бы количество спиртного Боб не выпил. Цвет его матового лица не менялся. Он не становился ни болтливее, ни молчаливее: его здравомыслие оставалось нетронутым, разве слегка отличалось горечью и резкостью. Однако и в нормальном состоянии такое тоже бывало, поэтому ничего определенного сказать было нельзя.
Он выдавал себя, только когда стоял. Но надо было пожить с ним, чтобы начать замечать это. В противном случае его точные, размеренные движения могли сойти за естественные, хотя обычно они были живыми и ловкими.
По тому, как Боб медленно и осторожно преодолел несколько метров от стола до бара, я все понял. Да, Боб пьян, и пьян в стельку.
Он грубо подозвал юнгу, потребовал себе большой, налитый до краев, стакан коньяка и застыл, автоматически регулярно поднося его ко рту.
Конечно, пока мы ужинали, он все реже делал глотки — как раз когда мы закончили, он допил свой коньяк.
После этого он вышел с еще большей осторожностью.
Если бы даже в моем отношении к Бобу не было никакой трещины, я бы не стал заниматься им. Я знал, что в состоянии опьянения — в отличие от меня — он ничем не рисковал. Спиртное, вместо того чтобы возбуждать, толкнуть на какую-нибудь глупость, действовало на Боба как успокоительное.
Я также знал, что в этом случае он любил быть один и наслаждаться покоем под действием токсического вещества, как под наркотиком.
Зарядившись вновь чувством мести, возродившимся от присутствия Боба, я подумал: «Теперь ему на все наплевать. Как удобно! А я! Что делать мне? Тоже напиться?»
Даже сегодня не могу пить один, как бы радостно или грустно мне ни было. Для меня вино и спиртное заключают в себе братское начало, горячий и мощный стимул, сопричастность, требующие общества приятелей или друзей. В двадцать лет это требование было гораздо настоятельнее. Итак, в качестве компаньона у меня оставался только сэр Арчибальд.
Ах! Если б я смог встретить в эту минуту летчиков или солдат, авантюристов или разбойников, коих я столько раз встречал на своем пути, в какую отчаянную пьянку я бы ринулся? Уверен, меня пришлось бы посадить на цепь, но я забыл бы и Боба и метиску.
Нужно быть двадцатилетним, страдать от чувственного воображения, доведенного до галлюцинаций, не знать ни тормозов, ни законов, насильно быть целомудренным целую неделю, ощущать вокруг тайну женщины и судна в китайских водах, нужно иметь все это, вместе взятое, чтобы понять приступ лихорадки и тоски, точившей меня.
Бар, юнга, сэр Арчибальд были мне отвратительны, а моя каюта еще больше. Единственное место, единственное существо зажигали огонь в моих мыслях, моих желаниях.
Сам не зная как, я оказался перед дверью метиски: она явно была закрыта. Я легонько постучал — никакого ответа.
Я приложил ухо к грязной двери — никакого шума.
Выпрямившись, я увидел Ван Бека. Он выходил из обеденного зала.
Заметил ли он мое движение? Я не знал. Его дьявольская способность ходить бесшумно позволяла предполагать все.
Коридор был слишком узок, и, проходя мимо, он задел меня своим огромным телом. В эту минуту мне показалось, что он хотел заговорить со мной, чего с ним не случалось с тех пор, как я хотел его ударить. Но он подавил это желание, так и не разжав свои огромные рыхлые губы. И только в глазах его, заплывших жиром, в его таких светлых, почти бесцветных глазах появилось невероятно жестокое выражение.
Невольно я оперся о дверь метиски, ко всему готовый.
Ненужный рефлекс. Ван Бек дошел до конца коридора, не обернувшись, и там исчез.
Я вышел на палубу. Не знаю, сколько времени я там провел, шагая, останавливаясь, снова возобновляя хождение.
Порой в тумане, таком же, какой окутывал море ночью, со щемящей точностью я видел метиску. Она лежала в тесной каюте. Она не спала. Ее округлые, точеные руки были подложены под голову, груди полуобнажены, как только что, когда Боб подмял ее под себя.
Конечно, она сожалела об этой минуте. Она, наверное, кричала, сопротивлялась, но не для того ли, чтобы затем отдаться? Разве не были мы с Бобом уверены, что каждая женщина хочет, чтобы ее брали силой?
У меня помутилось в глазах. Я оперся о релинг.
Внезапно, словно речь шла о моей жизни, я кинулся в обеденный зал.
Я почувствовал, что мне требуется отвлекающее средство, любое и немедленно. Иначе бы я выломал дверь каюты, в которой, я видел, видел, словно наяву, метиска ждала, призывала к насилию. Тогда никакая сила не помешала бы мне растерзать ее тело.
Сэр Арчибальд, должно быть, решил, что я сошел с ума. Я схватил его за плечи, почувствовав под одеждой хрупкие кости, встряхнул его и выкрикнул:
— Покер!.. Быстро!
— Но… но… лейтенант… послушайте… Нас только двое, — пролепетал он, ошалев от моей напористости.
Я встряхнул его сильнее, крича:
— Ну и что! Я хочу играть!
— А ваш товарищ?
— К черту! Я хочу играть без него.
Думаю, чтобы утолить жажду игры, сэр Арчибальд согласился бы взять в партнеры беглого или прокаженного. Если он и задумался на минуту, то не о моем состоянии, а о том, как этим воспользоваться.
— Покер вдвоем — это не только странно, лейтенант, — наконец молвил он назидательно, — но и неправильно. Но в кости мы смогли бы сразиться. Подходит?
Сейчас я разыграл бы даже в орлянку все свое состояние, если б имел его.
Я приказал бою дать нам стаканчик с костями, коктейль с шампанским и виски.
Я знал только два средства заставить замолчать сэра Арчибальда — Ван Бек и игра. Колосс повергал его в тягостное, болезненное молчание, зато инструменты удачи сэр Арчибальд держал в руках с наслаждением. На его бескровном лице постепенно проступила легкая краска, губы начали взволнованно подрагивать: поистине он пребывал в сильном возбуждении.
Мы играли допоздна.
Монотонность игры в кости и постоянная неудача наконец утомили меня.
— Я уверен, вы меня простите, лейтенант, не правда ли, — сказал сэр Арчибальд, вновь обретая свое болезненное празднословие, — вы поймете меня, поскольку вы джентльмен, если я позволю себе обратить ваше внимание на тот печальный, но очевидный факт, что вы проиграли восемьсот сорок долларов.
— Вы получите их в Шанхае, — ответил я. — Можете быть спокойны!
И я показал ему вексель во французское консульство.
— Замечательно, совершенно замечательно! — вскричал сэр Арчибальд. — Консул — прелестнейший человек из всего дипломатического корпуса. А здесь деньги мне не нужны… Но вы… вы… еще раз простите меня… в Шанхае вы не забудете?.. О! Умоляю вас, не сердитесь… Я знаю, что вы джентльмен, истинный джентльмен, но увлечения молодости… Да, да, я полностью вам доверяю, но мне так хочется иметь немного собственных денег.
Он понизил голос, произнося последние слова, и я почувствовал их жалкую искренность.
Это меня тронуло. Я проникся мимолетным, но явно дружеским расположением к этому маленькому пьянчуге с хорошими манерами, который непонятно почему приходил то в возбуждение, то в ужас. И к тому же предательство Боба лишило меня конфидента.
— Сэр Арчибальд, — сказал я, — доверие за доверие. Я сообщу вам о некотором открытии: на борту есть женщина. — Приняв за удивление выражение смятения, исказившее его лицо, я продолжал: — И какая женщина! Чудо!.. Это метиска.
— Нет, нет! — вдруг воскликнул сэр Арчибальд Его искривленный рот, вздрагивающие руки вызвали у меня опасение, что это delirium tremens[2]. Пронзительным, истерическим голосом он закончил: — Я вам… я вам запрещаю… Она моя. Она моя!
И он убежал.
Мне пришлось вернуться в каюту. Там, одетый, сидел на своей койке Боб. По его взгляду, неподвижно устремленному на меня, я понял, что он меня ждет и продолжал бы ждать, если бы потребовалось, не двигаясь с места, до рассвета.
— Я вел себя как мне хотелось, — медленно вымолвил он бесцветным голосом. — У нас больше нет ничего общего. У нас никогда больше не будет ничего общего. Но хочу сказать, что любой ценой помогу тебе переспать с метиской. Располагай мной как тебе будет угодно. Вот. Это все.
Он лег и погасил свет.
Я разделся в темноте.
VI
Я был один и тщательно причесывался (сегодня утром я мог это делать без борьбы с собой), когда юнга-малаец вошел ко мне в каюту. Взглядом умного, внимательного животного он серьезно осмотрел мои выбритые припудренные щеки, блестящие волосы, мою черную форму с красным галуном на брюках, которая, как я считал, лучше всего сидела на мне.
— Что тебе, малыш? — спросил я как можно мягче, ибо чувствовал в ребенке друга.
Он не решался. Я повторил:
— Ну, говори. Не бойся! Все, что смогу, сделаю.
Бой вперил в меня глаза, которые постепенно или, так сказать, по капле наполнялись мольбой. Наконец он прошептал:
— Забудь женщину-метиску.
— Что ты сказал? — вскрикнул я.
Громче, настойчивее юнга повторил:
— Забудь женщину-метиску!
Странная вещь, мне не было смешно. Между тем впервые ребенок вмешивался в мои любовные дела. Однако умоляющее выражение на худеньком лице и во всей малюсенькой фигуре в лохмотьях было таким настойчивым, что я стал серьезным.
— Ты хочешь, чтобы я больше не думал о женщине из каюты? — спросил я задумчиво. — Чтобы не пытался ее увидеть, чтобы не стал с ней заговаривать при встрече?
На каждый вопрос юнга кивал, глядя мне в глаза.
— А почему?
Ни разу не видел, чтобы так быстро менялось выражение лица. Доверчивое, дружеское и полное преданности минуту назад лицо юнги закрылось, захлопнулось мгновенно. Черты лица, глаза, движения — все стало чужим, непроницаемым.
— Я ничего не знаю, — ответил маленький малаец, — только прошу тебя, для твоего же добра, забудь женщину-метиску.
На какое-то мгновение у меня промелькнула мысль расспросить его о ее имени, происхождении, откуда была родом незнакомка, но подобное дознание у мальчика, который меня обслуживал, показалось мне недостойным.
В любом поступке всегда есть своя мораль. В моей, допускающей излишества и обход закона, возникла непредвиденная совестливость.
Мне захотелось успокоить юнгу.
— Можешь быть спокойным, — сказал я ему. — Женщина-метиска не выходит из своей каюты.
С озабоченным видом он возразил:
— Она на палубе.
— На палубе? — вскричал я. — Поэтому-то ты испугался? Спасибо, сынок, спасибо!
В приливе радости я взял мальчика под мышки (он был невероятно легкий) и два-три раза подбросил вверх.
Когда я опустил его на пол каюты, он хотел что-то сказать, что-то крикнуть.
Смеясь, я прикрыл ему рот рукой.
Я увидел их на левом борту, стоящих лицом к морю. Сэр Арчибальд зябко кутался в свое пальто. Она же, напротив, была в белой шелковой блузке с вырезом на спине.
То, как она держала голову, говорило о том, что она подставляла лицо, которого я не видел, холодному ветру, обжигающим брызгам.
«Так вовсе не морская болезнь принуждала ее к затворничеству, — подумал я. — До этого дня такой качки еще не было».
Потом я вспомнил вчерашний крик сэра Арчибальда: «Она моя! Она моя!»
Меня поразил не только этот вопль. Все что делал или говорил сэр Арчибальд, казалось мне бредом, пьяными фантазиями, и вот оказалось, что его разглагольствования имели основания.
«Ее любовник! — сказал я себе. — Он ее содержит… да… ее любовник! И конечно, ревнивый, как все старики».
Сам я не относился к такого рода покровителям, и в моих глазах их щедроты не уменьшали достоинства тех, кому они предназначались. Я находил вполне естественным, что красивое и здоровое создание побуждало щедро оплачивать расположение, которое оно расточало уродцам и старцам. Из двоих она представлялась мне честнее.
По правде говоря, я даже обрадовался этой связи. Метиска казалась мне теперь более доступной. Хотя мой опыт был небольшим, но он уже научил меня, что для молодого воздыхателя лучшим посредником у молодой женщины является смешной старикашка, претендующий на роль тирана. Конечно, таковой явно и была роль сэра Арчибальда. Он прятал ее от посторонних взглядов, заточал ее, и если теперь она и вышла немного подышать, это было наверняка против его воли. Не слишком ли резко он жестикулировал? Не вставал ли он на цыпочки, чтобы бросить ей в лицо оскорбления, отдельные слова которых или по крайней мере их смысл доносил до меня ветер? Бедная девочка!..
И это из страха перед таким старым пугалом маленький малаец хотел меня остановить? Бедный мальчишка!..
Ни метиска, ни сэр Арчибальд не слышали, как я подошел.
Я легонько хлопнул сэра Арчибальда по спине и сказал:
— Дорогой друг, будьте любезны представить меня вашей даме.
То ли удивление заставило сэра Арчибальда подчиниться, то ли церемонный тон, который я инстинктивно принял, произвел впечатление на его манию достойных манер. Он сделал это очень глухо, бесцветным голосом, который в отличие от его обычного высокого тембра, казалось, стерся до последней связки.
Затем еще тише, колеблясь, запинаясь в двух словах, добавил:
— Вот мисс… да… мисс Флоранс…
Казалось, он хотел продолжить. Однако замолчал. Нервы у него были на пределе.
Его страхи ревнивого маньяка рассмешили бы меня, если бы у меня было время задерживаться на этом. Но это же был сэр Арчибальд!
Метиска Флоранс стояла здесь, передо мной, на расстоянии руки. Я первый раз смог разглядеть ее. В Кобе в обеденном зале отеля она только раз прошла мимо. Когда старый рикша вез ее, я иногда видел ее профиль, покачивающийся в такт тележке. На откосе, который чуть не стал для нее роковым, ее черты были искажены от ужаса. А когда я вырвал ее у Боба в каюте «Яванской розы», у нее был вид изнасилованной девицы.
И вот теперь, освещенное ярким, чистым сиянием морского неба, которое очистилось под действием бриза, лицо Флоранс почти касалось моего.
Это освещение было бы немилосердным для менее совершенной кожи. Но оно выигрышно подчеркивало красоту, достоинства кожи цвета темной слоновой кости, своей тонкостью и нежностью походившей на цветок или шелк. Рисунок ноздрей и губ придавал ей шарм молодых, полных неги животных, а гладкий и благородный лоб, глубина больших, черных, слегка оттянутых к вискам глаз хранила неподвижную строгость идола.
Флоранс ничего не ответила ни на слова сэра Арчибальда, ни на мои банальности. Но мне и не надо было никакого ответа. Сейчас мне было достаточно любоваться ею.
Если выражение «пожирать глазами» имело для меня какой-то смысл, то это проявилось сегодня утром.
Мои глаза, ослепленные и голодные, насыщались, упивались великолепной живой пищей.
Метиска выдержала мой жадный и грубый осмотр, не меняя выражения, не шевельнувшись своим длинным, роскошным, гибким телом. Казалось, она абсолютно не узнала меня. Казалось, совершенно не заметила настойчивости, дерзости моего вожделения. Не мигая глядела она на меня — казалось, она меня не видела.
Неужели это то существо, которое я обнаружил с искривленным ртом и обнаженными бедрами на полу каюты, то, которое уже уступало Бобу?
Эта женщина, в которой два образа слились воедино, заключала в себе такую властную эротическую силу, что я вынужден был закрыть на мгновение глаза, чтобы сдержаться и не укусить сжатые губы Флоранс. Но полностью сопротивляться этому чувственному зову я не мог.
Я взял руку метиски, лежавшую на релинге, и поцеловал ее ладонь. Рука не отнялась, но не потеплела, а стала холодной, ледяной. Плоть Флоранс, как и ее лицо, ничего не выражала. Поэтому-то я и отпустил эту мертвую руку, а вовсе не из-за резкого вопля, который вдруг испустил сэр Арчибальд:
— Довольно! Довольно!
Я смотрел, как он уводит Флоранс.
Однако мое желание ослабло лишь на мгновение. Я намерился кинуться вслед странной паре. Чья-то человеческая туша преградила мне путь.
Откуда и как появился Ван Бек? И почему он взирал на меня с такой уничтожающей ненавистью, он, чье лицо, казалось, было не способно выражать какое-нибудь чувство?
Пока я задавался этим вопросом, на правом борту хлопнула дверь. Ван Бек проследовал дальше, к полуюту.
Боб снова был пьян. Чтобы к обеду дойти до подобного состояния эйфории, он, должно быть, начал пить с самого утра. Но в то время, в силу физического здоровья и привычки пить, опьянение еще не доставляло нам блаженства. Я увидел, что Боб сидит на моем месте. О ком-нибудь другом я подумал бы, что тот ошибся, но, как я уже говорил, чем больше Боб хмелел, тем вернее становился у него глаз.
Я коротко осведомился, почему он так поступил.
— Болван! — проговорил беззлобно Боб, ничего больше не добавив. Он снова потребовал стакан коньяка, в это время пришли Маурициус и Ван Бек.
Только тогда рядом с обычным местом Боба я заметил новый прибор: для Флоранс. Я буду сидеть рядом с ней.
Боб начал играть роль, которую для себя выбрал. Мгновение я решал, достойно ли это меня. Но тут, опираясь на руку сэра Арчибальда, показалась Флоранс. Больше я не размышлял о поведении Боба.
Когда все увидели, что метиска должна будет сесть рядом со мной, мне показалось, сэр Арчибальд и Ван Бек, оба, хотели этому помешать. Но она сделала вид, что ничего не заметила, и быстрым шагом, сделавшим невозможным подобное вмешательство, прошла в конец стола, где напротив капитана Маурициуса находился ее прибор. Тот приветствовал Флоранс небрежным кивком, не подойдя к ней. Ван Бек сел, что-то невнятно буркнув. Однако на минуту нечто, напоминавшее человеческое выражение, промелькнуло в складках жира и мертвенно-бледной кожи, служащих ему лицом.
И обед начался в тишине, как обычно. Но это молчание, которое прежде я легко переносил, на этот раз показалось мне недопустимым. И не только потому, что было нелепо и невозможно завязать разговор с метиской за этим столом немых, но прежде всего потому, что я понял: велась некая игра, тягостная и нечистоплотная, не нуждавшаяся в словах, центром которой была метиска. Я был уверен, что Маурициус и Ван Бек знали Флоранс так же хорошо, как сэра Арчибальда. Для них она была не просто пассажирка, севшая по воле случая. Заговор, жесткий, сложный, изощренный, связывал этих четырех людей. Это чувствовалось, угадывалось, ощущалось физически, по выражениям, теням на их лицах, которые я постоянно видел во время наших встреч, проходивших безразлично, безучастно.
Маурициус, как всегда, выглядел озабоченным. Ван Бек воплощал странную смесь смирения и ярости. Что до сэра Арчибальда, его можно было сравнить со сломанной механической игрушкой: голова его то и дело дергалась рывками то в сторону колосса, то в мою, то в сторону метиски.
И только ее поведение не менялось. Или же, возможно, я не вполне изучил ее лицо, чтобы отыскать в нем какие-либо изменения. Но кто смог бы в точности определить, что выражали ее черты, выточенные в прекрасном материале, ее темные глаза с неподвижным блеском?
Боб принес новый стакан коньяка. Он приподнял его и спокойно произнес:
— Я пью за самую прекрасную девушку китайских морей!
Он выпил коньяк залпом, так, как нас научили в Сибири казаки атамана Семенова.
Сэр Арчибальд вздрогнул так сильно, что закачался стол. Ван Бек слегка повел подбородком. Мне показалось, что розовая волна чуть заметно набежала на щеки метиски. Несомненно, она вспомнила попытку Боба.
Я не смог вынести мысли, что каждый из присутствующих мужчин, каждый, кроме меня, имел тайное право на это существо, которое я желал изо всех сил. Я опустил левую руку под скатерть и властно положил ее на ногу метиски.
Побоялась ли она вызвать скандал? Удивление ли лишило ее всякой реакции? Не знаю. Но она и на этот раз проявила необычайную способность контролировать свои нервы, свои мышцы. Ничто в ней не шевельнулось, и мгновение я владел круглым и гладким коленом, выше ощущая нежное и теплое бедро.
Внезапно Флоранс поднялась. В то же время я увидел, как Ван Бек рванул на себя скатерть.
Что произошло бы, если бы меня застукали? В самом деле, думаю, что, несмотря на физическую слабость, сэр Арчибальд бросился бы на меня, ибо, даже не имея доказательств, он уже сделал первый жест. Затем он схватил Флоранс за руку и выволок ее из зала.
— Вы должны мне коньяк, — сказал Боб колоссу.
И, ни к кому не обращаясь, добавил, размышляя вслух:
— Нет ничего нелепее, чем ревнивый монстр.
Ван Бек обратился к Маурициусу по-английски, то есть хотел, чтобы мы поняли.
— Я неоднократно говорил вам, — произнес он. — Я не хотел пассажиров на этот рейс. Если на судне произойдет несчастье, виной этому будет ваша жадность!
Он выпил большой стакан воды: он и капитан были весьма воздержанны.
Юнга собирал осколки посуды.
VII
Наступила ночь. После обеда я раз двадцать прошелся, прогуливаясь по липким коридорам «Яванской розы», с тем чтобы в нужный момент пройти мимо каюты Флоранс. Но всякий раз я видел сэра Арчибальда в дверях его каюты, пялившегося на дверь, за которой он запер метиску. Он демонстративно держал в руке браунинг.
Ни он, ни его оружие не пугали меня. Он так сильно дрожал, что промахнулся бы, даже стреляя в упор. Чего я опасался с его стороны, так это истерики, шума, скандала, а в присутствии Флоранс комизм сцены подобного рода лишил бы меня малейшего шанса на успех. Не говоря уж о вмешательстве Ван Бека…
Последнего во время моих прогулок я встречал чаще обычного. Он был в сопровождении то Маурициуса, то китайского писаря, то желтокожих матросов с плечами грузчиков. Все казались крайне озабоченными. Их непрерывное хождение взад-вперед осуществлялось с нижней палубы к полуюту и с полуюта на нижнюю палубу. Одни спускались со стопками пустых мешков, другие поднимались с пачками бумаги, исписанной цифрами…
Эти маневры внезапно открыли мне все то значение, какое имела для меня женщина, даже голоса которой я еще не слышал. В тщетных поисках встречи с ней я потерял счет дням. Суета штаба и экипажа «Яванской розы» напомнила мне о том, что на следующий день судно встанет на якорь у пристани в Шанхае.
Каким далеким казалось желание, высказанное мною, когда мы покидали Кобе, — прибыть как можно скорее! Теперь я говорил себе, что часы сочтены, что мне нельзя терять ни минуты, если я хотел, чтобы Флоранс стала моей, ибо пройдет ночь — и мы окажемся в огромном городе, в муравейнике, где наши пути уже не пересекутся. И эти минуты, такие драгоценные, последние минуты испытываемого мною желания ускользали, я чувствовал, одна за другой, бесплодные, бессильные.
Я возвращался к каюте метиски, снова встречал сэра Арчибальда на часах. Он смешно размахивал своим револьвером. И я поворачивал на палубу… мерил ее широкими шагами, глубоко вдыхая сырой воздух, пытаясь унять нетерпение и тоску.
Одна из таких лихорадочных прогулок столкнула меня с Бобом. Поднимаясь по лестнице, которая вела в трюм, он покачнулся сильнее, чем это обычно происходило при нашей встрече. Тотчас я решил, что это от опьянения. Но тут же понял, что ошибся.
Лоб у Боба был перевязан платком, испачканным красными пятнами.
Даже когда порываешь с товарищем, вид его крови вызывает беспокойство. Я спросил:
— Это серьезно?
— Могло быть! — ответил Боб.
— Расскажи.
— Я прогулялся в неудачном месте, вот и все.
— Где?
— В трюме.
— Зачем?
— Дай я выпью.
Мне пришлось потерпеть, пока юнга нальет Бобу одну за другой три порции коньяка. После этого Боб сказал:
— На этой помойке с вами невесело, отнюдь! Пить? Однако есть предел, если пьешь в одиночку. Когда нечем поразвлечься, стоит попробовать заняться самообразованием. Я пошел посмотреть машины, затем трюмы. Там что-то происходило. Я залег между двумя тюками с рисом, чтобы понаблюдать, не утомляясь. Рис мягок, довольно удобно. Мне было уютно. Я уснул. Меня разбудил грохот молотков: несколько китайцев открывали ящик. Другие китайцы держали мешки, любопытные мешки… прорезиненные.
Тут я вспомнил, что видел, как эти мешки переносили в трюмы судна, но, занятый преследованием Флоранс, не обратил на это внимания.
— Эти китайцы перегружали содержимое ящиков в мешки, — продолжал Боб. — А содержимое было, молодой человек, ружья и пулеметы, разобранные на части. Вот так! — Боб удовлетворенно взглянул на меня, как математик, решивший задачу, и закончил: — Они все заодно.
— Кто? — спросил я нетерпеливо.
— Ты слишком трезв. Твои мысли направлены не в ту сторону. «Они», конечно же, — это Ван Бек и Маурициус, а также таможенники, жандармы из Кобе и старая мумия, прибывшая благословить весь этот военный хлам перед отплытием, припоминаешь?
Мне оставалось склониться перед логикой подогретого алкоголем Боба: японские власти пособничали контрабанде оружия на «Яванской розе».
Тогда я имел смутное представление о тайной игре в Китае, которая впоследствии привела к трагической развязке; но было очевидно, что наше судно представляло собой малюсенькое звено в огромной операции.
Политические комбинации, даже если они должны были встряхнуть народы, мало что говорили в то время моему воображению.
Я тронул повязку, наскоро сделанную Бобом.
— А это? — спросил я.
— Ах, это… — произнес он, — да… вспомнив старого усохшего японца и то, как мы надеялись, что он наденет наручники на Маурициуса, я начал, думаю, громко смеяться. Тогда один ящик упал мне на голову, лишь задев меня, иначе я не смог бы показать, что вооружен, а они с помощью своих молотков устроили бы несчастный случай… Затаился в трюме… неудачно размещенный груз… сожаление ангелов-хранителей «Яванской розы» — и французскому консулу в Шанхае нечего было бы сказать: все в порядке.
— Тебе не больно?
— Нет. Я обработал рану коньяком. Я благоразумен. Никакой примеси… никакой примеси…
В это время юнга накрыл на стол. Стояло только два прибора.
— Для тебя и второго офицера, — сказал мне мальчик.
— Ван Бек и капитан слишком заняты, — заметил Боб.
— А сэр Арчибальд? — спросил я.
— Ест у себя в каюте, — пояснил маленький малаец.
— А… мисс Флоранс?
— Тоже.
— Я обедаю с коньяком, — заявил Боб. — В Шанхае Франция заплатит. — Он растянулся на двух стульях и вздохнул: — Римляне, принимавшие пищу лежа, умели жить.
Юнга принялся нас обслуживать.
Некоторое время я был занят рассказом Боба о том, что с ним случилось, но потом мысль о Флоранс вновь завладела мной. Метиска находилась здесь, в нескольких метрах, охраняемая марионеткой и деревянной панелью, непрочность которой я уже испробовал. Но сделать я ничего не мог. Если бы речь шла только о желании, я бы, разумеется, не очень-то страдал, но самолюбие, юношеское тщеславие жгли меня невыносимо. И к тому же из опыта я знал, что воспоминание об упущенной возможности станет для меня длительной и упорной пыткой.
Боб очень спокойно сказал:
— Надеюсь, ты воспользуешься их контрабандной деятельностью.
Я изумленно спросил:
— О чем ты? Чем я…
— Облегчается твоя задача относительно девицы, разве нет? — продолжал Боб тем же ровным голосом.
Мне потребовалось некоторое время для ответа. Его забота о моих интересах относительно Флоранс ужасно меня смущала. Я был слишком самолюбив и хотел попытать счастья один. Кроме того, желание Боба откупиться было ненормальным, чудовищным. Какого усилия, вероятно, стоило ему подобное сообщничество!
— Слушай, Боб, — сказал я. — Не напрягайся, и даже если…
Он прервал меня:
— Я напрягаюсь? Я? Но мне это ни к чему, что ты, старина!
Его интонация и взгляд были так искренни, что я не мог усомниться.
— Но… но… — произнес я глупо. — Теперь тебе все равно, если я пересплю с Флоранс?
— О! Женщины, — сказал он, — даже самые красивые…
Пожатие плечами, складка у рта и то, как он выпил новый стакан, дали мне понять лучше, чем какое-либо объяснение, смысл его слов. Я вспомнил, что рассказывают о действии опиума на некоторых людей и о презрении, которое они испытывают к плотскому вожделению в состоянии эйфории. У Боба состояние чрезмерного опьянения имело тот же эффект. Я с трудом понимал это: у меня алкоголь, напротив, вызывал эротическое возбуждение. Но следовало согласиться с тем, что у Боба чувства притуплялись. И отныне я знал, что он принялся пить инстинктивно, из чувства самосохранения. Раз он хотел откупиться от того, что я называл предательством, он избрал самые благоприятные условия, чтобы заплатить эту дань.
— Боб, ты оригинал! — сказал я.
Я произнес это холодно, равнодушно. На самом деле я был в восхищении от человека, который умел так укрощать свои наклонности.
Больше того, я готов был забыть его вероломство. Я вновь обретал товарища. Я ждал лишь одного слова, оправдательного слова, — чтобы принести свои извинения. Ибо без такой компенсации я не мог все же отказаться от привилегированного положения правдолюбца.
В то время я был очень плохим психологом. Боб также. Заплатив, он считал меня своим должником. Чтобы возобновить наши отношения, он ожидал от меня слов благодарности.
Естественно, как с одной, так и с другой стороны, слово не прозвучало.
Боб прошел со мной на палубу. Несмотря ни на что, некоторая искренность вернулась в наши отношения и мы больше не испытывали потребности избегать друг друга.
Боб прихватил с собой стакан коньяка. Я тоже. Не разговаривая, глядя в море, мы пили маленькими глотками. Моря совершенно не было видно. В нескольких метрах от нас нечто вроде водянистого, вязкого бельма сочилось с его поверхности и затягивало горизонт.
«Яванская роза» медленно продвигалась сквозь липкие потемки.
И эта медлительность постоянно напоминала мне, что мы приближались к цели.
«Мне необходимо что-то предпринять. Необходимо! Необходимо!»
Вот что я повторял про себя, как маньяк, не находя выхода моему возрастающему желанию.
Боб очень тихо произнес:
— Послушай!
Я прислушался и тоже различил странный шум. Он доносился из угла, который скрывала ведущая к полуюту лестница, отбрасывая тень, совершенно непроницаемую, особенно в такую чрезвычайно туманную погоду.
Этот шум походил то ли на скрип, то ли на стон.
Стараясь не шуметь, мы обошли лестницу, каждый со своей стороны.
Там, скрючившись под первыми ступеньками, сидел на корточках человек. По тому, как вздрагивали плечи, я узнал этого человека.
— Сэр Арчибальд! — воскликнул я.
— Молчите, во имя неба, молчите! — взмолился старый англичанин… — Я… я… — Рыдания прервали его речь.
Чтобы не напугать его, Боб прошептал ему на ухо:
— Что происходит, почтенный муж? Отчего вы плачете? Вы можете мне это сказать, я джентльмен и друг.
— Он… он… запретил мне посещать обеденный зал, — простонал сэр Арчибальд. — Он запретил мне пить. Он… он обращается со мной, как со своим рабом, это унизительно… это… это чудовищно… чудовищно для меня…
Слезы, всхлипывания снова стали душить его.
Даже в таком состоянии, раздавленный отчаянием, сэр Арчибальд не вызывал у меня жалости. Конечно, ее трудно было найти в наших сердцах, слишком молодых и уже очерствевших. Но думаю, что и любой другой человек, наделенный нормальной чувствительностью, не был бы способен испытывать к сэру Арчибальду ничего другого, кроме любопытства, смешанного с отвращением. Даже его боль, как и все прочие чувства, выглядела искусственной, пошлой, смешной.
Его рыдания напоминали звуки заржавевшего замка. Голос срывался на высоких нотах ложной патетики. Его можно было сравнить с плохим актером.
— Он наказал меня. Он осмеливается меня наказывать, скотина! — взвизгнул вдруг сэр Арчибальд.
— Да кто? — нетерпеливо спросил я.
Я очень хорошо знал, о ком говорил сэр Арчибальд, но хотел вернуть его к реальности. Мне это удалось. Он выдохнул:
— Ван Бек.
— А за какой проступок?
Этот вопрос задал Боб. Но сэр Арчибальд ответил мне.
— Разве это вас касается? — воскликнул он. — Я обязан перед вами отчитываться? По какому праву вы допрашиваете меня?
Внезапный старческий гнев заставил его подняться. Его руки вцепились в кожаный ремень моей портупеи. Я отчетливо почувствовал, что он тряс меня благодаря не силе в руках, а их спазматическому содроганию.
— Вы во всем виноваты! — продолжал сэр Арчибальд. — Во всем! Во всем! Я ненавижу вас! Вы не можете себе представить как! Так же, как я ненавижу Ван Бека!
Это имя, несмотря на возбуждение, заставило сэра Арчибальда вспомнить об осторожности. Он понизил голос до совершенно неразборчивого бормотания.
— Ну хватит. Сделайте глоток! — резко приказал Боб.
И он сунул свой полупустой стакан в зубы сэра Арчибальда, которые так сильно застучали о край стакана, что в какую-то минуту мне показалось, что он разбился. Но на «Яванской розе» посуда была толстой и прочной.
Сэр Арчибальд проглотил коньяк до последней капли.
— Дай твой! — посоветовал Боб.
Машинально я протянул свой стакан сэру Арчибальду. Он жадно выпил.
— Вам лучше? — спросил Боб.
— Да… немного… немного… Спасибо… Но этого недостаточно.
— Раздобудь еще и постарайся, чтобы маленький малаец не упрямился. Это для меня. Твое присутствие здесь необязательно. Понял?
Я понял.
Если сэр Арчибальд будет иметь достаточно спиртного, он не двинется с места.
Одним прыжком я очутился в баре и сказал юнге:
— Отнеси на палубу, под лестницу, бутылку коньяка для моего товарища, и побыстрее.
— Сделаю.
— Подожди, это не все. Мне сейчас же нужен ключ от каюты номер три. Ничего не говори, бесполезно, он мне нужен, иначе я выломаю дверь. Никто в мире не помешает сделать это. Если произойдет несчастье, так по твоей вине.
Я слышал, как мальчик что-то прошептал по-малайски. Я разобрал только:
— Amok.
Юнга дал мне ключ.
VIII
Флоранс ждала меня. Я не нахожу другого слова, чтобы определить ее поведение. Она стояла за дверью, так что, толкнув дверь, я заставил притаившуюся за ней метиску податься назад и какое-то мгновение я ее не видел.
Я решил, что каюта пуста. И сейчас еще помню, с какой яростью я захлопнул за собой дверь. И тогда я увидел Флоранс и понял, что она меня ждала.
Она не выразила ни испуга, ни удивления. Она была готова к моему приходу. Впрочем, ключ в отлаженном замке я повернул бесшумно, как вор. Это могло ее насторожить. Наверняка у нее было предчувствие.
Сколько времени она уже поджидала здесь неподвижно, сложив прелестные руки на своих плечах, словом, такой, какой я ее увидел?
Я ожидал застать ее врасплох — она меня обескуражила.
Сама ее одежда — длинный, из белого плотного шелка пеньюар — делала ее беззащитной. Однако она не сделала ни одного защитного жеста. Только одно движение: руки ее разжались и упали вдоль тела с изящной и чувственной медленностью.
В самом деле, я испугался, что Флоранс каким-либо непредвиденным образом ускользнет от меня. Кто на моем месте не стал бы опасаться подобного исчезновения, видя такую уверенность, спокойствие, молчаливость?
Но я не был создан для рефлексий и неопределенности. Во всяком случае, ситуация не оставляла времени для этого. В каждую минуту сэр Арчибальд, обеспокоенный моим отсутствием, мог появиться и всполошить экипаж.
В течение бесконечно тянувшегося дня у меня было время строить самые различные планы. Один из них, простой и быстрый для осуществления, показался мне лучшим.
Я набросил свое пальто на плечи метиски и приказал:
— Идем!
Флоранс не шевельнулась.
Я взял ее на руки и прошептал на ухо:
— Если вы крикнете, я вставлю вам кляп.
И я бы это сделал не колеблясь, доведенный собственным поведением до положения, выход из которого мог быть достигнут лишь насилием. Я был бы обесчещен в своих собственных глазах, если бы это насилие не было доведено до конца.
Флоранс меня к этому не толкала. Я не услышал от нее ни стона, ни вздоха в то время, как быстро направлялся к спасательной шлюпке, находившейся у релинга. Я опустил туда Флоранс. Сам спрыгнул следом. Метиска по-прежнему не шевелилась. Она лежала все так же неподвижно, как и тогда, когда я нес ее на руках. В этом отсутствии реакции, в этом полном безразличии было что-то нечеловеческое.
В какое-то мгновение я подумал, что рожденная и воспитанная, как рабыня, Флоранс принимала меня, как принимала сэра Арчибальда, и в это мгновение она потеряла в моих глазах всякую ценность. Тотчас же я вспомнил о ее жестокости к старому рикше, о ее отчаянной борьбе с Бобом. И вновь я не понимал эту девушку.
Теперь она находилась рядом, в маленькой шлюпке, вплотную прижатая ко мне. Мое пальто соскользнуло. В полумраке тумана лицо Флоранс и верхняя часть пеньюара слились в одно бледное пятно.
Было холодно, сыро. Я знал, что под шелком у Флоранс ничего не было, но она не дрожала. Казалось, ничто ее не волновало, ни внутренняя, ни внешняя сторона жизни.
Вдруг я услышал ее голос, голос, который до сих пор оставался мне неизвестным. Он оказался чистым, нежным, протяжным. Хриплый восточный налет едва был уловим и звучал глухим аккомпанементом невидимого инструмента. Изъясняясь по-французски, этот голос сказал мне:
— Жизнь моя, я люблю тебя.
Если бы Флоранс захотела парализовать во мне всякое желание, волю и даже мозг, она не смогла бы проделать это лучше. Звучание ее голоса… язык, на котором она заговорила… слова, которые она произнесла…
Во мне жило единственное чувство: недоуменное изумление человека, который знает, что видит сон и в то же самое время не может поверить в это.
«Я на грузовом судне „Яванская роза“. А это — в моем пальто — лежит метиска Флоранс». Эту идиотскую фразу я мысленно повторил десять раз, сто раз, уцепившись за нее, как единственно реальный элемент моего существования.
— Ты мне не ответишь? — спросила Флоранс.
Она была права. Я был смешон и отвратителен.
Женщину не похищают, не бросают в сырую, липкую шлюпку, с тем чтобы молча сидеть возле. Но напрасно я подстегивал, хлестал свое самолюбие, я сумел только выдавить:
— Ты… ты не… значит, ты не знаешь английского?
Она рассмеялась и ответила:
— Я знаю английский тоже… очень хорошо… меня очень хорошо воспитали. Во французском монастыре Йокогамы. — Она помолчала, затем горячо продолжала: — Но раз я тебя люблю, то хочу говорить с тобой на языке твоей матери.
Все это было невероятно абсурдным: ее объяснение в любви, мой ответ, наше убежище, мое оцепенение — все.
Жестокий, дикий гнев встряхнул меня. Я схватил Флоранс за руки, грубо сжал и, нагнувшись к ней, крикнул:
— Ты меня любишь! Что ты несешь! Ты считаешь меня идиотом. Ты меня любишь! Не трудись лгать так грубо. Ты знаешь, я не нуждаюсь в этом. Ты меня любишь! Я не прошу тебя об этом.
Не берусь утверждать, что в этой безудержной речи Флоранс уловила оскорбления, но мне показалось, что ее руки слегка дрожали, когда она вновь заговорила. Однако голос ее оставался ровным и нежным.
— Я не умею лгать, — сказала она. — Зачем лгать? Молчать гораздо легче.
И снова мне нечего было сказать, и тогда совсем тихо, почти по-детски я спросил:
— Но возможно ли это? Ты меня, так сказать, не видела. Я никогда с тобой не говорил.
— Это произошло в Кобе, на улице с откосом, — ответила Флоранс, не меняя тона. — Это произошло, когда старый японец долго умирал, когда я почувствовала себя на грани смерти и когда ты не помог мне. Я смотрела на тебя. Но ты не двигался. В эту минуту я так любила жизнь, а ты был сама жизнь. Тогда я ощутила потребность любить тебя.
Метиска глубоко вздохнула и сложила руки на груди. Я почувствовал это движение, не видя его, так как темнота уже скрывала от меня Флоранс, оставляя лишь смутные очертания.
«Яванская роза» двигалась неуловимым ходом.
Все вокруг и внутри меня, казалось, растворилось.
— Ты рад, что я тебя люблю? — шепнула Флоранс.
Я вздрогнул, настолько ее интонация звучала с детской грустью. Еще не выйдя полностью из оцепенения, я постепенно возвращался к действительности.
— Ну да, конечно, — ответил я.
Я крепко поцеловал Флоранс в ямку на шее, в то место, где начинается плечо.
В тот же миг молниеносным движением моя рука открыла пеньюар и проскользнула к груди.
Все тело Флоранс сжалось. Она простонала:
— Нет, прошу тебя. Нет, я боюсь.
Тогда внезапно я полностью отдался во власть чувствам, то есть элементарному вожделению.
Сколько раз я слышал те же слова от женщин, которые тотчас же уступали и тонули в наслаждении. Эта ложная защита действовала на меня как эротический призыв.
Услышав стон Флоранс, я стал похож на дикого зверя.
Я сжал метиску, прижав ее к грубому сукну кителя, вдыхая, целуя, кусая сквозь шелк ее тело и, варварски лаская, стал срывать с нее одежду.
Потом я подмял ее под себя коротким и грубым рывком, так что головы наши ударились о борт шлюпки.
Она же тем временем не вырывалась, а продолжала все больше напрягаться и конвульсивно вздрагивать. И не переставала умолять уже чужим голосом:
— Перестань!.. Не надо… жизнь моя, жизнь моя! Во имя неба… я боюсь… я боюсь за тебя!
Я слышал эту мольбу, это тихое бормотание мне на ухо. Они лишь усиливали мое желание.
Опасения Флоранс… Ее горячий безумный шепот… угрозы сэра Арчибальда… моя победа над Бобом… и это судно, тихо стонущее в теплой ночи… Все эти образы и голоса — какой мощный возбудитель!
В неравной борьбе я терзал метиску, властвовал и уже чувствовал, как напряжение ее ослабевало и она сдавалась.
Тут она пронзительно вскрикнула. В то же время словно мертвая зыбь всколыхнула вдруг море. Спасательная шлюпка внезапно накренилась. Удар был таким сильным, что, отброшенный от Флоранс, я едва не вылетел на палубу.
Вспышка света осветила меня. Тогда я увидел, так как «Яванская роза» продолжала мирно и медленно двигаться, что был жертвой человеческой силы.
Я поднялся, готовый сразиться. Но мне не дали для этого времени. Чья-то ручища схватила меня сзади за ворот, и я почувствовал, что меня оторвали от земли и подняли в воздух.
Инстинктивно я пытался сопротивляться, вновь оказаться на палубе, но все мои усилия были тщетны: чудовищная хватка парализовала мои самые невероятные усилия. В этих тисках я оказался беспомощной тряпичной куклой. Мой вес, сила, импульсивность, молодость не помогали. Мешок безвольного мяса, отвратительно легкая игрушка — вот каким я ощущал себя в эту минуту. И такими словами я сравнивал себя с физической мощью Ван Бека, осознав, что только он способен был опрокинуть спасательную шлюпку и воспользоваться ею как пращой, чтобы вышвырнуть нас оттуда — Флоранс и меня — как мусор.
Никто Ван Беку не помогал. Он был один, и я был в его руках.
Я абсолютно не сомневался в том, что он собирался со мной сделать. Он поднял меня вровень со своим лицом, и я увидел, что он жаждет моей смерти. Еще ни разу такая беспощадная ненависть, такая страстная жажда убийства не проступала на его обычно невыразительном лице. Ван Бек являл собой больше чем убийцу: обнаружился палач.
Ярость и боль, застывшие в его глазах, его безобразный рот были для меня непостижимы. Однако это был единственный случай, когда я смог увидеть на его лице человеческие чувства. Ван Бек так страдал, что сама по себе смерть не могла облегчить его жгучую, невыносимую боль. Он еще не выбрал для меня длительной и мучительной пытки, чтобы уничтожить мою плоть, нервы, поэтому он приходил в себя, наслаждаясь моим бессилием.
Все это я прочел за отрезок времени, не поддающийся определению. И я испытывал страх, животный страх, с той четкостью и быстротой всякого живого существа, подвергающегося смертельной угрозе.
В меньшей степени страх перед смертью как таковой, в которую, несмотря ни на что, мой инстинкт отказывался верить, но от ужасающей маски, прижатой к моему лицу, увеличившейся в размерах из-за близкого расстояния и тумана.
Маска палача, влюбленного в свое ремесло, который лишь замешкался, выбирая орудие пытки.
Этому промедлению — истинной причине моего ужаса — я был обязан своим спасением.
Если бы Ван Бек был более импульсивен, если бы расчет не был органичным элементом всех его поступков, даже самых сильных и глубоких, мое приключение и существование, несомненно, нашли бы свой конец в глубине невидимого ночного Китайского моря.
Ван Бек мог сделать лишь шаг, протянуть руку, разжать ее — и я упал бы, как мешок, в туман.
Но не надо было мудрствовать: Ван Бек упустил главное, а именно — мою гибель.
В то время как он изрыгал неразборчивые рыкания, в которых я иногда различал «вырвать тебе глаза… язык», послышался топот быстро бегущих ног.
Ван Бек жутко выругался и метнулся к релингу. Он не успел, Флоранс была возле него, крича, обращаясь к невидимому свидетелю:
— Посмотрите! Посмотрите! Я говорила вам!
Нас охватил луч света, и голос Боба произнес четко, ясно и спокойно:
— Вам повезло, господин владелец! Сегодня это второй предотвращенный несчастный случай на вашем судне.
Я почувствовал, как рука колосса дрогнула. Причина была не в усталости. Просто его смертоносная ярость, неожиданно угасшая, судорогой сжала его мышцы.
— Ну-ну, — произнес Боб, — поставьте этого молодого человека на палубу. Вы и так уже достаточно его помучили. Французские власти отдадут вам должное в Шанхае, уверяю вас!
Мои колени и ладони неожиданно уперлись в липкое дерево: Ван Бек выпустил меня.
Я сразу же забыл об опасности, которую избежал, и о тех, кто меня спас. Я думал только об унижении находиться у ног этого животного, да еще на глазах у Флоранс.
Я вскочил на ноги и, придя в исступление от ярости и стыда, хотел броситься на Ван Бека. Две живые лианы обвились вокруг моей шеи — руки метиски.
Тут раздался истерический вопль:
— Я запрещаю тебе прикасаться к нему… ты… ты…
Сэр Арчибальд не закончил, он впился ногтями в руки Флоранс и оторвал их от меня.
Как только сэр Арчибальд вмешивался, он умудрялся придать трагической ситуации абсурдный и мелкий характер.
— Вы должны согласиться, — сказал Ван Бек, обращаясь к Бобу, — что я не превысил своих прав. Это мой долг охранять женщину, принадлежащую другу, которую он не в состоянии защитить сам.
Мне оставалось восхищаться самообладанием колосса. Беспечная поза… Спокойный, будто сонный голос… все было прекрасно наиграно.
Только я, испытавший физическое соприкосновение с гневом, доведенным до пароксизма жестокости, я единственный мог судить об усилии, которое потребовалось для подобного притворства.
— Разумеется, — ответил Боб, — и я полностью разделяю ваши чувства. Я всегда говорил своему товарищу, что следует сохранять мужество. У каждого свой черед!
Ван Бек пристально взглянул на Боба. Затем поднес два пальца ко рту и пронзительно свистнул.
Из трюма появился матрос-китаец.
Я плохо помню его лицо, но страшно изувеченное обнажившимся сухожилием его плечо до сих пор в моей памяти.
— Проводи мисс до ее каюты, — приказал Ван Бек на pidgin. — Всю ночь будешь у двери каюты: она не должна выходить, никто не должен входить к ней.
Колосс не стал слушать клятвы в послушании, высказываемые китайцем. Он развернулся и исчез в тумане.
Я хотел было догнать его. Боб меня остановил, сказав:
— Пусть идет! Твоя единственно возможная месть — отобрать Флоранс.
— Зачем? — спросил я.
Боб пожал плечами и задумчиво прошептал:
— Что этот малый — идиот, верно так же, как то, что мне хочется пить!
IX
Я последовал за Бобом без приглашения.
Мы сидели перед баром. Боб пил. Я смотрел на свой стакан. Не было никакой внутренней связи между нами, и я знал, что ее и не могло быть. Боб благодаря своему алкогольному лечению жил в мире, открытом только для спекуляций, пророчеств, которых я не понимал. Я же, напротив, слитком бурно пережил своей кровью события, происшедшие в течение последнего получаса, чтобы так просто от них отделаться. Я все еще дрожал от лихорадки, которую возбуждала во мне кожа Флоранс, от страха и стыда, которые заставил меня пережить Ван Бек.
Так близко быть у цели, чувствовать благоухающее тело, упругое и гладкое, уже слившееся с моим, и вдруг оказаться подвешенным, встряхиваемым за шиворот, как паршивый щенок!
Как я мог размышлять, находить объяснения, проникать в тайники души, предвидеть будущее?
Горечь, отвращение к самому себе, угрызения совести — вот что составляло пищу моего ума.
Я злился на Ван Бека, на судьбу, на Боба, а также на Флоранс. «Еще несколько минут, — говорил я себе, — и я бы добился своего!» Ибо на самом деле я пришел к выводу, что подвиг насилия над женщиной, которая даже не сопротивлялась, обелил бы меня в глазах других, и прежде всего в собственных, за унижение, которое Ван Бек заставил меня испытать.
«У каждого свой черед!» — смеялся Боб, обращаясь к колоссу. Но не мне ли был адресован этот сарказм?
А теперь никакой надежды! Желтокожий дикарь сторожил дверь Флоранс. Дикарь, которого ничто не заставит уйти.
Если бы у меня было много денег… Но в качестве состояния на «Яванской розе» у меня был лишь долг сэру Арчибальду.
Воспоминание об этом шуте гороховом принесло мне некоторое облегчение. Облегчение, надо сказать, того же свойства, что и мое страдание.
По меньшей мере, его-то я одурачил, высмеял, оставил в дураках (я не хотел думать о том, что это произошло с помощью Боба). Я, по крайней мере, отыгрался на нем. Что я мог поделать, если он использовал ярмарочного борца, чтобы защищать предмет своей старческой страсти?
Он не рискнул прийти один потребовать у меня объяснений. Я мог бы смести его одним махом руки, я мог бы…
В то время как я успокаивал себя таким образом, сэр Арчибальд вошел в обеденный зал и направился прямо ко мне.
— Лейтенант, — сказал он, — вы должны дать мне некоторые объяснения.
В манере, тоне сэра Арчибальда было что-то серьезное, похожее на достоинство, отчего я какое-то мгновение не мог вымолвить ни слова. Даже Боб с любопытством взглянул на нас.
— К вашим услугам, сэр Арчибальд! — ответил я наконец.
— Мне необходимо быть с вами наедине!
— Само собой!
Мы вышли на палубу. Случаю было угодно, чтобы сэр Арчибальд остановился в том самом месте, где Ван Бек крутил меня как петрушку. Вновь я ощутил прилив горечи.
— Ну, вы желаете удовлетворения? — грубо спросил я. — Выбирайте оружие!
Сэр Арчибальд, казалось, не слышал меня. Он смотрел на перевернутую спасательную шлюпку.
Вдруг он схватил меня за рукав, я снова почувствовал дрожание алкоголика, и снова мне показался смешным его голос, когда он взвизгнул:
— Как далеко вы зашли с Флоранс?
Резким рывком я высвободился из его слабых рук и воскликнул:
— Спросите об этом у нее!
— Нет, нет. Она ничего не скажет. Я должен узнать это у вас.
— Что узнать?
— Все ваши… жесты… да… все гнусности!
Сэр Арчибальд с минуту помолчал, а потом тихим голосом произнес:
— Я хочу… хочу знать, что вы с ней делали.
Его неожиданный шепот, то, как он приблизил свое лицо к моему, дрожание губ, нездоровый блеск в глазах — все заставляло меня думать, что сэр Арчибальд страдал от ревности меньше, чем от мук извращенности.
— Обычно за такие подробности платят, — сказал я ему.
— О! Замолчите! О! Бог вас накажет!
Никогда не думал, что этот шут способен на такой рвущий душу искренний крик, такой жалобный и детский от горя. Я осознавал, что совершил проступок, который мне не удавалось охарактеризовать. И меня занимала только одна мысль — отделаться от сэра Арчибальда как можно быстрее. Я заговорил, как скотина.
— Вам хочется это знать! — крикнул я. — Пожалуйста! Я целовал, ласкал Флоранс, как хотел, как мне нравилось, а она все позволяла и говорила, что любит меня, что я — ее жизнь…
— Потом, потом? — лихорадочно шептал сэр Арчибальд.
— Вам этого недостаточно? Чего вы хотите еще?
— Вы с ней?.. Вы с ней?..
— Переспал ли я с ней? Это не дает вам покоя? Ну, так нет, успокойтесь! Ваш дорогой друг прибыл как раз вовремя.
Сэр Арчибальд прислонился к релингу, пропустил пальцы за ворот, будто задыхался. Я повернулся к нему спиной и сделал лишь шаг к коридору. Рывком, в который он, вероятно, вложил все свои силы, сэр Арчибальд ухватил меня за рукав.
— Если вы еще не все сказали мне, говорите быстро, — процедил я сквозь зубы, теряя терпение и готовясь к новой истерике.
Но сэр Арчибальд прошептал виноватым голосом:
— Вы очень на меня сердитесь?
От удивления я ничего не мог выговорить, а немыслимый человек продолжал:
— Вы не правы! Однажды, когда вы все узнаете, вы поблагодарите меня. Для вас это каприз, фантазия, развлечение в скучной поездке. Но вам осталось недолго скучать. Завтра мы будем в Шанхае. Вы тут же забудете Флоранс.
Все, что говорил этот человек, ни одного слова которого я не принимал всерьез, было правдой.
Я хорошо знал и без него, что незнакомый огромный город немедленно заставит меня забыть Флоранс. Я это слишком хорошо знал, и это было одной из основных причин, по которой я торопился добиться своего. Но я не желал, чтобы мне об этом говорили, я не желал, чтобы мне дали еще больше почувствовать мучительную горечь поражения.
Я наклонился к сэру Арчибальду и холодно заявил:
— Флоранс меня любит и, клянусь, будет моей в Шанхае!
Мои слова были лишь проявлением тщеславия. На самом деле, как только мы сойдем с судна, метиска станет мне безразлична. Но сэр Арчибальд не сомневался в моей настойчивости. Он шепнул:
— Я думал, вы родились под более счастливой звездой!
— Говорите, пожалуйста, яснее, тогда я, возможно, смогу вам ответить.
— Вы не должны иметь связь с Флоранс. — Сэр Арчибальд с отчаянием подчеркнул свою просьбу. В его голосе не было больше ничего комического. Однако я попытался еще раз грубо пошутить.
— Это так огорчит вас?
— О! Речь не обо мне. О вас.
— Прошу вас, позвольте мне самому заботиться о себе.
— Но вы же ничего не знаете, вы не можете этого знать!
— Ну, так скажите, только без выходок, потому что, клянусь, с меня хватит!
Сэр Арчибальд вздохнул с хриплым шумом.
— Даете ли вы мне слово, слово офицера, — промямлил он, — что никому на свете, ни на земле, ни, разумеется, в море, вы не скажете о том, что узнаете сейчас от меня? Итак, ваше слово?
— Слово!
— Офицера?
— Офицера.
— Тогда сейчас я вам скажу… подождите… подождите… Не торопитесь, во имя неба… пожалейте же меня… нет, нет… я хочу рассказать о Флоранс.
Сэр Арчибальд снова замолчал, вобрал в себя воздух с тем же странным звуком, затем медленно произнес:
— Вы не должны прикасаться к Флоранс: она больна.
Наступила продолжительная пауза, но на этот раз у меня не было желания нарушить ее или уйти. Молчание длилось долго. Наконец я очень тихо спросил:
— Вы так и не скажете…
Сэр Арчибальд сделал утвердительный знак головой, и я услышал, как зловещий свист, три с трудом произнесенных слога: си-фи-лис.
X
В те отдаленные времена, если праздники или служба того требовали, мое здоровье позволяло провести пять-шесть бессонных ночей подряд. Но если мне не мешали сильное возбуждение от удовольствия или воинские обязанности, я спал наперекор всему. Более того, неприятности, огорчения, разочарования были самым сильным снотворным.
Может показаться удивительным, что мой ум и нервы нашли полное успокоение после неудачи с Флоранс, после откровения сэра Арчибальда. Однако это было не так. Самый глубокий, самый здоровый сон на «Яванской розе» я имел после событий, бессвязную последовательность которых только что начертал.
Я ощутил пустоту и тяжесть в голове; давящая усталость сковала все мои члены, и, лишенный потребности размышлять, защищенный этим неодолимым и благотворным онемением, я добрался до своей койки. Едва коснувшись узкого, жесткого ложа, я погрузился в бессознательное состояние. Молодость защищала свой отъявленный эгоизм.
Должно быть, я проспал часов двенадцать. Я определил продолжительность сна не по своим часам — они разбились во время драки в «Аквариуме» Владивостока — и не по освещению, так как нечто вроде белого бельма нависло за иллюминатором. Я ощутил эти двенадцать часов сна по подвижности суставов, по прекрасному приливу крови и радостному самоощущению.
Насколько преувеличенными, абсурдными, напрасными, непонятными показались мне все мои тревоги накануне. Жесточайшее разочарование не имело больше власти над грудью, расправленной животной веселостью, над сердцем, таким же новым, как при рождении.
Неутоленное вожделение, уязвленная самонадеянность, жжение осмеяния, сожаление о невозможном, — я был огражден от всего этого. И ничто не могло помешать мне быть снова довольным собой.
За несколько секунд я убедил себя, что не сыграл дурной роли. Не доказал ли я Бобу, что Флоранс ждала меня, а его оттолкнула?
Вмешательство Ван Бека? Нет ничего постыдного в том, что с голыми руками ты беззащитен перед чудовищем. Если бы я встретился с Ван Беком в каком-нибудь ночном заведении, он бы увидел, на что я способен с разбитой бутылкой в руке.
Нужно быть сумасшедшим, чтобы страдать от подобных глупостей или же принимать их всерьез.
Ибо, говорил я себе, на самом деле эти препятствия сослужили мне службу. Флоранс больна — мне не о чем жалеть.
Я не боялся заразиться. Здесь я тоже считал себя неуязвимым. Разве не прошел я через все притоны и вертепы Калифорнии, Гонолулу, Японии, Сибири с ненасытным любопытством школьника или новобранца? Не испробовал ли я безо всяких предосторожностей девиц всех достоинств и цвета кожи, только потому, что они были красивы или необычны? И не доказывала ли полнейшая безнаказанность после всех этих контактов, что я рожден, чтобы нарушать законы осторожности и стыда?
Нет, не опасения сделали меня безразличным к Флоранс и уже отдаляли от нее, как от тусклого воспоминания. Это было отвращение, которое испытывает всякое здоровое существо к испорченной пище или гнилому фрукту.
— С какой стати заботиться о ней! — сказал я себе. — Впереди Шанхай!
Судно больше не двигалось, должно быть, мы причалили. Непрерывные звуки сирены возвещали о деятельности огромного порта. Можно было подумать, что суда всех морей устремились сюда, настолько этот рев раздавался часто, требовательно, повторяясь на все лады.
Сирены привели мои нервы в неистовое возбуждение.
Шанхай! Европейские колонии, китайские джонки, бары, игорные дома, танцевальные клубы, девицы.
Боб, конечно, уже сошел. Он опередил меня. Он вот-вот получит деньги в консульстве, примет ванну, бросится в лабиринт наслаждений, пока я все еще буду во власти таможенников!
Я оделся с бешеной скоростью, побросал в сумку свою одежду, белье, туалетные принадлежности и устремился навстречу причалам, небоскребам, заводам, толпам Шанхая.
Ничего этого я не увидел. Больше того, я вообще ничего не увидел!
Знаю, что выражаюсь непонятно, но какими словами описать ощущение и зрелище несуществующего?
Прямо с палубы я окунулся в невесомое, бесформенное, неощутимое пространство — пространство мутное, непроницаемое.
Небо и море исчезли, и свет тоже. Нельзя было назвать светом неясное, вялое освещение цвета сажи, подземное, подводное, отбрасываемое неизвестно каким источником или светилом.
Как попавшее в ловушку животное, инстинктивно я сделал круг по судну. На корме, на носу, по обоим бортам все тоже самое. «Яванская роза», казалось, попала в огромную сеть из невидимых нитей, придавленная чудовищным колпаком, стенки которого исчезали при прикосновении к ним, оставаясь при этом настолько непроницаемыми, настолько непреодолимыми, словно были из крепчайшего металла.
Буквально в двух шагах от меня ничего не было видно. Очертания судна расплывались в желтоватом веществе, прилипавшим к дереву и металлу. Сцепившись, слившись с релингом, колыхалась, притягивая взгляд, темная масса, отливающая шафраном.
Да, в самом деле, это был мир проклятой мечты, рокового колдовства, и сирены были его голосом. Они выли, трубили, жаловались со всех сторон незримого. Порой отдельные, порой смешавшиеся с апокалипсическим хором сирены выплескивали на пожираемое, погибающее человечество таинственные силы и неведомые знаки.
Они заставляли верить во все сказки детства, во все мрачные легенды Востока.
Какой волшебник, какой колдун извлек из воды и небес эту мягкую, липкую субстанцию, плотную, неосязаемую, которая пахла гнилой тиной и где огромные связанные животные кричали в отчаянии и ужасе?
Это ощущение снова заставило меня несколько раз пробежать по палубе, тщетно и с тоской разыскивая какой-нибудь проход, щель в немыслимой тюрьме, в которую нас заточили.
Чтобы вырваться из этого заключения, я укрылся в обеденном зале. Ибо в силу законов этого мира, наоборот, именно в закрытом помещении можно было обрести ощущение свободного пространства.
Возле стола с одним только прибором меня ожидал юнга.
— Сегодня все пообедали раньше, — сказал он. — Но ты можешь…
Я нетерпеливо прервал мальчика:
— Хорошо! Хорошо! Что происходит? Маленький малаец смотрел на меня, не понимая.
— Где мы? — спросил я.
— Устье Янг-Цы. Желтый туман, часто в это время года. — Мальчик ответил очень быстро и механически. Он привык к капризам реки и продолжал дальше: — Хочешь есть?
Я заметил, что очень голоден. Мой аппетит, равно как сон, не был рассчитан на непредвиденные обстоятельства.
Поглощая горячие благодаря усилиям мальчика блюда, я прислушивался к шуму судна.
Помимо предупреждений, подаваемых нашей сиреной, на которые отвечали сирены других судов, пленников тумана, казалось, всякая жизнь на «Яванской розе» угасла. Молчали и машины, и люди.
— Где второй лейтенант? — спросил я у юнги, уничтожив свой обед.
— На лестнице полуюта.
— Что делает?
— Не знаю, как сказать, но я могу показать…
Маленький малаец сделал ряд непонятных движений и сказал:
— Думаю, он развлекается.
Боб не развлекался, а используя рампу в качестве закрепленной перекладины, делал гимнастику. Чтобы установить это, мне пришлось почти столкнуться с ним.
Невероятно трудно было выполнять упражнения на этой выщербленной, покосившейся и скользкой деревянной планке.
Но у Боба мышечная точность и ловкость были развиты в исключительной степени. Я это знал и слегка завидовал.
Однако на этот раз без всякой задней мысли я поздравил его с фигурами высшего пилотажа. Я чувствовал себя потерянным в этой желтой вате, я нуждался в человеческом единении. И Боб, несомненно, тоже, так как он тепло ответил:
— Вот и ты наконец! Тебе повезло, что ты спал. Мне же надо было чем-то заняться.
Он проделал последнюю фигуру и приземлился рядом со мной.
— Нет ничего лучше похмелья! — крикнул он. — С утра я был хорош! Привожу себя в норму перед Шанхаем. Хватит коньяка! Там надо будет удовлетворить много девочек.
Боб вновь обрел свой обычный смех, то есть короткий, немного жестокий, и я вновь ощутил тягу к нему.
— На охоту пойдем вместе, — машинально сказал я. Боб помедлил с ответом.
Но в наших отношениях уже наступила оттепель. Для отказа он прибегнул к увертке.
— Я решил, что ты уже женился, — заметил он.
— На Флоранс? — воскликнул я. — О! С этим покончено, старина!
Я ничего не стал объяснять. Соблюдение тайны, обещанной сэру Арчибальду, и желание оставить Боба в неведении, могущее быть и для меня выигрышным, — и то и другое импонировало мне, не допускало соблазна все рассказать. Я гордо повторил:
— Покончено. И весьма удачно!
— Браво! — произнес Боб.
Но его одобрение было лишено энтузиазма. Мне даже показалось, что рассмеялся он при этом неестественно и натянуто.
Я не знал, что сказать еще. Трудно было вернуть в естественное русло наше товарищество. К счастью, произошло нечто, благодаря чему я вышел из затруднительного положения. Многоголосый шум разговора, похожего на спор, раздался над нашими головами. Мы поднялись по ступенькам, отделявшим нас от трапа. Мы хорошо слышали, что говорили четыре человека, не видя их, впрочем, они нас тоже не видели. Все четверо представляли командование «Яванской розы».
Кроме Ван Бека и Маурициуса там были помощник капитана и офицер-механик. Если раньше я не упоминал о последних двух, то только потому, что не хотел загромождать воспоминания, и так довольно перегруженные, лицами, так сказать, третьестепенными, несуществующими. В самом деле, оба они, один — американец, второй — швед, никогда не показывались. Они жили, ограничиваясь только своей работой и каютой. Это были простые винтики в системе судна. Тем более я удивился их неожиданно проявившейся горячности.
— Это самое чертовское безрассудство, о котором мне приходилось слышать в моей окаянной жизни! — кричал помощник капитана.
По акценту, которым каждый из говорящих коверкал английский, я мог идентифицировать их.
Механик-скандинав поддержал помощника капитана: — Никогда вы не заставите меня пойти на это!
— И все же вы поступите так, как хочу я, — спокойно сказал Ван Бек. — Вы прекрасно это знаете! Зачем терять время?
— Но посмотрите… Ради Христа! Взгляните на эту патоку! — возразил американец. — Каким образом вы надеетесь проделать три-четыре мили сквозь такое варенье? Послушайте, как воют другие суда! На этой проклятой реке скопился целый флот! Мы врежемся и даже не узнаем во что. Заговорил Маурициус.
— Это трудно, не спорю, — подтвердил он, — но мы выкрутимся.
— Вы дорожите своей долей? — спросил Ван Бек.
— Я больше дорожу своей шкурой, — проворчал швед.
— А я… — начал было помощник капитана.
— Хватит! — оборвал его Ван Бек. — Здесь командую я и Маурициус. Сегодня нам надлежит быть у Ванг-По — и мы там будем!
— Почему сегодня? — не успокаивался помощник капитана.
— Завтра будет другой таможенный офицер, и японцы не простят нам, если мы провалим это дело. Понятно?
Никто не рискнул возразить. Ван Бек приказал:
— В путь!
— В ад! — сказал американец.
В двадцать лет я совершенно не ведал страха. Мое мужество не являлось доблестью: оно основывалось на органическом неприятии того факта, что опасность будет преследовать меня больше, нежели удача. Однако внутри у меня как-то неприятно защемило, когда я почувствовал, что машины проснулись и судно тронулось с места.
Встретить лицом к лицу смертельного врага, смертельную обстановку или же смертоносное оружие, не дрогнув сердцем, можно, если ты в бою, не рассуждаешь и у тебя есть чувство неоправданного, но неоспоримого превосходства. Но гораздо труднее управлять своими нервами, когда у опасности нет лица и когда она окружает тебя со всех сторон.
Самым отвратительным днем за все мое пребывание на фронте был для меня один из тех, который я, офицер авиации, откомандированный на связь, провел в окопах и в течение которого взвод, взявший меня на довольствие, подвергался газовой атаке.
Впервые я ощутил на своем лице маску, неуловимое просачивание воздуха. Я боялся дышать. Мне постоянно казалось, что металлическое рыло, натянутое на мое лицо, прилегало неплотно. Мои мышцы и рефлексы не функционировали со свойственной им свободой — короче, я был словно пропитан недомоганием и страхом.
Нескольких оборотов винта было достаточно, чтобы заставить меня испытывать на «Яванской розе» ужас, довольно похожий по сути и силе на тот, что сжимал мне виски в один из осенних дней в Шампани, возле Берри-о-Бак.
Медленное, угнетающее, вызывающее стеснение в груди и удрученность продвижение вперед сквозь это тяжелое, вонючее, зловещее желтое вещество, в котором, кажется, увязла вся вселенная! Создавалось впечатление, что судно, пошатываясь, шло на ощупь.
Все вокруг таило неизвестность, предательство, ловушку.
При опасности человек всегда ощущает себя физически одним целым с машиной — самолетом, автомобилем или судном, — в которой он находится и от которой зависит. Уже не «Яванская роза» вслепую плыла по реке, уставленной невидимыми судами, а я сам с повязкой на глазах продвигался по узкой тропе, усеянной смертельными ловушками.
Всей своей плотью я ощущал поблизости присутствие судов, с которыми нас могла столкнуть малейшая ошибка. Конечно, они сигнализировали о своем местонахождении криками сирены, разумеется, наша сирена ни на секунду не переставала выть, но, хотя мой морской опыт был невелик, я знал, что невозможно в подобного рода тумане точно рассчитать дистанцию по звуку.
Чтобы отвлечься от душившего меня страха, я спросил себя вслух о причинах, побудивших Ван Бека на этот безрассудный маневр.
— У него, вероятно, встреча с китайскими партнерами в какой-нибудь бухте Ванг-По, — сказал я.
Поскольку Боб не отвечал, я задал ненужный вопрос.
— Ванг-По — это тот самый приток Желтой реки, ведущий в Шанхай?
— Ты прекрасно это знаешь, — раздраженно ответил Боб. — Мы вместе смотрели карту.
Несмотря на его резкий тон, в котором я почувствовал беспокойство, для него самого неприятное, я продолжал:
— Ван Бек хочет встретиться с контрабандистами любой ценой. Завтра будет уже поздно. Однако как он сможет их найти?
— Это его дело! — ответил Боб.
Он прикурил новую сигарету, от той, которую курил, и, не удержавшись, добавил:
— Мне все-таки представляется идиотством оставаться в этом отвратительном месиве ради двух су Ван Бека.
Мы молча постояли рядом. Каждый старался, хотя понимал тщетность усилий, рассмотреть что-либо в этом проклятом тумане, окутавшем судно. Иногда невольно я откидывался назад: мне казалось, что я различал силуэт гигантского судна, в которое мы вот-вот врежемся.
Порой в клейкой массе цвета серы я смутно угадывал лица, растения, животных или неясные тени. Затем все снова проваливалось в бездну.
Судно продвигалось плавно, осторожно, зловеще: можно было подумать, что оно везло умирающих. А сирена ревела, ревела и ревела…
— Слышал?
— Слышал?
Вопрос прозвучал одновременно. Мы с Бобом прошептали его, не веря своим ушам. Но коль скоро мы заговорили одновременно, это не могло быть галлюцинацией.
Настоящие, реальные, резкие крики явно прозвучали, крики нечеловеческие, на мгновение пронзившие чудовищный голос сирены, взмыв с моря за кормой судна.
Я прошептал:
— Джонка? Лодка?
А Боб уточнил мою мысль:
— Не имея возможности дать сигнал…
— Пошла ко дну? — спросил я.
— Спросишь об этом у Ван Бека, — ответил Боб.
Бросив начатую сигарету, он зажег другую.
Я тоже курил не переставая. Так, молча, мы выкурили все имевшиеся при нас сигареты, но, несмотря на жестокое лишение, которое представляло отсутствие табака в том нервном состоянии, в котором мы пребывали, ни я, ни Боб не хотели покинуть палубу даже на несколько секунд, чтобы сходить за новыми сигаретами.
Мы слились в одно целое с «Яванской розой». Мы боролись на том же дыхании, что и судно, мы проделывали ту же работу, дрожали от того же страха, и было необходимо, чтобы мы держались у релинга, почти не двигаясь, словно любое неосторожное движение может стать таким же губительным, как неверный маневр судна. И в самом деле, когда судно совершенно неощутимо перестало двигаться и остановилось, я почувствовал в его дереве и металле ослабление напряжения, успокоение, как и в моих собственных мышцах.
Только тогда Боб помчался в каюту и принес курево.
— Старина, — воскликнул я, — теперь я могу это сказать: я зверски струхнул!
— Тебе не показалось? — возразил, смеясь, Боб.
Но смех его был беззлобным. Радость, которую он испытывал, видя, что закончилось это адское плавание, сблизила нас особенным образом. Нет лучшего эликсира, чем чувство безопасности после длительной угрозы.
Тем временем Ван Бек упорно продолжал осуществление своего дерзкого замысла.
Едва «Яванская роза» остановилась, как мы увидели спущенные на воду две спасательные шлюпки. Владелец судна сел в первую. Маурициус — во вторую. За каждым последовали матросы.
Остальные китайцы из экипажа подавали им мешки, содержимое которых было мне известно.
— Они нас не стесняются! — заметил Боб.
— Они играют в орлянку, — ответил я. — Если им удастся встретиться с сообщниками, что им до нас! Но как, думаешь, они до них доберутся?
— Думаю, земля недалеко. Ван Бек и Маурициус наугад ткнутся в берег Ванг-По. Там они пошлют кого-нибудь, кто довольно хорошо знает местность, чтобы с закрытыми глазами отправиться по тропкам и дорожкам.
В то время как мы строили свои предположения, погрузка закончилась. Гребцы уже подняли весла. Но Ван Бек остановил их, поднялся на борт судна легким прыжком, чего его грузность, казалось, не должна была бы позволить.
Он подошел ко мне и сказал на ухо:
— Если вы попытаетесь проникнуть к Флоранс, мои люди имеют приказ пристрелить вас.
Он вернулся в шлюпку, не дав мне времени ответить. Туман мгновенно проглотил обе шлюпки.
XI
Если бы Ван Бек не высказал мне свою последнюю угрозу, имели бы последующие события такой же ход? Позже я часто задавал себе этот вопрос.
«Нельзя безнаказанно бросать вызов, — порой говорил я себе, — пытаться запугать молодого человека, едва вышедшего из юношеского возраста, привыкшего к опасностям, гордого до сумасбродства и не выносящего принуждения. Тем самым его толкают на крайности».
Но также я часто думал: «Ван Бек не был виновен в том, что произошло. Другой бы на моем месте, умнее, разумнее, остановился бы на откосе. Я же искал только предлога: предлог всегда найдется».
Какое объяснение было самым верным?
Разумеется, пока «Яванская роза» вслепую продвигалась, зажатая туманом и ревущими сиренами, я полностью забыл о Флоранс.
Привлекла бы она меня снова, если бы не вмешательство Ван Бека? Неподвижность судна, желтая тоска (не нахожу другого слова), которая давила нас, — только ли это могло бы вновь вернуть меня к неотступной мысли о ее плоти, желанию обладать ею?
Ван Бек был тому причиной или я сам неожиданным импульсом был брошен к коридору, который вел к каюте метиски? Со всей искренностью говорю я так и не знаю этого…
Когда внешние обстоятельства находятся в гармонии с темпераментом, трудно угадать, куда выведет судьба. Все, что я могу сделать, это рассказать по возможности точнее о поступках, совершенных мной и остальными на «Яванской розе», пленнице у берегов Ванг-По в невероятно сгущающемся тумане, так как уже стала наступать ночь.
Шум весел, на которых скользили невидимые шлюпки, еще не утих, как я уже мчался к каюте Флоранс.
Перед дверью, сидя на корточках, дежурил китаец с ужасным шрамом на шее. У его правой ноги, босой и грязной, лежал большой пистолет американского производства. Ему достаточно было лишь протянуть лежащую на колене руку, чтобы схватить его.
Казалось, сторож Флоранс меня не заметил. Он не повернул головы в мою сторону, но я чувствовал, что его жестокие, блестящие, как черные бусинки, глазки следили за каждым моим движением.
Я прошел мимо него. Он быстро встал с оружием наготове.
На мгновение у меня возникла мысль броситься на него, ошеломить внезапностью нападения и пристукнуть его же револьвером. Но я почувствовал, что он окажется быстрее и точнее с бесстрастностью механизма. Кроме этого, в открытой каюте я заметил сэра Арчибальда. Он поднял бы тревогу, и, не говоря об опасности, я выглядел бы откровенно смешным в глазах Флоранс, которая через перегородку без труда могла бы наблюдать за дракой.
Именно в эту минуту метиска вновь стала иметь для меня значение, я поклялся проникнуть к ней.
По правде говоря, тяга к Флоранс, неотвязная мысль о ее теле ко мне не вернулись. Они исчезли, когда я узнал о ее болезни. То, что я хотел, это лишь видеть метиску, снова ею повелевать, насладиться согласием в ее гордых глазах и показать, что, невзирая на Ван Бека и его свору, я делал все, что мне хотелось. Тогда и только тогда я мог покинуть «Яванскую розу» со спокойной головой в отношении Флоранс и особенно относительно того, что я считал своим достоинством.
Я не знал, каким воспользуюсь средством, чтобы добиться свидания с ней, не имел даже смутного представления об этом, но чувствовал себя способным на все.
Жестокость, хитрость, ложь, подкуп — все средства были для меня хороши.
Не было запрещенных средств против людей на «Яванской розе».
Успокоив себя таким образом и чтобы не показать, будто я бегу от китайского матроса, я вошел к сэру Арчибальду.
Он лежал на своей койке. Рядом стояла бутылка виски: она была пуста на три четверти. Казалось, он пребывал в лучшем расположении духа.
Сэр Арчибальд встал и очень вежливо приветствовал меня. Можно было подумать, что он все забыл: свои переживания, приступы истерии, слезы, ярость и даже свое мучительное признание об ужасной болезни, разрушавшей Флоранс.
— Как это любезно с вашей стороны! — воскликнул он. — Нет… не то… ваш поступок заслуживает более точного слова… Вот, вот я нашел… джентльмен всегда правильно поступает… как это трогательно и деликатно с вашей стороны нанести визит старому человеку, которого изнуряет этот туман и который лечится, как может.
Я пытался уловить иронию в его словах, но не заметил ни малейшего оттенка. Мне пришлось отметить искренность сэра Арчибальда, когда он самым дружеским тоном предложил мне допить с ним бутылку.
Пока он наливал мне, я сел на его койку. И тут я увидел внутреннюю дверь — дверь в другую каюту.
Я почувствовал, что кровь моя побежала быстрее. Эта дверь могла вести только в одну каюту: в каюту Флоранс.
Мне достаточно было встать, открыть или, если дверь была заперта, высадить ее — и я возле метиски. На все это хватило бы и секунды. Я вцепился в край койки, чтобы удержаться от порыва, по которому чуть было не бросился вперед, как баран.
Ибо стоило ли выламывать дверь, если китайская свора, примчавшаяся на крики сэра Арчибальда, принялась бы меня усмирять даже в объятиях Флоранс?
Я с трудом передохнул и жадно выпил спиртное, предложенное сэром Арчибальдом. Затем, чтобы отвлечься самому и отвлечь его от этой двери, которая приковывала мой взгляд, я произнес первое, что пришло в голову:
— Итак, мы почти в Шанхае…
— О, да, да, — подхватил сэр Арчибальд со словоохотливостью первых дней, — вот мы совсем близко, надеюсь, завтра мы будем там. Эти туманы не надолго остаются такими густыми. О, да, завтра мы в Шанхае. Это единственный город на Дальнем Востоке, достойный вас и меня, мой дорогой лейтенант, достойный порядочных людей. Вы его не знаете? Вы увидите, о! Вы увидите… бары… клубы… — Он замолчал, смутившись, и произнес тише: — Вы… вы… извините, что напоминаю вам… но… в конце концов… я уверен, что не забыли нашу игру в кости и…
— Мой долг? — машинально подхватил я.
— Я бы не осмелился… но раз вы произнесли это сами…
Детская жадность оживила его лицо. И внезапно благодаря этому способ, который я искал, чтобы проникнуть к Флоранс, оказался у меня в руках.
Удалить из каюты сэра Арчибальда. Получить свободный доступ к метиске. Обмануть таким образом бдительность китайского охранника. Если, по несчастью, он придет за мной в каюту сэра Арчибальда, тем хуже для него…
Но как выманить сэра Арчибальда из каюты? Он сам навел меня на эту мысль — игрой.
Таков был план, который я только что придумал с лихорадочной быстротой.
— Долг в игре — это для джентльмена свято, вам это известно, — сказал я, пожимая плечами. — Но вам также известно, что между джентльменами имеется право отыграться.
— Я готов, — воскликнул сэр Арчибальд, — абсолютно готов! Какое несчастье, что на этой отвратительной калоше каюты не располагают к этому! Мы все же не можем играть, подобно этим грязным китайцам, на убогой койке или на полу. Пойдем в бар.
Некоторое время спустя мы сидели в обеденном зале: моя западня подготавливалась.
Но чтобы я мог ею воспользоваться, мне нужно было освободиться от сэра Арчибальда. Я приказал маленькому малайцу найти Боба и привести его сюда.
— Вы предпочитаете игру втроем? — спросил сэр Арчибальд с явным удовольствием.
— Да, но через несколько минут, — ответил я, — так как вспомнил, что не закрыл свой багаж. С этими ворами-матросами нужно быть начеку. Я хочу попросить своего товарища временно поиграть вместо меня.
— Ах, нет, нет! — крикнул сэр Арчибальд. Затем, как бы стыдясь своего недоверия, он добавил: Я имел удовольствие начать партию с вами… значит… вы понимаете… мы и должны ее закончить… если вам будет приятно, я провожу вас в каюту и мы… мы поболтаем, пока вы приведете в порядок свои вещи.
Посчитал ли я сэра Арчибальда более наивным, чем он был на самом деле, или Ван Бек преподал ему урок, который он не смог забыть, не знаю. Как бы там ни было, я ужасно смутился, но тут к нам подошел Боб.
По его лицу я сразу понял, что мой вызов ему не понравился. Возможно, он догадался о его причине.
— Какие приятные новости? — спросил он. — Умер Ван Бек?
Боб говорил по-английски довольно неважно. Кроме того, в силу своей быстрой и сухой манеры говорить, его вопросы звучали как утверждение. Поэтому, думаю, сэр Арчибальд принял его злословие за правду.
— Что? — вскричал он. — Что? Ван Бек… Возможно ли это?
Сильное волнение, надежда, которую он даже не попытался скрыть, привели в возбуждение старого алкоголика. Нечто вроде детского блеска появилось в его выцветших, потухших глазах. Он медленно поднял руки с жестом благодарности и облегчения.
— Боже мой!.. Боже мой… — начал он было.
Но Боб грубо оборвал этот безумный шепот.
— Никого не благодарите, — сказал он. — А если у вас видения, лечитесь!
— Но… но… — пролепетал сэр Арчибальд.
Боб безжалостно взглянул на него и заметил:
— Куда, черт побери, могут деться души убийц…
— Значит, значит, я не понял? — сказал сэр Арчибальд с горечью и бесконечной грустью.
Потом умоляюще произнес:
— Вы… вы никому не скажете, что услышали от меня сейчас?
Не ответив сэру Арчибальду, я объяснил Бобу:
— Мы хотели бы, чтоб ты был третьим в нашей игре.
— Никакого желания!
— Послушай…
Боб вышел, не удостоив меня ответом. Некоторое время я медлил. Но это был мой последний шанс.
— Я сейчас вернусь! — крикнул я сэру Арчибальду.
И тоже вышел из зала.
Боб, опершись о релинг, вглядывался в туман. Я подошел к нему вплотную и тихо сказал:
— Так ты держишь свое слово?
— Какое слово?
— Помогать мне.
— В чем?
Боб повернулся ко мне с самым непроницаемым и жестоким, самым упрямым видом. Я понял, что намеки его не удовлетворяют и предположения тоже, что он ничего не желает знать наполовину и мне придется выкладывать все начистоту, вплоть до моей последней просьбы. Чтобы скрыть свое унижение, я принял агрессивный тон.
— Не будь идиотом, — сказал я Бобу. — Ты прекрасно знаешь, о чем идет речь.
— Тебе так трудно изъясняться точнее?
Я сделал над собой усилие, стараясь, чтобы Боб этого не заметил, и продолжал:
— Мне нужно, чтобы ты задержал старика.
— Зачем?
— Чтобы я смог увидеться с Флоранс, — сказал я, сжав зубы.
Боб отвратительно ухмыльнулся:
— Я думал, с тебя уже хватит. — И, передразнивая меня: — Кончено, и удачно!
Я почувствовал, что покраснел, и крикнул:
— Да не ради нее, а для того, чтобы показать Ван Беку…
— Что ты не боишься его китайца, — закончил со злой иронией Боб. — Замечательное чувство и прекрасно подходит к твоему типу красоты. Но я-то тут при чем?
— Ты обещал мне…
— Извини, речь шла о Флоранс, а не о Ван Беке, — ответил Боб жестоко.
Он был прав и тем самым уязвлял мое самолюбие. Все мои доводы были опрокинуты, и мне оставалось либо отказаться от необходимой помощи, либо признать, что пренебрежение к Флоранс притворно!
Всем мужчинам известно, чего стоит подобное признание, когда оно делается недоброжелательному свидетелю. Для молодого петушка унижение было ужасным. Однако я сам этого захотел. В этой противоречивой, суетной борьбе то, что заставляло меня сломить и Флоранс, и Ван Бека, и Боба, и сэра Арчибальда, и китайца-охранника казалось мне самым важным. Но к Бобу я испытывал настоящую ненависть.
Конечно, я должен был догадаться, что по своей силе самолюбие, не позволяющее подчиняться моим прихотям, играло меньшую роль, чем естественная ревность и страсть, которые алкоголь уже не усмирял. Но в двадцать лет имеешь возможность жить с такой жаждой и полнотой, что нет ни желания, ни времени заниматься ничьим другим сердцем, кроме своего.
Я изобразил не очень приятную улыбку и сказал Бобу:
— Нет, малыш, — это обращение у нас было самым обидным, — нет, малыш, ты так просто не уйдешь. Я хочу видеть Флоранс, такова моя фантазия, мой каприз. Я предпочитаю скучать возле красивой девушки, которая меня любит. Думаю, это мое право!
Боб помедлил с ответом. Он не ожидал ни такого хода, ни такой неискренности. Я воспользовался своим преимуществом и продолжал с возросшей дерзостью:
— Удобно начинать разглагольствовать, когда пьян. Ты не находишь?
И как Боб использовал мои высказывания против меня, так и я воспользовался его высказываниями против него. И я произнес, стараясь воспроизвести его интонацию:
— Я в твоем распоряжении, располагай мной, как хочешь, если тебе потребуется помочь переспать с Флоранс…
— Ты это сделал и благодаря мне! — прервал Боб яростным шепотом.
Он был очень бледен, и губы его вздрагивали. Потом он глубоко вздохнул и сказал:
— Ты это сделал благодаря мне. Больше я ничего тебе не должен.
Тут я попал в еще более затруднительное положение, чем все то, от чего мне пришлось страдать. В самом деле, я заставил поверить в мой полный успех у Флоранс. Больше того, я все сделал, чтобы Боб в это поверил. Эта ложь меня полностью обезоружила.
Боб был искренен, Боб был прав. Он вызвался мне помочь сделать Флоранс моей любовницей. В его глазах она ею стала. Он выполнил свои обязательства: он оплатил свой долг.
А я, что теперь мне делать? Отступить? Покаяться после того, как я изобразил, мне так показалось, свое блистательное превосходство? Или открыть Бобу, что я не был любовником Флоранс и что мои притязания на эту роль были враньем?
Думаю, что я был бы не способен решиться на подобное унижение, если бы Боб не принудил меня к этому.
— Я всякий раз должен класть ее тебе в кровать? — спросил он с полным горечи сарказмом, который я счел проявлением оскорбительнейшего презрения.
Я изобразил ледяное спокойствие и, приложив усилие сделать ровным свой голос и не допустить, чтобы досада и гнев заставили его дрогнуть, медленно произнес:
— Боб, ты не заслуживаешь того, чтобы настоящий мужчина пожал тебе руку. Ты потворствуешь кретинам и отказываешься от долга чести. О! Не принимай вид лжесвидетеля… Ты очень хорошо знаешь, что я не мог овладеть Флоранс…
— Что! Ты хочешь, чтоб я поверил…
Боб не закончил свое восклицание и прошептал, размышляя вслух:
— Да, разумеется, это должно быть правдой: ты бы не похвастался таким событием.
Странным образом черты его лица, напряженные во время нашего разговора, смягчились и тело расслабилось. Я заподозрил в этом спокойствии новую насмешку.
— Не думай, — сказал я, испытывая неодолимую потребность заставить Боба страдать. — Не думай, что Флоранс меня отвергла. Тебе так хочется этого! Между нами есть разница, малыш. Она сказала, что обожает меня. Нам не хватило времени. Вот в чем дело. Но не волнуйся, я больше ни о чем тебя не попрошу — я сам справлюсь. Просто я хотел знать, чего стоят обещания пьяницы. Теперь я это знаю. Спасибо.
В эту минуту я уже не знал, что делал. Возмущение, бывшее вначале притворным, стало подлинным. В своем суетном, доведенном до пытки стремлении причинить страдания, жгучем желании оправдать свое недостойное поведение я извращал факты и чувства с такой страстью, что верил в то, что говорил.
Боб был врун, хвастливый предатель, а я — жертва своей доверчивости, благородства чувств, возвышенной души.
Движимый искренним чувством попранной верности, я повернулся к Бобу спиной, спокойно, ничего больше не ожидая от него.
Как удалось Бобу не поверить в эту игру, тогда как сам я в нее верил? Он вцепился в меня руками. Он с силой оттащил меня назад и проговорил свистящим голосом:
— Извини меня за то, что я счел тебя более расторопным и быстрым в любовных делах. Раз уж ты нуждаешься в подходящем помещении, я снова в твоем распоряжении. Но это в последний раз… иначе… чтобы отделаться от тебя… метиска окажется в моих руках…
— Будь спокоен, — ответил я, понимая, что назад хода не было. — Будь абсолютно спокоен: мне нужно четверть часа.
Так решилась судьба Флоранс.
— Твой план? — спросил Боб.
— Навязать старцу крутой покер. Чтобы его забрало донельзя, чтобы он забыл обо всем на свете, когда я оставлю вас наедине.
— В кредит?
— Я расплачусь в Шанхае. Он согласен. Подожди… подожди.
Я увидел в своем плане просчет: выигрывая, сэр Арчибальд не выпустит меня из-за стола.
Я был опытный игрок и знал, что, только проигрывая большие суммы и пытаясь отыграть проигранные деньги, человек полностью находится во власти страсти. Я продолжал, скорее для самого себя, чем для Боба:
— Нужно играть осторожно, как профессионал. Старик должен гнаться за ставкой.
Боб любил карты так же, как и я. Он все понял без лишних объяснений. Но он хотел отплатить мне еще раз:
— Мы должны выиграть? — спросил он. — Так, да?
— Да, так.
— А если удача будет на стороне старика?
Я ничего не ответил.
Боб еще раз спросил, чеканя слова:
— Тем хуже для него? Я ничего не ответил.
— Договорились! — сказал Боб.
Затем, словно чтобы подчеркнуть, что он всего лишь мой помощник, посторонился, кивнув с мрачной веселостью:
— Иди первым, ты мой шеф!
Мы отправились играть на метиску.
— В добрый час! Я уже начал отчаиваться, — вздохнул сэр Арчибальд, завидев нас.
Слева у него был стаканчик с костями, справа колода карт. Рядом стояла бутылка виски.
— Видите, — сказал он, — я все… я все приготовил, пока вы беседовали.
— Мы задержались, — сказал я. — Дело в том… Пребывая в добром расположении духа, сэр Арчибальд остановил меня:
— Не извиняйтесь, прошу вас. Вам, несомненно, надо было уладить на завтра служебные дела в Шанхае. Я понимаю. Никто не способен понять лучше, чем я. Служба прежде всего, а… — Оборвав себя, он спросил: — Начнем?
Не сказав ни слова, Боб принялся сдавать карты.
— Покер! — воскликнул сэр Арчибальд. — О! Какую радость вы мне доставляете, дорогие господа лейтенанты! Целую вечность я не играл в покер с джентльменами.
Боб взглянул на меня с улыбкой. От этой улыбки мне плохо до сих пор.
Инстинктивно я пытался оттянуть момент.
— Секунду, — сказал я. — Как мы играем? С удвоенной ставкой? Бленд? На ставку?
— Предлагаю по максимуму, — сказал Боб. — Весь банк, потому что нас только трое, и я вынимаю шестерки.
Это были адские условия. Я следил за сэром Арчибальдом, надеясь, что он испугается и откажется. В самом деле, казалось, у него перехватило дыхание. Но только от волнения. Я понял это, когда он воскликнул в жарком порыве:
— Да, да, черт побери! Игра есть игра. Никаких сантиментов. Никаких отговорок. Я буду играть, черт возьми!
До сих пор я не слышал, как сэр Арчибальд ругается. Я ни разу не видел, чтобы он ударил по столу своим немощным кулаком, как он сделал это сейчас.
— Да здравствует молодость! — воскликнул он. — Вы меня делаете молодым. Ваше здоровье, джентльмены.
Он встал, поклонился в нашу сторону, выпил стакан и торжественно произнес:
— За работу!
Начатый в таком духе, наш покер принял сразу наступательный ход.
Искушенный в игре человек почти сразу и наверняка уже по первому кругу определяет, к какому накалу и к какому проигрышу может привести партия. Но никто не смог бы разгадать того, что затеяли мы. Игра интенсивно началась, хотя обычно так ее заканчивают.
Не буду рассказывать о периодах, чередованиях, подсчетах, дерзких выпадах и удачных комбинациях. К чему! Те, кто не знает или не любит правила и неожиданности этой великолепной игры, не сможет оценить ее развитие. Остальные могут легко представить себе задор и страсть нашей схватки.
В сущности, из трех противников я был самым слабым. По натуре я не обладал ни терпением, ни расчетливостью. Боб и сэр Арчибальд, конечно, тоже; однако первый имел передо мной преимущество в самообладании, а второй так поклонялся игре, что полностью подчинялся ее правилам. Таким образом, в покере этот импульсивный человек, этот алкоголик, шут гороховый, этот тронутый оказался вооружен лучше, чем мы.
Тем не менее мое желание выиграть любой ценой и особая ставка в этой партии заставили меня довольно хорошо защищаться.
Боб также проявил осторожность. По истечении часа мы были в равном положении, и проигрыш был невелик.
Но я уже израсходовал все свои ресурсы самоконтроля. Мало того что я не был к этому привычен, еще и время мое было так рассчитано, что я не мог больше следовать холодной тактике. Требовалось решение, и быстрое. Я увеличил ставки, и так уже чрезмерные. Мне хотелось, чтобы каждый ход стал роковым для сэра Арчибальда. Я начал нещадно блефовать.
Первые мои попытки принесли успех, но старый профессионал в покере быстро уловил маневр. Странной формы китайские жетоны, которыми мы пользовались, быстро собрались перед сэром Арчибальдом. Ибо моя глупость, заставляя проигрывать меня, полностью расстраивала игру Боба, и он тоже проигрывал.
— Я был прав, когда хотел воздержаться, — сказал Боб со странной интонацией.
— Ну, ну, мой молодой друг, побольше мужества! — воскликнул сэр Арчибальд, находясь на вершине блаженства. — На что вам жаловаться? У вас впереди целая жизнь для выигрыша. Тогда как такой старик, как я… О! Прекрасный банк!
Я сдавал карты и, пользуясь этим преимуществом, удвоил прежнюю ставку. Мы сделали пасс все трое. При следующей сдаче — то же самое. Сумма на столе таким образом утроилась. Это была самая большая сумма за весь вечер.
Боб пристально взглянул на меня и сказал:
— Это будет мое, предупреждаю вас.
— В любом случае я открываю, — ответил сэр Арчибальд.
Он подвинул вперед значительную стопку жетонов. Боб и я сделали то же. Я сдал карты каждому, сколько тот просил. Сэр Арчибальд попросил две, Боб — три.
Сначала выигрывал старый англичанин. Я взглянул в свои карты: положение не улучшилось. Я был вне игры. Сэр Арчибальд с наслаждением медленно открывал карты. А Боб… что делал Боб?
Я видел, что его левая рука скользнула к картам, которые он сбросил, и взяла оттуда одну, присоединив ее к картам в правой руке. И в то время как он совершал свое мошенничество, его глаза, жестокие, блестящие, безжалостные, не отрывались от моих. Провоцировал ли он меня на взрыв, на несогласие? Хотел ли показать, что надо идти на все ради удовлетворения своего желания, или, напротив, забавлялся тем, что сможет измерить степень низости, на которую я способен? Ибо, если Боб и мошенничал, то в угоду мне. В течение всей партии он был моим инструментом: мы так условились…
Да, если Боб и мошенничал, то ради меня. Его взгляд красноречиво говорил об этом, а также относительная медленность его жеста, уверенного, ловкого и провоцирующего.
С ужасом, а также с надеждой я взглянул на сэра Арчибальда: может, он заметил… Но старый игрок, конечно непрерывно следивший за партнерами в игорном доме, на «Яванской розе» предался блаженному доверию. Разве он имел дело не с офицерами, не с джентльменами с честными руками?
Тем временем руки Боба закончили свою работу. У меня было время помешать его действию.
Как я проклинал тогда хитросплетение обстоятельств, приведшее меня к тому, что, еще два часа назад свободный в своих поступках, я превратился в раба, покорного бесовским выходкам! Два часа назад я вновь сблизился с Бобом, думал лишь о неисчерпаемых и доступных условиях, которые нам обещал Шанхай. А теперь я стал непримиримым врагом лучшего товарища, мне надлежало переспать с больной девицей, нести бремя отвратительного жульничества! Ибо я хорошо понимал: я не помешаю, я позволю Бобу мошенничать ради меня.
Откуда эта пассивность? Из-за Флоранс? Конечно, нет. Я не думал о ней в эту минуту, или, если ее образ и возникал в моей голове, инстинктивно я чувствовал к ней враждебность, как к первопричине моего отвратительного падения.
Итак, поскольку этот покер не имел целью честный выигрыш, я считал себя вправе не соблюдать правила порядочности? Или мною безотчетно руководило оправдание, которое я заранее дал всем моим поступкам? Извиняло ли меня в моих собственных глазах данное себе обещание возместить украденные таким способом деньги? Или же желтый туман, которым я дышал целый день, проник в мою кровь и стал началом распада, гниения, извращения, как посев личинок?
Не знаю. Возможно ли знать это?
Сколько раз с тех пор мне случалось, когда я был уже более зрелым и умом, и чувствами и находился в нормальных условиях, сколько раз приходилось мне начинать день и ночь с самым светлым намерением, с самым легким сердцем, а заканчивать с отвращением к самому себе в гибельном водопаде обстоятельств с виду незначительных, но переплетение и насыщенность которых незаметно приводили к последствиям, которые заранее невозможно было бы предположить.
Опыт подобного рода, когда постигаешь свою слабость, когда исчезает уважение к себе, жесток, и единственная польза от него — меланхолическая терпимость, в которую надлежит облекать человеческие поступки, если хочешь иметь право дышать. Но это чувство было мне еще неизвестно, когда «Яванская роза» убаюкивала мои страсти и невзгоды на Ванг-По.
С чувством, что совершаю преступление, следил я теперь за развитием роковой партии.
Боб сорвал крупный банк. Он подстроил себе фулл. Если бы он не подложил себе нужную карту, он проиграл бы, имея две одинаковые пары карт.
Этот первый удар вывел сэра Арчибальда из равновесия. Он тоже увеличил свои ставки, тоже начал блефовать направо и налево. Бобу не надо было больше ловить удачу владея своими нервами, он владел игрой. Вскоре благодаря ему я почувствовал, что цель, которую я поставил, была достигнута: сэр Арчибальд полностью потерял представление о реальности.
Однако я не думал воспользоваться этой удачей. Я больше ничего не хотел, я ко всему питал отвращение. Я механически держал в руках карты и жетоны, автоматически произносил привычные слова:
— Открываю… Удваиваю… Беру…
Мною овладело какое-то бессознательное состояние, в котором смутно проносились лица метиски и ее охранника. И даже звук колокольчика, на который вышел бой-малаец, не смог вывести меня из оцепенения. Однако звонок мог идти только из одной каюты, поскольку остальные были пусты, только из каюты, которую занимала Флоранс.
Но какое мне было дело до этой девицы! Я уже заплатил за нее слишком дорого. Боб придумал месть, и я ничего не мог сделать. По крайней мере, я так думал.
— Ты не видишь, что юнга тебя зовет! — неожиданно сказал мне Боб.
Я решил, что это дурная шутка. Но это была правда. Из коридора мальчик подавал мне знак.
— В чем дело? — спросил я.
— Я прошел мимо твоей каюты, — сказал юнга. — Я хочу тебе что-то показать.
Мне нетрудно было догадаться, что маленький малаец имел для меня сообщение от Флоранс. Я неторопливо поднялся, сказав:
— Сейчас вернусь.
Когда мы вышли в коридор, я нетерпеливо приказал мальчику:
— Ну, говори! Что ей от меня нужно?
Юнга ничего не ответил, только отвел меня к моей каюте.
Я спросил:
— Значит, в самом деле…
Я не смог закончить. Мальчик толкнул дверь — Флоранс была на моей койке.
XII
— Как ты это сделала?
Я даже не закрыл двери, когда крикнул это. Не удивление было главной причиной моей неосторожности и стремления все узнать. Меня подмывало чувство более глубокое и болезненное: хитрость оказалось не нужна, хитрость, которая довела меня до низости.
Какая насмешка! Чтобы получить свободный доступ в каюту Флоранс, я дошел до того, что просил Боба смошенничать в картах. А Флоранс сама оказалась у меня.
Я повторил с глухой яростью:
— Как тебе это удалось?
— Какая разница, любовь моя? — нежно спросила метиска.
— Мне нужно… мне нужно знать.
Флоранс улыбнулась мне, как капризному ребенку, и сказала:
— Через общую дверь. Мне удалось открыть замок, я прошла сзади Сяо, я была без туфель: он не услышал меня… Теперь ты доволен?
— Да, да, — прошептал я.
— Тогда иди ко мне поближе, жизнь моя.
— Подожди… подожди… Я должен пойти сказать…
Я побежал в обеденный зал. — Но мне не пришлось извиняться перед сэром Арчибальдом. Моя удача превзошла все ожидания: покер втроем превратился в покер вдвоем. Игорный наркоман не хотел терять даже нескольких минут. Теперь ничто больше его не интересовало: только бы держать в руках карты и перебирать жетоны.
Боб, если и увидел меня, не дал этого понять.
Когда я вернулся к Флоранс, я был совершенно спокоен. Так всегда случалось, если я чувствовал в себе неподвластные мне силы. Неважно, что я сам вызвал, разжег их. Они овладели мной, и я отдавался во власть им без сожаления и опасения.
Я тщательно запер каюту и с наслаждением предался любованию Флоранс, ибо она была красива, как никогда.
Она неподвижно лежала на спине, положив голову на сложенные кольцом руки цвета слоновой кости. Босая. На ней был тот же пеньюар, что накануне, и, несмотря на тусклый свет, отбрасываемый электрической лампочкой, освещения хватило, чтобы увидеть всю прелесть тела, которое я прижимал к себе и которое не мог увидеть тогда ночью. Я долго любовался им. Угадывалась каждая мышца под тонкой тканью, плотно, словно мокрая, облегавшей его. А также богатство, совершенство и нежность молодой плоти…
На мгновение у меня мелькнула мысль, что эта великолепная пульпа скрывает гниение плода. Но этот образ тут же исчез без малейшего с моей стороны усилия.
Беспечность, безрассудство, уверенность в своей звезде снова выступили на первый план.
Мне не надо было подавлять страх, чтобы соединиться с больной женщиной, так как мое везение, я был в этом уверен, защищало меня от ее болезни. Хватало того, что она возбуждала во мне достаточно желания.
В самом деле, от Флоранс исходила необыкновенная чувственная власть.
Я забыл Боба, сэра Арчибальда и самого себя.
Я хотел только взять эту женщину, и теперь, я знал, наступил момент, когда мое желание будет утолено. В глазах Флоранс, расширившихся, сияющих, счастливых и боязливых, я читал мольбу и неумолимый призыв.
И все произошло, как в ярком сне. Я снял форму. Электричество погасло: это было единственным сопротивлением Флоранс.
Я очень смутно помню тесный контакт с ее телом, то непонятное сопротивление, в котором Флоранс, казалось, не участвовала, и наконец мое ликование.
Когда я пришел в себя и зажег свет, я в самом деле решил, что волнения на протяжении всего дня помутили мой разум…
Следы на моей койке, чисто физическое страдание, искажавшее лицо Флоранс… неужели… нет, невозможно. Но внезапно я вспомнил и странное, пассивное сопротивление, которое мне пришлось победить, и пролепетал:
— Но ты… ты была… ты не знала мужчин до… до…
Не ответив, Флоранс прижалась ко мне в искреннем порыве, страсть и радость которого должны были наполнить меня самой бурной и чувственной нежностью.
Но я отодвинул ее, чтобы прийти в себя, привести в порядок мысли, чувства, вдруг нахлынувшие на меня.
Флоранс… да, Флоранс… приходилось верить этому, Флоранс была девственницей.
«Флоранс — девственница… Флоранс — девственница…»
Я вынужден был повторить, внутренне отчеканить эти два слова, чтобы попытаться соединить их в одно целое, чтобы они дошли до сознания, стали приемлемы. Я был так далек от этого несколькими минутами раньше!
Да, я имел Флоранс нетронутой. Но тогда… тогда… она не могла быть больна. Значит, не на это она намекала, когда умоляла меня в шлюпке:
— Не надо… ради тебя…
В таком случае что означала чудовищная ложь сэра Арчибальда? И… и… он не был ее любовником. Тогда откуда эта ревность, эти истерические сцены, это полузаточение? Что означала столь опасная и глупая игра? А ярость Ван Бека? А мои уловки? И все это безумие? Кого дурачили? Кто был жертвой?
Не занимаясь больше Флоранс, я спрыгнул с койки, оделся в дикой спешке и бросился к бару.
Сэр Арчибальд и Боб продолжали покер двух сумасшедших.
Я смел ладонью карты, жетоны, стаканы и крикнул:
— Довольно! Довольно! Хватит этой комедии!
— Послушай… — начал Боб угрожающим тоном.
Но он не закончил: выражение моего лица, должно быть, подсказало ему, что происшествие, заставившее меня действовать таким образом, было выше наших ссор.
— Но я много проиграл! — взвизгнул сэр Арчибальд. — Вы должны дать мне возможность…
Я дико заорал:
— Идите к черту со своей возможностью! За этим столом нет ни проигрыша, ни выигрыша, мы вас надули.
— Что… что? — пролепетал сэр Арчибальд, и голова его вертелась от одного к другому, как у сломанной игрушки.
— Да, да, надули, — повторил я. — Но не настолько, насколько вы! Эта болезнь…
— О! Вы дали слово офицера никому не говорить об этом, — простонал сэр Арчибальд.
— Вижу, я здесь лишний! — заметил Боб.
— Нет, останься, — сказал я, видя, что он хочет выйти. — Оставайся здесь, говорю! А вы, сэр Арчибальд, идемте немедленно со мной, мы объяснимся раз и навсегда.
Я прошел в коридор впереди старого англичанина, на ходу закрыл на ключ свою каюту и вышел на палубу.
Минуту спустя показался сэр Арчибальд. Он больше не думал об игре: смертельное волнение искажало его лицо.
— Что… да, именно… что… вам от меня угодно? — с трудом вымолвил он.
— Я хочу понять! — крикнул я.
— Но что, Боже мой?
— Все, да, все: почему вы на этом судне, почему плачете, постоянно дрожите, думая о Ван Беке, что делает Флоранс во всей этой истории?.. И прежде всего… прежде всего, зачем вы выдумали ей сифилис?
— Но я ничего… я… Неправда, я ничего не выдумал.
— Послушайте, сэр Арчибальд, вы что, в самом деле принимаете меня за идиота? Не на этой ли палубе, не на этом ли самом месте, не так ли, вы…
— Да, да… я сказал это.
— Ну и?
— Ну, это не выдумано… это истинная правда.
Я так сильно встряхнул сэра Арчибальда, что сам испугался: вдруг его костлявое, плохо собранное тело рассыплется. Одновременно я выкрикивал оскорбления:
— Если бы вы не были таким старым, если бы вы не были живой чуркой, с каким удовольствием я расплющил бы вашу физиономию!
Внезапно я выпустил сэра Арчибальда: он наполовину осел, не сопротивляясь моим скотским манерам, потом со стоном поднялся.
— Тогда не угодно ли вам будет сказать, кто заразил Флоранс? — спросил я.
— О! Во имя неба, умоляю вас! — прошептал сэр Арчибальд.
— Я не оставлю вас в покое, пока вы мне не ответите.
— Откуда мне знать! — сказал старый англичанин, издав нечто вроде икания… — Какой-нибудь мужчина.
— Тогда этим мужчиной могу быть только я!
— Почему? Почему? — взвыл сэр Арчибальд. — Что вы хотите сказать? Сжальтесь!..
— Я хочу сказать, что Флоранс была девственницей.
— Откуда вам это известно?
На этот крик, хриплый, ужасный, вырвавшийся скорее из утробы, чем из горла, я осмелился ответить тем же тоном, что и прежде.
— Боже праведный! — воскликнул я. — Вы что, не понимаете, старый идиот, что я только что переспал с ней?
— Нет, нет… это не… — прошептал сэр Арчибальд.
И он медленно осел на палубу.
«Этот шут упал в обморок. Только этого не хватало!»
Такова была единственная сострадательная мысль, которую вызвало у меня падение сэра Арчибальда. И если я и поднял его, если и отнес к бару, влил в рот большую порцию виски, то не из жалости, которую был не способен испытывать к этому человеку; что меня подстегивало, так это желание допытаться. Боб застал меня за этим занятием.
— Ха! Ха! Наш шут готов! — сказал он. А затем продолжал: — Я вижу, ты превратил нашу каюту в персональную! О! Не извиняйся, прошу тебя: ты выиграл свою свадебную ночь.
И он вышел.
Сэр Арчибальд пришел в себя быстрее, чем я думал. Подлинное глубокое изумление выступало на его лице, но он не потерял нить своей мысли из-за обморока. Он прошептал:
— Итак, вы отняли ее у меня.
Я ответил как можно спокойнее, опасаясь, что сэр Арчибальд снова потеряет сознание, а это надолго затянуло бы нашу беседу, в которой я надеялся все выяснить.
— Послушайте, отвечайте, пожалуйста, разумно. Иногда вы кажетесь способным на это. Вы в самом деле надеялись сохранить лично для себя красивую девушку, к которой даже не прикасаетесь? По причине половой слабости, я полагаю?
— О! Замолчите! Во имя любви к Всевышнему! Вы даже не знаете, что говорите, несчастный!
Еще накануне сэр Арчибальд удивил меня искренностью своего невольного, живого и патетического возгласа. На этот раз снова и гораздо острее я почувствовал, что ничего не знаю об этом человеке. Но что именно хотел я знать?
К этим бесконечным загадкам добавилась еще одна. Раздражение уже переходило в жестокость, когда моих ушей коснулся приводящий в ужас нежный шепот.
— Мое дитя, мое бедное дитя! — повторял сэр Арчибальд.
Он спрятал подбородок, похожий на высохшую рыбью кость, в свои дрожащие ладони, и мелкие, смешные слезы побежали по его лицу с многочисленными бороздками морщин.
— Дитя мое! Мое бедное дитя! — плакал сэр Арчибальд.
Это было так просто и так светло, что я вздрогнул и с трудом выговорил:
— Вы… вы ее… отец, так? — спросил я. Он смиренно склонил голову.
— И выдумали… — продолжал я с пересохшим ртом, — выдумали эту историю с болезнью, чтобы удалить меня насовсем?
Мокрое лицо склонилось ниже.
— Но к чему, к чему весь этот маскарад? — вскричал я, изображая гнев, которого больше не испытывал, чтобы не признаться, что сцена этой тихой боли пробуждала во мне чувство, суть которого мне не хотелось определять.
— Из-за Ван Бека, — сказал сэр Арчибальд.
Он замолчал. Обычно такой словоохотливый, такой пространный в ненужных подробностях, он смолк. И мне пришлось вытягивать из него каждое слово.
Чем дольше длился этот допрос, тем больше мне становилось не по себе, потому что сама строгость изложения придавала словам сэра Арчибальда странное достоинство, ужасно не соответствующее его откровениям.
В то время я был способен чувствовать и воспринимать сложность, противоречивость человеческой натуры. Сэр Арчибальд открыл мне это, и я начал понимать, что часто нет ничего общего между стремлениями человека, его манерой понимать жизнь и тем, как он живет на самом деле.
— Ван Бек? — спросил я. — Да, я знаю, что он наводит на вас ужас, но все же вы не китайский кули, а если угодно, свободный человек…
— Я не свободный человек, — тихо прервал меня сэр Арчибальд.
— С каких пор?
— Уже двадцать лет: возраст Флоранс…
— Но какая связь между Флоранс и этим отвратительным животным?
— Она ему принадлежит.
— Что? Вы с ума сошли? — крикнул я.
Сэр Арчибальд медленно покачал головой, и, поистине никогда еще такой ясный свет не озарял его глаза. Я пылко продолжал:
— Вы не будете все же пытаться заставить меня поверить, что вы продали свою дочь?
Старый человек ничего не ответил.
— Во всяком случае, — проговорил я сквозь зубы, — даже если вы докатились до этого, сделки такого рода в наше время незаконны, насколько я знаю. Повсюду на побережье есть жандармы, судьи, представители из Европы.
— Я знаю, знаю, — прошептал сэр Арчибальд, — я сам им был… Я был на службе ее величества…
Он погрузился в глубокое раздумье.
Я понял, что был на верном пути, засыпая его беспорядочными вопросами. Каждый из них напоминал ему о возможных страданиях и величии, на которые, как он считал, имел право, а потому не хотел мне о них рассказывать.
Каким бы длинным, трудным и сбивчивым ни оказался рассказ о его жизни, я должен был знать ее с самого начала, если хотел, чтобы драма, в которой я так неожиданно принял двусмысленное участие, стала для меня постижимой.
Так отдельными обрывками и отдельными кусками, бесконечными повторами, то мягко, то жестоко я заставил сэра Арчибальда нарисовать мне линию его судьбы.
XIII
Сэр Арчибальд родился в семье небольшого дворянского рода в Суссексе. Его отец приобрел значительное состояние торговлей экзотическими продуктами. С самого детства сэр Арчибальд слышал и полюбил названия жарких стран, дальних островов, очарование которых столь сильно среди английских туманов. Желание увидеть эти страны толкнуло его после успешного завершения учебы на дипломатическое поприще. Его родители одобрили это влечение, достойное джентльмена.
Таким образом, к тридцати годам сэр Арчибальд выполнял функции британского вице-консула на острове Ява.
Когда я узнал эту подробность, я не смог удержаться от изумленного возгласа:
— Вам только пятьдесят лет?
— Пятьдесят два! — сказал сэр Арчибальд. — Что вас удивляет?
Он не понимал причину моего удивления: зеркала ему ни о чем не говорили. Я не настаивал.
В голландской Индии сэр Арчибальд вел приятную жизнь, которую ему предоставили титул, должность, доходы. Конечно, он уже любил виски и карты, но в меру приличий.
Однажды вечером в Английском клубе, выполняя функции председателя за обедом в честь победившей команды в регби, прибывшей из Лондона, сэр Арчибальд, выпив чуть больше обычного, позволил нескольким крепким ребятам, гостям колонии, увлечь себя в танцклуб. Прежде ему ни разу не хотелось его посетить: малайки, китаянки — словом, там были цветные женщины. Но как было сопротивляться приглашению членов команды, оказавших честь Объединенному Королевству?
— Кабачком владел Ван Бек, — сказал сэр Арчибальд. И глухо добавил: — Тоже из хорошей семьи, но сбившийся с пути с детства по своей собственной воле и склонностям.
Ван Бек раболепно бросился к вице-консулу. Трудно было удовлетворить такого посетителя. Он предоставил в распоряжение вице-консула и его гостей все спиртное и всех женщин своего заведения.
Среди женщин была одна китаянка с севера, высокая и красивая, с немного темноватой кожей, но лицо ее не носило ярких признаков Востока, которые сэр Арчибальд, как воспитанный в традициях англичанин, органически не выносил. В этот вечер, в состоянии опьянения, к чему он еще не был привычен, она ему понравилась.
Как он оказался с ней в номере кабаре? Он не мог этого сказать.
Почему в течение нескольких месяцев приходил на тайные свидания с ней, услужливо устраиваемые Ван Беком? На это он также не смог бы ответить.
В итоге китаянка забеременела, и родилась Флоранс.
Возглас отчаяния вырвался у сэра Арчибальда при этом воспоминании, он едва не задохнулся. Он откинул назад свое хрупкое тело, с трудом глотнул воздух и прошептал:
— Вице-консул Великобритании имел незаконную дочь, и эта дочь была метиской, — и это в конце прошлого века, при правлении королевы Виктории.
Сэр Арчибальд молча взирал на меня. Он не находил других слов, чтобы излить свое несчастье.
— Чтобы выпутаться из подобной истории, — продолжал он, — надо было быть невероятно сильным, невероятно ловким. Я не был ни сильным, ни ловким.
Снова последовало молчание. Я пытался представить себе вместо преждевременно состарившегося сэра Арчибальда того, который был во время рождения Флоранс. Он, должно быть, походил на тех молодых английских чиновников, которых я повидал за время своего путешествия: стройных и тщательно вымытых, без глубоких забот, корректных, держащихся на расстоянии и наивных, защищенных от окружения своей гордостью, воспитанием и целым сводом неукоснительных правил, которым они кротко подчинялись. То есть не сопротивляясь ни страсти, ни даже несчастному случаю.
В самом деле, в одно мгновение сэр Арчибальд оказался развратником, сумасшедшим, погибшим.
Естественно, он вверил свое спасение Ван Беку. Ван Бек стал тайным акушером китаянки, потом отправил мать и дочь в горную деревню, гарантировав сэру Арчибальду абсолютную тайну. Но за это он потребовал некоторую плату.
Для начала деньги.
Сэр Арчибальд был богат и не скупился.
Однако скоро Ван Бек перестал удовлетворяться одной только денежной платой. В это время он уже занимался контрабандой: табак, спиртное и опиум — такова была его специализация.
Он пользовался для своей торговли связями и влиянием сэра Арчибальда. Когда Ван Бек потребовал, чтобы дипломатический чемодан использовался в его целях, вице-консул воспротивился, но было уже поздно. Ван Бек грозился открыть не только существование маленькой метиски, но также льготы, которые ему предоставлял сэр Арчибальд для торговли.
Механизм шантажа не оставлял никакой возможности для спасения.
И двойная жизнь сэра Арчибальда продолжалась. Внешне он оставался уважаемым, опасным представителем самой большой империи на суше и на море, где продолжал пребывать в чести. В действительности — пассивный и дрожащий инструмент преступника. Ибо Ван Бек больше не стеснялся сэра Арчибальда. Он выкладывал ему свои комбинации, свою торговлю наркотиками, женщинами, давая понять, что человеческие жизни составляли часть его профессионального риска.
Чтобы забыть хотя бы на несколько часов это рабство, сэр Арчибальд пил и играл все чаще. В итоге он потерял контроль над своими поступками, самое элементарное чувство осторожности, совершая ошибку за ошибкой, — короче, он вел себя так, что его союз с Ван Беком обнаружился.
Скандал был шумным. Разоренный, обесчещенный, сэр Арчибальд избежал тюрьмы лишь благодаря дипломатической неприкосновенности. Когда он подал в отставку, дело было закончено или замято, как угодно.
Ван Бек воспользовался затишьем, чтобы исчезнуть. Он увез сэра Арчибальда. Что тот мог сделать, как не последовать за колоссом? У него не было больше ни состояния, ни службы. Он уже был отравлен алкоголем. Ничто не могло заставить его вернуться в Англию. Как и для большинства соотечественников сэра Арчибальда, она была для него священным островом, где падшие не имели права на существование. Наконец Ван Бек увез и Флоранс, которой было тогда шесть лет.
— Это было естественно, — объяснил сэр Арчибальд с несчастной улыбкой. — Мать умерла, и Ван Бек постоянно заботился о ребенке.
— А вы? — спросил я.
— О! Я, что я мог?.. Что я мог?.. Никто не должен был знать. Тогда время от времени Ван Бек привозил мне ее в горы. И все!
— Вы любили ее?
— Как свой грех и свое спасение.
Голос сэра Арчибальда задрожал впервые за все время этого нескончаемого признания. Остальные неудачи не имели для него значения: они были слишком давними. Они постигли другого человека. Но та, о которой он говорил теперь, жгла постоянно.
Я почувствовал это острее по внезапному и болезненному оживлению, с которым он вновь заговорил.
— Все остальное, — сказал он, — я Ван Беку прощаю. Понимаете, все, даже то, что он сделал со мной потом. Но Флоранс, моя бедная девочка, это необъяснимо. Она уже была невероятно красива, когда мы бежали с Явы, и в это время, я уверен, Ван Беку пришла в голову чудовищная мысль. Вы видели его губы? Это настоящие слизняки. Это губы, которые выражают вожделение и долго остаются мокрыми, насытившись. Так он выражает свое желание Флоранс.
Он решил однажды сделать ее своей женой. Но сначала он должен был ее приготовить, украсить, взрастить, как редкое растение. Он повез ее в Японию. Поручил французским монахиням. Не скупился ни на рекомендации, ни на деньги. Он потребовал, чтобы она научилась хорошим манерам, европейским языкам. Она получила утонченное воспитание.
Говорю вам, в течение десяти лет он готовил себе чистую, прекрасную невесту. Он терпеливо ждал, когда она расцветет, превратится в совершенство.
Сэр Арчибальд скрипнул зубами так сильно, что все его лицо исказилось. Потом воскликнул:
— Вы больше не спрашиваете меня. Как странно! Как раз в тот момент, когда это становится интересным!
Он был прав. Я был парализован непреодолимым отвращением. Моя молодость, какой бы бурной она ни была, испытывала лишь чистые и здоровые желания. То, что открыл мне сэр Арчибальд, представлялось уничтожающим блеск, богатство мира.
Я смог лишь ответить:
— Но как же, как же вы не помешали?..
— О! Я, — усмехнулся сэр Арчибальд, — я!..
Своими немощными руками он сделал жест, будто кидает горсть земли на гроб.
— Я был живой труп. Я ничего не соображал. Я ничего не замечал. Я испытывал даже признательность к Ван Беку. Мне понадобились годы, чтобы понять. Мог ли я вообразить? Да даже если бы и мог, я был связан, и с каждым годом все сильнее. Каждую свою операцию Ван Бек возлагал на меня. Я стал его подставным лицом. Боже! Где мы только не «работали»! От Сингапура до Австралии и Тонкина и на китайском побережье. У Ван Бека повсюду были связи. Он продавал краденый жемчуг, наркотики, ради которых убивали, он продавал кули, женщин, и при этом я всегда служил подставным лицом.
У него есть письма и документы, по которым он может меня повесить. Я не мог сопротивляться: я попал в хитросплетение обстоятельств. И к тому же существовала Флоранс, которую мы навещали каждую весну, которая подрастала, становясь все красивее.
Сэр Арчибальд еще раз горестно вздохнул — его вздох походил на хрип задыхающегося человека.
— Виски! — приказал он с диким нетерпением юнге, который как раз проходил по залу.
Мальчик принес нам выпить.
— Убирайся! — крикнул сэр Арчибальд. Маленький малаец вопросительно взглянул на меня.
— Да, да, — прошептал я.
Сэр Арчибальд продолжал свой рассказ. Теперь он говорил не для меня.
— Флоранс должно было исполниться двенадцать лет, когда Ван Бек в первый раз поцеловал ее, приласкал. Я был при этом, но даже не пошевельнулся. Удивление… страх… слабость. Все вместе. Но Флоранс поцарапала ногтями лицо Ван Бека. Казалось, он был от этого счастлив. «Через четыре года, — сказал он мне, — она станет еще более дикой, и это к лучшему!»
Однако через четыре года вспыхнула война. Она застала нас недалеко от Сиднея. Наше судно плавало под британским флагом: оно было реквизировано. Чтобы вернуться в Японию, нам пришлось ждать, ждать и ждать. Поэтому с 1914 года я не видел Флоранс. И вот несколько дней назад она встретила меня, как чужого.
— А Ван Бек? — спросил я.
— Она не захотела его видеть. Она закрылась в своей каюте. Это… О! Теперь я могу это сказать… она вышла из-за вас… Я… хотел помешать этому любой ценой…
— Почему? Да почему же? Вы ненавидите Ван Бека.
— Да, да. Но я боюсь. Я так боюсь его, так боюсь за нее! — Сэр Арчибальд понизил голос до едва различимого шепота. — Он попал в свою собственную ловушку. Он любит ее, как сумасшедший. Он готовился к свадебной ночи в течение четырнадцати лет. Он назвал судно «Яванская роза» в ее честь. Он должен жениться на ней в Макао, логове, где все пираты — его друзья. Если он не почувствует, как этого ожидает, что Флоранс не тронута, он ее задушит, я это чувствую, я знаю это… и… теперь — все кончено — он ее убьет. Вот что вы наделали. Однако я все сделал, все!
Руки сэра Арчибальда вновь закрыли лицо, как если бы он хотел спрятаться от видения, которое не мог больше выносить.
Но тут все мои силы проснулись, все мое нетерпение, вся добродетель моего возраста, умноженные, вспыхнувшие благодаря свободной и полной жизни.
Я схватил за руки сэра Арчибальда, оторвал от его лица, которое, как он желал, ничего бы не видело, и крикнул:
— Ван Бек не убьет Флоранс. Ван Бек не женится на Флоранс. Я заставлю вас защитить ее.
Сэр Арчибальд взглянул на меня, покачав головой, как старая лошадь, у которой больше нет сил.
— Защитить ее? Как? — спросил он.
— Вы пойдете к английскому консулу.
— Чтобы он бросил меня в тюрьму? Говорю вам, что Ван Бек может привести меня к виселице.
— Вы так дорожите своими оставшимися годами?
— Вы поймете, — сказал тихо сэр Арчибальд, — что в определенном возрасте не так легко уйти из жизни… Но дело не в этом. Что станет с моей девочкой? Танцовщица для матросов? Певица для китайцев? Она английской крови все-таки, не забывайте этого. И хорошей крови. Ван Бек богат… Ван Бек из благородной семьи… Однажды Ван Бек умрет, и тогда Флоранс…
Я оборвал эти высказывания, которыми сэр Арчибальд пытался, несомненно, утешиться не один раз.
— Она согласна на это?
Сэр Арчибальд посмотрел на меня невидящим взглядом.
— Но она ничего не знает! — ответил он. — Я не осмелился ей что-либо объяснить.
Он снова закрыл лицо руками. Его плечи сотрясались. Ничего нельзя было добиться от этого ничтожества, в котором сочетались трусость, физическое истощение, стыд и пронзительная боль.
— Ладно! — сказал я вдруг. — Я увезу вас в Европу!
Отчего мне пришло в голову это решение, которого я сам не ожидал и которое меня удивило так же, как если бы его принял кто-то за меня.
Вовсе не желание спасти сэра Арчибальда, ни даже Флоранс, толкнуло меня на это. Мне казалось невероятным, чтобы какой-то человек ужасом и деньгами мог распоряжаться по своему усмотрению двумя человеческими существами. Я взбунтовался во имя абстрактного понятия и в угоду демону свободы, силы, отваги, который жил у меня внутри и который должен был, по моему мнению, править миром.
Я тотчас испугался эффекта, который мои слова произвели на сэра Арчибальда. Дрожа от старческого гнева, он выпрямился, но руки его не подчинялись ему, и он тщетно пытался ухватить меня за отвороты кителя.
— Вы не имеете права! — крикнул он. — Я вам запрещаю… я вам запрещаю…
— Но в чем дело? В чем же дело?
— Вы шутите, вы меня оскорбляете! А я все вам сказал, все вам доверил, потому что… потому что вы понравились Флоранс. Почему же вы смеетесь надо мной?
— Да я и не думал! — воскликнул я. — Я говорил вам серьезно. Я не хочу оставлять вас Ван Беку.
Руки сэра Арчибальда поднялись до моих плеч. Он поднял ко мне свое лицо и долго, долго смотрел на меня.
— Вы в самом деле так подумали, — прошептал он, не веря. — Но… у вас же ни одного су!
— Я улажу это. Не беспокойтесь! — произнес я твердо. — Консул Франции… французская колония… У меня есть рекомендательные письма. Я объясню свое положение, займу.
Радостное удивление, невыразимая благодарность, проступившие на лице сэра Арчибальда, показались мне нелепыми и тягостными. Неважно, что мне предстояло добыть деньги. Моя природная непредусмотрительность преобразовалась в результате войны в головокружительную отвагу.
Зачем думать о завтрашнем дне, если этот завтрашний день с каждой минутой становился все опасней?..
Наше бесцельное путешествие, нашу прогулку вокруг света венчала мораль сражений. Нас повсюду встречали как победителей. Повсюду жалованье увеличивалось компенсацией на дорожные расходы. Деньги становились материальным элементом, не стоящим внимания, легко достигаемым, предназначенным для траты. До сих пор мои желания имели свойство возникать из обстоятельств, подобно тому, как маг вытаскивает туза из колоды карт.
Короче, мне ничего не стоило, во всех смыслах этого слова, искренне пообещать сэру Арчибальду и Флоранс поездку в Европу. Но для старого англичанина, падшего, жалкого, предмета презрения для других и прежде всего — для него самого, это предложение должно было выглядеть актом прекрасного милосердия и необузданной страсти.
При этом последнем предположении он замолчал.
— Вы… вы так ее любите? — пролепетал он.
Что мог я ответить этому несчастному, растерянному человеку, который выпрашивал подтверждение, чтобы поверить в невероятную надежду, которую я наконец ему дал?
Помедлив, я ответил:
— Разумеется, я дорожу Флоранс.
— Мое дитя в Европе! Возможно ли это? — прошептал, словно в экстазе, сэр Арчибальд. Но идея фикс вновь овладела им, и он спросил: — Как она ускользнет от Ван Бека?
— Очень просто, — ответил я, радуясь тому, что смогу окунуться в деятельность. — Вы поселитесь вместе с ней в английской миссии. Необходимо, чтобы вы или она добились этого от Ван Бека.
— Она этого добьется. Она этого добьется.
— Вы будете защищены от убийц Ван Бека, власть которого, думаю, вы преувеличиваете.
— О! Нет, нет. Вы не знаете…
— Хорошо, хорошо. Оставайтесь с вашими призраками и оборотнями!.. Но из английской миссии вместе со мной вы сядете на первое французское судно, готовое в назначенный день отплыть из Шанхая. Вас это устраивает?
— О да, Бог мой, о да!
Сэр Арчибальд улыбнулся, как ребенок, играющий в свои самые любимые игры.
— И как только мы прибудем в Европу, вы женитесь на Флоранс, — прошептал он.
Я рассмеялся и начал:
— Для этого…
Сэр Арчибальд не дал мне закончить. Испугался ли он, видя, что его прекрасные иллюзии рушатся? Догадался ли о том, что этот диалог наскучивал мне, или просто думал о нетерпении, в котором пребывала его дочь, ожидая меня? Не знаю. Но с детским выражением заговорщика, нелепым и трогательным одновременно, он шепнул:
— Идите! Идите теперь к ней, и да хранит вас Бог!
Когда я уходил, он добавил:
— Не думайте о Ван Беке. Он должен прибыть на судно, когда мы будем на причале.
XIV
Есть женщины, которые, даже испытывая удовольствие в чувственном диалоге, никогда не отдаются всеми своими фибрами, всей глубиной души. Они скорее присутствуют при соединении, полном наслаждения и неясных ощущений, и остаются пассивными, не получая за это вознаграждения.
Другие, напротив, созданы для плотского наслаждения. Независимо от опыта они умеют брать и дарить. Тела их предназначены для этого. У них формы, жар в крови, инстинкт сладострастия составляют науку, которой нельзя обучиться. Они обладают даром, милостью Божьей.
К их племени относилась и Флоранс. Мужчины это прекрасно в ней угадывали, ее присутствие имело власть, которая одной только красотой не объяснялась. Боб, так же, как и я, испытал это.
Как только я снова оказался с метиской, я забыл о рассказе сэра Арчибальда и обязательствах, под которыми только что подписался.
Ночь, тайна, желтый туман, трагедия старого англичанина, угрозы Ван Бека, нависшие над прекрасной головой Флоранс, — все растаяло в прогнувшемся примитивном ложе, узком, как походная кровать, не позволявшем лечь двоим.
Даже в этом возрасте я редко испытывал такое острое, такое ненасытное физическое удовольствие.
Флоранс разделяла это с каким-то стыдливым неистовством, с изумлением радостных открытий.
Иногда в момент коротких передышек в эту ночь, где секунды, казалось, проживались вдесятеро быстрее и полнее, чем в другие ночи, иногда я думал, что вот эту свежую прелесть Ван Бек готовил и хранил для себя пятнадцать лет. И я понимал опасения сэра Арчибальда.
Какой мужчина, лишенный своих надежд и такой добычи, даже не обладающий инстинктами Ван Бека, какой мужчина не почувствовал бы жажду убить?
Но разве я не был здесь для того, чтобы защитить Флоранс и похитить ее у монстра?
И новая вспышка страсти толкала меня к Флоранс, вспышка гордости двадцатилетнего возраста, вызова, победы, мести.
И поскольку в эти минуты в ней я любил себя, то мне казалось в эту ночь, что я любил и Флоранс.
Машины «Яванской розы» заработали, но этого оказалось недостаточно, чтобы наши объятия разжались, — потребовалось, чтобы жаркое солнце засветило в иллюминатор. Только тогда Флоранс покинула мою каюту, сказав:
— Не волнуйся, любовь моя Я сумею пройти незаметно за спиной у Сяо. — Китайская кровь Флоранс вселяла в нее абсолютную уверенность, что хитрость удастся.
Я подставил лицо и тело под холодную воду: этого было достаточно, чтобы смыть следы ночной усталости. Я наспех закрыл свой чемодан и открыл дверь. В коридоре ждал Боб.
Я был радостен, мир представлялся мне большим праздником. Почему я вдруг вспомнил об унижении, которое мне нанес Боб, когда мы вместе обманывали сэра Арчибальда?
Ко всем своим победам мне захотелось присоединить последнюю.
— Знаешь, — сказал я своему товарищу, — Флоранс была девственница.
Боб смотрел, смотрел на меня и вдруг ударил по лицу.
В то время за подобную выходку я убил бы, не колеблясь. Однако я ничего не сделал, ничего не сказал, и щека моя еще горела, когда я увидел, как приближались причалы Шанхая.
XV
В 1919 году Шанхай, конечно, еще не достиг гигантских размеров. Чудовищное разрастание города и населения произошло позже. Годы, разделившие две войны, еще не влили в него миллионные толпы, миллиардные капиталы. Кварталы белых еще не превратились в американские застройки, ощетинившиеся небоскребами. Желтая метрополия еще не походила на океан, вздыбленный приливами сражений и революций. Это были еще только ростки новой безумной эры.
Но европейская концессия, полная роскоши и блеска, проникала все дальше в китайские предместья, и Шанхай становился огромным городом, пышным и грязным, величайшим центром спекуляции и богатства, являя собой огромный ночной кабак и одновременно непроходимые джунгли.
Короче, столица коммерции, банков, удовольствий и тайн, Шанхай был уже монстром.
И у этого монстра, который в ту пору прельщал авантюристов и деловых людей, моряков и девиц всего Дальнего Востока, было чем заставить даже более вдумчивого и более уравновешенного юношу, нежели я, потерять голову.
Я употребил все утро после высадки на то, чтобы найти жилище и деньги.
Все оказалось восхитительно легко. Поскольку Боб избрал Французский клуб, я отправился в Английский. В то время в дальних странах среди представителей наций, вместе одержавших победу, существовало некое братство победителей. Моя форма служила мне членским билетом и удостоверением личности: я был принят как соотечественник. Потом я отправился во французское консульство.
Консулом был господин В. За время своего путешествия я не встречал более утонченного человека, знающего страну пребывания и более полезного для страны, которую он представлял. Он основательно знал огромный Китай. Он изучал его долгие годы. Он имел к нему ключ.
Я мог бы извлечь неоценимую пользу из его опыта. Только об этом я и думал!
То, что мне было необходимо, — это средства, и немедленно, чтобы нырнуть в наслаждения города, один только вид которого меня слепил.
Эти средства предоставил мне господин В. Я предъявил кредитное письмо с неограниченным сроком действия. Консул имел к тому же необходимые инструкции, позволяющие находящимся проездом офицерам достойным образом представлять армию-победительницу.
— Отдыхайте, — сказал мне консул, улыбаясь необычной грустной и доброй улыбкой, — отдыхайте, но не пропадайте. Французское судно будет не раньше чем через пять недель, а пять недель в Шанхае для молодого человека, ничем не занятого, — опасное испытание! Вы мне, конечно, не верите, но заходите ко мне, — может быть, я смогу предложить вам что-нибудь серьезное.
Серьезное! Словно это слово могло иметь для меня какое-нибудь значение… Серьезное!
Тогда как у меня не хватало времени, здоровья, скорости и сил, чтобы все испытать, испробовать, провернуть уйму дел, уничтожив все, что продавалось, покупалось, досаждая, сваливалось на мою голову.
В Шанхае среди сотни других был бар, слывший самым большим в мире, и думаю, это было действительно так, ибо за всю жизнь, которая растрачивалась в такого рода заведениях в Старом и Новом Свете, я не встречал ни одного таких огромных размеров. Здесь к двенадцати дня и семи вечера на сто метров в длину, располагаясь ярусами вглубь, плотная масса людей требовала от стаи молчаливых китайских барменов утолить их жажду. Коктейли и виски расходились словно по цепочке. Все языки, все расы, все напитки смешались на этом шумном предприятии.
Были в Шанхае и ночные заведения, каких я более не встречал с самого Сан-Франциско, которым интернациональное скопление придавало необычайный смак.
Там были великолепные женщины, прибывшие с четырех сторон света, и среди них первые русские беженки со своей несчастной и сладострастной судьбой.
Была игра.
Были бега.
Было общество космополитов, элегантное, блистательное и легкое, расточавшее свои милости молодому офицеру, летчику, — ибо полет человека находился еще в своей прежней славе.
Был также опиум, без которого Китай не Китай.
В тот же самый вечер, по прибытии, у меня появились «друзья», взявшиеся помочь мне испробовать все эти удовольствия. Одни воевали, другие этим воспользовались: коммерсанты, брокеры, жокеи, авантюристы, директора предприятий, моряки, исследователи и Бог знает кто еще.
Случай, природное сходство, просто встреча обеспечили мне все это. Я не выбирал этих друзей. Я также не выбирал развлечения. Я предавался им без особого предпочтения, так, как они предлагались, без разбора, в большом количестве, на лету.
Естественно, я хватал все.
Чтобы извлечь из удовольствий и людей весь сок, смысл, требуется видимость свободы, сближения, самофинансирования, подчас стремительность. Но моя жадность, прожорливость не оставляли времени на передышку. Неистовый порыв бросал меня от одного желания к другому.
Выжимая один плод, я уже хотел другой.
Я был похож на ребенка, который обожает сразу слишком много игрушек, или на варвара, опьяненного подарками, не знающего, для чего они.
В один и тот же день я садился на лошадь, мчался на чай, коктейли, катил на рикше по китайскому городу, нес цветы какой-нибудь англичанке, шампанское — русской и серьезно обсуждал с банкирами учреждение воздушной линии Шанхай — Пекин.
В течение одного вечера я участвовал в оргиастическом ужине, свиданиях во всех ночных заведениях. Не считая, я проглатывал виски, с полдюжины бутылок шампанского, дым около двадцати трубок опиума, приводя в полный беспорядок, извращая самое неуловимое и хрупкое, что содержит в себе колдовство.
Затем я шел играть в карты, отправлялся в китайский театр, возвращался в ночное заведение, откуда какая-нибудь девица уводила меня к себе в постель.
День за днем, ночь за ночью, совершался адский круг. Я больше не спал, так сказать. Я действовал, как разряжающийся автомат, над которым изобретатель потерял власть. Память моя была загромождена сотнями новых имен, сотнями неизвестных еще накануне лиц, голова тяжела и пуста, пары спиртного, употребляемого в большом количестве, и опиумом, который я не умел дозировать, одурманивали меня — я скатывался на дно черного водоворота с безрадостным головокружением, разве что испытывая надежду, желание нового наслаждения, о котором тут же забывал, ибо уже брезжило новое удовольствие, к которому я сразу же устремлялся.
А Флоранс?
Какова была ее доля и роль в этом угаре?
По правде говоря, по крайней мере первые дни моего пребывания в Шанхае, у меня с Флоранс не было никаких отношений. Она полностью исчезла из моего бытия, а также и из памяти.
Впрочем, я знал, где она живет и как к ней прийти.
Перед высадкой с «Яванской розы» мы условились, что она поселится в «Астор-хаусе», окна которого выходили на реку Шанхай. Я пообещал встретиться с ней на следующий день. Сэр Арчибальд должен был служить нам посредником.
Я, разумеется, позвонил сэру Арчибальду, но лишь для того, чтобы поговорить о сумме его выигрыша. Я посоветовал ему, если он хотел получить деньги наверняка, разыскать меня немедля. Я сказал ему, что пребывал в отличном расположении духа и не хотел бы, чтобы оно омрачалось из-за финансовых проблем.
Я вспомнил о Флоранс, когда уже повесил трубку. Невольное движение к аппарату замерло. Моя забывчивость оказалась провидческой. Что смог бы я сказать Флоранс? Что мой день был занят до последней минуты? К чему? Завтра у меня, конечно, будет больше времени.
Когда сэр Арчибальд пришел, он лишь еще раз убедил меня, что моя небрежность имела свои основания. Он умолял меня не отдаваться во власть любви, не оказаться неосторожным. Ван Бек остался жить на своем судне. Ван Бек без труда согласился на то, чтобы сэр Арчибальд с дочерью проживали в лучшем отеле европейского города. Как всегда, Ван Бек охотно оплачивал комфорт Флоранс. Но столько внимания беспокоило сэра Арчибальда, и особенно то, что Ван Бек, не споря, уступил желанию, высказанному Флоранс, провести несколько дней в Шанхае.
— Это не в его привычках, — сказал мне сэр Арчибальд, — терять время и деньги. Он пристроил контрабанду, и здесь ему больше нечего делать. Если он согласился остаться, значит, у него есть подозрения на ваш счет: опасные подозрения, и он хочет проверить… он хочет проверить. Это не тот человек, который даст себя обмануть, который покупает вслепую. — И сэр Арчибальд закончил своей извечной жалобой: — Я боюсь… я боюсь.
Не собираясь потешаться над его опасениями, я согласился с ними, насколько позволял мне мой характер.
Сэр Арчибальд ушел с заверениями, что я не буду афишировать свои отношения с его дочерью и что, больше того, приму все меры предосторожности, прежде чем встречусь с ней.
Думаю, что я был искренен, относя свою малую готовность увидеть Флоранс на счет совершенно новой для меня заботливости о ней. Когда нуждаешься в оправданиях перед собой, отговорки превращаются в уверенность.
— У вас будет время стать женихом и невестой на судне, — сказал сэр Арчибальд. — Надо избежать ненужной опасности.
Разве сэр Арчибальд не был прав? И разве не достаточно было воспользоваться телефоном для обычных разговоров?
Но я им не воспользовался.
Как это произошло?
Не знаю.
Или, вернее, думаю, что не имел желания услышать голос Флоранс.
Не боязнь упреков и жалоб заставила меня совершенно покинуть ее. Я знал, что Флоранс никогда не покажет мне свою грусть или горечь.
Из гордости? Из покорности? Я не пытался понять, что двигало ею, но был уверен в ее поведении.
Я хотел убежать от себя, и только от себя. От себя, от всего, что могло стать постоянным, длительным, стабильным.
Моя жизнь в Шанхае превращалась в движение, неистовое брожение, разбрасывание, распыление. Я наслаждался этой абсолютной, абсурдной свободой, в которой ни один последующий день не зависел от предыдущего, ни одна минута не связывалась с прошедшей. Я не выносил ни малейшего морального нажима, того, что могло бы походить на приказ, на логическую связь моих поступков. Я больше не признавал никакой платы ни за прошлое, ни за будущее. Я не допускал мысли, чтобы даже тень, какой бы легкой, прозрачной она ни была, опустилась на мои сумасшедшие скачки горячего, бешеного жеребца.
Образ Флоранс был один из тех, который мог бы заставить меня задуматься, задержать на мгновение мою мысль в том вихре, который выветривал мою голову.
Я овладел Флоранс до прибытия в Шанхай. Я должен был увезти Флоранс в Европу.
Она была одновременно воспоминание и будущее: то есть путы и узы. Я не хотел этого.
Я изгнал ее не только из своего бытия, но из окружающего меня мира. Флоранс больше не существовала на этом свете: существовал только я и моя неистовость.
Девицы менялись — и каждый вечер у меня была новая. Одни — обычные и вульгарные. Другие могли претендовать на восхищение. Но, разумеется, даже самая красивая не могла и приближенно сравниться с Флоранс ни совершенством черт и тела, ни диким и изобретательным стремлением к удовольствию. И все же в моих глазах они имели больше преимуществ, чем метиска.
Потребность в новом, пошлое тщеславие ночных побед недостаточны для того, чтобы объяснить эту игру, в которой я сам себя обманывал.
Несомненно, что если бы Флоранс сохранила для меня некоторую загадку, она удержала бы меня дольше, — а под загадкой я понимаю ту одежду, ту маску, вечно ложную, вечно искусственную и придуманную, в которую наше воображение одевает женщин, к которым оно стремится.
Если бы Флоранс на самом деле была любовницей сэра Арчибальда, если бы, как я предполагал, до того как узнал настоящую суть, непонятные обязательства, единство порока и крови связывали ее с Ван Беком, если бы, отдавшись, она сохранила ко мне невозмутимость идола, я продолжал бы находить ее привлекательной и достойной моих хлопот.
Но она даровала мне свою любовь так непосредственно! Ее нетронутое тело отдалось мне так легко! Ничего больше неясного, смутного, преступного не веяло вокруг этого лица, так неожиданно обнаженного. Чистота совсем нового сердца, цветок до сих пор чистой плоти, сияние существа, стоящего на пороге жизни, все это — что, несомненно, и есть истинная загадочность — все это казалось мне тогда бесполезным.
Что было мне нужно, — я хорошо понимаю, — так это плохая литература.
А таким товаром девицы из ночных заведений и дамы из общества торговали умело.
XVI
Однажды вечером тем не менее их помощь ускользнула.
Я уже не помню, почему жена одного американского экспортера не могла провести со мной ночь у себя дома, как это было условлено. То ли муж ее вернулся из путешествия по Китаю раньше, чем она ожидала, то ли прибытие английской канонерки, капитан которой был очень молод и красив, стали главной причиной этого неожиданного отказа? Впрочем, неважно.
Итак, я вынужден был попытать счастья в ночных заведениях. Но из одного из них я бежал, так как там был Боб: молчаливый договор заставлял уступать место прибывшему первым. В другом я уже знал всех поголовно, в третьем все девочки были заняты. В последнем я уже оказался слишком пьян и мои буйные выходки испугали всех вплоть до русских девиц, обслуживающих бар, которые, к слову сказать, привыкли к развязным мужчинам.
Но мне было необходимо общество женщины. Алкоголь разжигал эту потребность.
Не имея никого в своем распоряжении, я вспомнил о Флоранс.
В то время как нанятый автомобиль вез меня к набережной реки, к отелю, в котором жили метиска и сэр Арчибальд, я вспомнил о боязливых предостережениях, сэра Арчибальда. Я даже вспомнил его слова: «Ван Бек хочет проверить. Он не тот человек, который покупает вслепую».
Но если память моя была в порядке, то до меня не доходило, что эти слова должны были бы удержать меня.
«Поскольку приходится выслушивать болтунов и трусов, — сказал я себе, — становишься похожим на них!»
Это была единственная мысль, на которую оказалась способна моя помутившаяся от опьянения голова.
Однако верное объяснение нетрудно было найти.
Пока я не испытывал никакого желания увидеть Флоранс, опасение ее отца я считал разумным. Оно показалось мне абсурдным с той минуты, как вследствие неудачной охоты метиска стала для меня необходимой компенсацией.
«Ван Бек… Ван Бек…» — шептал я, пожимая плечами.
Я был уже в том состоянии, когда, жестикулируя, разговариваешь сам с собой.
«Ван Бек все же не китайский император! И даже китайский император не сможет мне помешать закончить эту ночь с Флоранс! Она меня любит, и слишком долго я оставлял ее без внимания».
Чем больше приближался я к цели своей поездки, тем больше забывал, что ехал к метиске, не сумев найти другую женщину, и тем больше я ее хотел.
Радость, которую она испытает от моего ночного визита, — в этом я был уверен, — гарантия оказаться в кровати, где меня ожидает, я знал, несравненное тело, доверчивое и сладострастное одновременно, обещание сильного и разделенного наслаждения, — все это вызывало у меня совершенно новую, обновленную страсть к Флоранс.
В особо циничном состоянии мы с Бобом называли подобное обновление «возгорание пламени». Но опьянение лишало меня всякой способности к иронии и, напротив, придавало живую искренность каждому моему внутреннему порыву.
В «Астор-хаус» вошел пылкий любовник.
Было четыре часа утра. В просторном холле царили полумрак и тишина.
Ночной портье подремывал за стойкой. Я разбудил его тумаком. Он поднял ко мне старое, умное, помятое лицо, на котором желтая кровь оставила свой след.
— Проводи меня в квартиру сэра Хьюма, — потребовал я.
Метис, взглянув на окошко с ключами, ответил:
— Сэр Арчибальд не вернулся, господин.
— Проводи меня в квартиру сэра Арчибальда! — повторил я.
— Но я же только что сказал господину…
Портье внезапно замолчал и с неподражаемой улыбкой заговорщика, которая расцветает только на губах мужчин Дальнего Востока, прошептал:
— Как я должен доложить мисс?
— Никак. Это сюрприз!
Старый метис поморгал минуту своими старческими глазками, потом со сдержанной решимостью сказал:
— Я не могу, господин. Надо докладывать.
Я не мог ждать. Я был пьян. Каждая минута, проведенная без Флоранс, казалась мне преступлением против самого себя.
Я вытащил из кармана пачку банкнот. Одной рукой я протянул их портье. Другую, сжав в кулак, я приставил к его рту.
— Выбирай! — приказал я.
Старый человек, не моргнув, осмотрел мою форму. Портье повиновался, конечно, не под моими угрозами, а благодаря форме. У нас был авторитет воинов-победителей. Самый последний кули знал тогда имя Жоффр.
Метис деликатно отвел мои обе руки и вежливо произнес:
— Идите за мной, господин.
Лифт привез нас на последний этаж.
Там портье открыл мне комнату Флоранс своим ключом. Затем я его отослал, не сумев заставить принять от меня чаевые.
Хотя его кровь была китайской только наполовину, старый человек обладал даром двигаться бесшумно. Уверен, что Флоранс не слышала, как открылась хорошо смазанная дверь. Она также не слышала моих шагов: толстый ковер покрывал пол. А так как меня преследовала мысль застать ее врасплох, с бесконечной осторожностью пробрался я к неясным очертаниям на широкой низкой кровати, освещенной легкой светотенью маленького ночника.
Но в ту самую минуту, когда я собирался обнять Флоранс за плечи и разбудить жадным поцелуем, она медленно приподнялась на подушках и прошептала спокойным и вместе с тем страстным голосом, голосом, в котором странным образом смешались сон, радость и уверенность:
— Я знала, жизнь моя, что ты тоже не можешь дождаться, когда мы отплывем на нашем судне.
Я хотел закончить свой жест, поцеловать ее в губы. Флоранс остановила меня, слегка отстранившись, и сказала:
— Сначала я хочу тебя увидеть. Иногда мне было так страшно. Я не могла вспомнить твое лицо.
Она нажала на выключатель: резкий свет ударил мне в лицо. На мгновение я вынужден был зажмуриться. Но Флоранс, долго находившаяся в темноте, тем не менее осталась с открытыми глазами, и в глубине ее темных блестящих глаз, обычно пустых и отсутствующих, я увидел вспыхнувшую такую неподдельную, огромную радость, такое откровенное сияние, что вопреки своему помутнению и опьянению почувствовал себя в страшном смущении.
— Он ничего о тебе не знает, любовь моя! — сказала Флоранс с презрением, указывая на соседнюю комнату движением своей красивой гибкой шеи. — А я была уверена, что ты придешь.
Я немедленно решил изменить ход беседы, прекратить выражение благодарности, возмущавшее внутри меня все, что было во мне лояльного, честного.
— Сэра Арчибальда нет? — спросил я.
Гримаса невыразимого отвращения исказила лицо Флоранс. Она сказала:
— Он играет или пьет где-нибудь. Вернется к полудню, как всегда грязный, дрожащий, старый, и начнет плакать. Потом отправится спать, чтобы начать все снова ночью.
— А Ван Бек?
— Я его не видела. Я не хочу его видеть.
— Но тогда же? Ты одна… ты одна целый день?
— К счастью!
— Ты не выходишь?
— Я никого не знаю в этом городе.
— Но чем же ты занимаешься?
Флоранс посмотрела на меня долгим взглядом, словно на ребенка, неспособного понять очевидное.
— Я думаю о тебе и все глубже впускаю тебя в свое сердце.
Ответ Флоранс лишь усилил мою неловкость. И неловкость стала совсем невыносимой, когда, подчиняясь женской рабской сущности, метиска попросила:
— Позволь мне раздеть тебя?
В ее просьбе было столько естественности и серьезности, что я не осмелился возражать.
Флоранс расшнуровала мои сапоги, сняла портупею. Ее длинные руки, выточенные с невыразимой изящностью, нежно освободили мое тело, и я вновь познал с ней в постели ее наивную греховность.
Затем сразу, как доверчивое животное, она заснула возле меня.
Сколькими бессонными ночами заплатила она за этот абсолютный, похожий на смерть отдых? Какой лабиринт тоски, одиночества и отчаяния испытала эта дикая девочка, чью неподвижную и нежную грудь ощущал я на своем боку? Какую ношу бездумно и непредусмотрительно возлагал на себя?
Некоторое время я пытался организовать заранее, продумать свои отношения с Флоранс. Но усталость сумасшедшей недели прервала ход моих мыслей. Вскоре, как и Флоранс, я стал бессознательной массой.
Не знаю, кто из нас двоих сделал жест первым, не осознавая, что делает, но мы вышли из состояния сна сплетенные друг с другом.
Когда конвульсии удовлетворения, еще крепче слившие нас в объятиях, затихли, а наши тела, внезапно оторвавшись друг от друга, вновь получили способность ощущать себя, меня охватило нечто вроде паники.
Я проспал столько, сколько не спал со времени прибытия в Шанхай. Истощение, опьянение больше не защищали меня от мыслей. Предельная ясность, которой не было в течение всей сумасшедшей недели, позволила мне точно оценить позицию, в которую я поставил себя по отношению к Флоранс. И я вздрогнул. Я собственными руками выковал свои цепи.
Пока я ее не видел в Шанхае, я мог приписать неожиданности и неведению мое отношение к ней. Ложь сэра Арчибальда, загадки на судне, вызов Ван Бека, желтый туман, наконец, — все способствовало тому, что я снял с себя ответственность. Чаяния Флоранс, ее безрассудная любовь — я чувствовал себя свободным от этого, я мог переложить это на нее.
Но теперь…
Я неожиданно только что дал поручительство, дал Флоранс право надеяться.
Признаюсь ли я перед этим нежным и взволнованным лицом, перед этим лицом, светящимся благодарностью и гордостью, что только под парами алкоголя и гонимый плотским вожделением, обманутый другими жертвами, я оказался у нее?
Если среди всех удовольствий и занятий, которыми, как Флоранс догадывалась, была наполнена моя жизнь в Шанхае, если, несмотря на предостережения сэра Арчибальда, я пришел к ней, значит, я любил ее. Так думала, чувствовала Флоранс и не могла думать иначе.
В эту минуту я понял с такой отчетливостью, ощутил с такой потрясшей меня остротой, нет, не жалость к ней, а страх за себя.
Я увидел, что моей свободе угрожает гибель, моей свободе, ради которой я готов был даже на преступление.
Чисто физическое ощущение страха заставило меня вскочить с кровати. Мне казалось, что каждая минута, проведенная возле Флоранс, наполняла материальным весом оковы, которые и так уже были слишком тяжелы.
— Ты покидаешь меня, любовь моя? — спросила метиска. — Жизнь моя!
Эти два слова, на которые до сих пор я не обращал внимания, показались мне вдруг невыносимыми.
— Почему ты меня так называешь? — спросил я, наполнившись яростью, что было, знаю, отвратительно, но мне надо было ее излить.
И я ожидал, что ответ Флоранс даст мне для этого повод, хотя бы ничтожный и несправедливый.
Ее простота, ее искренность не дали мне никакого повода.
— Как я могу тебя называть иначе? — ответила метиска. — Разве ты не в самом деле моя жизнь? У меня нет никого на свете, кроме тебя. Я хотела бы, чтобы все мужчины, кроме тебя, умерли.
На мгновение мне послышалось безжалостное звучание голоса Флоранс, когда она крикнула «Иди!» старому куруме на пороге его смерти.
На секунду я измерил степень возмущения, ненависти к миру, в который ее привели обстоятельства кровосмешения, внебрачного рождения, детство, проведенное в ледяном монастыре, ее ненужная красота, ее бедное существование. И я догадался, что сила ее любви ко мне вызывалась не мною, а ее потребностью в радости, тепле, освобождении и что она была переполнена этим, необратимо доведена до исступления.
И я испугался еще больше и подленько искал защиты.
— Это неправда, — воскликнул я, — ты не одна! У тебя есть сэр Арчибальд, твой отец. Он любит тебя, он говорил мне.
— Да, но еще больше он стыдится меня. Если бы ты только знал, как он прятался, чтобы встретиться со мной, когда я была маленькой. А там, у сестер, не он говорил со мной, а Ван Бек, всегда Ван Бек. А мой отец дрожал и отворачивал лицо.
— Ты знала, что авансом была продана Ван Беку?
Зачем я задал этот вопрос Флоранс и выбрал эти грубые слова, такие гнусные? Хотел ли я попросту унизить ее, напомнить, в каком состоянии я ее встретил, и тем самым лишить ее всякой попытки быть требовательной?
Или же доказать самому себе, что я ничего не был должен женщине, которой нечего терять?
Должно быть, я подчинился и тому и другому мотиву.
Когда мужчина хочет сохранить полную свободу, отказываясь пожертвовать хотя бы чем-нибудь из своих удовольствий и страстей, он вынужден пойти на подобные извороты.
Впрочем, эта уловка не помогла.
Флоранс сумела найти в своей искренней наивности, в неподкупности своего сердца слова, которые опрокинули мои жалкие увертки, отговорки, мою осмотрительность и предосторожности, так как она этого не понимала.
— Ван Бек и мой отец, — сказала Флоранс, — никогда не ставили меня в известность о своих сделках. Но я догадалась сама: я была уверена, что Ван Бек овладеет мной.
— И тогда? — спросил я.
— Тогда… — повторила Флоранс, не понимая.
— Что ты думаешь делать?
Флоранс взглянула на меня с мягким удивлением и ответила:
— Что могу я сделать, жизнь моя? Согласиться. Это все.
— Что? Ты не стала бы сопротивляться?
— Сопротивляться? Как? У меня нет семьи, профессии, я никого не знаю… я всего лишь метиска.
Я воскликнул, на этот раз искренне и с ребяческим пафосом:
— Лучше смерть!
— Я не хочу умереть, — сказала серьезно Флоранс. — Я еще не начала жить…
Внезапно она замолчала, глубоко, сильно вздохнула, отчего ее голые груди всколыхнулись чудесным волнообразным движением. Затем она продолжала с таким жаром, что я вздрогнул:
— Это неправда. Это неправда. Я начала жить с тобой. Ты пришел, жизнь моя, и ты меня освободишь навсегда, навсегда.
Несмотря на все мои жалкие усилия, я чувствовал, как путы, словно смола, все больше схватывали меня. Я попытался освободиться в последний раз.
— Послушай, — сказал я почти сурово, — не строй иллюзий. Я взялся довезти тебя до Марселя и больше ничего.
Флоранс, улыбаясь, встряхнула головой. Я редко чувствовал себя так неловко, как перед мужеством и нежностью этой улыбки.
— До Марселя! — сказала Флоранс, как во сне. — Шесть недель вместе на одном судне. Возможно ли это? Это слишком… слишком прекрасно!
У меня не хватило слов, чтобы ответить. Я пошел в ванную.
И, только попрощавшись с Флоранс, я увидел, как надломились ее душевные силы, которые, казалось, ничто не могло надорвать.
Когда я торопливо поцеловал ее, нечто вроде животного страха, детского ужаса исказили лицо метиски. Она судорожно прижалась ко мне, прошептав:
— Ты скоро придешь снова?
— Ну, разумеется, — ответил я с твердым убеждением не приходить к Флоранс, прежде чем «Поль Лека», на который мы должны сесть в конце месяца, покинет Шанхай.
Я собирался подать знак нанятому шоферу, когда понял, что меня зовут:
— Господин лейтенант!.. Господин лейтенант!
Я с радостью узнал юнгу с «Яванской розы», но он, казалось, не был доволен встречей со мной. Вместо того, чтобы расцвести как это было при моем приближении на судне, его маленькое неподвижное лицо выражало опасение и странный гнев.
Мальчик отошел от скопища тележек рикш, за которыми он стоял, и направился в переулок.
Коротким жестом он велел мне следовать за ним: любопытство побудило меня подчиниться.
— Ну и к чему столько таинственности? — спросил я, догнав его.
Маленький малаец вперил в меня полный упрека взгляд.
— Я говорил тебе, — прошептал он, — оставить девушку-метиску.
— Это не твое дело! — ответил я нетерпеливо.
— Это мое дело! — сказал юнга, и упрямая морщинка появилась на его грязном лбу. — Это мое дело! Я хочу тебе добра, ты знаешь.
— Да, да, это так. Ты всегда был мне другом. Но я не понимаю…
— Ты никогда ничего не понимаешь! — сурово прервал меня юнга. — У тебя глаза ребенка, у которого нет кормилицы. Ты не понимаешь, что я здесь для того, чтобы следить за метиской и сказать Ван Беку, приходишь ли ты к ней.
Слова сэра Арчибальда снова вспомнились мне: «Ван Бек не покупает вслепую».
Я молчал, а юнга продолжал:
— Тебе повезло! Первую половину месяца матросы свободны. Они тратят свое жалованье. Они ходят к женщинам, курят опиум. — Он вздохнул от зависти. — Я самый маленький, поэтому мне нечего сказать. Но потом перед отелем буду не я. Не приходи больше, прошу тебя, не приходи больше!
— Это я тебе обещаю, старина!
Маленький малаец, конечно, не мог понять, почему мои слова сопровождались невольной ухмылкой.
XVII
Однако пять дней спустя я снова оказался в «Астор-хаусе». Стоит отметить, что я не сознавал этого.
В самом деле, после свидания с Флоранс более безрассудно, чем когда-либо, я бросился в разгул развлечений. Одна ночь сна восстановила мои силы.
Когда сегодня я вспоминаю эти часы беспрерывного пьянства, одурманивания наркотиками, игры, сластолюбия, этот адский безостановочный бег, я испытываю некое наводящее ужас неверие.
Какое абсурдное расточительство, какое преступное презрение к разуму, чувствам, нервам, внутренним побуждениям!
Я цепенею при мысли, что молодой здоровый человек, которому открылся мир своей самой необычной чарующей стороной, был озабочен одной лишь потребностью разрушить себя, не видя прекрасного настоящего, которое судьба бросила к его ногам.
Но так уж было. И я ничего не мог поделать.
Я пребывал в состоянии, близком к галлюцинациям, сомнамбулизму. Я действовал благодаря одним лишь физическим рефлексам. И когда группа неизвестных друзей, взявшихся заботиться обо мне в течение двух суток, решила отправиться на большой, благотворительный праздник, организованный англосаксонской колонией, я присоединился к ней, не зная, куда иду и зачем.
Праздник включал ужин и костюмированный бал. Он состоялся в «Астор-хаусе».
Но моя усталость и опьянение были уже такими глубокими, что, даже преодолевая крыльцо отеля, я не узнал место, куда привела меня затея друзей.
Это были американцы, возвращающиеся из коммерческой поездки по центральным провинциям. Они привезли оттуда всевозможные тряпки всех времен и стилей; это пригодилось им для переодевания.
Что касается меня, они решили, что я, будучи французом, должен одеться по-французски, а именно в костюм апаша, такого, каким его изображали гравюры 1900 года. Поэтому я был в широченных брюках, тельнике и с красным платком вокруг шеи.
Преимущество моей одежды было в том, что она позволяла свободно двигаться и дышать, — ценное преимущество, так как стояла удушливая жара.
Большие залы «Астор-хауса» оказались слишком тесными для пестрой, беспорядочно теснившейся в них толпы. Там я увидел, как сквозь облако, как во сне, сумасшедшее богатство белого населения Шанхая и его страсть к детским увеселениям.
Мужчины ради одного вечера удовольствий искромсали, испортили прекрасные ткани.
Продавцы-ювелиры старого Китая и ювелиры двух частей света, казалось, опустошили свои лавки ради женщин, которые объединились или, вернее, столкнулись под предлогом благотворительности. Алмазы, жемчуга, нефрит, камни из Индии и Бирмы сверкали, горели, вспыхивали, переливались на великолепных или увядших шеях, на руках, уже стареющих или предназначенных для любви.
Роскошь, блеск, богатство, жара, шум, крепкие духи и скрытое опьянение людей, живших в одном из городов мира, где пили больше всего, — всего этого с лихвой хватило, чтобы моя голова, уже лишенная основной субстанции, закружилась.
Я начал с долгого сидения в баре. Я ощущал необходимость почерпнуть искусственные силы в алкоголе — настоящие уже подорвались, — чтобы быть на уровне в предстоящую ночь.
Водка и коктейли, джин и виски — я проглатывал все это пойло с яростной жадностью. Я пытался вернуть равновесие, хотя бы деланное, нестойкое. На смену ему пришло опьянение в своем крайнем проявлении.
Не помню уже, каким я предавался сумасбродствам. Мой костюм способствовал его разгулу.
Я переоделся в бродягу. Очень быстро одежда оказала влияние на личность.
Позже мне рассказали о моих глупых подвигах, дерзких выходках, жестах и площадных изречениях. Я с трудом этому поверил, словно речь шла о ком-то другом.
Но именно я увлек остальных кромсать занавеси, изображать ярмарочную борьбу, похищать в бурлескных танцах женщин, которые истерично хохотали.
И буйство разнузданной обезьяны вызывало аплодисменты толпы, находившей в этом выход своим подсознательным желаниям.
Я чувствовал, что публика меня поддерживает. Мне захотелось удивить ее еще больше. Она послушно следовала за мной. Тогда я решил, что мне позволительно все.
Оторвав от мужа одну гречанку, красота которой на какое-то мгновение остановила мое безумство, я схватил женщину на руки и принялся кружить на месте, целуя, кусая ее плечи и шею.
К какому еще безумству привел бы меня мой эротический дервишизм? Чем закончилось бы мое головокружение? Не осмеливаюсь даже подумать об этом.
Но в эту минуту чье-то лицо, оказавшееся у моего, заслонило весь свет в зале, и хриплый, дикий голос крикнул:
— Не хочу… Довольно! Не могу… Я убью ее.
Если я и выпустил свою добычу, то вовсе не из страха или совестливости. Я был вне сферы нормальных чувств. Я подчинился изумлению, которое охватывает человека, когда два мира непонятным образом смешиваются в поле его зрения.
Флоранс!
Флоранс в этом вихре, среди этой разнузданной толпы?
Она потеряла рассудок.
Она потеряла чувство реальности…
Я глупо ощупал ее, чтобы убедиться в ее существовании.
— Убирайся! Убирайся немедленно! — сказал я, глядя сквозь нее, изгоняя ее как привидение.
Но она взяла меня за руку и прошептала:
— Идем со мной!
Только тогда я понял, что она живая. Я даже отметил, что она была одета очень просто и не имела никаких драгоценностей. Мне это показалось неприличным, намеренным, словно вызов.
Я грубо отбросил ее руку, державшую мою, и крикнул:
— Убирайся!
Вокруг нас уже поднимался ропот, в котором я разобрал лишь одно слово:
— Метиска… метиска.
Флоранс взглянула на всех, кто нас окружал, с испугом и ненавистью. Свой взгляд преследуемого животного она перевела на меня, чтобы попросить о помощи. Но я еще раз сказал:
— Убирайся!
— Нет, — шепнула Флоранс. — Нет, я не оставлю тебя этим женщинам!
— Значит, ты считаешь, — начал я, дрожа от ярости, — ты, значит, считаешь…
Я не закончил. Моя ярость нашла достойную цель. Прорвав толпу своей массой, ко мне направлялся Ван Бек.
Ван Бек и его молчаливый ход, Ван Бек и его рот в форме слизняка, Ван Бек, сила которого свела меня на судне к сущности куклы в его руках! Ван Бек провоцировал меня перед всем светом в Шанхае.
Дикая сила, швырнувшая меня к нему, подсказала форму атаки, достойную моего костюма. Я употребил, не отдавая себе в этом отчета, способ, которым пользуется в притонах человек роста и веса меньшего, чем у противника.
Я схватил Ван Бека за плечи и, опираясь о его собственные кости, нанес ему удар головой в подбородок со всей силой своей ярости и опьянения.
Не успев сделать ни одного движения, он упал.
Я тоже.
Я увидел у своего изголовья сэра Арчибальда. Он держал бокал спиртного и, как только я пришел в сознание, дал мне глотнуть добрую половину даже раньше, чем увидел, что я стал воспринимать окружающее.
— Нет, вы не умерли! — воскликнул он лихорадочно, словно я хотел доказать ему обратное. — Я сразу это сказал. Я никогда не сомневался в вас, мой дорогой молодой друг. Вы не умерли.
Я ничего не понял из его слов: ни почему лежал в незнакомой мне комнате, ни почему вокруг моей головы был мокрый красный платок.
Стон сэра Арчибальда внезапно пробудил игру моей притупленной памяти.
— Если вы не умерли, — вздохнул старый англичанин, — Ван Бек тем более.
Ван Бек… костюмированный бал… удар, который я нанес колоссу своей головой, сумасбродство метиски.
Снова во мне вспыхнула ярость. Я встал, несмотря на острую боль, пронзившую всю мою черепную коробку, и крикнул:
— Что эта скотина, что ваша дочь делали на празднике? Не для них было это место, ни для него, ни для нее.
Сэр Арчибальд неверно истолковал смысл моих слов. Я увидел это, прежде чем он смог сформулировать свой ответ. По нервному тику, исказившему его лицо, по нездоровой красноте, выступившей на висках.
— Я… я хорошо знаю, — пролепетал он, — что метиска… на подобном празднике… Но… но… я не думал, что вы… как бы это сказать… вы тоже… вы тоже упрекнете ее в происхождении.
— Вы ничего не понимаете! — крикнул я. — Поскольку она могла меня встретить, вы не должны были бы…
Но сэр Арчибальд был не в состоянии слушать меня.
Когда человек в течение всей своей жизни страдает от тайного порока, все, что кажется ему намеком на его позор, вызывает в нем болезненную реакцию, которую ничто не может успокоить.
— Это я, никто другой… клянусь вам, захотел… — прервал меня сэр Арчибальд. — Вы понимаете, такое прекрасное общество, такой элегантный бал, голова моя закружилась, так мне захотелось там быть… Все-таки это мой мир, мир, которому я принадлежу! Ради Флоранс… да… да… да… Я лучше знаю, чем вы… Она не должна была соваться к белым… да… да… Но бедная малышка так хотела. Она никогда не видела ничего подобного. Она все время одна. Тогда я подумал, и Ван Бек тоже, так как я должен был ему сказать об этом… Мне нужны были деньги на мелкие расходы, вы понимаете… я… попытал счастья здесь… и теперь у меня ничего нет. Но мы держались в стороне, клянусь вам… довольно далеко. Я бы не допустил, чтобы Флоранс поступила некорректно и смешалась бы с европейцами.
Я видел, что сэр Арчибальд собирался говорить до бесконечности на тему, которая была мне отвратительна, что он готов оскорблять и еще больше отрекаться от своей плоти. Чтобы вырвать его из этого наваждения, я решил направить его мысли по другому, не менее мучительному пути.
— Все эти басни мне не интересны! — сказал я грубо. — Единственное, что меня интересует, это чувство Ван Бека.
Я не ошибся. Сэр Арчибальд резко оборвал свою жалкую защитную речь. Он принялся шептать, как поступал всегда, когда говорил о колоссе:
— С этой точки зрения, все к лучшему. Он знает, что вы не приходили к Флоранс. Он видел, что в тот вечер встреча была чисто случайной, и манера, с которой вы обращались с Флоранс, его успокоила.
— А как же сцена, которую она мне устроила? — воскликнул я.
— Что это доказывает, мой дорогой молодой человек? Что она доказывает? Что Флоранс вас любит? Ван Бек знает это еще с момента вашего пребывания на судне и рассчитывает отомстить. И это не может не доставлять ему удовольствия. Чего он не допустит — от этого меня бросает в дрожь, — так это того, что… если узнает о… о вашей… словом, о том, что между Флоранс и вами… В самом деле, уверяю вас, с этой стороны все в порядке!
— Тогда до свидания, — сказал я.
Когда я открыл дверь, сэр Арчибальд робко прошептал:
— Вы не хотите ее увидеть? Она просила меня об этом. Она в своей комнате рядом… никто не узнает. Вы можете пройти к ней отсюда через ванную комнату.
Я вышел, не ответив, и хлопнул дверью.
XVIII
Я закончил ночь в матросском баре.
Несомненно, один из матросов неловкой рукой нацарапал мне адрес, который я обнаружил на следующий день в своем кармане на смятом клочке бумаги.
После некоторых усилий я вспомнил, что он указывал курильню опиума в китайском городе. Я тут же решил туда отправиться.
Поколебавшись какое-то время, я принял в некотором роде фатальное решение и кинулся в места, находившиеся в противоположной стороне той, где я был накануне. Как контраст «Астор-хаусу» и его голубятне, мне требовался кабак, притон.
Опиум в этом желании не был основным элементом. Я мог найти наркотики, и лучшего качества, в самых изысканных домах. Но я искал, главным образом, убежища в норе, где собирается для забвения и счастья самый бедный и грязный человеческий скот.
Было около полудня, когда я проходил по холлу клуба.
— Здесь одна дама, она ждет вас уже два часа, — сказал мне посыльный. — Она не захотела, чтобы я вас разбудил.
— Я встречусь с ней в другой раз, — ответил я в страстном нетерпении добраться до приюта полумертвеца.
Но, обернувшись, я увидел Флоранс.
Не дав мне прийти в себя от удивления, она спросила:
— Почему ты отказался зайти ко мне? Ты пошел на встречу с этой женщиной?
Я не узнавал ни лица Флоранс, ни ее голоса, или, вернее, я вновь увидел в ней человека, которого встретил в самом начале, но которого заставила забыть ее любовь ко мне.
Да, этот упрямый взгляд, отсутствующий, непреклонный, эта интонация, суровая и жестокая, эта дикая воля дойти до конца любой ценой — ценой смерти старого изнуренного человека — метиска вновь предстала передо мной с таким лицом.
Внезапно, сам того не желая, не ведая, я вызвал у этой дикарки всех дьяволов ревности. Они соответствовали ее страсти. Я почувствовал это и испугался.
В то время, когда никакая драка, ни самая опасная, ни самая позорная, не пугала меня, я приходил в ужас от публичной сцены с женщиной, если только не был пьян. Ничто не казалось мне более опасным. Я не знал, что ответить, что делать… ощущение, что я смешон и отвратителен, угнетало меня.
Пользуясь моим смятением, Флоранс продолжала на более высоких нотах:
— И теперь ты снова идешь к ней?
Мне надо было что-то сказать, сделать какой-нибудь обуздывающий жест, сразу прекратить, безжалостно остановить этот бунт, это покушение на мою свободу или, по крайней мере, оттолкнуть Флоранс с ее криками и пройти мимо. Но уже любопытные лица оборачивались к нам. На некоторых, мне показалось, я увидел улыбку.
— Ты с ума сошла! — прошипел я Флоранс. — Дело не в женщинах, клянусь тебе.
— Тогда я иду с тобой.
Флоранс еще повысила тон. Я до такой степени потерял голову, что был не способен придумать малейшую ложь, помешавшую бы метиске сопровождать меня.
— Хорошо, — сказал я.
Затем, вспомнив, куда я направлялся, я добавил с чувством, которое может испытывать раб, предвкушающий заранее подлую месть:
— Идем. Ты сама захотела.
В эту минуту я ненавидел Флоранс так сильно, что не мог этого выразить. Самолюбие, вероятно, подавляло во мне все остальные чувства. А эта девица, которую я считал у своих ног, навязывала мне вдруг свою дикую и сумасшедшую волю!
Неспособный отделаться от нее, я был также абсолютно не способен выносить ее рядом с собой. Вместо того чтобы взять автомобиль, как намеревался, я подозвал рикшу.
Человек-лошадь подбежал. Я прыгнул в его тележку, не обращая внимания на метиску.
Однако вскоре я увидел ее рядом: Флоранс вез другой китаец в лохмотьях.
Я вспомнил другой бег, приблизительно такой же, по улицам Кобе, но тогда роли были другие: тогда я преследовал Флоранс.
Вспомнила ли она?
Возможно…
На одной остановке из-за затора на узеньком и вонючем переулке китайского города мы вынуждены были стоять некоторое время бок о бок. Я увидел в глазах Флоранс отчаянный призыв — и резко отвернулся.
Как мог я приписывать столько прелести этому невыносимому существу?
Я рассчитывал, что само место, куда я вез Флоранс, освободит меня от нее, настолько отвратительным представлял я его себе.
Если в этом смысле мои надежды превзошли все ожидания, то расчет, напротив, оказался неверен.
Ни почти непродыхаемый воздух, ни запах грязи, пота, мочи и плохого пережженного опиума, ни сплетение тел в лохмотьях, покрытых коростой, лишаями, ни зрелище лиц кули, провалившихся в отравленный сон, — ничто не отбило охоту у Флоранс, между прочим, такой свежей, такой гладкой, которую длительное заточение приучило к монастырской чистоте.
Если бы она не была со мной, я бы сбежал. Но прежде всего я хотел ее проучить.
Когда владелец курильни предложил мне угол, отгороженный занавеской от конуры без окна, где столько несчастных вкушали единственное счастье, которое им было предоставлено, я ответил:
— Нет. Вместе со всеми.
Тайком я взглянул на Флоранс. Она даже не моргнула.
Хозяин пинками освободил для меня место, Флоранс легла первая, положив голову на короткий деревянный валик возле подноса.
— Я тоже хочу, — сказала она бою, который готовил для меня первую трубку.
Я пообещал себе, что не скажу ни слова метиске. Однако я не смог удержаться и спросил:
— Ты уже курила?
— Нет, жизнь моя, но я хочу делать то же, что и ты!
Флоранс вновь говорила своим нежным голосом, страстным и покорным. Можно было сказать, что это по моему приказу она устроилась напротив. Привидения ревности рассеялись. Она вновь обрела свое сердце влюбленной служанки.
Но это преображение отнюдь не успокоило меня.
«Она улыбается мне. Она счастлива. Она считает, что в расчете, — думал я с возрастающим отчаянием. — Ну, ладно, она увидит!»
Я стал вести себя так, словно Флоранс не существовало. Она стала для меня предметом, по которому взгляд скользит не задерживаясь. Напротив этой тени я принялся курить, как ненасытный, как одержимый.
Но мягкий наркотик, требующий неторопливости, погружения и обходительности, подобно тонкому диалогу с длинными паузами, не любит варварства. Он отомстит. Вместо того чтобы отнять у меня Флоранс, он привел меня к метиске.
По истечении часа почти безостановочного вдыхания, прерываемого только поджариванием шариков, которые бой приготавливал с дьявольской быстротой, я позабыл все, в чем упрекал Флоранс, или, вернее, то, что вызывало во мне ярость.
Злоба, жадность, свобода, достоинство, гордость, неистовство, боль, любовь, — как можно было придавать хоть какое-нибудь значение этим чувствам?
Таково преимущество опиума, когда, поглощенный в большом количестве, он растворяет людские страсти до счастливого небытия.
Я чувствовал себя слегка приподнятым над грязными и жесткими циновками. Деревянный валик, который поддерживал мой затылок, превратился в некий чудесный источник, откуда неизъяснимое блаженство вливалось в мое тело.
Какой смысл могли иметь заботы, волнения, взрыв амбиций, бунт самолюбия?
Моя плоть и кровь жили новой чудесной жизнью. С необъяснимой радостью я подсчитывал удары своего сердца. А моя до предела чувствительная кожа испытывала восторг от малейшего прикосновения, как от самой нежной ласки.
Когда чья-то рука коснулась моей, я не сразу понял, что это была рука Флоранс. Но когда понял, мне было уже все равно. Флоранс или другая женщина? Неважно, лишь бы ладонь была нежной, а пальцы красивые.
Постепенно, но с неумолимым давлением, неотвратимые, как смерть, потребность, желание полностью овладели мной.
Только у завсегдатаев опиум уничтожает чувственный голод. У тех же, кто им пользуется редко, он возрастает и обостряется сверх меры.
Я отодвинул поднос, потянулся к Флоранс, поцеловал ее, чувствуя, как погружаюсь в море наслаждений.
Она попробовала умеренную дозу опиума. Она обладала для этого врожденным, наследственным чувством, но и в ней опиум пробудил похотливое веяние.
Не обращая внимания ни на курильщиков, ни на боя, она ответила на поцелуи, слившись со мной.
— Господин джентльмен-офицер, не желает ли теперь маленькую спаленку? — шепнул мне на ухо хозяин.
Мы прошли в некое подобие примитивного алькова, скрытого двумя тканевыми занавесками. Они сходились неплотно. Но это никого не смущало, так как никто в этом ночном прибежище для смутных снов не интересовался поступками других.
Никто?
Однако мне показалось, что чья-то голова приподнялась, чтобы проследить взглядом за нашим перемещением. Для этого человек вытянул шею, насколько был способен, и мне показалось, что на этой шее я узнал ужасный шрам.
На мгновение я вспомнил предостережения, выложенные юнгой, когда он был в засаде у «Астор-хауса».
Но занавески за нами уже закрылись, и Флоранс срывала свои легкие одежды.
Казалось, я уже знал все возможности и источники удовольствия, которые таило ее тело. Я пришел в восторг от того, что оно открыло мне на жалком и грязном ложе, среди стен, источавших вонючую сырость, в глубине ниши, смутно освещенной отблеском маленьких горелок с опиумом в соседней комнате.
Радость, благодарность моей плоти — я испытывал потребность выразить все это словами. И я, не сказавший ни одного слова любви Флоранс, убаюкивал ее самыми жаркими обещаниями, самыми страстными клятвами, самой искренней ложью. Когда слов больше не хватало, я просил еще опиума, снова овладевал Флоранс и возобновлял свою лихорадочную и нежную литанию.
Она слушала мой голос, как снисходивший с небес. Так прошли день и ночь.
Когда наконец я решился покинуть курильню, я снова увидел в тумане, застилавшем мне глаза, шею со шрамом.
Помогая Флоранс подняться в тележку рикши, я спросил:
— Как звали матроса, который охранял твою дверь на судне?
— Сяо.
— Не было ли его среди курильщиков?
— Думаю, да, — с безразличием ответила метиска.
XIX
На следующее утро на мне не было даже самого легкого следа моих излишеств. Я проспал целые сутки.
Мой организм был готов к любым заданиям, ко всем невзгодам. Мой мозг работал предельно ясно. И я был словно ослеплен внезапной очевидностью: мне надо бежать из Шанхая. И немедленно.
Не обещал ли я встречаться с Флоранс каждый день, каждую ночь, курить вместе, забыть все на свете, кроме нее? Она уже ждала меня. Скоро она примется меня разыскивать.
Я не мог сдержать слово. Но не мог устоять и перед ее прелестями. Я должен был бежать, и чтобы никто не смог ее предупредить об этом.
Мои обещания?
Мужчина не несет ответственности, решил я, за то, что говорит под действием алкоголя или наркотика.
Но тогда, возражал мне мой внутренний голос, нужно, по крайней мере, оправдаться.
На это я ничего не ответил, ибо, по правде говоря, я еще не был мужчиной, а всего лишь юношей, напуганным обязанностями, суть и тяжесть коих не способен был оценить.
Я направил всю энергию своего ума на мысли о необходимом побеге. Цель моего путешествия быстро определилась — Пекин.
В этом выборе я нашел окончательное оправдание. Как я мог покинуть Китай, не увидев Пекин? Флоранс не имела все-таки никакого права помешать мне в этом.
Оставался вопрос денег. У меня их почти не было.
В связи с этим я вспомнил, что почти не виделся с господином В.
Французский консул встретил меня любезно, чего своим поведением я никак не заслуживал.
Не успел я намекнуть на желание посетить Пекин, как господин В., улыбаясь, сказал:
— Что вам мешает, так это, думаю, дорожные расходы. Не думайте больше об этом: я этим займусь.
Я принялся благодарить его, он меня прервал:
— Не надо меня благодарить. Я рассматриваю это путешествие как прекрасную возможность для вашего познания Китая и поста, который я предполагаю вам доверить. — Консул помолчал и внезапно спросил: — Возглавить полицию французской концессии в Шанхае — это вам подошло бы?
Изумленный, я пробормотал:
— Как?.. Почему?
— Очень просто, — продолжал господин В. — Шеф нашей полиции затосковал по Родине. Я подумал о вас для его замены.
Он смотрел на меня так серьезно и с такой добротой, что я решил сразу же лишить его иллюзий на мой счет.
— Господин консул, — сказал я, — вынужден предупредить вас…
Господин В. вновь прервал меня, закончив мою фразу:
— …что ваше поведение здесь не было поведением арбитра нравов? Не так ли? Так что ж, вы не сообщаете мне ничего нового. Господин Ванг мне доложил об этом. Я сейчас представлю вам господина Ванга.
— И несмотря на это…
— Да, несмотря на это. Я справлялся о вас во Владивостоке и даже во Франции. Да, шеф полиции, особенно в Шанхае, должен помнить о том, что он всегда на службе… Если, как мне представляется, вы любите приключения, уверяю вас, вы будете довольны.
Господин В. нажал на звонок. Из соседней комнаты вышел самый маленький и самый сморщенный человек, какого мне когда-либо доводилось встречать. Он носил массивные очки на пронырливых глазках, а над почти невидимыми губами — длиннющие седые усы.
— Не правда ли, господин Ванг, мы оценили трепку, которую получил Ван Бек на балу в «Астор-хаусе»? — спросил консул. Затем, обращаясь ко мне: — Господин Ванг служит во французской полиции с конца прошлого века.
Старый китаец рассыпался в поклонах и прошептал:
— Я осмелился высказать господину консулу мысль, что человек, который не боится Ван Бека, может с успехом возглавить полицию в Шанхае.
Итак, предложение, вынужден признать, было серьезным. Но это лишь увеличивало мое недоумение. Оцепенев, я молча созерцал господина В.
— Разумеется, я не требую у вас немедленного ответа, — сказал консул, смеясь. — Вы решите, вернувшись из Пекина. Поприветствуйте от моего имени Храм Неба, самый божественный замысел, который люди смогли воплотить.
К счастью, я отправился туда сразу по прибытии.
Таким образом, я мог видеть трезвыми глазами череду пустынных, необитаемых дворов, рассчитанных с непостижимым магическим искусством так, чтобы подготовить разум к высочайшему и совершеннейшему спокойствию. Туда, рассказывали мне, в эти поросшие травой безмолвные дворы, где ярусами возвышались три террасы из чистого мрамора, чудеснейшим образом обработанного, над которыми вместо свода было небо, приходили после коронования китайские императоры, поднимались на самую высокую площадку и проводили там целый день и целую ночь, созерцая небо.
Но в Китае уже больше не было императоров! А огромный город, разрезанный грандиозными стенами, не имел больше своего значения. Так же как и центр, некогда недоступный, весь из золота и редких камней, охраняемый бронзовыми птицами и драконами, предназначавшийся Сыновьям Неба, а теперь открытый для каждого прибывшего сюда.
Но не по этой причине пренебрег я этим великолепием, которого, уж конечно, никогда не увижу.
Нет, просто я встретил в гостиной спального вагона двух казачьих офицеров. Они потащили меня к самым изысканным на земле куртизанкам и в клубы, в которых играли только по-крупному.
На столе у нас стоял коньяк, мы проводили время в стиле, свойственном телохранителям.
В одно прекрасное утро я обнаружил, что исчерпал все свои ресурсы. Я вновь сел на поезд, идущий в Шанхай, так и не увидев Пекина.
Выйдя из вагона, я тут же узнал на перроне незабываемый силуэт господина Ванга. Только тогда я вспомнил о предложении французского консула.
Господин Ванг очень незаметно поприветствовал меня издали, но, когда я подозвал наемный экипаж, он тотчас же оказался рядом.
— Окажите мне честь составить вам компанию, — шепнул маленький человечек.
Не дожидаясь согласия, он уселся на скамейку.
Некоторое время мы тряслись в экипаже, запряженном изможденной конягой, когда господин Ванг сказал мне с очаровательной улыбкой:
— Я очень люблю французского консула.
— Я тоже, — ответил я.
— Я был в этом уверен! Я был в этом уверен! — в блаженстве воскликнул маленький старик-китаец. — И я также уверен, чтобы не причинять ему огорчений, вы забудете о предложении, которое он вам сделал по опрометчивому совету своего недостойного слуги, находящегося перед вами. — Господин Ванг наклонил голову и смолк.
— Что это значит? — вскричал я. — Вы прекрасно понимаете, что я должен знать причины такого решения. Оно для меня оскорбительно. Что вы выведали про меня? Воровство? Преступление?
Крохотная морщинистая ручка господина Ванга все это время порхала у моего лица то ли от ужаса, то ли от протеста.
Когда я закончил, он глубоко вздохнул:
— Не печальте мое старое сердце, умоляю вас. У меня сегодня такое горе. — Не давая мне возможности вставить хотя бы слово, он прошептал на одном дыхании: — Молодая девушка, которую я очень любил, была найдена задушенной шнурком в курильне нижней части города. Ее звали мисс Флоранс. Ее отец — мой старый друг, сэр Арчибальд.
XX
«Ван Бек не покупает вслепую!» «Думаю, это был Сяо». «Ван Бек вслепую не покупает!» «Думаю, это был Сяо».
Голоса сэра Арчибальда и Флоранс четко вперемежку звучали в моей голове. И тогда я увидел взволнованную метиску, в ужасе от моего исчезновения бегущую в последнее место, где она меня видела, где я заставил ее поверить в мою любовь. «Любовь моя… Жизнь моя…» — говорила она. И там…
Дойдя до этих воспоминаний, воображение отказывалось работать дальше и неотступно возвращалось обратно по тому же кругу. Это продолжалось до самой ночи, затем я дико напился.
На следующий день воспоминания были уже слабее, голоса тише. День за днем, ночь за ночью они рассеивались, затихали, изгоняемые, подавляемые алкоголем, опиумом, сексуальными излишествами.
И больше я уже не думал о метиске Флоранс… По крайней мере, в то время, когда я так умел ладить сам с собой.
А сэр Арчибальд?
А Ван Бек?
Не знаю, что сталось с ними после смерти Флоранс. Что касается Боба, я встретил его на «Поле Лека». Нам предоставили одну каюту: наша дружба завязалась вновь. На борту находилось несколько хорошеньких доступных женщин, но ни одна из них не была столь привлекательной, чтобы столкнуть нас.
Ко всему этому мы страшно пьянствовали, так как каждый похвастался иметь по прибытии в Марсель самый большой счет в баре.
Париж, 31 января 1937 г.
Жозеф Кессель
Жозеф Кессель (1898–1979) родился в Аргентине в семье врача, выходца из России. Полтора года спустя мать будущего писателя уехала для поправки здоровья к родителям, жившим в окрестностях Оренбурга, и взяла сына с собой, а затем оставила его у них на несколько лет. Там же, в Оренбурге, в 1904 году он поступил в гимназию. Вот так случилось, что русский стал для Кесселя родным языком, первым языком, на котором он начал говорить. Тем временем родители переехали во Францию и забрали мальчика к себе. В 1908 году он продолжил учебу в лицее в Ницце, потом в Париже, где и завершил свое среднее образование в одном из лучших парижских лицеев в 1914 году. Не решив к тому времени окончательно, стать ли ему актером или писателем, он поступил учиться в Сорбонну на классическое отделение филологического факультета и одновременно в Консерваторию драматического искусства. Тогда же начал писать свои первые репортажи и статьи, которые публиковались в солидной газете «Журналь де Деба». В 1916 году Кессель отправился в качестве авиатора добровольцем на фронт, где участвовал в боях и опасных разведывательных операциях, и закончил войну в чине лейтенанта. Демобилизовавшись, он стал профессиональным репортером и вскоре приобрел широкую известность благодаря серии очерков о путешествиях в Китай, Индию, Афганистан, Цейлон, Сирию и другие восточные страны. В начале 20-х годов Кессель всерьез занялся литературным творчеством. В 1922 году вышел его первый роман — «Красная степь», сюжет которого развивается на фоне гражданской войны в России, за ним в 1923 году последовал «Экипаж», роман про авиаторов в первую мировую войну. Одновременно Кессель опубликовал несколько сборников, часть из них содержала очерки, посвященные России и жизни русских эмигрантов. Таковы «Дневник девочки эпохи большевизма» (1923), «Воспоминания наркома» (1925), «Слепые короли» (1925). Другие сборники, например, «По Сирии» (1927), «Ветер песков» (1929), были составлены из репортажей, сделанных на Востоке. Кессель писал не только о далеких и экзотических странах, но также и о тайнах Парижа, о неведомых, темных сторонах жизни столицы. Будучи настойчивым, умелым репортером, он проникал в самые низы общества, даже в воровскую среду, и писал репортажи, которые затем легли в основу его книг: «Парижские секреты» (1930), «Ночи принцев» (1930), «Ночи Монмартра» (1932), «На дне» (1932). Знание этой среды позволило писателю создать несколько интересных, основанных на реальных наблюдениях художественных произведений. Одно из них — роман «Дневная Красавица» (1928), который имел скандальный успех, неоднократно переиздавался и сорок лет спустя был экранизирован знаменитым Буньюэлем. Главную роль в фильме сыграла столь же знаменитая Катрин Денев. Уже в 1927 году творчество молодого писателя было отмечено Большой премией Французской академии. Человек активный и деятельный, Кессель писал очерки, красочные репортажи и увлекательные художественные произведения о важнейших событиях своего времени, во многих из которых участвовал лично. Так, в 1936 году он воевал в Испании, в 1940-м — работал военным корреспондентом, в 1941-м — стал членом одной из групп Сопротивления, а в 1942 году через Испанию перебрался в Лондон и затем продолжил борьбу против гитлеровцев в качестве командира эскадрильи. Находясь в Лондоне, Кессель в соавторстве со своим племянником Морисом Дрюоном, будущим знаменитым романистом, сочинил «Песнь партизан», которая стала гимном Сопротивления и сделала Кесселя еще более популярным. После войны Жозеф Кессель продолжал путешествовать и писать очерки, но больше всего внимания уделял художественному творчеству. Наиболее известны из книг этого периода четырехтомное автобиографическое произведение «Круг несчастий» (1950), романтическая история о девочке и африканском льве «Лев» (1958), роман «Всадники» (1967) о приключениях воинов-кочевников в степях Афганистана. Всего за свою жизнь Жозеф Кессель опубликовал 27 романов и 30 книг очерков и репортажей. Одним из его последних произведений была шеститомная серия воспоминаний «Свидетель среди людей» (1968–1970) — живая и яркая летопись событий и нравов XX века. В 1963 году Кессель стал членом Французской академии.