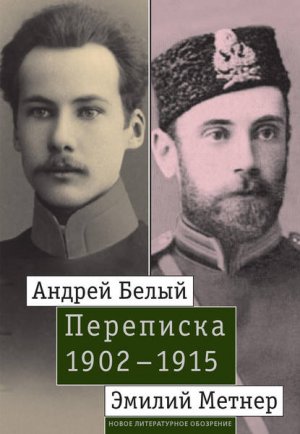
© А.В. Лавров, вступительная статья, 2017
© А.В. Лавров, Дж. Малмстад, составление, комментарии, 2017
© ООО «Новое литературное обозрение», 2017
Том 1
1902–1909
Моцарт и Сальери
К истории взаимоотношений Андрея Белого и Эмилия Метнера
Огромное эпистолярное наследие Андрея Белого (Бориса Николаевича Бугаева; 1880–1934) уже в значительной мере введено в читательский оборот. Отдельными томами опубликованы его переписка с А. А. Блоком, А. С. Петровским, Р. В. Ивановым-Разумником, а также письма Белого к А. Д. Бугаевой, М. К. Морозовой; в различных изданиях увидели свет переписка Белого с В. Я. Брюсовым, П. А. Флоренским, М. О. Гершензоном, его письма к А. М. Кожебаткину, С. М. Алянскому, П. Н. Зайцеву, В. Э. Мейерхольду, Г. А. Санникову, многим другим корреспондентам. Продолжавшаяся немногим менее пятнадцати лет интенсивная переписка Белого с Эмилием Карловичем Метнером (1872–1936), одним из его ближайших друзей и духовных спутников, многократно использовалась различными исследователями, щедро цитировалась, печаталась отдельными фрагментами[1], но оставалась неопубликованной в полном объеме. Между тем этот эпистолярный комплекс – один из важнейших, характеризующих личность и духовные искания Андрея Белого в период его литературного становления и в последующие годы, связанные с деятельностью символистского книгоиздательства «Мусагет». Столь же значима переписка с Белым и для осмысления образа Метнера – творческой индивидуальности, во многом недовоплощенной и недооцененной, но сыгравшей существенную роль в культуросозидательных инициативах начала XX века.
История взаимоотношений Белого и Метнера, во всей своей полноте отразившаяся в их переписке, являет собою подробную картину становления тесной дружбы, основанной на глубоком родстве интеллектуальных и духовных устремлений, и ее поступательного развития, прерываемого рядом кризисных, конфликтных ситуаций, которые, все более нарастая и усиливаясь, в конечном счете возобладают и приведут к полному разрыву. В череде конфликтов, разрушивших казавшуюся незыблемой дружескую связь, всякий раз обнаруживались конкретные причины и поводы, иногда серьезные и принципиальные, иногда мелкие и надуманные, но наряду с этими основаниями давали о себе знать и общие различия, заложенные изначально в духовно-психологических типах, культурных ориентирах и поведенческих темпераментах двух корреспондентов, которые рано или поздно, но неизбежно должны были обостриться. М. К. Морозова, близко знавшая их обоих, проницательно отмечала: «…между Метнером и Бугаевым было глубокое внутреннее расхождение, которого они, увлекаясь друг другом, не замечали и не думали, что оно должно, при близком соприкосновении, скоро обнаружиться. Метнер – западник, по характеру – немец, любящий порядок и определенность во всем, очень прямолинейный, не умеющий приспособляться к людям, страдал от каждого, казавшегося ему нелогичным, поступка Бугаева. А Бугаев, насквозь русский, эмоциональный, мягкий, увлекающийся, живущий в своем мире фантазии, мало чувствовал реальность жизни и, если с ней сталкивался, то страдал и бунтовал»[2].
Приступая к изображению Метнера в мемуарах, Белый указал на его литературное подобие – Стирфорта из романа Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфилда», с которым знакомится в Сэлем-Хаусе юный герой-повествователь и который становится для него объектом обожания и подражания: «К этому ученику, слывшему многоученым, к этому мальчику, бывшему лет на шесть старше меня и очень красивому, меня привели, словно к судье»[3]. Белый намечает параллель: «Тротвуд, юноша; и – Стирфорс, блеск талантов, старший товарищ Тротвуда; история друзей – себя повторяющий миф; у каждого бывает свой Стирфорс, свой блеск; жизнь отнимает Стирфорса; но сон о нем длится. Он – кипение юных сил в нас; он – нас отражающее зеркало»[4]. Параллель между Белым – юным Тротвудом-Копперфилдом и Метнером – Стирфортом («встреча юноши с сильно вооруженным мужем, поражающим воображение»[5]), наглядная для ранней поры их взаимоотношений, могла бы быть прослежена и в дальнейших сюжетных перипетиях диккенсовского романа – в постепенном разрушении образа сотворенного кумира и драматическом финале.
Наряду с указанной самим Белым кажется в данном случае допустимой и другая параллель из мира классических литературных персонажей, способная, как представляется, дополнительно проиллюстрировать и свести к определенным архетипам всю гамму различий, которые намечаются между творческими индивидуальностями и психологическими обликами двух корреспондентов, – с пушкинскими Моцартом и Сальери (параллель, разумеется, с внутренним содержанием этих образов, а не с сюжетной коллизией «маленькой трагедии»). Подобно Сальери, Метнер осознает исключительность дарования Белого, равно как и то, что «бессмертный гений озаряет голову безумца», что Белый во всех своих жизненных и творческих самореализациях поступает «как беззаконная комета в кругу расчисленных светил», что легкость, поспешность и стремительность его действий и высказываний сплошь и рядом оборачиваются безоглядностью и безответственностью. Подобно Сальери, Метнер глубоко не удовлетворен собою и своими литературно-аналитическими опытами, результаты которых несоразмерны с возлагавшимися на них надеждами и затраченными усилиями («…я один с моей глухою славой»; «Усильным, напряженным постоянством // Я наконец в искусстве безграничном // Достигнул степени высокой»). С моцартианскими по своей сути свободными творческими импровизациями и вдохновенными фантазиями Андрея Белого контрастируют сальеристически окрашенные постоянные гнетущие мысли Метнера о собственной несостоятельности, об ограниченности отпущенных ему способностей, о тщетности попыток реализовать таящиеся в глубине своего существа задатки. Наконец, в определенном ценностном соответствии с пушкинскими героями – Моцартом, воплощенном гении, и «ремесленником» Сальери («Ремесло поставил я подножием искусству») – сложилась посмертная репутация Андрея Белого, признанного корифея русского символизма, и Эмилия Метнера, отодвинутого на периферию этого направления и воспринимаемого скорее как одна из многих фигур, образующих его фон. Лишь в последнее время реальное соотношение сил и дарований стало восстанавливаться и к личности Метнера пробудился пристальный интерес, свидетельством чего являются в первую очередь монография о нем Магнуса Юнггрена[6] и сборник работ, посвященных ему и его литературному окружению[7].
Восьмилетняя разница в возрасте, пролегавшая между 21-летним студентом 3-го курса естественного отделения физико-математического факультета Московского университета Борисом Бугаевым и его новым знакомым Эмилием Карловичем Метнером, поначалу, действительно, создавала определенную субординацию между ними, наподобие той, которая сказывалась в отношениях между юным Копперфилдом и «многоопытным» Стирфортом. Метнер к тому времени уже был ответственным чиновником, причисленным к Министерству внутренних дел. Родился Эмиль-Карл Метнер (Medtner) 7 декабря 1872 г. в Москве в обрусевшей немецкой семье евангелическо-лютеранского исповедания. Отец, Карл Петрович (Карл Август Веньямин) Метнер (1846–1921), был одним из директоров акционерной компании «Московская кружевная фабрика»; мать, Александра Карловна (Александрина Вильгельмина; 1843–1918), происходила из рода Гедике (Goedicke)[8], ее племянник – композитор и пианист, впоследствии профессор Московской консерватории Александр Федорович Гедике (1877–1957). В семье Метнеров Эмилий был старшим сыном, за ним следовали братья Карл, Александр (скрипач, альтист, дирижер, композитор), сестра Софья (в замужестве Сабурова) и самый младший брат, Николай, ставший выдающимся композитором и пианистом. По окончании московской 5-й гимназии (куда он перешел из 1-й классической гимназии) Эмилий Метнер в июле 1893 г. поступил на юридический факультет Московского университета, который окончил в мае 1899 г. с дипломом 1-й степени[9]. После этого он некоторое время находился на военной службе, в артиллерийских войсках (что, согласно его позднейшему признанию, «благотворно сказалось» на «физическом и духовном состоянии»[10]), затем занимался адвокатурой.
Параллельно с занятиями в университете началась и литературно-журналистская деятельность Метнера, отразившая его глубокий интерес к музыке – главному жизненному пристрастию. В 1894–1899 гг. Метнер помещает в газете «Московские Ведомости» – консервативном органе, где он был постоянным сотрудником, а в 1894–1896 гг. состоял помощником секретаря редакции, – корреспонденции, реферативные статьи, переводы, объединенные музыкальной тематикой (за подписями: Э. М., Эм.). В той же газете он опубликовал в 1896 г. (за подписью: М – р) цикл очерков о Турции и Болгарии, основанных на личных впечатлениях[11]. Оставшиеся нереализованными мечты о собственном музыкальном призвании, о карьере дирижера трансформировались в энергию, которую Эмилий Метнер вкладывал в формирование личности и профессиональное воспитание брата Николая, уже в юношеские годы обнаружившего незаурядные задатки крупного музыканта.
Редактором «Московских Ведомостей» в 1887–1896 гг. был историк и публицист С. А. Петровский. Его сын Алексей Петровский, студент отделения естественных наук физико-математического факультета Московского университета, однокашник и друг Бориса Бугаева, сблизившийся с ним в первый год пребывания в университете, знал Метнера еще с гимназических лет и восхищался его дарованиями. В свою очередь и Алексей Петровский чрезвычайно заинтересовал Метнера своими мистическими и ортодоксально-религиозными устремлениями. Можно предположить, что мистические переживания и озарения юноши Андрея Белого, те порывы и настроения, которые он позднее обозначит формулой «эпоха зари», первоначально транслировались Метнеру через Петровского. В частности, в дневниковой записи Метнера от 17 января 1901 г. зафиксированы сформулированные Петровским суждения о сакральной символике цветовой гаммы, соотносимые с построениями относительно семантики и метафизики «священных цветов», которые развивал Белый в ряде статей и писем юношеской поры – в том числе и в письмах к Метнеру: «Алексей Петровский думает, что Бог – красный, Христос – розоватый, а человек – белый; что помимо Христа и Антихриста должен и очень скоро явиться на земле Утешитель; Тот, Утешитель как чистейший человек будет вполне белый. Ницше – бывает подчас белым; Метерлинк тоже, даже чаще; Диавол – тоже красный»[12]. Образ Утешителя, появившийся в этой записи, также отражает сферу «тайнозрительных» интуиций, в которой находили взаимопонимание Петровский и Белый; в «Симфонии (2-й, драматической)» Белого, создававшейся в том же 1901 г., один, погружающийся «в теософскую глубину», говорит другому: «Если красный свет – синоним Бога Отца, красный и белый – синоним Христа, Бога Сына, то белый – синоним чего?..»; там же – одна из ключевых фраз: «Ждали утешителя, а надвигался мститель…»[13]
Петровский представил Метнеру Бориса Бугаева в конце 1901 г., при случайной встрече на улице. Годы спустя Белый в мемуарах красочно живописал эту мимолетную сценку, обогатив ее обертонами впоследствии развившихся отношений: «Раз шли с ним (Петровским. – Ред.) арбатским районом; вырос стройный, эластичный мужчина в карей широкополой шляпе, в зеленовато-сером пальто; бросились: узкая клинушком каштановая борода и лайково-красная перчатка, подымавшая палку, когда он остановился как вкопанный, точно внюхиваясь расширенными ноздрями тонкого носа и поражая загаром худого, дышавшего задором и упорством лица. ‹…› Настороженно вперились друг в друга; запомнилась поза Метнера: подозревающий задор, дразнимое любопытство, могущее стать и угрюмым молчаньем, и жестом детской доверчивости. Впоследствии мне казалось, что в миг первого столкновения на улице всплыл лейтмотив отношений, и бурных и сложных, где и пиры идей, и ярость взаимных нападок пестро сплетались до первого разговора, единственного, длившегося года в поединке взаимопроницания, признания, отрицания»[14].
Их следующая встреча после эпизода шапочного знакомства состоялась несколько месяцев спустя, в начале апреля 1902 г., на генеральной репетиции оркестра под управлением Артура Никиша в Колонном зале Благородного собрания: «…встреча и первый пристальный разговор с Э. К. Метнером на репетиции Никиша, определивший будущую дружбу»[15]. Белый поразился тогда глубиной и тонкостью, с какими Метнер интерпретировал исполняемую 6-ю симфонию Шуберта: «Я же разевал рот на комментатора никишевских комментарий не к це-дурной симфонии, а к европейской культуре, в лекции о которой он мне превратил репетицию Никиша простым подчерком музыкальных тем и их смысловым раскрытием в связи с философией»[16].
В свою очередь, Метнер в ретроспективной дневниковой записи от 16 сентября 1902 г. указал на другую ситуацию, послужившую началом его последующего сближения с Белым: «В первый раз я виделся с ним на заседании Психологического общества в память Вл. Соловьева. Это было мимолетно. Нынешнею весною Алеша (А. С. Петровский. – Ред.) затащил его ко мне, после того как узнал, что мы быстро сошлись на репетиции концерта Никиша, затем вышла в свет книжка А. Белого „Симфония“, которую я начал читать, не зная, что она принадлежит перу Бугаева, но среди чтения догадался, кто автор. Я ответил на визит, и мы сблизились еще больше»[17]. Видимо, об упомянутом «визите» говорится в письме Петровского к Метнеру от 16 апреля 1902 г.: «Не зайдете ли ко мне в пятницу вечером? У меня будет Бугаев. ‹…› Конечно, если Вам интересно поближе с ним познакомиться»[18].
«Симфония (2-я, драматическая)» – литературный дебют Андрея Белого – вышла в свет в апреле 1902 г. Обратил внимание Метнера на это произведение опять же Алексей Петровский, предлагавший ему в недатированном письме: «Не приобретете ли себе одну книжку: Андрея Белого: Симфония, цена 1 р. Она доставит Вам несколько с удовольствием проведенных часов. Если возникнут догадки относительно автора, пожалуйста, держите их про себя. Если встретите в 1 и 4 части два лица, напоминающих меня, то помните, что это не я, и у автора не было намерения изобразить меня. Вообще, эта вещь – шутка, не предназначавшаяся для печати, шутка, подчас доходящая до буффонады»[19].
В читательской аудитории «Симфония» почти единодушно была воспринята как очередная нелепая и претенциозная «декадентская» выходка. С пониманием этот экспериментальный образец новооткрытого Белым жанра – литературного повествовательного текста, выстраиваемого с ориентацией на структурные каноны музыкального произведения, – встретили лишь в символистской среде. Метнер сразу стал энтузиастическим поклонником этой книги. В воспоминаниях Белый передает его восторженные слова, полные впечатлений от только что прочитанной «Симфонии»: «„Симфонией“ дышишь, как после грозы… В ней меня радуют: воздух и зори; из пыли вы выхватили кусок чистого воздуха, Москва – осветилась: по-новому… „Симфония“ – музыка зорь ‹…›»[20]. Более того: Метнер убежден, что у автора «Симфонии» впереди большое литературное будущее. 16 сентября 1902 г. он записал в дневнике: «Бугаев – высокий тонкий 21-летний студент. Голова его построена очень хорошо; она свидетельствует о способности этого колоссального ума со временем уравновеситься, стать „белым“; голова эта, в которой затылок и лоб поражают взятые в отдельности, но гармонируют вместе, есть голова оптимиста, жизнерадостного олимпийца, поэта и философа в одно время. ‹…› Бугаев – это для меня пробный камень русского человека. Если из него не выйдет чего-нибудь очень значительного, чего-нибудь более крупных размеров, нежели Влад. Соловьев, то я ставлю крест способностям русского человека. Так сильно, как он, никто из русских, кроме Пушкина и Лермонтова, не начинал. Его „Симфония“ – гениальна»[21].
Осенью того же 1902 г. Белый вошел в круг семьи Метнеров, стал регулярно бывать в их квартире, которая уже тогда обретала черты одного из мест притяжения московской интеллигенции[22]. С 1896 г. для его самообразования и духовного самоcознания главную роль играли Соловьевы – брат философа Михаил Сергеевич и его жена Ольга Михайловна. Теперь в жизнь начинающего писателя вошли в аналогичной роли Метнеры – и прежде всего Эмилий Метнер. О сентябре – октябре 1902 г. Белый вспоминает: «Все почти вечера провожу я у Метнеров в непрерывных беседах с Эмилием Метнером; эти дни – новое откровение музыки для меня; Метнер углубляет мое отношение к музыке, иллюстрирует свои мысли при помощи брата своего, пьяниста (впоследствии известного композитора), исполняющего ряд сонат Бетховена и Шумана. ‹…› Метнер впервые колеблет во мне шопенгауэровский подход к Канту и сосредоточивает мое внимание на Канте; он впервые мне приоткрывает подлинного Гёте; так, своим подходом к Бетховену, к Гёте и к Канту я обязан Метнеру ‹…›»[23]. Не менее значимым было для Белого знакомство с Николаем Метнером и его ранними произведениями в авторском исполнении; особенно сильное впечатление на автора литературных «симфоний» произвела фортепианная соната f-moll Н. Метнера, в которой он почувствовал глубинное родство с собственными творческими интуициями, уловил музыкальный эквивалент своим «симфоническим» настроениям.
Эмилий Метнер, безусловно, осознавал определенное внутреннее сходство между Белым и своим младшим братом. Не решившись двигаться по, казалось бы, предначертанной ему музыкальной стезе, он направил свои силы к тому, чтобы способствовать духовному воспитанию и профессиональному самоопределению и возрастанию Николая. Сблизившись с Белым и распознав его исключительные творческие задатки, Эмилий Метнер невольно стал выступать и в отношениях с ним в аналогичной роли, стремясь придать более четкие и осознанные формы, более тщательную огранку его стихийному, бурно выплескивающемуся дарованию. В приведенной цитате Белый указал на несколько культурных миров, которые стали раскрываться перед ним посредством менторских усилий Метнера, – на классическую немецкую музыку, на немецкую классическую философию (Кант; в союзе и противоборстве с ним Белый позднее станет воздвигать здание собственной теории символизма), на грандиозную фигуру Гёте – для Метнера величайшего из людей, населявших землю. К этим трем сферам следовало бы добавить еще одну, для Белого и Метнера в равной мере великую, – личность и творчество Ницше; о том, что фигура этого мыслителя и прорицателя всегда оказывалась для них обоих в эпицентре интересов и размышлений, наглядно свидетельствует их переписка[24]. Все эти культурные миры в совокупности образуют один глобальный мир, именуемый Германией. Убежденный германофил, Метнер активно способствовал формированию у Белого тех же культурных предпочтений; при этом германофильство сочеталось у Метнера, вполне в согласии с осознанием своего пограничного положения между двумя национальными общностями, с утверждением и почитанием русской самобытности, но в непременном содружестве с германским началом и с опорой на него. «Россия не может быть без Германии, и Германии тоже нужна Россия, – утверждал он. – Это – двоюродные братья»[25]. В «Воспоминаниях о Блоке» Белый аттестовал Метнера как «славянофильствующего кантианца»[26]. В русских писателях Метнер готов был находить подобия и аналогии писателям немецким, и Андрей Белый воспринимался им с привлечением таких параллелей: Новалис – «это немецкий Андрей Белый XVIII столетия… Конечно, не во всем»[27]; «…не видеть огромности этого русского Жана Поля и русского Новалиса и русского Hamann’a – значит быть… напрасно образованным»[28].
23 октября 1902 г. Эмилий Метнер женился на Анне Братенши (одним из шаферов был Белый) и сразу после этого уехал из Москвы в Нижний Новгород, куда еще летом того же года был назначен цензором. В связи с получением этой ответственной должности он писал А. С. Петровскому (10 июля 1902 г.): «Я рад только потому, что избавился от не только неподходящей, но и ненавистной адвокатуры, хотя и ценою удаления из Москвы от своих, от музыки, от Вас с Бугаевым»[29]. В Нижнем Новгороде Метнер постоянно находился с ноября 1902 г. по март 1906 г., когда вышел в отставку. Личное общение с Белым сменилось регулярной перепиской, в которой нашли продолжение и развитие обсуждавшиеся ранее темы, с наглядной полнотой воплотился круг интересов и проблем, занимавших обоих корреспондентов. Андрей Белый «эпохи зорь», мистик и визионер, теург и «жизнетворец», отобразился в этих письмах-исповеданиях, адресованных Метнеру, не менее полно и выразительно, чем в одновременно рождавшихся стихотворениях, «симфониях» и лирических статьях. Образы и символические построения, развернутые Белым в письмах к Метнеру, отражали становление его мифопоэтики и давали импульс собственно творческим опытам – как, например, письмо от 19 апреля 1903 г., в котором обрисовывались контуры «аргонавтического» мифа, положенного в основу неформального объединения молодых людей, по большей части сверстников Белого, разделявших его духовные устремления. Теоретизирования, затрагивающие сферу мистического богословия, рассуждения о различиях между теософией и теургией, выстраивания геометрических (или псевдогеометрических) схем, выводимых из открывшихся ему метафизических смыслов, аккумулированных в цветовом спектре, и т. д. – эти и многие другие темы, которые со всей щедростью и неуемностью развивает Белый в письмах к Метнеру, пройдя в них апробацию, находят свое дальнейшее развитие в его писаниях, предназначавшихся для печати («О религиозных переживаниях», «О теургии», «Символизм как миропонимание», «Критицизм и символизм» и др.); многие темы и интерпретации в дальнейшем не востребуются, и тем значимее их зафиксированность в эпистолярной форме.
В лице Метнера Белый со своими прихотливыми медитациями и пафосными откровениями обретает благодарного собеседника, стремящегося отвечать в унисон заданным мыслительным ритмам и трактовкам, развивающего их в том или ином направлении или порой, сдержанно и осторожно, вносящего существенные коррективы. Наиболее показательно в этом отношении подробное письмо Метнера, стоящее особняком в общем корпусе переписки, – ответ Белому на его статью «О теургии», который в свое время предполагалось опубликовать как полемическую реплику на ряд положений, обосновываемых в статье[30]. Даже на включаемые Белым в письма или прилагаемые к ним только что созданные стихотворения Метнер, не будучи сам стихотворцем, пытается на свой лад реагировать, отвечая текстами Гёте и других любимых немецких классиков. Новые произведения Белого получают в письмах Метнера неизменно высокую оценку; не менее высоко оценивает он их «глубокий и чистый мистицизм» в письмах к Петровскому, хотя и выражает опасения относительно дальнейшей литературной судьбы автора «симфоний»: «Что Бугаев – гениален, – я с Вами согласен; но я боюсь, что „мировое“ значение может ускользнуть от него; „нуменальное“ может заесть его, и он не проявится достаточно полно и отчетливо»[31].
С января 1903 по октябрь 1904 г. Метнер постоянно печатался в екатеринославской газете «Приднепровский Край», которую в тот период редактировал его близкий знакомый Ф. А. Духовецкий; при содействии Метнера в ней была опубликована статья Белого «Интеллигенция и Церковь»[32]. Среди множества тем, затронутых в статьях Метнера, были отзывы о новейших изданиях русских символистов – о журнале «Новый Путь»[33], альманахе «Северные цветы»[34] и др. На фоне преобладавших тогда и в столичной, и тем более в провинциальной печати негативных и насмешливых оценок «декадентского» творчества высказывания Метнера по этому поводу представляли собой явление едва ли не уникальное. Он не только признает эстетическую значимость создаваемого символистской поэтической школой, но и решительно ниспровергает ее ниспровергателей – тех критиков и публицистов, коим имя – легион. В статье «Литература „новых“», содержащей обзор «Альманаха книгоиздательства „Гриф“» (1903) и апрельского номера «Нового Пути» за 1903 г., он заявляет: «Все нападки на „новое“ искусство (а не на отдельных бездарных или заблудших его представителей) неминуемо рикошетом бьют самих же нападающих, раскрывая их непонимание не только нового искусства, но и художественного зерна в старом, ими превозносимом, искусстве. Эти враги „нового“ искусства, сами того не подозревая, враждуют с искусством вообще; они говорят о нем или как школьники – с точки зрения краткого учебника теории словесности, или как моралисты, богословы, политики, с точки зрения излюбленной ими тенденции. А главное, они хотят, чтобы все было разжевано до тошнотворной ясности самим художником; тогда они глотают легко, с удовольствием; таков их испорченный вкус; они-то и суть настоящие „декаденты“ – упадочники; их эстетическая восприимчивость в упадке, а не искусстве, которое находится на пороге скорее ренессанса, нежели декаданса ‹…›»[35]. В своих конкретных оценках «нового» искусства в России Метнер довольно сдержанно отзывается о творчестве «старших» символистов, видя в нем уклон к «экстравагантному декадентизму», и приветствует искания «младших» символистов, руководствующихся философско-теургическими идеями, в которых он улавливает созвучие с философской эстетикой немецких романтиков. Высшим достижением отечественного «нового» искусства Метнер считает произведения Андрея Белого – «автора, несомненно, даровитейшего и оригинальнейшего из „новых“»[36].
Когда вышла в свет «Северная симфония (1-я, героическая)» Белого, Метнер отозвался на ее появление развернутой аналитической статьей «Симфонии Андрея Белого»[37]. Собственно «Северной симфонии» он коснулся в ней лишь мимоходом, отметив, что «материал ее (как самый сюжет, так и детали) менее интересен, менее сложен, менее жизнен, менее, наконец, возбуждает изумление перед талантливостью „симфониста“, нежели материал второй симфонии»[38], основное же внимание уделил рассмотрению ранее изданной «Симфонии (2-й, драматической)». Дав общую характеристику «симфонической» поэтики и основных сюжетных линий и мотивов произведения (с явной установкой на «неподготовленного» к восприятию этой «причудливой книги» читателя), Метнер сосредоточил внимание на тех особенностях, в которых проявилось исключительное дарование автора: «Редкая наблюдательность, обнаруживающаяся в многочисленных подробностях, схваченных как бы невзначай, но выраженных метко и пластично, порою с неподражаемым и неподражательным самоцветным юмором, и в то же время взор, всегда устремленный в потустороннее, мимо и поверх всего наблюдаемого, – сочетание, которое придает воспроизведению окружающей действительности оригинальный символический оттенок»[39]. Отмечая насыщенность всего образного строя «симфонии» «своеобразным и высоким мистическим лиризмом», критик нащупывает и осмысляет те ее черты, которые определяют уникальное своеобразие и художественную ценность этого произведения: «Мотивы спаивают в одно целое фантасмагорию и повседневность; пробуя разобраться во впечатлении, с удивлением замечаешь, что первая является не менее, а иногда и более реальной, нежели вторая»; «…идея Вечности концептируется Андреем Белым не в форме холодной отвлеченности, аллегорически представленного абсолюта, способного иногда искусственно вызвать на время беспечальное, но безрадостное успокоение, ‹…› но в живых символах, голос которых, если уж кто раз услышал его, звучит неизменно, вечно – и не только в голове, но и в сердце…»[40]
К оценке «Симфонии (2-й, драматической)», на этот раз еще более ретроспективной, Метнер вернулся в 1912 г. в заметке «Маленький юбилей одной „странной“ книги (1902–1912)», приуроченной к десятилетию литературного дебюта Андрея Белого[41]. Принципиально новое в ней по отношению к ранней статье Метнера о «симфониях» – историческая дистанция, десятилетний творческий путь Белого, включивший и новые «симфонические» опыты, в частности 4-ю «симфонию» «Кубок метелей», которая, по словам автора заметки, «довела гениально созданные приемы до головокружительной виртуозности, до микроскопической выработки самых утонченных подробностей, до своего рода словесного хроматизма и энгармонизма». На фоне новых свершений писателя значение его дебютной книги только возрастает: «…„Симфония драматическая“, как первый в литературе и притом сразу удавшийся опыт нового формального творчества, надолго сохранит свою свежесть, и год издания этой первой книги Андрея Белого должен быть отмечен не только как год появления на свет его музы, но и как момент рождения своеобразной поэтической формы. А те немногие, которые не ограничились в свое время тем, что отметили оригинальную и упрямую выдержанность формы, но схватили и символическое целое симфонии, конечно, никогда не в состоянии забыть ее „беспредметной нежности“»[42].
После полутора лет интенсивной переписки, укрепившей внутреннюю связь корреспондентов, состоялась их новая личная встреча: вторую половину марта 1904 г. Белый провел в гостях у Метнера в Нижнем Новгороде. Он приехал туда в состоянии острого психологического срыва, к которому пришел по мере развития любовной связи с Ниной Петровской, и десять дней, проведенных в перманентных беседах с Метнером, оказали на него, как он признается в мемуарах, целительное воздействие: «Такое чудесное перерождение – действие Метнера: стиль дирижированья, произведенного твердой рукой во все мелочи быта, которым сумел он обставить меня, и культурой, которую, точно ковер-самолет, развернул передо мной ‹…›»; «…почувствовал, что я и молод, и жизнь впереди еще, и много радостей будет ‹…› с живой благодарностью другу внимал, наблюдая его ‹…›»[43].
Со своей стороны, Метнер не мог не уловить дисгармонических оттенков в поведении и самоощущении своего друга, которых при встречах полуторагодовой давности не наблюдал; в письмах к Петровскому, отправленных после визита Белого, он вносил определенные коррективы в ранее сформированный образ: «Его гений начинает принимать в моих глазах очертания довольно определенные. ‹…› Я много наблюдал за ним. У него есть опасные стороны. Вкратце и поверхностно скажу, что гений Бугаева не гётевского (и не пушкинского), а шиллеровского (и лермонтовского) типа. ‹…› Много надо ему учиться, работать; необходимо ему позаботиться о теле, о мускулах… Я ему обо всем этом говорил» (1 апреля 1904 г.); «Во время его пребывания я много наблюдал за ним. Очень интересно (хотя крайне безвкусно, варварски-декламаторски, необузданно) – он читает стихи вслух. У него есть мотив, свой оригинальный напев, и это – напев вырождения. Важна мертвенность (не бледность, а безжизненность) его лица, когда он устал. Конечно, все уставшие похожи друг на друга; они тогда обнаруживают свое вырождение, не могут его скрыть. Нет! Бугаев еще не тот, кого я жду от России! ‹…› Я его очень, очень люблю и дорожу его дружбой» (26 апреля 1904 г.); «Вот в Бугаеве есть… трещина и притом не периферическая только. ‹…› Ему необходим очень здоровый физический и психический режим. Я бы рекомендовал ему спорт и в гимнастике и в интеллектуальных занятиях. В течение 10 лет ему необходимо стараться быть позитивным, поверхностным, посюсторонним; варваризировать себя в мистическом отношении и утончать в эстетическом, вообще жить» (27 апреля 1904 г.)[44].
Ясно, что нижегородское совместное проживание позволило Метнеру различить те особенности личности Белого, которые недостаточно сказывались в переписке, тематически почти абстрагированной от ситуаций и проблем, рождаемых житейской повседневностью. Образ восторженного мистического юноши, стихийного гения усложнился, обнаружил драматические внутренние противоречия и изъяны; новые творческие опыты наиболее даровитого, по мнению Метнера, представителя «нового» искусства в России оказались не достигающими уровня, заданного его дебютной 2-й «симфонией» (в частности, большие претензии по части стиля и увлечения «декадентщиной» вызвала первая книга стихов и лирической прозы Белого «Золото в лазури»[45]). «Учительная» установка, изначально определившаяся в отношениях с Белым, диктовала Метнеру задачу духовной опеки над незаурядным, но подверженным сторонним разрушительным воздействиям талантом, стремление сообщить творческим потенциям писателя энергию целеполагания и мужественную силу.
Одним из главных героев в общении и переписке Метнера и Белого стал Фридрих Ницше – личность, исполненная в сознании Метнера огромной культуросозидательной мощи, вознесшая искания и осуществления германского духа на новую высоту; личность, вызывавшая преклонение и у Белого, получавшего от нее огромный творческий импульс к собственным теургическим исканиям и устремлениям. Так или иначе, зримо или незримо Ницше присутствует в большинстве писем, составляющих их переписку первой половины 1900-х гг. В размышлениях Метнера Ницше – прообраз Андрея Белого; это одновременно – и очень высокая аналогия, поскольку автор «Заратустры» располагается в системе ценностей аналитика-германофила в одном ряду с величайшими выразителями немецкой культуры Гёте, Кантом и Вагнером, и аналогия, критически окрашенная по отношению к Белому, пока не сумевшему достичь желаемой полноты самореализации и конгениальности своему прототипу. «Андрей Белый (Б. Н. Бугаев) – колокол с надтреснутым звуком, – писал Метнер Петровскому 15 сентября 1905 г., – он может звучать целое столетие и умилять несколько поколений, но это не… Иван-Царевич и даже (далеко!) не Фридрих Ницше; пожалуй, Фридрих Шиллер, хотя и последний гораздо здоровее, чем о нем обыкновенно полагают»[46]. Парируя, видимо, некогда брошенную эмоциональным Г. А. Рачинским реплику о том, что в Белом угадывается новый Шекспир, Метнер замечал: «…находятся чудаки, которые думают, что Вильям может повториться, и даже готовы признать такового в гениально-хрупком Бугаеве. Это весьма и весьма наивно. Борис Николаевич гораздо больше, чем о нем думает даже знакомая с ним толпа, но и гораздо меньше, нежели это кажется Рачинскому…» И далее Метнер проводит сравнение Белого с молодым Ницше – не в пользу первого: «Бугаеву – 24 г<ода>; он не из тех, которые развиваются медленно ‹…› Борис Николаевич еще не нашел и еще не показал нам столь отчетливо своих „элементов“; пока Борис Николаевич проделывает с ницшеанством то, что Шиллер проделал с кантианством. Переводит его на русский язык, на язык своей поэзии, на язык своего неохристианства, на язык своей (критической) мистики и т. д. – Во всех своих движениях Борис Николаевич обнаруживает из ряда вон выходящую индивидуальность, но своих совершенно своих Urelement’ов, выявленных с полною наглядною пластичностью (как мы это видим совершенным в Geburt der Tragödie), – пока еще в нем налицо нет; точно также нет еще и мастерства; нет еще закругленности, все угловато… как первые драмы Шиллера. – Нет тоже (как и в этих драмах) и вкуса. ‹…› Итак, дорогой Алексей Сергеевич, будем ждать русского Ницше, а пока беседовать с Андреем Белым; это крайне ценное и редкое удовольствие…»[47]
К 1905–1906 гг. относятся предварительные заметки Метнера к его ненаписанной книге об Андрее Белом, которую он предполагал озаглавить «Андрей Белый в свете своих произведений». В этих кратких заметках по-прежнему преобладают аналогии, в том числе с немецкими классиками – опять же Шиллером, а также Гёте и Жан-Полем (И. – П. – Ф. Рихтером). Единичные и разрозненные мысли, зафиксированные Метнером, еще не позволяют очертить контуры общего замысла, однако ясно, что фигура Белого располагалась для ее интерпретатора в самом высоком ценностном регистре:
Шекспир несвободен от варварства; Бугаев несвободен от варварства; Брюсов – скиф, несмотря на всю точеность своей поэзии.
–Существуют в русском языке только две прозы: Пушкина (Брюсов) и Гоголя (Бугаев). Лермонтов – только эпистолярный стиль, т. е. намек на стиль или узаконенное бессилие.
–Соответственно в Германии: Гёте и Рихтер. Шиллер – смесь его стихотворений с кантианством.
–В Бугаеве замечательно то, что он не сочетал, подобно многим иным мистикам-поэтам, как швед Стагнелиус (1793–1823), мистицизм с эротизмом.
–На нас лежит обязанность выяснить себе наше отношение к Богу. Молчанием этого вопроса уже не обойти. (Бугаев).
–20 марта 1906 г. Бугаев сказал мне третьего дня, что в своих последних статьях он срывает синтезы, для чего притворяется, что становится на сторону синтезирующего. Это может себе позволить только гений.
–Подобно Гёте и Ж. П. Рихтеру, Андрей Белый находит приложение и дает место в своем произведении всей свободной наличности своей духовной казны, начиная с мельчайших наблюдений обыденной действительности и кончая высочайшими восхождениями метафизической мысли[48].
К статье (или книге о Бугаеве)Бугаева нельзя сравнивать с его сверстниками. Это не в обиду им будь сказано. Брюсов – поэт, только поэт и больший мастер слова, Иванов – лучший теоретик в высоком смысле этого слова, Блок – более наивно-непосредственный лирик. Но все они, будучи выше в отдельных отношениях, несравненно уступают Бугаеву как цельные явления.
–‹…› Пикантное кантианство бугаевских симфоний и осязательность их фантастики.
Гейне сказал бы: пикантианство Бугаева[49].
Что касается Андрея Белого, то тональность своих взаимоотношений с Метнером в их раннюю пору он запечатлел в стихотворном цикле «Старинный друг», в полном объеме впервые опубликованном в «Золоте в лазури» (1904). Цикл посвящен Метнеру; на долгие годы определение «старинный друг» применительно к нему будет возникать в переписке с Белым, то в своем прямом смысле, то – в моменты конфронтации – в смысле ироническом и даже саркастическом. Белый воспевает мистический союз двух созвучных душ:
Неизбежное расставание («Мы осушили праздничные чаши. // Мы побрели в гроба, сложивши руки») скрашивается томлением по новой встрече со «старинным другом», которая происходит за порогом Вечности:
Еще в пору пребывания Метнера в Нижнем Новгороде Белый, уже пользовавшийся известностью и признанием в кругу московских символистов, способствовал вхождению своего духовного наставника и «старинного друга» в столичную литературную среду. Метнер стал выступать в амплуа музыкального критика в начатом изданием в Москве с января 1906 г. символистском ежемесячном журнале «Золотое Руно» под «вагнерианским» псевдонимом Вольфинг; использовать образ из «Кольца нибелунга» предложил Белый (1 февраля 1906 г. Метнер записал в дневнике: «В № 1 „Золотого Руна“ от 1906 года помещена моя заметка об операх Рахманинова за подписью Вольфинг. Этот псевдоним мне дал Борис Николаевич»[52]). На протяжении четырех лет издания «Золотого Руна» в нем регулярно появлялись статьи и корреспонденции Метнера-Вольфинга на музыкальные темы, позднее составившие основу его книги «Модернизм и музыка».
В 1906 г., по окончании своей цензорской службы, Метнер возвратился в Москву, где его регулярные встречи с Белым возобновились. Выход в отставку и отказ от продолжения дальнейшей карьеры на государственной службе явились следствием глубокого перерождения убеждений главным образом под воздействием бесславной Русско-японской войны и революционных катаклизмов 1905 года. Начинавший свою служебную деятельность в консервативнейших «Московских Ведомостях», Метнер пришел к глубокому разочарованию в правящем режиме и к решительному неприятию и отторжению всех идеологических инстанций, его поддерживавших. Перспективы развития России при сохраняющемся государственном устройстве представляются ему безнадежными: «…в Нижнем виднее обнаженнее вся отчаянность положения и вся глубина нравственного падения нации; что же это такое? Что это за народ, который все терпит и не революционирует. Никакой активности, совсем как и на войне! Внизу варварская земляная неповоротливость, растительная пассивность, а наверху космополитическая дряблая нервная сутолока беспомощной и лишенной творческих сил интеллигенции. Где же Россия? Где??? Самодержавие – черная сотня. Православие – безграмотный и впавший в рамолисмент кронштадтский юродивый»[53]. Этим настроениям Метнера были вполне созвучны идейные установки Белого, разделявшего в 1905–1907 гг. самые радикальные взгляды; для его революционных устремлений этой поры, не имевших четкой общественно-политической определенности, характерно прежде всего неприятие «умеренных» либеральных программ и сочувствие анархическому максимализму.
Тогда на фоне революционных волнений разворачивалась и личная драма Белого, рожденная его неразделенной любовью к Л. Д. Блок и способствовавшая переживанию им глубокого духовного кризиса. «Разбитие „мистерии“ в личной жизни»[54] было одним из проявлений разочарования в прежних мистико-теургических идеалах; крах любовного чувства оборачивался внутренней трагедией вселенского масштаба. «Белый страдал неслыханно, переходя от униженного смирения к бешенству и гордыне, – кричал, что отвергнуть его любовь есть кощунство», – вспоминает Ходасевич[55]. И в этом плане между Белым и Метнером обнаруживается параллель, с тою разницей, что драматическую личную ситуацию, которую Белый выплескивал в общении с близкими и дальними знакомыми, не щадя эмоциональных усилий, Метнер переживал латентно; долгое время о положении дел не знали даже его родители. Речь идет о возникшей в 1904 г. любовной связи между его женой Анной и обожаемым младшим братом Николаем, рождении ею от деверя мертвого ребенка и их последующей фактически семейной жизни. В дневнике Метнер записал, что чувствует себя в буквальном смысле потесненным у рояля своим братом[56]; он безропотно отнесся к сложившемуся положению вещей и в дальнейшем длительное время удовлетворялся ролью спутника, третьего при новой супружеской чете. Вероятно, Эмилий Метнер, с детства подверженный невротическим переживаниям, регулярно страдавший психопатическими недугами, воспринял эту метаморфозу с глубоким ущербом для своего внутреннего состояния. Постоянным для него было осознание незначительности достигнутого им, неосуществленности своего жизненного предназначения, и с годами эти настроения только усугублялись. В исповедальном письме к отцу от 23 ноября (6 декабря) 1908 г. он прямо говорит об «ужасе и безотрадности моей жизни»: «Мой трагический переход длится 25 лет, т. е. с момента поступления в гимназию. Я никого не обвиняю; но я не виноват, что устроен природой не так, чтобы безнаказанно пройти через все мытарства нашей европейской и в особенности русской антикультуры (учебной, нравственной или, вернее, безнравственной, религиозной и государственной). ‹…› Я – смесь активности и пассивности; Бугаев меня определяет, как adagio agitato, а Мельников говорил, что в моем темпераменте есть и сангвинический и флегматический элементы. Эта пассивность, флегма, – все равно – отчасти виновата в том, что я терпел гимназию почти безропотно, ‹…› что я пошел на юрид<ический>, а не на филол<огический> факультет, что я, чувствуя вред редакции, не уходил из нее, что не последовал совету Корещенки и не занялся в 1895 г. музыкой, и во многом, многом другом»[57].
Отягощенный собственными психологическими комплексами и втайне, видимо, глубоко страдавший от своей семейной коллизии, Метнер со всей остротой переживал мучительную личную драму Белого. Воспринимал он ее настолько остро, что, будучи в своем житейском поведении всегда безупречно корректным, решился пренебречь нормами этикета и рискнул вмешаться в чужую интимную сферу. Сохранилось в первоначальном черновом варианте его письмо к Л. Д. Блок, относящееся, видимо, к концу декабря 1907 г. или 1909 г.[58]:
Вам пишет лично незнакомый с Вами, вмешиваясь при этом в дело чрезвычайной интимности. Оправданием этого нетактичного поступка служит сознанная нравственная обязанность не пропустить ничего, чтó могло бы спасти лицо, мне близкое, лицо (это гораздо важнее) бесконечно ценное. Речь идет о Бугаеве. Ваши отношения развивались в то время, когда я жил вне Москвы, и он начал более откровенно говорить мне о них, когда они уже были прерваны. Разумеется, он не сказал, да и не мог сказать мне всего. Я вынес из сообщенного мне такое впечатление, что между Вами и моим другом произошло нечто до крайности сложное и хаотичное, вот почему я всегда далек был от решительных обвинений той или другой стороны; я одинаково скорбел и о нем и о Вас, представленной мне существом необычайным. Годы шли, и мне стало казаться, что все отошло в прошлое. Смущал меня только явный «монотеизм» Бугаева, который он обнаруживал, всякий раз как заходила речь о любви. Поэтому я был очень обрадован, когда Бугаев весною заинтересовался одной очень даровитой и красивой девушкой. Но это увлечение было мимолетно, и неожиданным, хотя и психологически вполне понятным результатом его оказалось полное восстановление его чувства к Вам со всей прежней силой, напряжением и горячностью. Это не каприз и не припадок; с начала лета, т. е. более полугода, Бугаев невыразимо страдает, неустанно и с ожесточением работает, чтобы заглушить боль; но это удается ему все реже и реже и чувствует он себя все хуже и слабее; глядя на него, нельзя не усомниться в победе его над собою; да и что даст ему эта победа: купленная ценою лучших сил, утраченных навсегда. Кроме того, победить не значит искоренить и ничто не служит ручательством новых и новых возвратов чувства. Если бы он был обыкновенным человеком, но только мне близким, я бы сказал: Вы можете спасти его, если захотите. Теперь же я скажу: Вы обязаны это сделать, если считаете его хотя бы наполовину столь ценным явлением, каким его считают многие, в том числе и я.
Я хочу выразить этим, что ради спасения такого человека можно пойти на всё и обман станет святым подвигом. Пусть Ваша душа расколота, пусть Вы любите другого, пусть Вы – «политеистка» и не можете любить только одного, Вы должны найти в себе силу устроить так, чтобы он был счастлив или по крайней мере не столь несчастлив. Подумайте об этом. В середине января я буду в Петербурге. Ответьте мне по адресу. Сообразно с ответом я или возьму Бугаева с собой в Петербург, или не допущу его поездки. Повторяю, все в Ваших руках. [В моих глазах оправдать Ваш отказ возобновить сношение с Бугаевым может только Ваше искреннее мнение о нем как о среднем таланте, не оправдавшем никаких надежд и ныне решительно идущем на убыль]. Жду письма, хотя бы одно слово согласия свидеться с Бугаевым… Итак, быть может, до свидания в Петербурге.
На письме – пояснительная приписка: «Отправлено с изменениями». Каким был окончательный его текст, более или менее жестким и настойчивым, – неизвестно. Л. Д. Блок не вняла увещеваниям Метнера и отказалась от встречи с ним и Белым, хотя признавала в ответном письме: «Да, это я виновата в том, что Б. Н. так теперь мучается ‹…› помочь Б. Н. я не могу. Видеться с ним, опять во имя того общего, что есть у нас – мне еще не хочется, это уже больше, чем незлобивое отношение и чувство своей вины. Такого отношения к Б. Н. у меня еще нет»[59].
Уже отмечалось, что пережитая любовная драма наложила свой отпечаток на весь внутренний строй личности Белого, который в середине 1900-х гг. ощущал слом всех прежних жизненных устоев и верований. Отошли в прошлое юношеские апокалипсические экстазы, развеялись грезы о собственной пророческой, теургической миссии, мистическая литургия «зорь» сменилась погружением в дисгармоническую, трагическую реальность российской жизни. Ощутив исчерпанность для себя прежних ценностей, Белый решительно провозглашает их несостоятельность. В ряду таких разрушительных – по сути саморазрушительных – акций оказывается переоценка культурного значения музыки, которую в пору формирования своих философско-эстетических взглядов (в статье «Формы искусства», 1902) он воспевал, вослед Шопенгауэру, как наивысшее и глубочайшее из искусств, наименее связанное с косными и случайными феноменами действительности и наиболее адекватно отображающее ее потаенную, глубинную сущность. В публиковавшемся в журнале «Весы» авторском цикле Белого «На перевале» (который он подписывал своим настоящим именем) появилась статья «Против музыки». Наиболее сакральное из искусств оборачивается в ней «чарующим дурманом», иллюзией, «бестворческим творчеством»; музыка теперь в сознании Белого – «вампир, высасывающий душу из героя»; она же – пленительный покров над отвергаемой им современной мещанской антикультурой: «Я влекусь к музыке: извращенность некоторых сторон культуры поставила меня, как и всякого, в необходимость искать в музыке глубину. Но я имею силу презирать свой кумир и видеть в нем соблазн ложной, условной культуры. ‹…› Тем, кто ушел в музыку и там растерял свой долг, путь, свою честность, – я хочу крикнуть: „Долой музыку!“»[60] Ниспровергаются священные имена – Бетховен со своим «противоестественным искусством», Вагнер («Если Бетховен обречен на чудовищность, – музыка Вагнера среди чудовищ – чудовище, среди уродов – урод»); заключительный вывод автора: «А если современная симфония неслиянна с жизнью по существу, то праведно только то, что поет народ. И песня прачки над корытом на весах цели и ценности перевесит, конечно, невоплотимые глубины Бетховена и Шумана»[61].
Метнера статья Белого – «несчастная статья бесконечно дорогого мне Бориса Николаевича», как он аттестовал ее в письме к Эллису от 24 июля (6 августа) 1907 г. из Мюнхена[62], – глубоко поразила и оскорбила. Печатный демарш своего друга и, казалось, единомышленника в сфере культурных симпатий и антипатий он воспринял как надругательство над идеалом – над самыми дорогими для него ценностями, к каковым относились и отношения с Белым, базированные, в том числе, и на общих музыкальных переживаниях. Метнер решил возразить на статью в печати, о чем предупредил Белого заранее. В результате в «Золотом Руне» была опубликована очередная статья музыкального критика Вольфинга «Борис Бугаев против музыки» (1907. № 5). Белый охарактеризован в ней с предельным пиететом: «…я затрудняюсь назвать русского автора, который выступил бы впервые на литературную арену в таком полном, блестящем и тяжелом вооружении, как Бугаев», «многогранно культурный и бесконечно тонкий художник», «дерзновеннейший из молодых русских талантов» и т. д.[63] Вместе с тем «резкий и окончательный приговор, вынесенный одной из созидательных сил культуры»[64], вызывает у Метнера развернутую и подробно аргументированную отповедь. В нападках Белого на музыку он видит оборотную сторону ее прежней неумеренной идеализации, основанной на неверной, по мысли критика, отправной точке шопенгауэровской музыкальной эстетики; в выпадах против Вагнера – повторение опыта Ницше, сначала обожествлявшего создателя великих музыкальных драм, а затем ниспровергшего «им самим созданный фантом»[65].
Негативный пафос статьи Белого Метнер объясняет в первую очередь характером духовной эволюции автора – иссяканием теургических чаяний; систему же положений, из которых Белый выстраивает свою отповедь, квалифицирует как несостоятельную и немотивированную: «Против музыки он выступил с речью краткой, но неясной, артистически-слабой и логически плохо аргументированной; от каждой страницы веет, как всегда, жизнью повышенною, но на этот раз повышенность не от обычного у Бугаева избытка столкнувшихся между собою циклов идей, которые он втискивает с великолепною расточительностью нередко в рамки небольшой статьи; тут повышенность просто от нервной раздраженности усталого человека»[66]. В последних приведенных словах – явный намек на перманентный нервный срыв, переживаемый автором, которым Метнер главным образом и объясняет факт появления анализируемой статьи, вобравшей в себя «капризы и перипетии ‹…› болезненного переходного состояния». Тем не менее он считает необходимым методично, пункт за пунктом, опровергать выплеснутые Белым эмоциональные оценки и хлесткие формулировки. «Ведь трудно предположить, – заключает Метнер свою статью о Белом, – чтобы он в преувеличенно резких, неудачных, кричащих, судорожных выражениях ‹…› окончательно определил свое отношение к музыке. Но запальчивое слово рано или поздно обращает свое жало на того, в чьей голове и в чьем сердце оно родилось ‹…› поэтому надо говорить или молчать, дав себе, насколько можно, предварительный отчет в объективной пользе и объективной истинности своих чувств и мыслей»[67].
Сам по себе полемический ответ Метнера не был способен вызвать заметного резонанса в литературной жизни. Однако Белый, в свою очередь, решил объясниться – написал «Письмо в редакцию», в котором признавал, что не смог аргументировать в статье «Против музыки» свою точку зрения с достаточной ясностью, что вынужден был выражать свои взгляды в сжатой форме, которая неизбежно искажает его писательский облик, и т. п. Ответ Метнеру он представил туда же, где появилась статья Вольфинга «Борис Бугаев против музыки», – в журнал, из числа сотрудников которого демонстративно вышел несколькими месяцами ранее, – однако редакция «Золотого Руна» согласилась опубликовать этот текст лишь при условии возвращения его автора в состав сотрудников. Белый оскорбился и выступил с протестом в газете «Столичное Утро» (5 августа 1907 г.), ему ответил владелец «Золотого Руна» Н. П. Рябушинский. Завязалась публичная перепалка, тем более шумная, что она послужила детонатором для обострения конфликта, назревшего между двумя ведущими московскими символистскими журналами – «Весами» и «Золотым Руном»; в результате целая группа «весовских» сотрудников, в том числе В. Брюсов, З. Гиппиус, Д. Мережковский и др., поддержала Белого и отказалась от участия в журнале Рябушинского[68].
Волей-неволей в скандал оказался вовлеченным и Метнер, находившийся тогда за границей, державшийся в стороне от внутрисимволистских междоусобиц и менее всего стремившийся к тому, чтобы его частная полемика с Белым служила аргументом во фракционном противостоянии. Отдельные неосторожные формулировки в публичных «письмах в редакцию» стали поводом для дополнительных разбирательств и напряженной переписки между Белым и Метнером, который в возникшей ситуации оказался настолько щепетильным, что готов был даже отказаться от продолжения своей литературной деятельности. «Я твердо решил, что Вольфинг перестанет существовать или будет оправдан, – писал он Эллису 3 (16) сентября 1907 г. – ‹…› Я так мало ценю свое литераторство, что готов принести его в жертву (это не фраза) моей дружбе с Бугаевым и просто, если Бугаев не оправдает меня, сойду со сцены, т. е. не я, а Вольфинг; я же буду заниматься для заработка переводами, а для собственного удовлетворения каким-нибудь бесконечным исследованием, никому не нужным и не подлежащим к напечатанию»[69]. В результате дополнительных объяснений, эпистолярных и печатных, коллизия благополучно разрешилась, дружба восторжествовала. Конфликтная ситуация, возникшая в отношениях между Белым и Метнером летом 1907 г., однако, послужила своего рода прологом к той драматической конфронтации, которая развернется несколько лет спустя.
Белый отмечает в мемуарах, что после того как Метнер вновь обосновался в Москве (хотя и с многомесячными отлучками в Германию), его отношения с ним вступили в новую, наиболее активную фазу: «Слишком много он значит; в 1907 году – появился опять на моем горизонте он ‹…› мне Метнер как бы заполняет порожнее место в душе; это место недавно еще занимал А. А. Блок»[70].
Если в первые годы общения Белого и Метнера к их дружескому союзу примыкал А. С. Петровский, то во второй половине 1900-х гг. в их ближайшее окружение вошли новые лица. Среди них – Маргарита Кирилловна Морозова, вдова мецената-коллекционера и московского фабриканта М. А. Морозова, учредительница московского Религиозно-философского общества и журнала «Московский Еженедельник»; она же – объект мистической влюбленности Белого в «эпоху зорь» и прообраз «Сказки» из «Симфонии (2-й, драматической)». «Светское» знакомство Белого с Морозовой завязалось в 1905 г., с семейством Метнеров она общалась еще ранее, в течение трех лет брала уроки музыки у Николая Метнера. «Я познакомилась с Метнерами в 1902 году, – вспоминает Морозова, – но сблизились мы только с 1905–1907 года. Сближение наше началось под влиянием Бориса Николаевича Бугаева (Андрея Белого). Бугаевым все Метнеры были очарованы, они считали его и его произведения гениальными. Эмилий Карлович особенно сильно переживал увлечение Андреем Белым, считал его близким себе человеком, своим единомышленником. Виделся он с ним постоянно, говорили они до поздней ночи, вернее до утра. Необыкновенная фантазия Андрея Белого, его поразительная словесная одаренность не могли не поражать и не очаровывать»[71]. В лице Морозовой Метнер обрел близкого друга, способного целительно воздействовать на его внутреннее состояние, и неоднократно благодарил ее за это: «Я бесконечно обязан Вам: Вы и не подозреваете, в сколь опасном психическом состоянии я нахожусь; поэтому не удивляйтесь на мою признательность горячую и назойливую. Я бы хотел для выражения ее занять талант у Андрея Белого (только без вздыбившихся иереев и мантийных муаров)…»[72] (в последних словах – иронический намек на образный строй четвертой «симфонии» «Кубок метелей»); «Никогда никто не был способен так утешать меня, так примирять с самим собою; убежден, что благодаря Вам я помирюсь постепенно со всем ‹…›. Вот почему я так цепляюсь за часы и минуты, проводимые с Вами ‹…›»[73].
В воспоминаниях Белый красочно живописал «трио», образовавшееся тогда между ним, Метнером и Морозовой: «Незабываемы встречи мои „en trois“, когда мы собиралися у Морозовой с Метнером, или когда приезжала Морозова к Метнеру»; «У нас у троих были вечные темы бесед: ритм культуры, культура теперешней музыки: Ницше – Вагнер, Россия, Германия; многое из теперешнего взгляда на генезис нашей культуры вынашивал я в тех беседах ‹…› В общении „en trois“ (Э. К. Метнер, Морозова, я) находил я поддержку»[74]. Серьезные культурологические темы обсуждались вперемежку с шуточными, юмористическими интерлюдиями, пародийными эскападами, веселыми шаржами; все это создавало атмосферу непринужденного дружеского собеседования, из которого возникали ростки значимых общественных и культурных инициатив.
В это время отношения Белого и Метнера переоформились в еще одно «трио»; третьим стал Эллис (Лев Львович Кобылинский), друг и сподвижник Белого с юношеских лет, определивший совместно с ним очертания «аргонавтического» сообщества, один из инициаторов функционировавшего в середине 1900-х гг. литературно-философского кружка под руководством П. И. Астрова; поэт, переводчик и литературный критик, активно проводивший в «Весах» брюсовскую полемическую установку на защиту и утверждение «подлинного» символизма. Неистовый максималист во всех своих пристрастиях и антипатиях, Эллис в широком литературном мире был фигурой малоавторитетной, не пользовались признанием и его поэтические опыты, а резкие полемические выпады в критических статьях вызывали повсеместное раздражение. Метнер, в отличие от многих, сумел распознать в Эллисе исключительно яркую и своеобразную творческую личность, которой лишь следовало создать надлежащие условия для ее самореализации. В письме к Морозовой (4 апреля 1907 г.) он дал Эллису развернутую характеристику: «…он принадлежит к так называемым демоническим натурам: поэтому, когда он одержим (besessen), перед Вами чуть что не гениальный человек; когда же демон покидает его, он просто очень образованный и очень страдающий современный интеллигент, у которого нет настоящего, а есть только вчера и завтра или, вернее, послезавтра. Оригинальность его заключается в том, что из общественника и марксиста он превратился, переживя острейший духовный кризис, в индивидуалиста и эстетика. Бросил подготовку к магистерской диссертации по финансовому праву и начал переводить Данте и Бодлэра. Но не в этом его сила, а тем менее в его самостоятельных поэтических произведениях. Он сам неизмеримо крупнее, нежели его поэтический талант. Ценность его, как литературного деятеля, заключается, помимо его дарований, его темперамента, в основательности и двусторонности его знаний и умственных проникновений. В настоящее время он „препарирует“ Данте совсем так же, как в свое время Маркса. Когда он поймет самого себя, то даст что-н<ибудь> очень интересное в промежуточной области, где эстетика (в широком смысле) соприкасается с политикой (в широком смысле), где намечается разрешение важнейшего для всей культуры вопроса о взаимном отношении личности и государства, индивидуализма и коллективизма, но без тех позорящих достоинство человека компромиссов, из которых не может выйти современное общество. Разбираясь с совершенно недоступною для «декадентских» писателей виртуозностью в вопросах общественных, Кобылинский в то же время способен заглянуть в самую глубь сложнейшего и гениальнейшего индивидуума»[75].
Еще в пору активной деятельности Эллиса в «Весах» в 1907–1909 гг. и в общении с ним у Метнера стала выкристаллизовываться идея нового издательского и журнального начинания, отличного от «декадентских» «Скорпиона» и «Весов». В письме к Эллису из Мюнхена от 14 (27) января 1907 г. он сообщает предлагаемое название задуманного журнала: «Мусагет»[76]; а в письме к нему от 6 (19) марта 1907 г. предупреждает о Белом: «Не сообщайте ему о Мусагете, а то он не выдержит и начнет развивать эту тему во всех гостиных»[77]; в том же письме он выражает надежду на участие Морозовой в реализации замысла: «…есть еще одно препятствие к тому, чтобы взять на себя инициативу издания журнала и переговоры об этом с Марг<аритой> Кир<илловной>: я не верю в свои силы и способности; это может испортить дело с самого начала и это же сулит мне неудачу в переговорах с Марг<аритой> Кир<илловной>, которая, как она сама говорила мне, готова жертвовать только на то, во что сама уверовала и во что, как она видит, веруют те, кто ее побудили к этому ‹…› может быть, и Бор<ис> Ник<олаевич> не откажется теперь затронуть с Марг<аритой> К<ирилловной> эту тему. ‹…› Делайте всё от себя: Вы больше всех одержимы нашей идеей, Вы скорее всех достигнете результатов…»
Судя по всему, деловые переговоры с Морозовой были отложены: маловероятно, что колеблющемуся и сомневающемуся в себе Метнеру удалось подвигнуть «одержимого» Эллиса явиться с ответственным предложением к лично незнакомой ему тогда меценатке. Между тем идея продолжала созревать, хотя долгое время воплощалась лишь в форме разговоров «между членами редакции несуществующего книгоиздательства» (по словам Метнера в письме к Морозовой от 5 февраля 1908 г.)[78]. 2 (15) апреля 1907 г. Метнер изложил в письме к Эллису уже вполне определенный проект: «Я согласен стать одним из… (или, если хотите, главным) редактором Мусагета: 1) с января 1908 г. 2) только 8 месяцев в году: причем один год я буду уезжать в Германию на летний семестр, другой год на зимний (по 4 месяца); 3) для всех технических и коммерческих моментов предприятия должно быть нанято отдельное лицо. ‹…› Что журнал можно (при деньгах) начать уже с 1908 г., в этом я, по-видимому, еще меньше сомневаюсь, нежели Вы. Книгоиздательство под заголовком „Культура“ может, начав функционировать уже теперь, зарекомендовать себя в течение 1907 г. двумя-тремя хорошими книгами (безразлично, оригинальными или переводными) ‹…›. Под знаменем Культуры можно издавать и рассуждения, и стихи, и изящную прозу»[79]. Далее Метнер в подробностях намечал программу деятельности издательства, с преимущественным вниманием к немецким авторам (Гёте, Вагнер, Ницше), к классической поэтике (Аристотель, Гораций), к Данте, Петрарке и т. д.
Ни журнал, ни издательство в намеченные сроки организовать не удалось. Решающую роль тогда, видимо, сыграло отсутствие финансирования (Морозова со своими капиталами осталась в стороне от этого предприятия, хотя в 1910 г. субсидировала новообразованное издательство «Путь», ставшее платформой для авторов, объединенных вокруг московского Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева; по всей вероятности, последовательно «западнические» установки Метнера казались ей менее привлекательными); сказывались, однако, и иные привходящие обстоятельства: многомесячное пребывание предполагаемого редактора за границей; конфликт, спровоцированный статьей «Против музыки» и разбирательствами с «Золотым Руном»; неподготовленность инициаторов «Мусагета» и «Культуры» к практической издательской деятельности. Главным препятствием для успешного воплощения в жизнь задуманного начинания оказывались все же его программные установки – заведомо элитарные, с приматом «идейного» начала, не рассчитанные на коммерческий успех, во многом утопические. «Вы видите, – писал Метнер Морозовой, – как трудно найти человека, который бескорыстно, не руководимый ни тщеславием, ни корыстолюбием, ни авторским самолюбием, ни, наконец, желанием пропагандировать политические убеждения своей партии, согласился бы содействовать литературному предприятию, единственная цель которого культура, воздвижение статуй (пусть даже идолов) культуры существующей и чужой для облегчения исканий культуры своей и будущей, которая (разумеется, в отдаленном будущем) должна определять социально-политический строй, а не определяться им»[80].
В 1909 г. складывались благоприятные внешние условия для вступления нового участника на литературную арену: заканчивались изданием главные московские символистские журналы – «Весы» и «Золотое Руно», метнеровскому детищу не грозила конкуренция с их стороны в еще малом кругу приверженцев «нового» искусства и религиозно-философской мысли. Ситуация, наконец, определилась летом 1909 г., когда, после несостоявшейся попытки издательского союза с музыкальным деятелем С. А. Кусевицким, Метнер нашел финансовую поддержку в Германии. Ее оказала Хедвиг (Ядвига) Фридрих, с которой у «трио» Метнеров незадолго до того завязались дружеские отношения и которые у Эмилия Метнера переросли в отношения романические. «История эта тянулась целых шесть лет и кончилась разрывом, – свидетельствует Морозова. – Это была девушка лет 25-ти, немка, жившая постоянно в Пильнице (близ Дрездена), довольно красивая, культурная, имевшая большие личные средства. Она мечтала его превратить в немца и перевести на постоянное жительство в Пильниц, но „этого никогда не будет“ – писал мне Эмилий Карлович. А он думал на ней жениться при том условии, чтобы она стала москвичкой. ‹…› Так как Эмилий Карлович всегда мечтал основать культурное издательство в Москве, то она дала ему довольно крупную сумму денег, чтобы начать это дело. Так возникло книгоиздательство „Мусагет“»[81].
«Вы же весь „Мус<аге>т“ завели не ради себя, а ради Белого главным образом – все это знают», – заявлял Эллис в письме к Метнеру от 14 (27) декабря 1913 г.[82] Сам Метнер также неоднократно заявлял, что главной целью организации «Мусагета» для него было предоставление Андрею Белому беспрепятственной возможности публиковать свои сочинения. Во главе всего предприятия был определен триумвират в лице Метнера, Белого и Эллиса[83]; в числе ближайших участников первоначально предполагались московские авторы из их окружения, в том числе из «аргонавтического» сообщества, которое осознавалось как неформальный прообраз нового объединения (А. С. Петровский, М. И. Сизов, Н. П. Киселев, В. О. Нилендер и др.). В августе 1909 г., по достижении принципиальной договоренности о финансировании, было решено начать издательскую деятельность с выпуска журнала. После этого Белый в письмах к Метнеру с энтузиазмом и размахом стал строить грандиозные планы свершений по широкому культурному фронту, явно несоразмерные с открывшимися возможностями. К концу года реальное положение дел прояснилось: средств хватало лишь на скромно поставленное книгоиздательство, а выпуск журнала пришлось отложить до лучших времен. На первых порах перспективы «мусагетского» объединения, однако, вырисовывались как реализация двойной программы деятельности – издательской и журнальной.
13 (26) августа 1909 г. Метнер писал Эллису из Пильница: «Направление журнала (по желанию издателя) должно быть германофильское (в широком неполитическом нефанатическом культурном смысле слова) и отнюдь не враждебное Вагнеру; вот и всё»[84]. Тот же акцент он делал и в позднейшем письме к В. В. Пашуканису (Цюрих, 22 апреля (5 мая) 1915 г.), говоря об идейных установках «мусагетской» группы литераторов: «Независимо от других соображений эта группа или это течение должно было признать примат германской культуры, как несравненно более насыщенной элементами религиозными и философскими, нежели культура романская ‹…›»[85]. Было ли действительно ультимативным требование Фридрих к программе «Мусагета» или в данном случае сам Метнер определял идейно-эстетические нормы и культурные предпочтения, которым должно было следовать новое издательство, – вопрос, не сулящий однозначного ответа. Германофильская составляющая, как показала последующая издательская практика, была доминирующей в тех широких и разнонаправленных культуротворческих усилиях, которым была подчинена деятельность «Мусагета». Германофильство, возведенное в непререкаемую догму, – отличительная черта миросозерцания Метнера, которое было подвержено также сильному влиянию расовых теорий, и прежде всего построений Хаустона Стюарта Чемберлена[86]; его книгу «Арийское миросозерцание» Метнер называл (в письме к Эллису от 2 (15) апреля 1907 г.) на первом месте в перечне тех, которые желательно, в планах будущего издательства, перевести на русский язык, и впоследствии она вышла в свет под маркой «Мусагета». Арийцами (индоарийцами) Чемберлен называет народ, несколько тысячелетий тому назад спустившийся с гор в долины Инда и Ганга, долгое время остававшийся «свободным от всяких посторонних расовых примесей» и заложивший основы древнеиндийской философии – высшей формы познания, доступной только избранным и способствовавшей «рождению европейской духовной царственности»[87]. Чемберлен прослеживает близкое сходство между индоарийцами и германцами (особенно немцами); Бог индоарийцев, познаваемый не через внешний, а через внутренний опыт, «и был в действительности Богом всех истинно религиозных германцев-христиан, во все времена»[88]. В оппозиции индоарийскому аристократическому и индивидуалистическому началу находится, по убеждению Чемберлена, начало семитское, заключающее в себе антикультурный смысл: «…одно только древне-индусское мышление, как и поэзия, осталось свободным от всякого, даже самого отдаленного, соприкосновения с семитическим духом ‹…› мне известно, насколько эта удивительная порода – семит, – распространяющаяся по всему миру и обладающая такою изумительною способностью всё себе ассимилировать – глубоко и внутренно изменяет всё, к чему прикасается»[89].
Ознакомившись с культурологическими мифологемами Чемберлена, Метнер выразил полную солидарность с автором: «Арийское миросозерцание» «высказывает о расе, семитах, арийцах и, в частности, о германцах мнение ‹…› буквально тождественное с моим, основанным на внутреннем чутье и незначительных наблюдениях. Некоторые абзацы – точно мною написаны»[90]. Построения Чемберлена могли только укрепить идейную базу, лежавшую в основе воззрений и оценок Метнера как музыкального критика, со всей отчетливостью сформулированных в статье «Эстрада» (Золотое Руно. 1908. № 11/12; 1909. № 2/3, 5). В ней противопоставлялись «музыкальный германизм», «немецкая музыка великой эпохи» (Бах, Моцарт, Бетховен, Вагнер) «и все, что выросло из нее и не стало ей враждебным у других народов», и «музыкальный юдаизм», который «образовался как уродливое, беспочвенное, однобокое и не чисто-художественное полупромышленное явление», проявляющееся в «эпоху господства эстрадно-рекламного духа» и «расцвета интернационально-еврейской виртуозности»[91]. Первое явление имеет свои великие образцы в прошлом и несет в себе непреходящие культурные ценности, второе торжествует в музыкальной современности, где, по убеждению Метнера, господствует культ исполнительства, «стремление к эффектам, превращение эстрады во внешнее зрелище, угодливое отношение к публике и т. д. и т. д.»[92]
Концепция, обоснованная Метнером в «Эстраде», негативная оценка им «музыкального юдаизма» отражала его общие антисемитские установки, безусловные в культурологическом плане, но в плане житейском не лишенные своеобразия (если учесть хотя бы факт его женитьбы на еврейке Анне Братенши и позднейшей интимной связи с Рахилью Рабинович). Эти же воззрения Метнера оказали определенное воздействие на Андрея Белого в 1908–1909 гг. – в период, когда влияние личности и идейных воззрений «старинного друга» на него было особенно действенным и эффективным. Характерно в этом отношении его стихотворное письмо «Э. К. Метнеру», помещенное в книге стихов «Урна» (1909); насыщенное воспоминаниями о былых встречах («…нескончаемые речи // О несказанно дорогом»[93]), оно исполнено чувства любви и нерасторжимой связи. Под непосредственным влиянием Метнера-Вольфинга была написана статья Белого «Штемпелеванная культура»; в ней он пространно цитирует «Эстраду» и солидаризируется с ней, называет ее автора «нашим лучшим теоретиком музыки»[94]. Прежний тотальный демарш «против музыки» обернулся на сей раз столь же тотальным ниспровержением восторжествовавшей «интернациональной, прогрессивно-коммерческой культуры во всех областях искусства»; губительный для национальной культуры интернационализм насаждается в основном «одной нацией, в устах интернационалистов все чаще слышится привкус замаскированной проповеди самого узкого и арийству чуждого национализма: юдаизма»[95]. И хотя Белый здесь же аттестует евреев как «глубокоталантливый, способный и самобытный народ», говорит о необходимости их правового равноправия, признает бесспорную «отзывчивость евреев к вопросам искусства»[96] и т. д. – все эти оговорки не могли приглушить скандальный эффект, который произвела «Штемпелеванная культура» в литературной среде (достаточно привести хотя бы заглавие фельетона Оскара Норвежского, опубликованного 26 ноября 1909 г. в газете «Раннее Утро»: «Андрей Белый без маски. Первый погром в литературе»). В мемуарах Белый признавал: «Эта заметка моя – неудачна; во-первых: в ней мысль плохо выразил я; во-вторых: если б даже и выразил, то – неверна она; ‹…› и наконец: „маниакальное“ настроение отпечаталось в этой заметке (я вскоре потом понял промах: заметку – не перепечатывал), и – влетело: пребольно! Во-первых: от многих друзей из евреев; и – во-вторых: от сочувствия мысли моей в черносотенном круге; выслушивал горькие истины; и происшествие это меня угнетало ужасно»[97].
Среди тех, кто приветствовал появление «Штемпелеванной культуры», была Анна Рудольфовна Минцлова[98]. Теософка, ученица Р. Штейнера, визионерка и «инспиратриса» Вячеслава Иванова в 1908–1909 гг., она вовлекла Андрея Белого в сферу своих оккультных интересов и «тайновидческих» фантазий, а через него – и других лиц, группировавшихся вокруг зарождавшегося «Мусагета», в том числе и Метнера. Последний, при всем рациональном складе своей личности, также оказался подвластен воздействию флюидов, исходивших от Минцловой[99]. Она в значительной мере способствовала тому, что в объединении литераторов-«мусагетцев» стала с особенной силой звучать мистическая, эзотерическая составляющая; за внешними формами московской книгоиздательской фирмы вырисовывались контуры эзотерического братства, союза «посвященных», наподобие тайного розенкрейцерского сообщества. Образами розенкрейцеров, реальными или вымышленными, было заполнено галлюцинаторное сознание Минцловой, и они стали – во многом ее усилиями – питательной почвой для той мифологии, которая зарождалась в «мусагетской» среде и которая способна была подчинять себе даже при скептическом отношении к «больной, перемученной кем-то, клокочущей женщине» – по позднейшей аттестации Белого, вспоминавшего про «атмосферу упорнейшего напряжения, опасений, надежд, сказок, бредов, в которых „она“ продержала нас год»[100]. Таким образом, уже в первый год, ознаменовавший начало деятельности «Мусагета», в ней были проявлены оккультистские уклоны, которые впоследствии окажутся камнем преткновения на последующем его пути.
Первые издания «Мусагета» появились в 1910 г., среди них – том статей Андрея Белого «Символизм», включавший его работы философско-эстетического характера (в том числе программную статью по теории символизма «Эмблематика смысла») и стиховедческие исследования, заложившие основы современного состояния этой филологической дисциплины. В ряду других действовавших символистских издательских объединений («Скорпион», «Гриф», «Оры») «Мусагет» выделялся преобладающим религиозно-философским, теоретико-эстетическим и культурологическим уклоном, своей ориентацией на узкий круг просвещенных читателей и на утверждение преемственности по отношению к высшим ценностям западноевропейской культуры: «…тут царствовали тени Гёте, Вагнера и немецких мистиков»[101]. С опорой на непререкаемые авторитеты мыслилось исполнение главной задачи объединения – созидание синтетической символистской культуры, сочетающей в себе духовные ценности эстетического, философского и религиозного порядка. Какие-либо злободневные темы, отражающие общественно-политическую ситуацию в стране и мире, задачи переживаемого исторического момента «Мусагетом» отторгались. За годы своей активной деятельности (1910–1916) «Мусагет» выпустил в свет 44 книги, и это было лишь малой частью той широковещательной программы, которая вырисовывалась в первоначальных планах учредителей издательства[102]. Ближайший круг в «Мусагете» составляли московские авторы, преимущественно литературная молодежь из окружения Белого и Эллиса, но с самого начала стали играть значимую роль и петербургские корифеи символизма – Вяч. Иванов и А. Блок.
В журнале «Труды и Дни», выпускавшемся «Мусагетом» с 1912 г., Метнер обосновал общие принципы и установки руководимого им издательства. Цель «мусагетского» содружества – в усилиях, направленных к преодолению культурного кризиса современности, искание путей к новой, органической культуре, творческая деятельность на объективно-идеалистической основе, сочетающая художественный и философский подходы, с опорой на традиции недогматического и духовно-преемственного мышления. Истолковывая избранное название издательства (Мусагет – Аполлон, предводитель муз), Метнер утверждал: «…это имя подчеркивает аполлинизм (вовсе не отрывая его однако от дионисизма) и отмежевывается от эстетства, ибо означает объединение всех видов творчества в согласном служении цели создания культуры»[103]. Последнее, ключевое в идейном базисе «Мусагета» понятие он называет, вслед за Ницше, «единством художественного стиля, охватившим все жизненные проявления народа»; «процесс формования ее движется от интуитивно-предвосхищенного невыразимого знания культурно-должного к реализации этого должного; в этом смысле культура – как бы самоцель, но опять-таки и автономно-целевой характер ее ценен не как таковой, а потому, что только при его наличности и достижима через культуру ‹…› высшая задача человечества»; «…можно определить культуру как естественно проявляющуюся власть художественного и религиозного творчества над жизнью. ‹…› Эта власть культуры над жизнью необходима для роста культуры, как пути»[104]. Универсальные персональные символы культуры, провозглашаемой «Мусагетом», – Гёте, осуществивший грандиозный синтез положительной культуры, и Вагнер – синкретическая личность, соединяющая в своем творчестве поэзию, музыку, мифотворчество и религию. В согласии с этими приоритетами Метнер учредил в «Трудах и Днях» отделы «Goetheana» и «Wagneriana»; позднее к ним добавилась, по инициативе Эллиса, «Danteana».
Два относительно самостоятельных крыла в цельном идейном организме «Мусагета» представляли издательские серии «Орфей» и «Логос». Первая была создана для издания произведений мистической литературы – художественной и философской, главным образом классической переводной (Мейстер Экхарт, Якоб Бёме и др.). Вторая, обладавшая определенной автономией, объединяла вокруг предпринятого «Мусагетом» русского издания «международного ежегодника по философии культуры» «Логос» преимущественно философов-неокантианцев (С. И. Гессен, Ф. А. Степун, Б. В. Яковенко)[105]. Между «западниками» – «логосовцами» и представителями русской религиозной философии, объединившимися вокруг издательства «Путь», «неославянофилами», намечалась последовательная конфронтация, время от времени вспыхивавшая в печатной полемике; в нее оказывался вовлечен и Андрей Белый, попеременно отстаивавший то одну, то другую из противоборствующих сторон.
Внутренний распорядок функционирования издательского объединения был четко прописан в выработанном его учредителями декретивном документе – «Домашних правилах книгоиздательства „Мусагет“»[106] (над текстом помета: «Проект»; утвержденный текст, по всей видимости, не имел принципиальных отличий от него). Приведем некоторые из сформулированных в нем положений:
I. Состав§ 1. Книгоиздательство «Мусагет» составляют:
1) несменяемый редактор, Э. К. Метнер,
2) несменяемый казначей, К. П. Метнер,
3) члены редакции.
§ 2. Состав членов редакции в настоящее время следующий: А. А. Блок, Б. Н. Бугаев, В. И. Иванов, Н. П. Киселев, Л. Л. Кобылинский, В. О. Нилендер, А. С. Петровский, Г. А. Рачинский, Б. А. Садовской, М. И. Сизов, С. М. Соловьев, Г. Г. Шпетт; далее, три редактора журнала «Логос» – С. О. Гессен, Ф. А. Степпун, Б. В. Яковенко[107]. <В. Ф.> Ахрамович, <А. М.> Кожебаткин, Метнер К. П., Метнер Э. К.
П р и м е ч а н и е. Редактору и общему собранию предоставляется право кооптировать новых членов редакции.
II. Редактор и казначей§ 3. Редактор «Мусагета» является единоличным хозяином всего предприятия, и окончательное решение по всем вопросам принадлежит ему.
‹…›
§ 5. Власть редактора сохраняется за ним на время его отлучек из Москвы и ни к кому не переходит. Разрешение неотложных и мелких вопросов предоставляется остающемуся в Москве составу совета, который о своих распоряжениях немедленно доводит до сведения редактора.
‹…›
III. Совет§ 7. При редакторе, в помощь ему, состоит совет. Его составляют:
1) редактор, председательствующий на заседаниях,
2) секретарь издательства, ведущий делопроизводство совета,
3) четыре члена, избираемые редактором.
П р и м е ч а н и е. При рассмотрении в совете вопросов, касающихся издания журнала «Логос», в состав его приглашается с правом голоса один из редакторов «Логоса».
§ 8. Совет собирается еженедельно; заседания его закрытые; постановлениям ведется протокол.
§ 9. Совет ведает все вообще дела издательства, вносимые на его рассмотрение редактором; в частности:
1) рассматривает составленный редактором план издательской деятельности,
2) рассматривает поступающие от редактора предложения о издании новых книг ‹…›
§ 10. Постановления совета либо утверждаются редактором и обращаются им к исполнению, либо вносятся на рассмотрение общего собрания.
‹…›
V. Общее собрание§ 14. Общее собрание составляют 20 лиц, поименованных в §§ 1 и 2, и состоящие при издательстве секретарь и заведующий коммерческою частью.
П р и м е ч а н и е. По желанию или с согласия редактора в общее собрание могут быть приглашаемы (без права голоса) и посторонние лица. ‹…›
Как ясно из тщательной проработанности этих положений, «Мусагет» осмыслялся его учредителями как сложный коллективный организм, призванный результативно действовать сообразно предписанным условиям, наподобие уставов политических партий или профессиональных сообществ. На практике, однако, эти «Домашние правила» существенной роли не сыграли – не смогли противодействовать сказывавшейся с самого начала несогласованности и дезорганизованности, а то и просто бездеятельности, в которой более других отличился первоначальный секретарь «Мусагета» А. М. Кожебаткин. Высокие культурные помыслы «мусагетцев» тонули в житейской рутине, разбивались об их собственный непрофессионализм в делопроизводственной сфере. «Я не знаю, – пишет Ф. Степун, – какую сумму истратил „Мусагет“ за три или четыре года своего существования, но уверен, что по сравнению с тем, что он сделал, – огромную. И это не мудрено, так как дело велось, в конце концов, не Медтнером и даже не Кожебаткиным, а совсем уже неопытным в издательских делах кружком молодых поэтов, писателей и философов, который из вечера в вечер чаевничал в „Салоне“ редакции ‹…›. На этих вечерах и разрабатывалась программа издательства, исключительная по своему культурному уровню, но и исключительная по своей бюджетной нежизнеспособности»[108].
Как видно по «Домашним правилам», исключительно значимую роль во внутренней организации «Мусагета» играл «несменяемый редактор» – Эмилий Метнер. Будучи формальным лидером, он добровольно готов был делить руководящую роль с Белым, который воспринимался всеми «мусагетцами» как самое авторитетное лицо в сообществе и равноценный Метнеру лидер неформальный. Пользуясь этими непрописанными, но молчаливо делегированными ему полномочиями, автор «Символизма» предлагал «Мусагету» определенные планы и настаивал на тех или иных решениях, которые не всегда находили поддержку и понимание со стороны Метнера. Сложившееся в издательстве двоевластие грозило разрешиться конфликтом.
Первые симптомы будущего конфликта имели под собой сугубо материальную почву – финансовую. В конце 1910 г. Белый соединил свою судьбу с А. Тургеневой и отправился вместе с нею в длительное заграничное путешествие. Денежное обеспечение поездки взяла на себя редакция «Мусагета» – в счет гонорара, причитавшегося Белому за печатавшуюся в издательстве книгу его статей «Арабески». Маршрут заранее не был четко определен, и было решено высылать Белому регулярные денежные суммы по указываемым им в письмах адресам. Почтовая связь с экзотическими областями Средиземноморья (Сицилия – Тунис – Египет – Палестина), где странствовали и пребывали Белый и А. Тургенева, была не быстрой, денежные переводы запаздывали, путешественники в ожидании оказывались прикованными к месту, которое уже готовы были покинуть; все эти неудобства вызывали раздражение Белого, которое он переносил на Метнера и на «Мусагет» в целом (не без оснований, поскольку и издательство в исполнении договоренности надлежащей расторопности не проявляло). Отрадные переживания и даже потрясения, которые испытывал Белый от соприкосновения с открывшимися ему новыми культурными мирами, омрачались эмоциями, которые распространялись на, казалось бы, родное и близкое ему культурное содружество. Новые встречи с «мусагетцами» в мае 1911 г., после длительного перерыва, Белого глубоко не удовлетворили; свои соображения и претензии, касающиеся положения дел в издательстве, он изложил в пространном письме к Метнеру, отправленном 17 июня 1911 г. из Боголюбов (волынского имения, принадлежавшего отчиму А. Тургеневой В. К. Кампиони). В мемуарах Белый, ошибочно отнеся это письмо ко времени пребывания в Тунисе, расценил его как «открытое нападение на Эмилия Метнера»: «…в нем я подытоживал двухлетие „Мусагета“ и сомневался, чтобы политика Метнера, главным образом накладывать свое „veto“ на новые начинания наши, имела бы смысл. Я писал: „Мусагет“ приблизился к тупику, из которого выхода нет; ответ Метнера – даже не крик, а рассерженный взвизг, показавший, что он нервно болен, что надо его успокоить; и я „успокоил“, но – с горьким сознаньем»[109].
Аттестация, данная Белым ответному письму Метнера от 26–29 июня 1911 г., – явно не адекватная: под определение «рассерженный взвизг» подробная, методичная, рационально выстроенная, с истинно немецким педантизмом по пунктам распределенная отповедь Метнера никак не подпадает. По существу Метнер в своих контрдоводах, безусловно, прав; его разъяснения относительно положения дел в «Мусагете», реализованных и нереализованных возможностей отражают подлинную картину, которую Белый не видел или не хотел видеть. Но Метнер не уловил или умышленно отказался воспринимать то ощущение неблагополучия, которым было пронизано инвективное послание Белого. За порицаниями, отчасти невнятно сформулированными, отчасти беспочвенными, надуманными или уводившими в сторону от существа дела, таилось открывшееся Белому осознание неосуществимости «мусагетской» культурологической утопии, недостижимости в очередной раз тех теургических целей, которые вновь замаячили в энтузиастических порывах, сопровождавших рождение нового, казавшегося всецело «своим», издательства.
В результате последовавших эпистолярных и личных объяснений прежняя тональность во взаимоотношениях Белого и Метнера была внешним образом восстановлена. Их упрочению способствовало учреждение «под редакцией Андрея Белого и Эмилия Метнера» «мусагетского» двухмесячника «Труды и Дни», начатого изданием в начале 1912 г., – новой платформы для обоснования символистских религиозно-философских идей. Белый написал для «Трудов и Дней» несколько статей, активно участвовал в составлении и редактировании первых номеров журнала. Достигнутое между соредакторами согласие, однако, оказалось непрочным; на этот раз его поколебал Метнер, уязвленный тем, что Белый, уезжая в марте 1912 г. за границу, передал рукопись своего, еще незаконченного, романа «Петербург» стороннему издателю (при том что под эгидой «Мусагета» печатать роман тогда не было возможности), а также недовольный его редакторскими решениями при формировании первого номера «Трудов и Дней». Свои обиды и претензии, накопившиеся и по другим, уже совсем малозначительным поводам, он сформулировал в письме к Белому, которое, по всей вероятности, не сохранилось; о содержании его можно судить по ответному письму Белого, а также по ряду иных документальных свидетельств.
О своей ответной отповеди Белый сообщал Н. П. Киселеву в письме из Брюсселя от 7 (20) апреля 1912 г.: «…намекните ему <Метнеру. – Ред.>, что только моя сдержанность заставила меня ему ответить корректно. И чтобы он осторожнее писал впредь. И так уже после критики моего поведения с журналом я отказываюсь принимать какое-либо активное отношение к журналу. Собирать статьи, думать и потом выслушивать укоризны. Кроме того: во мне крепнет после таких писем, как последнее письмо Метнера, – у меня крепнет намерение вовсе не вернуться в Москву, не прикладывать моих рук к Мусагету, дабы не быть объектом нареканий, сетований, сплетен, химер…»[110] Между тем Метнер возобновлял свои атаки. Письма его к Белому, относящиеся к весне и началу лета 1912 г., нам неизвестны, но об их тональности можно составить представление по отзывам адресата (с поправкой на их вероятную чрезмерную эмоциональность): «…мелочность обвинений (если бы они и были справедливы), высчитывания количества прегрешений и т. д., размазанное на 25 страницах большого формата ‹…› Я и теперь получаю громадные письма, где отражаются последние мои разъяснения и т. д. Чего Э. К. хочет, так истерически вопя 2 месяца, не знаю»[111]. Взаимонепонимание не преодолевалось интенсивностью переписки, а только усиливалось. Идти на полный разрыв с «Мусагетом» Белый все же не решался: ощущение идейной близости к сообществу, сотворенному в значительной мере его усилиями, оказывалось сильнее переживаний, порожденных множившимися конфликтными ситуациями. «Продолжаю чувствовать „коллектив“ вопреки письмам, – признавался он Н. П. Киселеву 4 (17) июня 1912 г., подразумевая письма Метнера. – И да – он есть. Продолжаю чувствовать связующее нас Главное. Кроме личной привязанности и дружбы, кроме Главного есть еще мотив быть нам вместе: нас так мало; и мир нас не любит. Никакая пря нас не разъединит»[112].
Назревала, однако, главная «пря», которая в конечном счете привела к расколу прежнего «мусагетского» «коллектива». Возникла она в связи с идейным тяготением ряда представителей этого «коллектива» к теософии в той форме, которую исповедовал руководитель Немецкой секции Теософского общества, а затем (в 1913 г.) основатель выделившегося из него Антропософского общества Рудольф Штейнер. Приверженцами Штейнера стали А. С. Петровский, М. И. Сизов и Эллис, пропагандировавший, начиная с 1911 г., его учение со всей силой своего темперамента среди «мусагетцев», а затем отбывший в Германию – слушать лекции своего учителя и пребывать под его духовным водительством. Метнер был последовательным и решительным противником Штейнера, не признавал значительности идейных построений «теософского педагога» и отвергал всяческие попытки экспансии его учения в «мусагетские» издания и в любые культурные начинания, осуществлявшиеся под знаком «Мусагета». В письме к Эллису от 12 ноября 1911 г. он со всей определенностью заявлял: «…допускать абсолютизм, церковность, хотя бы новую, в Мусагет я не могу. Штейнер для Мусагета такой же писатель, как и все другие. ‹…› Отделения штейнерьянства или оккультизма или теософии (все равно) в Мусагете быть не может. ‹…› Никаких лекций ни в Мусагете, ни от Мусагета на темы о теософии, о единодушеспасительной теософической церкви, никакой пропаганды и прозелитизма определенной оккультной или сектантской идеологии допущено быть не может. Мусагет за мистику, за религию, за символизм, за науку, за искусство, за философию, а, главное, за духовную свободу, соединенную с дисциплиной теоретической и практической и проникнутую чувством личного и коллективного долга, т. е. за культуру в высоком и широком смысле ‹…› Скорее закрою Мусагет, чем изменю своей программе…»[113]
6 и 7 мая 1912 г. Белый и А. Тургенева впервые увидели Штейнера – прослушали в Кёльне его лекцию, вызвавшую у обоих глубокое потрясение, и имели с ним личную встречу, после чего приняли решение приобщиться к кругу его последователей и учеников. Слушание лекционных курсов Доктора (как именовали Штейнера его поклонники) в Мюнхене и Базеле (август – сентябрь) только укрепило их убежденность в том, что они обрели истинный путь к духовному самосовершенствованию. Приверженцем антропософии Штейнера Белый осознавал себя на протяжении всей дальнейшей жизни. Таким образом, во второй половине 1912 г. двое из первоначального руководящего «трио» в «Мусагете» оказались ревностными адептами идеологической доктрины, не согласующейся с общими толерантными культурологическими установками, которым была подчинена деятельность издательского объединения. В стремлении проводить в «Мусагете» штейнерианскую линию Белый и Эллис теперь действовали в унисон; противостоявший их натиску Метнер даже замечал, что в своем идейном пафосе они перевоплотились в некое единое существо, именуемое «Белоэлис»: «Белоэлис требует штейнеризации Мусагета. Белоэлис считает Штейнера вершиною культуры, сверхчеловеком, предтечей второго Христа и т. п. – Белоэлис пишет о Штейнере Он с большой буквы. Белоэлис утверждает, что символизм и есть соединение эстетизма и оккультизма и что он, Белоэлис, в бытность свою еще двумя существами, Белым и Эллисом, всегда проповедовали эту истину ‹…›»[114]. Белый, в свою очередь, негодовал против Метнера за его упорный отказ признавать значительность Штейнера и даже усматривал в этой позиции косвенное свидетельство чуждости ему его, Белого, собственной личности. После встречи с Метнером в Базеле, где тот, прослушав лекцию Штейнера, скептически к ней отнесся, Белый жаловался в письме к М. К. Морозовой: «Я не понимаю одного: как можно эту красоту назвать скучными речами пастора, как называет Э. К. Метнер. ‹…› Все я прощу Э. К. Метнеру из великой любви к нему. Не прощу одного: я думал, что он с тонким вкусом, а он был на лекции Штейнера – ничего не увидел, ничего не услышал. Значит, все, о чем мы говорили эти 10 лет, в чем согласились, в чем условились, – одно сплошное недоразумение, и мы <говорили> о совсем, совсем разных вещах. Ибо для меня Штейнер безмерное углубленье полусознательных моих грез, меня самого. ‹…› За что меня любил Эмилий Карлович, не знаю, ибо то, что он во мне любил – это вот (только в миллион раз сильнее) осуществилось. Осуществленье – Штейнер. Если он над Штейнером глумится, то для меня это значит: он не глумился над моим только потому, что мое говорило намеками, и он в мое вложил свой, мне чуждый, мне далекий смысл»[115].
Постепенно ставшие нормой общения эпистолярные препирательства, в ходе которых Белый выступал в обличье стихийного, непредсказуемого и хаотичного гения, щедро и безрассудно расплескивающего свои словесные импровизации, а Метнер представал мелочным, упорным и неукоснительным педантом и доктринером, наводящим надлежащий порядок среди предметов спора и восстанавливающим приоритет логики и рассудка, обрели теперь тематическую доминанту в образе Штейнера. Общая идейная конфронтация порождала разногласия в практических «мусагетских» делах, отражалась в столкновениях двух соредакторов «Трудов и Дней» по вопросам публикации тех или иных материалов (показателен в этом отношении конфликт, возникший в связи со статьей Б. В. Яковенко «Философское донкихотство»). Метнер, измученный этим противоборством, жаловался в письме к Вяч. Иванову (12 (25) декабря 1912 г.) при упоминании «новых небрежностей и путаниц Бугаева»: «Скажу только, что большей способности к беснованию и всяческому одержанию я не встречал, что никогда еще не ставилось на пробу в такой невыносимой мере мое терпение и моя любовь, что более возмутительно несправедливого обращения я не переживал никогда и что я сильно сомневаюсь (относительно Бугаева), был ли я когда-либо действительно понят и любим и не является ли „старинный друг“, как меня называет Андрей Белый, просто одним из персонажей „Симфоний“, а я сам, живая личность, – просто моделью ‹…›»[116]. В конце 1912 г. в результате непрекращающихся конфликтов Белый отказался от редакторских полномочий в «Трудах и Днях» (как было печатно объявлено, из-за неудобств в работе, вызванных постоянным пребыванием за границей).
Формальный отход Белого от ведения текущих «мусагетских» дел способствовал умиротворению в его отношениях с Метнером, которые по своей тональности стали походить на подобие прежней дружбы. Когда в Петербурге возникло на прочной финансовой основе символистское издательство «Сирин», Метнер приложил немало усилий к тому, чтобы напечатать там залежавшиеся в «Мусагете» «Путевые заметки» Белого и еще не оконченный роман «Петербург», а также принять к производству его собрание сочинений (из этих планов осуществилась только публикация «Петербурга»). 8 (21) июня 1913 г. Эллис сообщал Метнеру: «От Бугаева получил прекрасное письмо, где наконец по Вашему адресу зазвучали истинные, старые, милые ноты. Я вообще все б<ольше> и б<ольше> верю в восстановление 3<-ройствен>ного союза, без которого немыслимо разобраться в вавилонском хаосе окружающего»[117]. В сентябре 1913 г. Белый и Метнер встретились в Дрездене, провели вместе два дня; обоим показалось, что былая связь восстановлена, несмотря на идейные разногласия. Вскоре, однако, ситуация резко изменилась по причине публикации в «Мусагете» нового сочинения Эллиса.
По мере того как Белый слушал лекционные курсы Доктора, выполнял заданные им духовные предписания и все более интенсивно вовлекался в жизнь Антропософского общества, Эллис претерпевал стремительную эволюцию в противоположном направлении, уводившем его от Штейнера и оккультного ученичества. Все более и более он утверждался в тех духовных ценностях, которые определились для него в религиозной культуре европейского Средневековья. В результате Эллис покинул Антропософское общество и написал небольшой трактат-манифест «Vigilemus!», в котором, по его словам, активно защищал «религию, культуру и символизм от модерно-теософо-разгильдяйства»[118].
Осенью 1913 г. «Vigilemus!» был отправлен в «Мусагет», где принят к печати отдельным изданием. Стороной известия о готовящейся публикации дошли до Белого, который выплеснул на Метнера и на всю редакцию «Мусагета» свое негодование. Убежденный в том, что Эллис использовал в своей работе лекции Штейнера, предназначавшиеся для распространения лишь в кругу его единомышленников, «посвященных», Белый выдвинул ультимативные требования, о которых Метнер оповестил автора «Vigilemus!» в письме от 12 (25) октября 1913 г.: «Бугаев получил из Москвы известие о печатании Вашей брошюры „Vigilemus“, и в результате: две запретительные телеграммы, официальное письмо г-ну секретарю „Мусагета“, с просьбой либо отставить брошюру, либо напечатать в газете его, Бугаева, отказ от сотрудничества в Мусагете, и, наконец, письмо на мое имя, переполненное самою неприличною бранью, с требованием: 1) отказаться от Вашей брошюры для Мусагета; 2) и если ее и напечатать в другом издательстве или без марки, то не иначе, как подвергнув ее цензуре Бори и Аси („нашей“ цензуре, гласит письмо)»[119]. Особенное негодование вызвало у Метнера то обстоятельство, что Белый ставил условия для печатания произведения, которого он на тот момент не читал и о содержании которого не мог иметь ясного представления. В результате в редакционном комитете «Мусагета» большинством голосов было принято решение публиковать «Vigilemus!». Корректуру работы Эллиса выслали Белому, который потребовал изъять из нее ряд фрагментов, но его настояниям не последовали. Метнер в связи с выдвинутыми Белым обвинениями составил особое «досье» – развернутый свод возражений и объяснений, который стал финальным высказыванием в этой истории[120]. Белый заявил о своем выходе из состава редакции «Мусагета» и из числа сотрудников «Трудов и Дней», его примеру последовали Петровский и Сизов. Тем самым Метнеру удалось отстоять свое детище от антропософского уклона. Эллис в письме к нему от 4 (17) ноября 1913 г. патетически восклицал: «Вы лично сделали все возможное для отвращения тео-антропософической эпидемии от „Мус<аге>та“, за что и я и все понимающие опасность, грозящую всей культуре и церкви от магии, – принесут Вам вечную благодарность»[121].
Уход Белого и других приверженцев антропософии из «Мусагета» не способствовал преодолению кризиса внутри издательского содружества, которое, несмотря на старания Метнера, неуклонно утрачивало внутреннюю энергию и интерес к общему делу среди большинства его участников. Неодолимой преградой на пути дальнейшей деятельности «Мусагета» стала начавшаяся Первая мировая война, сделавшая невозможным успешное функционирование каких-либо германофильских институций на территории России. Метнер, находившийся тогда в Мюнхене, был арестован как российский подданный и депортирован в нейтральную Швейцарию, где и обосновался в Цюрихе[122]. Случившееся он, сочетавший в себе две души, русскую и немецкую, переживал как величайшую личную трагедию: «…для меня Россия и Германия два отечества, равно любимых. Вот почему эта в полном смысле слова братоубийственная война является для меня самым ужасающим событием моей жизни»[123]. «…У него смысл жизни уходит из-под ног, и как он будет дальше жить – неизвестно! – писал о Метнере Г. А. Рачинский Морозовой 24 июля 1915 г. – Русским без оговорок он быть не хочет и не может, а немца из него тоже не выйдет: очень уж он воспитан русской землею и вырос в русской атмосфере»[124]. Обстоятельства, однако, складывались так, что последние двадцать с лишним лет жизни Метнера прошли в Швейцарии и – наездами – в Германии. Вести московские дела «Мусагета» он доверил В. В. Пашуканису, начавшему работу в издательстве в 1915 г. и параллельно затеявшему издательское предприятие под собственным именем[125]. В письме к Пашуканису от 22 апреля (5 мая) 1915 г. из Цюриха Метнер признавал, что «Мусагет» и внешне и внутренне исчерпал себя: «Молодежь ‹…› рассеялась кто куда; одни ушли в Путь, другие вовсе из литературы в науки, третьи в футуризм и т. д. Я считаю, что Мусагет не существует более как реализирующаяся идея, а только в идее»[126].
Идейный спор Метнера и Белого, сконцентрированный вокруг фигуры Штейнера, однако, продолжился – претворился из запальчивой эпистолярной полемики в фундаментальную, оснащенную множеством источников и основательным библиографическим аппаратом полемику печатную. Начал ее Метнер, поставив перед собой задачу продемонстрировать несостоятельность работ Штейнера, посвященных Гёте. Хотя Белый в расследовании, предпринятом Метнером, даже не упоминается, допустимо предположить, что оно обращено в первую очередь к нему как к читателю, в тайной надежде открыть адепту Штейнера подлинное лицо его кумира. В пользу такого предположения свидетельствуют позднейшие слова Метнера о своей книге в полемическом «ответе» Белому: «…своим возникновением она в значительной мере обязана длительным вызовам предавшихся антропософии сотрудников Мусагета, тогда еще его не покинувших. Они настаивали на том, что я в качестве главного редактора обязан занять ту или иную позицию к антропософии и Штейнеру, учениками которого стали почти все ближайшие сотрудники, во главе с А. Б<елы>м. Первый том Размышлений о Гёте был таким образом отчасти „провоцирован“»[127].
Для самого Метнера избранная тема имела ключевое значение. Гёте для него – величайший из «верховных водителей», определяющих ценности культуры, наиболее недосягаемый «из всех звезд первой величины»[128]. В свою очередь Штейнер начал творческую деятельность с исследований, посвященных Гёте. Его первая опубликованная книга – «Очерк теории познания Гётевского мировоззрения» (1886). В 1880–1890-е гг. под редакцией и с комментариями Штейнера были напечатаны естественно-научные сочинения Гёте в пяти книгах, составившие тома 33–36 (последний в двух частях) собрания его сочинений в издании Й. Кюршнера. В ходе подготовки этих томов Штейнер в течение ряда лет работал с рукописями Гёте по естествознанию в веймарском архиве Гёте и Шиллера, позже выпустил в свет еще ряд исследований о Гёте. Из всех этих сочинений Метнер избрал предметом своего критического анализа две работы – «Миросозерцание Гёте» («Goethes Weltanschauung», 1897) и «Гёте – отец новой эстетики» («Goethe als Vater einer neuen Aesthetik», 1889). Объемистый труд Метнера под заглавием «Размышления о Гёте. Книга I. Разбор взглядов Р. Штейнера в связи с вопросами критицизма, символизма и оккультизма» был издан в «Мусагете» в 1914 г.
Не претендуя на всесторонний обзор этого произведения и оценку общей концепции автора и степени убедительности выдвигаемых им аргументов и интерпретаций (они нашли признание у немногих знатоков[129]), коснемся лишь тех аспектов, которые были обусловлены полемической стратегией Метнера и обнаруживали свою значимость и весомость в идейном противостоянии с Белым. Аналитические усилия Метнера диктуются вполне определенной, изначально заданной целью – установлением несовместимости гётеанства и штейнерианства, констатацией внутренних противоречий в исследовательских приемах Штейнера и превращения их «в самодовлеющий внешне-иерархически разграфленный хаос»[130]. Метнер пытается убедить читателя, что Штейнер в своих толкованиях обречен на неудачу, поскольку неспособен воспринять универсальный и свободно реющий дух Гёте: «…попытка же Штейнера совершить рецепцию мировоззрения Гёте должна быть признана внешне „покушением с негодными средствами“, как выражаются криминалисты, внутренно же „заранее обдуманным намерением“ использовать Гёте для своих (пусть очень высоких и нравственно-безупречных) целей. ‹…› Чтобы посильно приблизиться к духу Гёте, Штейнер должен был бы отказаться, во-первых, от своих книг о нем, во-вторых, от всей дурной схоластики своего проповедничества и писательства»[131].
В восприятии Метнера Гёте и Штейнер – антиподы: и в философских установках, и в структуре личности, и в творческой психологии. Образ Гёте идеализируется до последней степени: Штейнер неспособен «понять принципы роста, борьбы и развития Гёте и достигнутое им, как ни одним из смертных, совершенство»; «Преимущество Гёте заключалось в небывалой личной гениальности, в особенной чистоте зрения, в глубокости и напряженности мышления»; Гёте выработал «свой властный гениальный метод, который словно издевается над всякой методологией»; в определениях понятия протофеномена сказалась «духовная свобода и мыслительная честность Гёте. ‹…› За ними чувствуется вся великая внутренняя борьба, весь натиск, весь полет гениальнейшего из сынов нашей земли и вся его никем достаточно не постигнутая и не оцененная мудрость самоограничения, притом никогда еще не явленная миру в такой ослепительной красоте…»; «История наук не знает второго Гёте, т. е. еще другого столь же гениального человека, одаренного духовными очами, другими словами, творца идей, который в то же время обладал бы таким исключительно-чистым, непосредственным, асхематичным зрением»[132], – перечень подобных аттестаций, содержащихся в книге Метнера, можно продолжать и продолжать. Штейнер в трактовках Метнера – полная противоположность: воплощенная посредственность, низводящая любые значимые явления до собственного уровня: «…все сосуды у него равно скудельны и содержимое в них одного и того же, я бы сказал казенного, цвета и стоит на одном и том же штейнерском уровне»; «Философия свободы» Штейнера – «книга, носящая следы нудных исканий мысли и непереваренной начитанности молодого человека, совершенно лишенного как философского, так и литературного дарований»; «Штейнер окутывает все „приуготовленное для чистой способности мышления“ облаком своего оккультизма, который где-то, может быть, в недоступных нам профанам эзотерических своих проявлениях и раскрашен всеми цветами радуги, но, слабо отображенный на скучных страницах его экзотерических книг, представляется сплошным серым пятном»; «Штейнер мало что уразумел в Гёте и только всячески пытался использовать его для своей теософской доктрины ‹…›»[133]. В своих усилиях осмыслить и истолковать Гёте Штейнер – если вновь воспользоваться параллелью с пушкинскими героями – подобен Сальери, пытающемуся постичь Моцарта и поверить своей «алгеброй» его «гармонию». Явно полемический заряд по отношению к Белому, настойчиво уверявшему, что подлинное осмысление символизма открылось ему в результате приобщения к Штейнеру, заключает неоднократно акцентируемая Метнером мысль о чуждости создателя антропософии символизму: «…все здание тайной науки ‹…› очевидно не содержит в себе ни одного покоя, где бы мог поселиться символизм. Ибо символизм приходит неизменно сопровождаемый проблематизмом и вовсе не способен ужиться с абсолютизмом, которому принадлежит множество помещений почти во всех этажах здания тайной науки»[134].
Оправдание своему подробнейшему разбору двух «гетеанских» сочинений Штейнера Метнер находит прежде всего в том, что Штейнер породил штейнерианство – сонм фанатических последователей. «Откровенно говоря, – признается автор «Размышлений о Гёте», – если бы Штейнер не был культурно-общественной силой и если бы он не обладал прямо непостижимым авторитетом в глазах многих, гораздо более основательно, нежели он сам, мыслящих, то едва ли стоило бы оспаривать его воззрения»[135]. В этой фразе нельзя не распознать скрытого указания на полемического адресата – Белого. В целом приверженцы Штейнера в своей преобладающей массе вызывают у Метнера ироническую характеристику: «маска научности», наброшенная на оккультные схемы, «импонирует лишь невежественным теософским рантье, которые ‹…› следуют за лектором Штейнером из города в город, внимая всем его словам с такою сектантскою доверчивостью ‹…› что им начинает казаться, будто все науки сочинены их учителем»; «…подобно апостолу Павлу и Ницше, Штейнер – великий ловец душ; только стиль его улавливания иной: не апостольский и не артистический, а пасторский и популяризаторский»[136]. «Итак, что же такое Штейнер и где же он?» – вопрошает Метнер и далее фактически обращается к Белому: «Ждем оккультно-точного, но все же снисходительно-популярного ответа от тех его учеников, которые более одарены, нежели учитель, как писатели и мыслители, потому что сочинения Штейнера ни на что нам ответить не способны»[137]. Слова «Ждем снисходительно-популярного ответа» Белый воспроизвел как эпиграф на титульном листе своей книги «Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности. Ответ Эмилию Метнеру на его первый том „Размышлений о Гёте“».
Когда вышли в свет «Размышления о Гёте», личные взаимоотношения Белого и Метнера возобновились, но это была уже их завершающая фаза. Начало Первой мировой войны застало Белого в Швейцарии (в селении Дорнах близ Базеля), где он в числе других сподвижников Штейнера участвовал в строительстве антропософского храма-театра – Гётеанума (Иоаннова здания). В ноябре и декабре 1914 г. Метнер неоднократно приезжал к Белому из Цюриха, их встречи проходили, согласно позднейшему описанию Белого, «миролюбиво и весело», хотя собеседники и «много спорили о докторе»[138]; Метнер же в письме к бывшей жене сообщал, что спор с Белым по поводу «Размышлений о Гёте» закончился «криками» и словесными «кулаками»[139]. В их разговорах возникла и новая тема – Карл Густав Юнг и его психоаналитическая теория; будучи пациентом Юнга в 1914 г., Метнер сблизился с ним и стал его горячим приверженцем; с годами Юнг занял в жизни и внутреннем мире Метнера столь же значимое место, какое ранее занимал Белый[140].
В январе 1915 г. Белый приступил к работе над своей полемической отповедью и при очередном приезде Метнера ознакомил его с первыми фрагментами начатого исследования. Вновь Метнер приехал в Дорнах в начале апреля того же года, уже зная от Сизова, читавшего в рукописи сочинение Белого, что был подвергнут в нем самым резким нападкам. Высказанное Белым пожелание опубликовать его полемический ответ в «Мусагете» породило очередной жестокий спор, который завершился скандалом и полным разрывом отношений[141]. После этого Метнер написал Белому объяснительное письмо (10 апреля 1915 г.), которое осталось неотправленным, – последнее письмо в их многолетней переписке. Касаясь вопроса о перспективах издания произведений Белого в «Мусагете» (в письме к В. В. Пашуканису от 5 мая 1915 г.), Метнер сообщал: «С Андреем Белым я окончательно поссорился недавно ‹…›. Вести с ним переговоры лично я не могу даже официально»[142]. «Так оборвались навсегда, – резюмирует Белый, описывая их последнюю встречу, – мои отношения с Метнером, бывшие некогда столь близкими (с 1902 года до 1911-го)»[143]. Упоминая об этом событии в мемуарах, Белый в очередной раз апеллирует к своему стихотворению «Старинный друг»: образ «два железных гроба», предназначенных для двух друзей, получает теперь свое символическое воплощение: «…эти „гроба“ – разделившие нас идеологии, о которых разбилась прекрасная дружба: с 1915 года уже не встречались мы»[144].
Черту под историей взаимоотношений с Метнером Белый подводит и в предисловии к своей полемической книге, где, пожалуй, единственный раз на всем ее пространстве, сформулированы положительные слова в адрес оппонента: «Тонким, умным, начитанным, элегантным защитником деликатных вопросов культуры слывет автор „воззрений“ в избранных московских кругах; его мнения – резолютивны, я знаю; его книга – я знаю наверное – выдвигает свою тему лет (а не дня) и являет старание погубить зеленеющий всход новой мысли морозом насмешек, присвояя культуру себе, отнимая ее у других. Многолетнею дружбою, серией острейших бесед и совместным участием в „Мусагете“ с Эмилием Метнером связан был я»[145]. Далее – последовательная сокрушительная критика, во многом схожая по расстановке смысловых акцентов с той, которую проводил Метнер в «Размышлениях о Гёте»; только на место живого и непревзойденного гения у Белого выдвигается Штейнер – «носитель огненной, эвритмической мысли», а на место Штейнера, изображенного Метнером, – сам Метнер с «деревянною мертвизною» собственных интеллектуальных построений[146]. Если у Метнера Штейнер – исказитель Гёте, то под пером Белого «д-р Штейнер „критически“ вскрывает нам Гёте: вскрывает впервые», «д-р Штейнер воистине перед лицом всего мира дал Гётевой мысли бессмертие»[147].
Как и Метнер, Белый пытается придать своей работе фундаментальный, строго научный характер, вовлекая в систему своих умозрений широкий круг источников с неукоснительными библиографическими отсылками. Стремясь к тому, чтобы опровержение взглядов Метнера было неопровержимым и безупречно доказательным, он интерпретацию гётеанских трудов Штейнера дополняет анализом натурфилософского символизма Гёте, нашедшего свое яркое воплощение в «учении о цвете», дает сравнительный анализ построений Гёте и Ньютона, привлекает параллели из восточной мудрости («Бхагавадгита»), Дарвина, Геккеля и т. д. Все эти построения, воздвигаемые Белым с неизменно присущим ему размахом и щедростью образной мысли, имеют самостоятельную ценность (высказано мнение о том, что Белый в своей книге постиг «физику» Гёте гораздо глубже, чем Штейнер и Метнер соответственно в своих работах[148]) и уводят в сторону от метнеровских «Размышлений о Гёте», которые в этом отношении играют роль лишь побудительного импульса. Собственно же книгу Метнера Белый подвергает кропотливому, детальному разбору, используя на новый лад даже статистическую методику, апробированную им в стиховедческих трудах: составляет постраничный регистр выдвинутых Метнером обвинений (Штейнер «не понимает» – 40 раз, «предвзято-тенденциозен» – 41 раз, «уничтожает себя» – 30 раз, «искажает и путает» – 30 раз и т. д.; в итоге – 530 обвинений[149]).
Опровержение «Размышлений о Гёте» Белый выстраивает по трем основным тематико-смысловым линиям, которые сводимы к одной краткой фразе: Метнер Штейнера не знает, не понимает и заведомо извращенно трактует. Главный козырь Белого-полемиста – сосредоточенность Метнера лишь на двух «гётеанских» работах Штейнера («громовое взывание») и невостребованность остальных его трудов на ту же тему («гробовое молчание»), освоение которых не позволило бы критику делать свои скороспелые и неосновательные выводы: «Гробовое молчание и громовое взывание здесь встречаются в одном существенном пункте: в несправедливой предвзятости»; «Ответ на вопрос, поставленный Эмилием Метнером, у д-ра Штейнера четок; но Эмилий Метнер ответа на свой вопрос – не читал» (подразумевается книга Штейнера «Очерк теории познания Гётевского мировоззрения»)[150]. Убежденный в неоспоримости статистических данных, Белый утверждает, что в «Размышлениях о Гёте» разобрано 180 страниц текста Штейнера и оставлено без внимания 858 страниц, написанных им о философии и естественно-научных трудах Гёте; следует вывод: «Уважаемый автор подрывает себя: критика его – травля, травля, нужная для чего-то; травля, заранее предрешенная; взгляды д-ра Штейнера не интересуют его»[151].
Непонимание Метнером положений Штейнера порождает, по мысли Белого, «голословицу» его критических пассажей («клубок голословия, посыпанный перцем острот и мукой отступлений»): «Не критик он, – отсекатель смысла цитат; он по поводу каждой выпаливает колесо рассуждений об обезглавленных текстах; и – крыловидно порхает безглавица – в мозгу у читателя»[152]. Для демонстрации недобросовестности Метнера в интерпретации воззрений Штейнера Белый прибегает к монтажу цитат – приводит в изобилии фрагменты метнеровских обвинений и опровергает их фрагментами из текстов Штейнера. Убеждая читателя в том, что «Размышления о Гёте» содержат главным образом кривотолки, Белый разоблачает их автора, усиливая свою критику безудержным использованием сравнений и метафорических уподоблений, зачастую откровенно оскорбительного характера. Метнер предстает «разбойником, в косо заломленной шляпе, кидается на противника, и теперь уже грубою дубиною смеха ударяет не в грудь (защищенную философски), а – в спину: в тыл взглядов ‹…›»; он же давит «носорожьей броней будто бы логических доказательств; ‹…› тут бьет севрский фарфор толстокожей стопой носорога; над гранитной стеной перелетает там фертиком»; «Можно, конечно, вандалом ворваться в миросозерцанье любого мыслителя и сокрушать тонкие арабески системы, как хрупкий музейный фарфор; виноват не фарфор; виноват ворвавшийся вандал; ‹…› бить топором по фарфору – не значит быть критиком»; «Вот что делает спорщик: изломавши случайно прочитанный текст в произволах капризной фантазии, составляет он лживую пародию мысли; и увидевши книгу, – бросается ее растерзать: поступает, как… бык ‹…› чтоб… поднять на рога»[153]. От быка – один шаг в сферу греческой мифологии, и Метнер воплощается в чудовищного Минотавра: «Раздражение – Минотавр – бьет своим рогом; и – рог отлетает ‹…› мы видим: гранитную стену; у стены – минотаврин обломанный рог; наконец – покрытого пеною Минотавра в облаке пота и с понуренной мордою скотнодворных животных из… парнокопытных и… жвачных»[154]. Далее Метнер Минотавром проходит через всю книгу: «Минотавровы стоны»; «раздражение автора – не критика, а – глухо стенающий Минотавр, ища своей жертвы»; «лезвие критической мысли не рассекает нам мрака; но из мрака доносится: глухое стенание… Минотавра»; «чревоугодие Минотавра продолжает требовать жертв» и т. д.[155]
Книга «Рудольф Штейнер и Гёте…» не вызвала большого резонанса в печати[156], однако в сузившемся кругу приверженцев «Мусагета» породила волну протестов. Инициатором похода против Белого стал И. А. Ильин – философ и публицист, сблизившийся с братьями Метнерами в 1913 г. (с Эмилием Метнером его роднил общий интерес к психоанализу; он и его жена вошли в число наиболее желательных для учредителя «Мусагета» новых участников)[157]. 6 февраля 1917 г. Ильин отправил Белому открытое письмо-инвективу: «С чувством острого стыда и тяжелого отвращения прочел я книгу, выпущенную вами против Эмилия Карловича Метнера. Я прочел ее всю, и, читая, чувствовал себя так, как если бы я, уже одним чтением, становился участником низкой выходки, направленной против благороднейшего из людей. Отсюда у меня непреодолимая нравственная потребность заявить открыто, что книга ваша есть явление постыдное и что все непристойное, напечатанное в ней, возвращается на голову того, кто ее писал. ‹…› А ваша книга есть именно памфлет, приближающийся к пасквилю. Она имеет не объективный, а вызывающе-личный характер; она все время силится скомпрометировать противника и не останавливается даже перед грубою бранью ‹…› она вся написана тоном вульгарной демагогии, – и потому она есть памфлет. ‹…› Вам угодно было обогатить русскую литературу пасквилем, – и мы примем его как зрелый итог вашей жизни. ‹…› Будьте уверены, что я не узнáю вас в лицо и не подам вам руки при встрече. Я не желаю знать вас до тех пор, пока не услышу от Эмилия Карловича, что вы покаянно испросили у него прощение»[158].
Высылая 10 февраля 1917 г. Метнеру копию этого письма, Ильин сообщил, что оно было обсуждено «в интимнейше-замкнутом кругу»[159] и что копии его рассылаются также ряду других лиц. Горячую поддержку Ильин нашел в лице Эллиса, отправившего письмо, адресованное всем сотрудникам «Мусагета» (7 апреля 1917 г.). «Не может быть никакого сомнения в том, – заявлял Эллис, – что неслыханное в летописях рус<ской> литературы, беспочвенное и возмутительно-клеветническое публичное ‹…› оскорбление Э. К. Метнера <…> есть eo ipso оскорбление и „Мусагета“ самого, т. е. всех лиц, идейно соединенных между собой и с Э. К. Метнером во имя общей духовной работы ‹…› Все знающие лично Э. К. Метнера, особенно все работавшие годами вместе с ним, все без исключения знают, что в вопросе этической и идейной оценки Э. Метнера двух мнений быть не может, что без моральной, исключительной высоты его все культурное дело „Мусагета“ было бы немыслимо». Эллис заканчивал свои обвинения «надеждой, что выражение дружного протеста откроет глаза самому г. Бугаеву на то, игрушкой каких темных и разрушительных сил, столь чуждых всей прежней идейной работе г. Белого, явился он в деле составления пасквиля, побудит его самого по соображениям не страха перед внешним чьим-либо давлением, а по глубоким мотивам раскаяния и сожаления немедленно изъять из продажи свой пасквиль и свои возражения против книги Э. Метнера выразить в иной, более пристойной и моральной форме, самым лучшим примером к<ото>рой может служить иронически-уничтожающая своей корректностью книга Э. Метнера против Штейнера»[160]. В письме к Ильину (17 апреля 1917 г.) Эллис предлагал распространять его обращение к «мусагетцам» «немедленно всюду»[161].
Между тем сам виновник набиравшего силу скандала какое-то время находился от него в стороне – в Петрограде; обвинительное письмо Ильина было отправлено по московскому адресу Белого. Метнер, ссылаясь на Морозову, сообщал Эллису (Женева, 4 (17) июля 1917 г.): «…к книге Белого все отнеслись отрицательно, но не серьезно, а как к выходке истеричного человека. Испугались за Белого, которого Ильин, пользующийся всеобщим вниманием и уважением, мог уничтожить своим метким прицелом»[162]. Испугались не напрасно: знавшим взрывчатого и экспансивного писателя было известно, что в прошлом у него было несколько – правда, не доведенных до сатисфакции – дуэльных инцидентов. В результате на защиту Белого встал кн. Е. Н. Трубецкой. Белый вспоминает: «…в мое отсутствие к матери забежал Гершензон и потребовал, чтобы я не распечатывал письма; вернувшись, я его вернул Ильину в нераспечатанном виде; текст письма был передан Трубецкому, который стал между нами невольным третейским судьей; Трубецкой объяснил получателям писем, что он, ознакомившись с текстом книги моей, не нашел в ней ничего предосудительного. Мне потом объясняли: Ильин вычитал в книге моей против Метнера гадкие инсинуации, де порочившие честь его друга; вернее, не вычитал, а вчитал в нее свою гадость ‹…›»[163]. Ильин увещеваниями Трубецкого не удовлетворился: в ответ на его «открытое письмо» сочинил развернутое послание в защиту и с дополнительными обоснованиями своей позиции[164], а также составил досье, включающее собранные им среди знакомых Метнера и Белого семнадцать откликов на его обвинительное письмо[165]. Впрочем, последующего развития этот инцидент не получил. Видимо, революционные события 1917 года не способствовали сосредоточению духовной энергии на конфликтах бесконечно малого, по сравнению с происходившим в обществе, значения.
В письме к Метнеру от 10 февраля 1917 г. Ильин сообщал: «Пасквиль Бугаева выслать Вам нельзя: объявлено о непропуске книг через границу. Отвечать на него печатно – значит валяться в грязи. Вам надлежит совсем промолчать на него»[166]. Когда Метнер с большим опозданием ознакомился с исследованием Белого, он не решился внять этому совету. В письме к Н. П. Киселеву (9 (22) октября 1917 г.) он отмечал «нравственную и умственную низкопробность книги Белого»: она «оказалась гораздо возмутительнее, чем то, как ее обрисовал в своем письме Ильин. ‹…› Что же касается Анд<рея> Белого, то это даже не человек, а просто чудовище, и притом извращенное»[167]. Последовал развернутый ответ на «Ответ» Белого – текст на более чем 300 листах без заглавия, который отложился в архиве Метнера[168] (реальных перспектив опубликовать эту книгу, видимо, не открывалось: деятельность «Мусагета» в России прекратилась; в Цюрихе же под маркой «Мусагета» Метнеру удалось издать в 1929 г. под своей редакцией и с предисловием лишь русский перевод «Психологических типов» Юнга).
Все выдвинутые против него обвинения Метнер методично, по пунктам, опираясь на строгие логические доводы, отвергает и в свою очередь обвиняет Белого в несостоятельности аргументов («все там вывернуто наизнанку»), передержках, подтасовках, неточном воспроизведении чужого текста («А. Б. ‹…› цитирует почти всегда более чем неудачно, ибо не только не обращает никакого внимания на контекст, но и часто списывает неверно самый текст» – следуют многочисленные примеры некорректного цитирования)[169] и т. д. Основанный на «эквилибристике с цитатами» метод Белого-полемиста Метнер расценивает как заведомо несостоятельный, уводящий в сторону, пренебрегающий сутью затрагиваемых вопросов: «В своем памфлете А. Б. слишком часто похож на адвоката или прокурора, который, вместо юридического освещения данных предварительного следствия, начинает перед судом лекцию по энциклопедии или философии права, самые же данные либо оставляет вовсе без внимания, либо искажает их фактический и психологический состав, либо, наконец, отделывается от них более или менее грубой и остроумной шуточкой»; «Едва ли найдется в полемической литературе еще такой случай, когда кем-либо с такою смелостью утверждалось нечто, не только вопреки очевидности доказательств, но прямо вопреки наличности напечатанных и опубликованных документов»[170].
В своих контраргументах Метнер постоянно возвращается к тем базовым ценностям, служению которым был призван «Мусагет», и прежде всего к универсальному понятию культуры, которое, по его мысли, Белый не смог надлежащим образом освоить: «Издеваясь над тем, что я будто превращаю Гёте в культур-трэгера, А. Б. обнаруживает безнадежно-внешнее понимание культуры, понимание совершенно антигётевское. А. Б. называет меня вандалом. Вандалы были в свое время так же оболганы тогдашними романцами, как немцы – современными. Но если я в качестве германца вандал, который уничтожает продукты культурного разложения вроде антропософии, то А. Б. в качестве славянина скиф, который осужден на вечное томление по культуре, пока им не усвоена будет органически идея культуры (не ее схематическое понятие или описательная формула), пока он не поймет, что напичкивание себя знанием и тренирование себя в различных умениях (хотя бы то были оккультные медитации) не ведут еще, сами по себе, к культуре личности; культура таким путем дает лишь некоторый лоск коже, который постоянно опять утеривается; культура должна стать второй натурой, т. е. проникнуть в глубины бессознательного; но… как обстоит тут дело с А. Б – ым, об этом свидетельствует не только непонимание означенного места из письма Гёте Шарлотте фон Штейн ‹…›[171], но и неожиданные, для меня совершенно невыносимые и, по-видимому, им самим неосознанные срывы в его обоих романах»[172]. Метнер не оставил, по всей видимости, более или менее развернутых аналитических отзывов о подразумеваемых здесь «Серебряном голубе» и «Петербурге» (краткая характеристика этого романа – в письме к Белому от 12 (25) апреля 1914 г.), но ясно, что и его отношение к художественному творчеству Андрея Белого претерпело эволюцию в том же направлении, в каком переоценивалась личность Бориса Бугаева, что вершиной созданного писателем для него остались юношеские «симфонии»[173]. Остается гадать относительно меры проницательности Метнера при уподоблении Белого «скифу» – плод это его собственных раздумий или намек на изданные в 1917–1918 гг. сборники «Скифы» и одноименное объединение, под знаком которого автор «Петербурга» развивал полонившие его тогда идеи и настроения революционного максимализма, базированные на неизменной штейнерианской основе.
В «ответе» Белому Метнер по-прежнему усердно развенчивает Штейнера как создателя «плоской, путаной, пустой доктрины», «гетерономного начитанного дилетанта», в котором «как в писателе и мыслителе нет ни следа оригинальности; он весь – „составлен“»; уничтожающе и насмешливо характеризует его ревностных последователей («кучка интернациональных богоискателей», воздвигающая «благоговейно капище неведомому Богу в патологическом стиле»), которые «сложили с себя все человеческое, сдали свои души в дорнаховском гардеробе, получили взамен этого контрамарку, дающую право на такую-то долю соборной души»[174]. Резкость и раздражение, с которыми Метнер изничтожает антропософов, понятны: он касался больной темы, ранившей его сознание и психику; продиктованы эти чувства переживанием утраченной дружбы, горестным осознанием того, что между ним и Белым пролегли непереступаемые идеологические барьеры, воздвигнутые антропософским учением, что в конечном счете именно оно стало живительной почвой для тех нападок и оскорблений, которыми перенасыщена книга «Рудольф Штейнер и Гёте…».
Неистовство этих нападок Метнер готов объяснять не только принципиальными идейными мотивами, но по преимуществу подспудными причинами: «Памфлет А. Б – го можно понять только как месть. Но она, на первый взгляд, несоразмерно велика по сравнению с поступком, ее вызвавшим. Правда, предметом моего нападения явился мейстер А. Б – го, Штейнер, а люди думают, что благороднее мстить за другого, за друга, за ближнего, нежели за себя. Но психологически это благородство крайне подозрительно. ‹…› Но ряд рассыпанных по книге намеков и кивков, хотя понятных лишь мне, самому А. Б – му и двум или трем лицам, показывают, что свою роль сыграло здесь по меньшей мере и еще одно обстоятельство: досада, что не удалось пристроить антропософию в Мусагете и превратить наше издательство в штаб-квартиру штейнерианства. А. Б. привык смотреть на себя, как на лидера Мусагета. Он, А. Б., стал антропософом, следовательно и Мусагет должен был стать штейнерианским издательством. Этот ход мыслей крепко засел в голове некоторых сотрудников, покинувших Мусагет после того как они стали антропософами. Только принимая во внимание все мотивы мести, можно объяснить себе чрезмерность ее проявлений. В самом деле. Я позволил себе несколько подорвать лишь умственно авторитет Штейнера, я позволил себе высмеять некоторые стороны „быта“ (как выражается А. Б.) тайной „духовной“ науки и ее приверженцев. А. Б. не оставил на всем моем существе ни одного живого места и довел свою ругательную молотьбу до того, что даже похвальные по моему адресу эпитеты зазвучали под его пером нестерпимою насмешкою»[175].
В эмоциональной тональности, господствующей в «Рудольфе Штейнере и Гёте…», Метнер готов видеть отражение также одного, хотя весьма значительного, эпизода, относящегося ко дню его последней встречи с Белым, – заявленного им решительного отказа публиковать эту, тогда еще только начатую, книгу в «Мусагете». «…Никакая дружба не может, – писал в оправдание своего решения Метнер, – идти так далеко, чтобы во имя ложно понятой справедливости, во имя того, что друг твой считает истиной, ты же – заблуждением, позволил бы своему другу издеваться в такой мере, как делает это А. Б. в своем памфлете, над тобой при открытых дверях и окнах во всеуслышание. Горьчайшую правду свою А. Б. думал провести в Мусагете и притом тогда, когда последний, которого я никогда не считал своим собственным, но „нашим“ домом, по уходе А. Б – го и большинства „наших“ стал тем самым более „моим“ ‹…› само по себе это новое произведение его являет собою почти сплошь столь низкопробный продукт, что, за исключением немногих менее неясных и более дельных параграфов, она не заслуживала бы ни в коем случае быть напечатанной в Мусагете. Дружба дружбой, а служба службой. Этого А. Б. никогда не понимал. Обратно, он полагал вероятно, что во имя прошлой „многолетней дружбы“ я обязан разрешить ему во всеуслышание глумиться надо мною и притом не только над моими мыслями и над моим мышлением, но и над моим существом и притом непременно с кафедры Мусагета, который он покинул, отрясая прах от ног своих»[176].
Впечатления от книги «Рудольф Штейнер и Гёте…» заслонили у Метнера все прежние представления о личности Белого на долгие годы, которые протекали вдали от былого друга-врага и были окрашены новыми встречами, переживаниями и интересами (среди последних особенно знаменательно горячее сочувствие национал-социализму – впрочем, закономерным образом обусловленное как догматическим германофильством, так и близкими ему расовыми теориями; подобно своему кумиру Чемберлену, Метнер готов был воспевать осанну Гитлеру)[177]. В душевном мире руководителя «Мусагета» Белый так и остался незаживающей раной. О встрече с Метнером в Швейцарии в 1930 г. вспоминает актриса московского Камерного театра и антропософка Г. С. Киреевская: «Узнав, что я с ним <Белым. – Ред.> знакома, Метнер пришел ко мне в гостиницу и буквально часа два метался по номеру, жалуясь, плача, чем-то восхищаясь, на что-то обижаясь на Бориса Николаевича»[178]. О встрече с Киреевской вспомнил и Метнер в письме к Вяч. Иванову (апрель 1934 г.), включавшем отклик на смерть Белого: «О кончине Андрея Белого ничего не могу сказать, т<ак> к<ак> он кончился для меня в 1916 г. Единственное, что меня потрясло, это – известие, будто он за несколько часов до смерти просил прочесть ему стихотворение, по содержанию кот<орого> (как мне его передавали) я не мог не вспомнить тех, что он посвятил мне (это „закатные“ и о „старинном друге“). – Потрясло это меня не эстетически-сентиментально, а как предсмертный упрек, что я не простил его; года два или три тому назад ‹…› одна актриса, Киреевская, по поручению Бориса Н<иколаевич>а, говорила со мною о нем и о нашей ссоре; сказала, что Б<орис> Н<иколаеви>ч ждет (но не просит, т<ак> к<ак> не считает себя виновным) моего прощения; ей не удалось уговорить меня; я поручил ей передать ему сердечный привет, но не прощение»[179]. Самое значимое в этом описании – указание, что Киреевская виделась с Метнером «по поручению» Белого, стремившегося хотя бы к заочному восстановлению доброжелательных отношений. О реакции Белого на рассказ о встрече с Метнером пишет Киреевская: «…несмотря на всю корявость моей передачи, он услышал что-то, я увидела слезы на его глазах, и он сказал, я не помню какими словами, но смысл был, что „примирение состоялось“»[180].
Это «примирение», однако, воплотилось только как факт сознания Белого. Метнер, утверждавший при его жизни в письме к Вяч. Иванову (8 июля 1929 г.): «Андрей Белый сам уничтожил свою дружбу со мной», – не изменил своей позиции и после его кончины; незадолго до собственной смерти, высылая Иванову свою немецкоязычную статью о Юнге, в которой попутно была вкратце охарактеризована полемическая книга Белого, он замечал (9 марта 1936 г.): «Думаю, что Вы сочтете меня злопамятным, т<ак> к<ак> я-де не простил А. Белому и после его смерти. ‹…› Впрочем, да: ему я до сих пор не могу простить ни его штейнерианства, ни его глубоко– и хитро-фальшивой памфлетной критики моей книги…»[181]
Что касается Белого, то в его отношении к Метнеру, определившемся после разрыва личных контактов, возобладала та установка, которую сформулировал Дэвид Копперфилд, мысленно обращаясь к Стирфорту после его гибели: «…вы могли мне не говорить: „Вспоминайте только самое хорошее, что есть во мне“. Так я поступал всегда» (гл. LVI)[182]. Впервые Белый набросал мемуарный портрет Метнера в «Воспоминаниях о Блоке» (1922); тень позднейших конфликтов не ложится на этот образ, целиком навеянный атмосферой «эпохи зорь», исполненной мистических надежд и теургических дерзаний: «…конкретнее всех повлиял на меня Э. К. Метнер»; «…помню Метнера 1902 года: изящный, блестящий, весь искристый, вспыхивающий тончайшими характеристиками, напоминал альбатроса он, заширявшего в небе мысли над бурею музыкального моря»; «…он с огромной любовью принялся за гармонизацию мира сознания – при помощи: музыки, философии и культуры»[183]. В той же тональности, но гораздо подробнее, с воссозданием многих эпизодов общения обрисован Метнер в «берлинской редакции» мемуаров «Начало века»; о разрыве взаимоотношений там говорится намеком, упоминание – только попутное упоминание! – двух книг о Гёте и Штейнере подается в метафорической, иносказательной оболочке: «Рок встал через 13 лишь лет ‹…› восторжествовали коварные Нибелунги»[184]. Значимость творческой личности Метнера Белый видит прежде всего в тех, заложенных в ней, потенциях к построению собственной философии культуры, которые позволяют прочерчивать параллели с Освальдом Шпенглером и его «Закатом Европы», ставшим в начале 1920-х гг. откровением в мировой культурологической мысли: Метнер «Гёте, Бетховена, Канта, меня, нас – сплетает утонченными аналогиями в стиле Шпенглера: за восемнадцать лет до появления книги его»[185].
Стихотворный цикл «Старинный друг» Белый перерабатывал неоднократно – и подготавливая в 1914 г., после ухода из «Мусагета», «Собрание стихотворений» для издательства «Сирин», и при формировании берлинского издания стихотворений (1923), и в 1931 г., создав радикально измененную редакцию текста для книги «Зовы времен». Во всех случаях общий смысл и образная структура произведения принципиально не изменялись (правка была преимущественно стилистической, направленной к устранению следов юношеской неумелой версификации), а привнесенные новые акценты, отсутствовавшие в первопечатной редакции, служили декларации непреходящей ценности идеалов, сближавших автора с его «старинным другом»:
В позднейшей мемуарной книге «Начало века» (1933) Белый главу о Метнере завершает сухой констатацией факта прекращения «прекрасной дружбы» и фразой: «Метнер стал – „враг“»[187]. В первоначальном варианте текста, однако, эта фраза заканчивалась не точкой, а точкой с запятой; далее следовало рассуждение, основанное на образах из приведенного выше стихотворного фрагмента: «„рог“, в котором старинный мой друг подавал вино жизни, стал рогом от рока; иные из наших „друзей“ гнусно вырыли пропасть из мороков лживых; сквозь все поднимаю я рог, рог с вином, поднесенным мне некогда: пью за старинного друга!»[188]. Это однозначно сформулированное приглашение к примирению (хотя бы и с беспочвенным обвинением в адрес мифических «друзей», якобы разжигавших конфликт) Белый ввести в окончательный текст книги не решился: в конечном счете возобладали, видимо, те же соображения и эмоции, которые и для Метнера оставались неизбывными даже после смерти его «старинного друга».
А. В. Лавров
Археографическая справка
Переписка Андрея Белого и Э. К. Метнера публикуется впервые в полном объеме известных нам текстов по автографам или копиям с автографов (часть писем Метнера), хранящимся в Научно-исследовательском отделе рукописей Российской государственной библиотеки (Москва) в фондах Андрея Белого (ф. 25) и Э. К. Метнера (ф. 167). Отдельные письма отложились в фонде Н. П. Киселева (ф. 128) и в фонде Андрея Белого в ГЛМ. Архивные шифры указываются в примечаниях к каждому письму, там же сообщаются библиографические сведения о ранее осуществленных публикациях данного письма или фрагментов из него. При этом не учитываются цитаты из публикуемых писем, более или менее пространные, приводимые в ранее изданных статьях и монографиях.
Письма публикуются в соответствии с современными орфографическими и пунктуационными нормами, но с сохранением отдельных специфических индивидуальных особенностей, наличествующих в автографах (в том числе искаженные написания имен собственных и названий). Описки и иные внешние погрешности текста исправляются без оговорок; синтаксические и прочие несогласованности исправляются без оговорок в тех случаях, когда правильное написание может быть восстановлено однозначно.
Тексты телеграмм не включаются в основной корпус переписки, но приводятся в комментариях.
Условные сокращения
Белый – Блок – Андрей Белый и Александр Блок. Переписка 1903–1919 / Публикация, предисловия и комментарии А. В. Лаврова. М.: Прогресс-Плеяда, 2001.
Белый – Петровский – Андрей Белый – Алексей Петровский. Переписка 1902–1903 / Вступительная статья, составление, комментарии и подготовка текста Джона Малмстада. М.: Новое литературное обозрение, 2007.
Блок – Блок А. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. М.: Наука, 1997 – (издание продолжается).
«Ваш рыцарь» – «Ваш рыцарь»: Андрей Белый. Письма к М. К. Морозовой. 1901–1928 / Предисловие, публикация и примечания А. В. Лаврова и Джона Малмстада. М.: Прогресс-Плеяда, 2006.
ЛН. Т. 92. Кн. 3 – Блок в неизданной переписке и дневниках современников (1898–1921) / Вступительная статья Н. В. Котрелева и З. Г. Минц. Публикация Н. В. Котрелева и Р. Д. Тименчика // Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 3. М.: Наука, 1982. С. 153–539.
ЛН. Т. 105 – Литературное наследство. Т. 105. Автобиографические своды: Материал к биографии. Ракурс к дневнику. Регистрационные записи. Дневники 1930-х годов / Составители А. В. Лавров и Дж. Малмстад. Научный редактор М. Л. Спивак. Отв. ред. А. Ю. Галушкин, О. А. Коростелев. М.: Наука, 2016.
МДР – Андрей Белый. Между двух революций / Подготовка текста и комментарии А. В. Лаврова. М.: Художественная литература, 1990 (Серия литературных мемуаров).
Метнер – Метнер Н. К. Письма / Составление и редакция З. А. Апетян. М.: Советский композитор, 1973.
НВ – Андрей Белый. Начало века / Подготовка текста и комментарии А. В. Лаврова. М.: Художественная литература, 1990 (Серия литературных мемуаров).
Ницше – Ницше Фридрих. Сочинения: В двух томах / Составление, редакция, вступительная статья и примечания К. А. Свасьяна. Т. 1–2. М.: Мысль, 1990.
О Блоке – Андрей Белый. О Блоке: Воспоминания. Статьи. Дневники. Речи / Вступительная статья, составление, подготовка текста и комментарии А. В. Лаврова. М.: Автограф, 1997.
Письма к матери – «Люблю Тебя нежно…» Письма Андрея Белого к матери. 1899–1922 / Составление, предисловие, вступительная статья, подготовка текста и комментарии С. Д. Воронина. М.: Река Времен, 2013.
Симфонии – Андрей Белый. Собрание сочинений: Симфонии / Составление, подготовка текста, послесловие и комментарии А. В. Лаврова. М.: Дмитрий Сечин, 2014.
Соловьев – Соловьев Владимир. Стихотворения и шуточные пьесы / Вступительная статья, составление и примечания З. Г. Минц. Л.: Советский писатель, 1974 («Библиотека поэта». Большая серия).
СП – 1, 2 – Андрей Белый. Стихотворения и поэмы. Т. 1–2 / Вступительные статьи, составление, подготовка текста и примечания А. В. Лаврова и Джона Малмстада. СПб.; М.: Академический Проект – Прогресс-Плеяда, 2006.
ГЛМ – Отдел рукописей Государственного литературного музея (Москва).
ГЦММК – Отдел рукописей Государственного центрального музея музыкальной культуры (Москва).
ИРЛИ – Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (Санкт-Петербург).
РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).
РГБ – Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки (Москва).
РНБ – Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург).
ЦГИАМ – Центральный государственный исторический архив г. Москвы.
1902
1. Метнер – Белому
Немчиновка 1 августа 1902 г.
Если я начну свою беседу с Вами с погоды, то это, надеюсь, не будет банальностью: лета в 1902 г. не было, так же, как в 1901 г. не было весны. Обыкновенно я и поправляюсь и много читаю: на этот раз вследствие непрерывных дождей я вынужден был сидеть не в лесу, а в комнатах, где вследствие домашней суеты и детского крика[189] я проскучал без дела в течение трех месяцев, успев прочесть только летопись Серафимо-Дивеевского Монастыря[190], два тома исследования Мережковского[191] и… перечитать Андрея Белого[192]. – Адвокатуру я решительно покинул еще весною[193] и совершенно неожиданно приглашен Н. А. Зверевым в качестве Нижегородского цензора нести государственную службу[194]. Пока я прикомандирован на правах цензора к Московскому Цензурному комитету, а в первых числах октября мне предстоит на два года расстаться с Москвой и переселиться в резиденцию царя босяков Максима Горького[195].
Знакомство с Вами, состоявшееся, к сожалению, накануне моего временного, а теперь и постоянного удаления из Москвы, я считаю необходимым закрепить и потому прошу Вас известить меня о Вашем возвращении из деревни; надеюсь, что нам удастся не раз встретиться, может быть еще в Немчиновке. Брат мой[196] понемногу оправляется от той болезни, которая помешала ему весною познакомить Вас со своим искусством, так что недурно будет нарушать нашу беседу музыкальными антрактами. Итак, я жду от Вас известий. С Алексеем Сергеевичем мы обменялись письмами[197]. Я адресовал ему письмо в Правление, где служит его отец[198]; он ответил мне, не обозначив своего места жительства. Повздорили с ним из-за слащавых старушек и юродства[199]. Он мне сообщил, что кто-то родился в Польше 29 апреля 1901 года. Но я полагаю, что кто-то должен быть или русским или немцем причем очень смешанного происхождения[200]: в крови должно быть и германское и славянское и кельтическое (это, впрочем, наименее важно) и финское и семитическое. Если кто-то будет русским, то он должен будет родиться близ Финляндии в Петербурге, где эта комбинация кровей возможна; если же немцем, то где-нибудь вблизи Венгрии, где родился Никиш и Лист[201]. От польского же пустоцвета ждать нечего. Кельтическое менее важно, так как оно наименее серьезный элемент; для некоторого плутовства, фокусничества оно, пожалуй, в микроскопической дозе и может войти; нечто сар-пеладановское[202] в этом «Кто-то», пожалуй, даже и не помешало бы. Я разболелся об этом потому, что вспомнил Вашего «Кто-то» на севере Франции. – Надеюсь, что Вы пережили период форсированной ненависти (или любви) к отделившемуся продукту своей мысли, и взираете теперь на симфонию спокойными глазами. Конечно, эта форма не имеет будущности, но важно, что литература начинает сознательно учить ее[203] у музыки и подражает ей, тогда как раньше было обратное отношение: вспомните т<ак> н<азываемые> симфонические поэмы да и вообще программную музыку, не имеющую будущности, несмотря на гигантские усилия Листа. В симфонии есть места, музыкальные не в смысле формы, а по существу: это какое-то непосредственное прикосновение (вневременное и внепространственное) к Ansich’у[204], доступное только музыке… Раньше, до развития и распространения бетховенской и послебетховенской музыки, такое прикосновение было достигаемо в искусстве слова лишь величайшими гениями вроде Гёте; теперь, благодаря музыкальной атмосфере, это прикосновение замечается чаще и притом у талантов такого размера, как, напр<имер>, Фет… Что же касается «симфонии», как симфонии, то тут я могу только указать Вам на недостаточное контрастирование частей между собой[205]. Нормальный ход таков: от сложного смешанного и разнообразного первой части композиция впадает сначала в один, потом в другой из противоположных элементов (чаще сначала в andante или adagio, а потом уже в scherzo), и наконец в последней четвертой части приходит к решительному выводу. У [Вас же], кроме недостаточного контраста, – некоторая перестановка частей: вторую хочется сделать первой, а первую (andante – музыкальная скука) второй. Третья – на лоне природы scherzo, четвертая великолепно напоминает то же вечно милое и грустно задумчивой первой (у [Вас] второй) и новое собрание умственного цветника и, несмотря на его немощь, приходит к выводу, что еще не все потеряно… еще много святых радостей осталось для людей…[206] Это очень очень хорошо; прекрасно, искренно, глубоко, сильно и нежно в одно время… Мне бы хотелось, чтобы Вы, если Вам это не очень неприятно, обратили мое внимание на те места вещи, которые Вы считаете сами недостаточно ясными, за которые Вы боитесь. Меня лично смущает пурпуровое таинство, певец лжи, прозябающий в темнице, Антихрист и Разящий на стр. 157–158; мститель на стр. 195…[207] До свиданья! Пишите, если вздумаете.
Э. Метнер.
Брестской жел. дор. полустанок Немчиновка, Э. К. Метнеру.
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 1.
2. Белый – Метнеру
Серебряный Колодезь 7-го августа 1902 года.
Я был приятно удивлен, получив Ваше симпатичное письмо. Спешу ответить. Простите, что отвечаю не сейчас же. Мы, находясь от города за 33 версты, не часто посылаем туда[208]. Ваше письмо получил только 6-го. Не знаю, когда пойдет мое письмо.
Как печально, что Вы уезжаете из Москвы! Впрочем, надеюсь, наше знакомство укрепится. Вы позволите мне писать Вам в Н<ижний> Новгород? не так ли? Если я замечу, что Мартиникская катастрофа[209], преследования Комба[210] и дурная погода суть следствия одной причины, это будет фраза – но фраза, имеющая микроскопическую дозу вероятия… Чья-то проделка, переходящая то в шутку (болезнь англ<ийского> короля[211], Комб, погода, падение Св. Марка[212] и т. д.), то в жестокость (Мартиника с уцелевшим негодяем)[213]. Однако будущее, как мне кажется, слегка очищается: виннозолотые закаты, опьяняющие дионисианством и столь характерные для весны и начала лета, заменяются какой-то следующей стадией… Леопард уходит… Одно время его заменила «рысь» (российская акклиматизация леопарда Индии), но не надолго. Оригинальность этого явления (явления рысьих свойств) взывает к нашей осмотрительности. Посмотрим, не замигают ли в наших словах, или в печали зарницы злых, рысиных огонечков… Посмотрим… И тем не менее два раза в небе произошло нечто неизъяснимо-отрадное, выразившееся в своем «внешнем», как синтез несовместимых (или редко совместимых) закатов: синтез розового, религиозного, мистического, женственного заката, символизирующего св. Церковь, Душу Мира, Софию, Lumen Coeli Sancta Rosa[214] (Мережковский) с золотым, ницшеанским, человекобожеским, самоутверждающим закатом. По Соловьеву Логос, воплощаясь в Душу Мира, тем самым нисходит в мир; если же человек проник в Душу Мира, скажу я, и пошел дальше в своем созерцании, то с Кем он неизбежно встречается?.. Привожу выписку из Чтения о Богочеловечестве: «Если осенение человеческой Матери действующей силой Божества произвело вочеловечение Божества, то оплодотворение бож<ественной> Матери, Церкви (по-другому Души Мира) действующей силой человеческой произведет свободное обожествление человечества»…[215] «Ныне мы дети Божии, но неизвестно, что будем» (Иоанн)…[216] «Ich schlief, ich schlief – aus tiefem Traüme bin ich erwacht: – die Welt ist tief» (Nietzsche)[217] не есть ли неизъяснимый синтез двух наиболее типичных и противоположных закатов символ, обращающий на себя внимание… Что же касается исторического воплощения «Кого-то», рождения «его» в Польше, то я почти год тому назад уже в достаточной степени оценил это явление. Лицо, сообщившее в моем присутствии об этом, обитает в Н<ижнем> Новгороде[218], куда Вы едете и где, по-видимому, существует нечто вроде очага «бесовщины»…
Вы прочли летопись Серафимо-Дивеевского монастыря, а также исследование Мережковского. Не найти большей противоположности! Меня очень интересует Ваше отношение к упомянутым книгам. Надеюсь, мы с Вами еще не раз сериозно побеседуем об исследовании Мережковского.
Вы очень верное указали на музыкальную безалаберность «Симфонии». Ее недостатки я всегда сознавал более чем кто-либо. Эта безалаберность вытекает из недостаточной музыкальной стройности, отсутствия «общности» частей (не уничтожающей противоположность). Мысль о «симфонии» как таковой мне пришла в голову лишь со второй части, которая таким образом и является по-настоящему первой. Первая же – придаток, имеющий с «симфонией собственно» весьма малую и чисто внешнюю связь. Правда, в 4-ой части есть попытки провести аналогию с первой, но эти попытки не искупают всей неуместности первой части. Что же касается мест, смущающих Вас, – охотно даю к ним те разъяснения, какие мне кажутся наиболее подходящими.
Ваше недоумение относительно «пурпурового таинства» постараюсь рассеять: я не нахожу здесь страшного, а разве что – неясное; неясность «симфонии», «жаргонность» ее – вот второй колоссальный недостаток ее, вытекающий из того обстоятельства, что «симфония» отнюдь не предназначалась для печати, а в момент держания корректуры я не мог ее исправить, будучи мыслью отвлечен совсем в сторону. В вышеупомянутом выражении, мне кажется, я хотел подчеркнуть эстетическую, а отчасти и мистическую разницу между настроением красного цвета и пурпурового[219]; красный – цвет мученичества, 1-го Христова Пришествия, Голгофы, цвет феноменальный, возникающий не сам по себе, а из отношения белого источника света к серой пыли, дымке (солнце сквозь дымку); серый цвет – воплощение абсолютного бытия (белого) в абс<олютное> небытие (черное) или, вернее, обратно: в бытие небытия (см. о значении серого цвета, как компромисса, как «черта с насморком» у Мережковского[220])… Пурпурный цвет – нуменален; он возникает из смешения красного с фиолетовым и превращает незамкнутую линию спектра
Между пурпурным (т. е. цветом, соединяющим линии спектра) и белым (т. е. соединяющим цвета спектра) отношение сочинения, а между красным и белым – подчинения, но оба цвета, т. е. и белый, и пурпурный – нуменальны, потусветны, один цвет – покинутого рая, а другой – грядущего Царствия Божия… Оба цвета намекают на связь между небом и землею, а между ними «7» цветов спектра (цветов феноменальных), полнота переживания которых как бы вновь приближает нас к небу. «Полновременный день», «День великого полудня» (по Ницше)[221], «Исполнилась полнота времен» (Павел к Гал<атам>)[222] – как все это похоже! Что же влечет за собою все это? Жажду белизны, нового слова, написанного на белом камне, слова, которого никто не знает кроме того, кто получает[223] (7 цветов, 7 церквей, 7 печатей, 7 светильников, 7 рек, текущих из рая, 7 граней, 7 ангелов и т. д.). Можно думать, что до грехопадения спектр был замкнут и состоял из 8 цветов (8-ой – пурпурный), из которых в пурпурном была вся сила, т. е. близость человека к Богу Отцу; но грехопадение совершилось, соединяющий цвет (пурпурный) пропал и линия спектра разомкнулась. Пропавший пурпурный цвет (Яхве, Бога Израиля) заменился обетованием о грядущем [Мессии] белом цвете, который отныне станет цветом соединяющим, закрыв собою цвет Бога Отца (пурпурный) «Я и Отец – одно»…[224] «Принимающий меня принимает и Отца»…[225] Если с 1-ым пришествием стала доступна белизна, то обеление всего человечества станет возможным лишь во 2-ом пришествии. «Обелили одежды кровию Агнца» (Откр.)[226]. «Побеждающий облечется в белые одежды»[227]. Но Христос 1-го пришествия должен был воплотиться в компромисс, т. е. белизна Его, созерцаемая сквозь серую пыль, казалась красной, отсюда первое пришествие Христа – в красном, а второе в белом, т. е. тогда серая пыль, застилающая наши очи, – пропадет. Центр «красного» перемещается, судя по тому, обращаем ли мы внимание на источник света, или на пыль, его застилающую; отсюда два оттенка красного: 1) «Обелили одежды кровию Агнца», Христос 1-го пришествия, 2) «А вдали, догорая, дымилось злое пламя земного огня» (Соловьев)[228], «Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю» (Исайя)[229]. И так, злое красное: не потому ли Богомилы считают денницу братом Христа?[230]
Отсюда ясно, какая громадная разница между пурпурным, с одной стороны, и обеими красными, с другой. Желание с нашей стороны постигать тайны мира, минуя белое (Христа), пурпурным – губительно, ибо для нас пурпурное дано в белом («Я и Отец – одно»); а углубляясь в пурпурное, мы как бы отвергаем белое и уже в силу того отвергаем и пурпурное, заменяя его просто красным и, конечно, не кровию Христовой, а багряными грехами («Если грехи ваши, как багряное»). Таинственная, пурпурная зоря не должна отражать феноменальности красного. Вот объяснения полусознательного употребления мною выражения «пурпуровое таинство» (тайна)…[231]
«Мститель» в своем окончательном виде, без личины – ожидаемый некоторыми Антихрист (не мог же им оказаться в то время младенец на с<евере> Франции, хотя там и очень подозрительно)[232]. В более общем же виде, т. е. в образе двух: худого кривляки, смахивающего в некоторых чертах на М. Горького, и толстяка, выкрикивающего «ужасики» о дыре (Дыромоляйстве, сиречь толстовстве), о принесении в жертву себя муравьям (т. е. самопожертвовании для самопожертвования) и об успехах хирургии[233].
Для меня наиболее неясным и страшным является сцена выводов Мусатова с протянутой у горизонта шкурой леопарда… «Возвращается, опять возвращается»[234] – я сам не понимаю, что это: намек ли на вечное возвращение или на возвращение во второй раз (2-ое Пришествие). Неясность эта неприятно пугает меня, хотя, мне кажется, – эта сцена наиболее удачная из всей «симфонии».
Что же касается до несуразности (почти безобразности) в расположении частей друг относительно друга и нелепом нагромождении отрывков, то из 4-х симфоний, написанных мною[235], эта симфония – наименее удачна. Повторяю: колоссальный недостаток ее – «жаргонность» и заносчивый тон: – «Хлестаков, хлыщ в плаще Гамлета, циник, понявший свое ничтожество, сумасшедший, к сожалению не приложивший своего адреса, и пасквилянт» – так меня называют в «Н<овом> Времени»[236], и кой-что в этом отзыве, к сожалению, истинно.
«Симфонии» не имеют будущности, как таковые; но как промежуточная стадия на пути к образованию какой-то безусловно важной формы – они значительны. Это – начало конца поэзии в собственном смысле. Андриевский, Мережковский и нек<оторые> другие прекрасно ощущают, что в области поэзии уже давно творится неладное[237]. Литературу Мережковский низводит в жизнь, а я – в музыку. Может быть, истинно и то, и другое, а может быть, ни то, ни другое, а нечто, чего мы, сыны XIX столетия, уж не видим… Некоторая противоположность в стремлении с одной стороны уничтожит поэзию во имя жизни, а с другой – во имя музыки (музыка, так сказать, жизненный эквивалент потусветности) знаменательна: здесь опять-таки одно из бесконечных проявлений все возрастающей полярности; ее окончательный смысл – тайна. Всякое забегание вперед как церковников (с их Антихристом) и теософов, так и теургов à la Мережковский с их речами о заединяющем религиозном делании значительны только как первые попытки «нового мышления», а не сами по себе. Значение их еще то, что центр тяжести в объяснении окружающей действительности перенесен из прошлого в будущее, что произведет грандиозный переворот в характере созерцаний, едва ли сознаваемый нами во всей полноте. Подавляющий рост музыки XIX столетия не предтеча ли такого поворота? (В музыке, по Спенсеру, зерна будущих эмоций и мыслей.) «Симфонизируясь», жизнь не устремляется ли в будущее? Или здесь мы имеем дело с острием, на котором, по выражению Мережковского, колеблется Европа?
Но кто «знает»?.. Мы ощущаем «нечто»… Каково-то оно покажется в лучах будущего?.. Я успокоен… Даже радостно успокоен… И это – не легкомыслие, а единственно возможное условие существования (так сказать, вторичное спокойствие, успокоение, сознательное возвращение к легкомыслию после тернистого блуждания по опасным завиткам мысли и созерцания).
Человечество пережило все стадии протестантствующей, а также и протестующей мысли вплоть до красиво-соблазнительного своим дикарством анархизма. Описав круг в своих переживаниях, мысль снова обратилась к религиозной истине. Но религиозная Истина, будучи неизменна по существу, изменчива для нас, благодаря неодинаковому состоянию нашей психики. Реакция Христианства на время дает разные результаты, и с этими результатами следует считаться. «Многое сказал бы вам, но вы не поймете. И вот пошлю к вам Утешителя, Духа Истины, который и наставит вас»…[238] В этом смысле религиозная Истина подвержена эволюции. Обратившись к религии после отрицания, мы усложнили способы касания этой истины. Схематизирую свою мысль:
«А С» – направление эволюции религиозной Истины.
«В» – точка, в которой находится религиозная Истина в момент нашего возвращения.
Выйдя из «А» и описав окружность «A D E F G H I», человечество снова подошло к «А» – но с другой стороны; сама же Истина тем временем переместилась в «В» и так вот уже перед нами трилемма: 1) или считать Истину за «А», или 2) за В… Но если считать Истину за «А», то мы можем двояко рассматривать ее: непосредственно как «А» или же 3) сквозь туман прожитого (I H G F E D A). Отсюда возникает троякое отношение к религиозной Истине, троякий путь. (1) Путь «I H G F E D A B» – путь теософский, где метод согласования пройденного с религией выступает на первый план; отсюда важная роль «ума», отсюда умственность, схематичность теософов. (2) Путь «I A B» – путь христиан церковников, где простор чувству и наоборот скованность воли и ума, (3) и наконец путь I B неохристиан, теургический, минующий религиозную Истину в прежней ее исторической формулировке (в той формулировке, которую она имела в момент удаления от нее) и берущий ее в окончательной или современной формуле. Отсюда резкое различие церковников и теургов и невозможность согласия между ними в данный момент, хотя пути их в конце концов сходятся (быть может), но у самих церковников нет того же отношения к религии, как и у первых христиан (т. е. отношения к «А» из «А» же)… Да кроме того Истина переместилась уже в «В» и «А» является ее периферическим, а не внутренним толкованием. Церковники, претендуя на одинаковость своего созерцания с созерцанием христиан первых веков, забывают, что отношения между людьми и обоими Пришествиями изменились, а такая перемена положений не может не оказать глубокого влияния на характер созерцания. (Если сперва было так
Следовательно, безусловное значение церковности и только в деле нашего приобщения Истине – не вполне основательная монополия, а сопровождаемая насилием над духом и угрозами, она теряет часто даже и то, что принадлежит ей по праву. Из неодинаковости трех путей (быть может, истинных) вытекает разногласие, которое мы всюду встречаем, когда церковник чурается теософа и теурга, а эти последние презирают церковника, не соглашаясь в свою очередь друг с другом. Между тем, если каждый путь имеет свою долю истины, то не являются ли необходимыми эти три теперь уже начавшие определяться русла христианства? не все ли равно, как прочесть треугольник : (аbс или bac или cba) – этот вечный треугольник – равноугольный и равносторонний (Отец, Сын, Дух – Воля, Ум, Чувство –).
Вот почему я свободно отношусь ко всем трем направлениям: будущее укажет, какое из них наиболее истинное и что в нем истинно. Не следует забывать, что все мы младенцы в деле религии… Не лучше ли нам воздержаться от причисления непонятного и нового к лику Демона? а то как раз попадешься впросак («Взявший меч от меча погибнет»…[239] «Не судите, да не судимы будете…»[240]) Я не хочу этим сказать, что теософы или теурги стоят на более верном пути, я сам склоняюсь к церковности и знаю, что, минуя «А», теург рискует промахнуться и попасть в «Х» или «Y», но всякий путь вырабатывает и методы проверки, и с осторожностью можно сравнительно безопасно для себя плавать по «иноземным морям и открывать Африки».
Я предоставляю желающему замыкаться – замкнуться и расставить вокруг себя ширму собственной усталости, но протестую против навязывания и другим этой усталости; к сожалению, церковники питают нас не церковностью в глубоком, утверждающем смысле, а суррогатом ее – неврастенией…
«Ныне мы дети Божии, но неизвестно, что будем» (Иоанн)[241]. Что ближе к этим радостным словам Евангелиста: ницшевское ли «Die Welt ist tief», или приводимое ниже стихотворение с. – петербургского молодого поэта А. Блока (нигде еще не напечатавшего своих замечательных стихов), в котором гениально выражено настроение этой ложной церковности?
Однако заканчиваю длинное до возмутительности письмо. В Москве я буду 18, 19-го или 20-го августа и вряд ли успею воспользоваться Вашим любезным приглашением, хотя буду у Вас в Москве в конце августа (если позволите). Быть может Вы напишете мне сюда до 17-го или в Москву после 17-го… Льщу себя надеждой услышать игру Вашего брата, от которой я многое ожидаю. Пока же до свиданья. Еще раз спасибо за письмо. Остаюсь готовый к услугам
Б. Бугаев.
P. S. Пользуюсь оставшимся местом для переписки стихотворений А. Блока – самого талантливого поэта «из молодых» (это мое убеждение)[242]. ‹…›
Не правда ли, какое проникновение куда-то скрывается под этой слегка корявой, неповоротливой формой? И до чего современны, до чего страшны такие стихи?
Б. Бугаев.РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 1. Помета красным карандашом: «I». Фрагмент опубликован: ЛН. Т. 92. Кн. 3. С. 184.Ответ на п. 1.
3. Метнер – Белому
Жду Вас во вторник 3-го сентября к 7 ч. веч<ера> (Чернышевский переулок, дом Духовского).
Э. Метнер.РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 2.
4. Метнер – Белому
Жду в воскресенье и<ли> в понедельник[244]. Советую 27-го быть в симфоническом концерте Горелова из-за симф<онии> и Полета Валькирий[245].
Э. МетнерРГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 3.Открытка. Датируется по почтовому штемпелю: Москва. 24. IX. 1902. Отправлено по адресу: «Угол Арбата и Денежного пер., д. Обухова».
5. Метнер – Белому
Жду Вас завтра в субботу 5-го октября к 7 ч. вечера, – непременно!
Э. Метнер.РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 4.Открытка. Датируется по почтовому штемпелю: Москва. 4 Х. 1902. Отправлено по адресу: «Угол Арбата и Денежного пер., д. Обухова».
6. Метнер – Белому
Уезжаю в начале той недели[246]. Жду в субботу, 19-го, в 6 ч. вечера.
Э. Метнер.РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 5.Открытка. Датируется по почтовому штемпелю: Москва. 18. Х. 1902. Отправлено по адресу: «Угол Арбата и Денежного пер., д. Обухова».
7. Метнер – Белому
Н. Новгород 15 ноября 1902 г.
Да будет это письмо мое исключительно деловым, т<ак> к<ак> если до приезда Анюты[247] я был занят по горло визитами, приемом, поисками квартиры и вступлением в исполнение обязанности[248], все время не переставая страдать удушьем, то теперь с приездом Анюты я занят с нею устройством нашего гнезда. Адрес мой: Угол Телячьей (?) улицы и Вознесенского (!?) переулка, дом Абрамова… Сообщите его Алексею Сергеевичу[249] и скажите ему, что я вскоре напишу ему.
Получил письмо от Духовецкого[250]. Он пристает ко мне, чтобы я дал ему фельетон. Мне сейчас некогда. Я уже говорил Вам, что Приднепровский Край охотно напечатает все, что я ему рекомендую. Пишите скорее критическую статью о чем угодно: о Лествице, Моне Ванне, Пане[251], о московских и иных декадентах. Пишите, как можно оригинальнее, и отправляйте в Екатеринослав, „Приднепровский Край“ Редактору Ф. А. Духовецкому. Я его уведомлю о Вашем нашествии. Можете свою статью не сопровождать никаким письмом, если последнее Вас затрудняет… Lucidum intervallum[252] в мрачных первых трех неделях пребывания[253] моего в резиденции «Великого Хама Земли Русской» (так Дмитрий Сергеевич, кажется, называет Горького)[254] были три дня, проведенные мною с Гелиосом музыки, Гофманом, с которым я не виделся 4 года; он дал здесь два концерта, но нижегородская мразь оценить его не могла: для нее он… холоден[255]; его холод такой температуры, когда он производит то же действие, что и огонь[256]: жжет; но только не смердяковские сердца, ибо они хотят тепленького. Я рад был его видеть (не только слышать); он тоже видимо был приятно поражен сюрпризом встретить меня в Нижнем. Мы много с ним говорили; он просил меня устроить сближение между ним и Колей, которого он слышал только один раз, на ученическом концерте (причем Коля играл самую трудную вещь новой фортепианной литературы, Исламея Балакирева); Гофман говорил мне, что он сколько ни бился, не мог ее сыграть так, как Коля, и поэтому бросил ее…[257] Мне просто не верится в его искренность… Гофман (слышали ли Вы его?) – это безусловно первый пианист в настоящее время; даже далеко первый… По характеру это Моцарт, Пушкин; Аполлон в искусстве, он мечтает быть Дионисом; по этому поводу он очень грубо и глупо сострил: аполлониевское он производит от а и pollution[258], говоря, что такое искусство не может вызвать сильных эмоций; дионисианство же слишком распущенно, распутно, недостаточно ритмично или же слишком ритмично, грубо ритмично… Непременно ступайте на все концерты Гофмана; это огромная школа для развития истинно непорочного музыкального вкуса. [Как только получите письмо от Мережковского] Сообщите мне о различии текста журнала и отдельного издания[259]. Вышлите также наложенным <платежом> журнал Новый Путь[260]. Пишите, мой милый друг! Кланяйтесь родителям.
Ваш Э. Метнер.РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 6.
8. Белый – Метнеру
Москва. 17 ноября 1902 года.
Многоуважаемый и горячолюбимый Эмилий Карлович,
Сию минуту получил Ваше письмо. Немедленно отвечаю.
Очень благодарен за «Приднепровский Край». На днях постараюсь написать статью по поводу книжки Файгингера о Ницше с чисто внешней стороны[261], т. е. с точки зрения законности его появления после Шопенгауэра (Ницше в связи с современным неоидеализмом). Быть может, это будет чуть чуть деловито, даже суховато, но следует «пристреляться» к фельетону[262]. О «Лествице» не могу: надо бранить, а бранить неловко[263]. Что касается до Мережковского, то, несмотря на мое письмо, в котором я спрашиваю о характере изменений в его книге и кой о чем другом, – они прелегкомысленно ответили мне совсем о другом[264]. Поэтому я, не ожидая их ответа об этом, сам проверил текст книги с текстом журнала и нашел, что изменений очень мало – почти нет: в иных местах лишь несущественные перестановки (кроме того: заключение 2-ой книги сделано вступлением). Я не советовал бы Вам покупать книги: не стоит. Как только выйдет «Новый Путь» – я Вам его вышлю, а он выйдет, вероятно, в конце ноября, в начале декабря[265]. Обещает быть интересным: со статьями Розанова «Жизнь и религия», Перцова «О новых путях», Мережковского[266] и др.; а главное, с отчетами религиозно-философского общества[267] (в последнем заседании р<елигиозно->ф<илософского> общества в СП<б> Зинаида Николаевна предложила архиереям и др<угим> по древнему обычаю омыть ноги…).
Посетил недавно Николая Карловича: наслаждался его игрой; он был настолько любезен, что играл для нас с Алексеем Сергеевичем[268]. Я совершенно влюблен в его музыку, так что даже хвалить… совестно (хвалить – это «тепло»…). 1-ая пьеса 2-го альбома[269] произвела на меня неизгладимое впечатление, совсем не такое же, как и соната[270]. Здесь – высший покой, высший и желанный, желанная, вопрошающая тишина, после того, как всё совершилось – ничего уже нет, кроме вечных водопадов, водопадов Вечности (…Пропел петух – пахнуло старинным…)… И «чаяния, слишком чаяния» смягчены, неназойливы…
Бывают минуты (для меня наступили они) когда многие «виʹдения» перестают удовлетворять, заподозриваешь и «виʹдения»: хочется раз навсегда пристально вглядеться, чтобы окончательно и безвозвратно (чтобы уже не вернуться обратно) «увидеть»… Сама переоценка ценностей является в такие минуты лишь произвольной переклейкой ярлычков, а «виʹдения», «чаяния», сопряженные с ограничением (цветом), смахивают на галлюцинации или на близорукие «виʹдения» – на паутину, сплетенную над бездной; здесь тоже могут смущать бездны, но бездны нарисованные, плоскостные, плоские, – лабиринты, но лабиринты зеркальные. Три измерения – измерения длины, широты и глубины – произвольно выбранные. Можно обратно: измерение ширины (плоскостное) углубить, сравняв (или приняв) глубину за плоскость…
И вот пахнуло – вся эта паутина колышется, рвется… тысячи разорванных лоскутков (а «все это» казалось когда-то глубиною) уносит ветер – этот ревущий водопад глубины, водопад Тихой Вечности, Усмиренной… (пропел петух – пахнуло смертным). До-временное и после-временное – «одно, навек одно» (В. Соловьев)[271]. Надо стать во времени за временем, пристально вглядеться, чтобы навсегда увидеть.
Всем этим задела меня 1-ая пьеса 2-го альбома Вашего брата, которого я полюбил не только как музыканта, но и как человека. Третья часть сонаты (мажорная) поразительна: 2-ая тема получает[272] такую гибкость (она, очищенная, не боится разнообразия путей), что при всей глубине своей становится всеобщей: музыкальное пространство 3-ей части буквально напитано ей, а от первой темы остаются лишь обрывки (здесь ее роль кончена). Как только выйдет альбом Николая Карловича, я постараюсь написать о нем что-нибудь (разумеется, не с абсолютно музыкальной точки зрения, ибо здесь я – профан) в «Мире Искусства»[273]: я познакомился с Дягилевым и с Александром Бенуа на только что открывшейся выставке «Мира Искусства»[274], так что теперь мне отнюдь не неловко послать что-нибудь для этого журнала.
Кстати: колоссальная выставка!.. Впервые я увидел Врубеля полно представленного («Сирень», «Фауст», «Демон» и др.[275]). Это в буквальном смысле гигант; впечатление от его картин – подавляющее; вначале он даже неприятен, потому что слишком «крупен» (и в буквальном, и в переносном смысле слова). Когда я вошел в зал, где помещались его картины, мне казалось – меня забросали обломками. А. Бенуа мне говорил, что теперь, по его мнению, выше Врубеля нет никого и он жалеет, что в своей истории русской живописи[276] он отвел Врубелю слишком скромное место.
Приму в соображение все, что Вы говорите о Гофмане: я уже слышал его и еще услышу во вторник[277]. Он произвел на меня, конечно, огромное, чистое, сильное впечатление (особенно своим исполнением Бетховена (4-ый концерт))[278].
Но пока довольно… Тороплюсь.
Простите за это слишком внешнее и пестрое письмо: надеюсь, в скором времени напишу обстоятельней.
Благодарю Вас за память. Льщу себя надеждой, что как-нибудь Вы вспомните обо мне и напишете. Буду ждать письма. Да хранит Вас Господь!..
Борис Бугаев.
P. S. Мой нижайший поклон и уважение Анне Михайловне[279].
P. P. S. Позволяю себе послать Вам несколько своих стихотворений; не узнаете ли Вы их?..
(Немецки-подмигивающее)
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 2. Помета красным карандашом: «II».
Ответ на п. 7.
В архиве Белого сохранился черновик начальной части этого письма. Приводим его текст (РГБ. Ф. 25. Карт. 30. Ед. хр. 10):
Многоуважаемый и горячо любимый Эмилий Карлович,
Сию минуту получил Ваше письмо. Оно меня несказанно обрадовало. Я уж хотел Вам писать, осведомившись о Вашем адресе у Алексея Сергеевича. Еще раз спасибо Вам. Немедленно отвечаю. Очень благодарен за «Приднепровский Край». На днях постараюсь написать статью по поводу книжки Файгингера о Ницше с чисто внешней стороны, т. е. с точки зрения законности его появления после Шопенгауэра (Ницше в связи с современным неоидеализмом). Быть может, это будет чуть-чуть деловито, даже суховато, но… надо ведь пристреляться к фельетону. Что касается до Мережковского, то, несмотря на мое письмо, в котором я спрашивал у Дмитрия Сергеевича о характере изменений в его книге и кое о чем другом, – они прелегкомысленно ответили мне совсем о другом. Поэтому я сам сверил текст книги с текстом из журнала и нашел, что изменений очень мало – почти нет: в иных местах лишь несущественные перестановки; я посоветовал бы Вам не покупать книги: не стоит… Как только выйдет «Новый Путь» – я Вам вышлю его, а он выйдет, вероятно, в конце ноября, в начале декабря. Обещает быть интересным: со статьями Розанова «Жизнь и религия», Перцова «О новых путях», Мережковского «Судьба Гоголя» и т. д. и главное с отчетами религиозно-философского общества. «О Лествице» не могу: надо бранить, а бранить неловко… Недавно посетил Николая Карловича: много наслаждался игрою, он был настолько любезен, что играл для нас с Алексеем Сергеевичем. Я совершенно влюблен в его музыку, так что даже хвалить… совестно (что тут хвалить?)… 1-ая пьеса 2-го альбома произвела на меня неизгладимое впечатление, едва ли не такое же, как и соната. Высший покой, высшая тишина, где уже ничего нет, кроме… водопадов Вечности (пропел петух – пахнуло старинным) и чаяния… слишком чаяния смягчены, не назойливы… Бывают минуты (а со мной теперь происходит нечто подобное) <На этом текст обрывается.>
9. Белый – Метнеру
Москва. 1902 года ноября 23.
пишу Вам на этот раз сухо, деловито. Статью о Ницше я написал, но переписывать нет времени[283]. Один хороший знакомый сказал, что слишком сериозно, «в» умно. Есть у меня старая статья: «Интеллигенция и Церковь». Ее хочу я послать: мне важно к Рождеству, чтобы было напечатано. Статья внешняя, не «оттуда», но и не сухая. Быть может, годится. Но я не решаюсь послать ее сам: а вдруг это совсем не то… Посылаю ее Вам: Вы решите. Если она годится, я очень прошу Вас, – пошлите… Если же нет, зашвырните: не присылайте обратно, не нужна она мне[284].
Далее: псевдоним А. Белый не годится. Пусть будет Старый… Или все равно… Во-вторых (и это между нами, конечно) я собираюсь до Рождества послать еще статью… хлеба ради. Мне ужасно важно, чтобы в случае напечатания мне заплатили (все равно сколько). Поэтому сообщаю свой адрес: Москва. Арбат, д<ом> Богдановой. Кв. № 11. Борису Николаевичу Бугаеву. В-третьих (это тоже между нами): Самый удобный адрес мой следующий: Импер<аторский> Моск<овский> Университет в химическую лабораторию, швейцару лаборатории с передачей Б. Н. Б.
Простите за сухость тона. Скоро напишу Вам. Жду письма.
Остаюсь глубокопреданный Борис Бугаев.
P. S. Мое уважение Анне Михайловне[285].
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 3. Помета красным карандашом: «III».
10. Белый – Метнеру
Москва. 1902 года. Ноября 30.
Пользуюсь свободным временем, чтобы побеседовать с Вами. Мне приятно Вам писать о том, на что я лишь косвенно намекал Вам – подавал знак (не знаю, поняли <ли> Вы его). Буду говорить, как будто я вижу Вас лицом к лицу; как будто нет пространства. Мой внутренний путь каким-то странным образом слагается в сторону теософии; определю ближе теософию эту, не как теософию вообще, а как теософию волюнтаризма, отличную и от теософии в сторону теургии, и от теургии в сторону теософии. Это как бы равнодействующая между теософией и теургией – все тот же узел между символическим и «воплощенным», перемещающийся в сторону символического с объективацией этого «воплощенного» (теургического) на степень идеи. Ясно ли?..
Всевозможные «чаяния», возлагаемые мною на современность, начинают принимать все более и более идеальный характер: объективируются во мне самом, выделяются в особое я – обитающее «там», «по ту сторону всякого конца» – в старом… (Посмотришь в окно – всё домишки да мужичишки… Вот идет полковник; у него блистает эполета… «И всё»… «И – старое»… Как близко это открывающееся зрению, это – «там»… Близко и мягко: точно на пуховых подушках.) Чего желать и к чему стремиться, когда в душе исполнилось «все», разыгралось все до конца, о-кон-ча-тель-но: растворились царские двери, пропустили меня куда-то и бесповоротно захлопнулись, совершилось отделение моего «самого главного», «духовного» от душевно-телесного, которое навсегда здесь…
И вот когда все цвета спектра после «7» слились в белый луч сверкнувшего солнца, начинается область, по отношению к которой сама белизна – кожа; «это» состояние я символически называю о «8» -м. И невольно повторяешь за Давидом слова 8-го псалма: «Не много Ты умалил его (человека) пред ангелами…»[286] Вот тут-то я начинаю постигать грандиозную истину, заключающуюся в теософской схеме о разнице в нашем существе между личным (конечным, феноменальным) и индивидуальным (вечным, неразрушимо проходящим сквозь все перевоплощения). Сознав это духовным опытом, не остается ничего иного, кроме опытных стараний поставить личность под непосредственный контроль индивидуальности: Слить то, что лежит за «7» -ю цветами, с тем, что лежит до этих цветов – слить суровую бесцветность вечного небытия с мягкой бесцветностью от избытка, так чтобы хаос ультра-<кра>сного (черного) наполнился ультра-фиолетовым (черным же, но по-иному). Тогда не останется никаких нетерпеливых ожиданий, или, верней, всё, оставшись, мягко притаится у сердца – и вот заглянешь в окно: «Всё домишки, всё мужичишки; вот идет господин и кланяется с проходящим полковником: у полковника блестит эполета, а у прохожего – сверкнувшая лысина… „И всё“… И старинное, мягкое, теплое, и „Я и Отец – одно“…»[287]
Путь к этому длинный… 1) Надо сперва «вообще» «увидеть» (общебанальные «ви́дения» дыр и провалов или популярно-доступное преддверие к нашему пути у Метерлинка в его «тишине» и т. д.).
2) «Увидев», ужасаешься (признак, что начинаешь приближаться к первой цветности спектра, к огненно-кроваво-красному: это «око» сквозит сквозь мрак пессимизма: сюда апокалиптическая мертвенность, дымка, подозрительные мещане (Достоевский).
3) Мучительно-бредовое горение багряницы страданий (бунт Карамазова, «вверх пятами»[288], о «моральных проблемах», некоторые стороны Ницше в «Заратустре» и «Веселой науке»…[289] «Бог есть огнь поедающий»…[290] «Мысль о конце», «о всеобщем пожаре»).
4) Розовые стадии. Церковь, как Небесная Невеста, София, Душа Мира, влюбленность в конец… Уже белые просветы, Благовещение – благая весть о том, что гибельный рубеж внутренних созерцаний и срывов пройден.
5) Сумеречная область, где розовое переходит в белое… Тихое успокоение… Счастливое ожидание.
6) Белый момент «как снежное серебро», но оно тает сейчас же и, тая, сквозит голубым.
7) Еще более краткий момент голубого, не просто голубого, а углубленного белым – остатки талого снега, но они тают и –
8) Старинно[-бесцветное], возвращение к 1-ой стадии бесцветности, возвращение, вносящее в это бесцветное всю сумму потенциально накопленного (прошлое не умирает) пережитого.
А кругом этой лестницы из 8 ступеней – желтошафранные волны болотных испарений[291]; когда оступаешься на ступенях, попадаешь в эту трясину ужаса, так что существует единственный путь по этой лестнице, а то – заблудишься.
И раньше бывают ощущения невидимой близости, но встреча с Господом происходит, как я это недавно узнал от мужа Олениной-д’Альгейм[292] (глубоким каббал<истом> и теос<офом>[293]) не при «7» (белое) и даже не при восьми, а при переходе от 9 к 10, т. е. к 1 <?>.
Если числа обозначают психологические ступени переживаний, внутренние восхождения духа от себя к Богу, то «всё» нами переживаемое, и именуемое, символически обозначаемое, непонятно, условно, временно: мы должны прийти к девяти. Девять окончательно осветит нам тот путь, в который мы пустились от мира, и «всё» просветится единым окончательным светом.
Итак, пока мы понимаем друг друга условно (мы не знаем, о том ли перестукиваемся и перекрикиваемся из-за бесконечности, ибо между каждым человеком и другим – бесконечность), но да не смутимся: посохи в руки – и в путь, в путь: к «9» – ти! Да хранит Вас Господь!..
Остаюсь глубокопреданный и любящийБорис Бугаев.
P. S. Мой глубокий привет и уважение Анне Михайловне[294].
Что касается «Нового Пути», то отдельных книжек продаваться не будет: нужно записаться: посылаю Вам адрес «Нового Пути»: Контора и редакция: С. Петербург, Невский 88. Литературная Книжная Лавка.
Цена за подписку с пересылкой за год 7 рубл<ей>. Советую записаться только на ½ года (4 р.) (Дальше – сомнительно существ<ование> журнала.)
Спасибо за отсылку статьи Духовецкому[295].
P. P. S. Считаю нужным присоединить к сказанному выше два важных знания у теософов. 1) Низшие ступени астральной области окутаны клубами туманных испарений, по воззрению совр<еменных> теософов, так что нужно опытное руководство для прохождения этих ступеней. (См.: мою формулировку: «желтошафранное»). Русские, по мнению Ледбитера, Безант и др., очень подвинуты в знании и способны, но им нужно помочь в астральном (каждый человек имеет, по теософии, как бы 4 оболочки: тело физическое, астральное, мысленное и «causale», т. <e.> причинное: как только человек впервые прозревает, он видит из астрального, а низшие ступени астрального в тумане; отсюда опять-таки понятен мой личный опыт о дымке, ужасе, мертвенности «оттуда»; этот мой опыт санкционирован и теософскими эзотерическими теориями; слова Ледбитера: «России нужно помочь теперь в астральном» – получают вещий смысл, если Вы вспомните совр<еменное> положение дел и тучу, надвинувшуюся над нашей страной… Эту тучу, между прочим, видит и бар<он> д’Альгейм, заехавший налётом.
2) Путь от личного к индивидуальному, путь к различению личного от индивидуального или, по-моему: путь от 1 к 8-ми был путь к первому посвящению в мудрость у египетских жрецов в их мистериях. Включал ли этот путь выше перечисленные стадии (Душа Мира, дымка и т. д.) во всей их совокупности или нет – не знаю, но во всяком случае, придя к «восьмому», можно наверное знать, что первое посвящение совершилось.
Бессознательное знание акта посвящения в мудрость – вневременное, вненародное таинство, оставляющее в душе неизгладимую печать.
Не относится ли банально называемая «трагедия Ницше» к нежеланию отделить личное от индивидуального; Ницше индивидуально белый только лично, временно очернился… Его отрицание морали не относится ли к «этому», не прилежит ли все это к «одному»? Как Вы думаете?..
Итак до свиданья. Жду письма.
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 4. Помета красным карандашом: «IV».
11. Метнер – Белому
Н. Новгород 3 декабря 1902 года.
Получил Ваше письмо от 30 н<оября> и, хотя я в долгу у отца, Коли[296], которые тоже писали мне и до сих пор не получили ответа, я пишу Вам, дорогой мой Борис Николаевич, не с тем, чтобы скорее ответить Вам на Ваши письма, в особенности на последнее, в котором я еще порядком и не разобрался, а чтобы не забыть Вам передать кое-что из своих переживаний… Вы ничего не знаете о моих отношениях к Анюте[297], которую я знаю с 1895 года, а сблизился с 1898 года… Если бы Вы знали, то, конечно, удивились бы, что я за последние 1½ недели 3 раза испытывал в промежутках между закатами (фиолетово[298] -красными) и восходом полной луны настроение необычайно нудное, тяжелое, давящее и явно не феноменальное (ибо 1) без удушья и 2) не было сходства с тем состоянием удрученности, которое обыкновенно предшествует удушью); Анюта, которая всегда способна, если не снять совсем, то облегчить тяжесть моего самочувствия – тут ничего не смогла сделать. Настроение это проходило само собою вдруг, и после него я не ощущал никакой слабости, никакого физического следа. Настроение это в более легкой степени я испытывал и раньше, но смешивал до сих пор его с другими, внешне похожими на него. В последний раз оно навестило меня в особенности сильно в позапрошлый вечер. Я с глухим тупым отчаянием лег в постель, взял Заратустру и по совершенно роковой случайности (?) раскрыл след<ующее> место; да! я забыл сказать, что луна (должно быть, это было полнолуние) светила нестерпимо зловеще и освещала «домишки и мужичишек», и на луну, сидя посреди улицы, выла собака; представьте мою радость (и ужас Анюты), когда я нечаянно раскрыл след<ующее> место Заратустры: «Da ploetzlich, hoerte ich einen Hund nahe heulen. ‹…› Und als ich wieder so heulen hoerte, da erbarmte es mich abermals». Часть третья, глава вторая Vom Gesicht und Raethsel[299]. – Как только прочел я это место, мне стало сразу легко, хотя и не менее страшно, и я вспомнил следующее стихотворение Гёте (аналогичное лесной тиши Беклина[300]): «Meerestille»:
…Собака перестала лаять…
Я так оглушен событиями, что все еще не в состоянии углубиться во что-нибудь намеренно и сознательно. Мое назначение, женитьба, отъезд, устройство и, наконец, встреча с Гофманом и его встреча с Колей, его отзыв о Колиной сонате, как о самом крупном произведении всей музыкальной литературы последнего времени[302], – все это я еще не переварил, не переработал и потому прошу извинить меня, что не касаюсь пока тех важных вопросов, какие затронуты Вами в Ваших письмах; не смущайтесь этим и продолжайте писать мне, как только что Вам придет в голову… Скажу только: не усугубляйте в себе того опасного любопытства, которое сквозит в Вашем последнем письме; не подталкивайте его каббалистическими баронами; пусть оно шаг за шагом приведет Вас туда, куда Вам суждено прийти; не перепрыгивайте!! Стихотворения мне очень нравятся[303]; а Анюта прямо в восторге от них и шлет Вам искренний привет. «Немецки-подмигивающее»[304] написано как будто в параллель следующей композиции брата:
Вот что я «узнал» в этом стихотворении; быть может, Вы ждали, что я еще что-то узнаю, ибо подчеркнули «Довольно, довольно», «засмеялся невольно», «несите меня, мои ноги, домой, заждались меня дома»; тогда объясните… «Утешение» – лучшее из трех; не нравится мне только рифма «людьмиʹ сер – как бисер» – слишком изысканно! Обязательно переделайте этот стих[305]. Вот и все, что я пока могу Вам написать. Пора кончать. Покажите Коле эти три нотные строчки; он сыграет Вам эту вещь… Сохраняйте, если Вам не трудно, мои письма; это необходимо для меня. Я люблю «наводить справки». Я, конечно, храню Ваши. До свиданья, дорогой мой, мой милый Борис Николаевич.
Ваш Э. Метнер.РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 7.Ответ на п. 10.
12. Белый – Метнеру
1902 года. 11 декабря. Москва.
Несказанно рад был получить Ваше письмо. С большим сожалением прочел о «нуменальной» тягости, которую Вы испытывали. Знаю ее. Знаю многое о полной луне, когда она «как глыба раскаленного металла» показывается на зловеще тяжелом, хотя и безоблачном горизонте. Знаю луну, потому что одно время слишком часто обращался к ней – за помощью; одно время (года два тому назад) я был лунатиком. Я затворял свою комнату. Я опьянялся луной. Разговаривал. Результаты были печальны. С остатками этого всего я считаюсь и теперь. Я боюсь луну, когда она полная, хотя в полнолуние испытываю прилив бодрости (и почти всегда забываю о полнолунии, когда спрашиваю себя: «Почему я весел? Ах, – полнолуние…»); когда же она на ущербе, что-то гнетет меня. Что-то недоброе связывает меня еще даже и теперь с луной, хотя я делаю вид, что не причем, а она (луна) мне подмигивает: «А помнишь старое наше знакомство? Старого не выкинешь… Мы – два заговорщика, а в чем наш заговор – не скажу…»
В последнее время заговорили о лунатизме, об астартизме; внесли все это в вопросы религиозные. Я молчу и пугаюсь… Значит, неспроста все мы кое-что знаем о луне?.. Самый главный ужас заключается иногда в том, что вдруг 2-ая тема Вашего брата[306] зазвучит для иных лунностью, лунатизмом… Это – ужас. Ужас двойника второй темы. Если 2-ая тема Вашего брата – мировая, то и двойник, прикинувшийся, тоже мировой. Если 2-ая тема – розовость, восхищает зорею, то двойник ее, прикинувшись, внезапно ужасает луною. Собаки более чутки: «den Hunde glauben an Diebe und Gespenster»…[307] О, я прекрасно понимаю Ваше настроение, как будто сам испытал его.
В довершение о луне позвольте привести один отрывок из моей 4-ой симфонии, где для меня самого выражено мое личное теперешнее отношение к луне.
«1. Деревянные кресты торчали из-за блеклых трав. Ущербная луна пронизала ночь воздушной зеленью.
2. Он склонился на ее могиле, обнимая памятник. Одежда его казалась матово-черной от луны.
3. Он тихо плакал, а над ним распахнулись бездонные объятья, наполненные зеленым трепетом.
4. Он шептал, прижавшись к кресту: „Воскресни, родная“.
5. Встал над могилой. Поднял руку, совершая пассы. Воскрешал, пронизанный лунным могуществом…
6. И вот Она стояла над своей могилой – тонкая, бледная. Глядела на него и дружески, и чуждо.
7. Но Андрей испугался, шепча: „Это не она: это – Астарта“…»[308]
Но довольно о луне…
Дорогой Эмилий Карлович, спасибо за теплое участие ко мне; Вы предупреждаете меня об опасности любопытства, подталкиваемого каббалистическими баронами. Стараюсь не перепрыгнуть. Не думаю, чтобы со мной это случалось. Я всегда жду, когда «оно» само ко мне приходит и дается легко. Вот почему при всех моих безумствах и дикостях (быть может, кажущихся) я в высшей степени уравновешен, счастлив и спокоен. Я подписываюсь под словами Ницше о любви к року…[309] Это мое самое отдаленное (с детства) «знание», самое постоянное, не раз спасавшее меня. Я сам никуда не пойду. В «нуменальном» я не хожу: меня «возят» люди добрые. Я передвигаюсь самочинно только по улицам Москвы…
Вот почему у меня есть путь, свой, определенный… В «нуменальном» невозможно пути от себя, а только от других… Иначе заблудишься, завязнешь, сойдешь с ума. Сумасшествие – нераспутанный клубок всех ступеней «знания», ералаш из всех ступеней внутренних переживаний, закопченный желто-шафранными испарениями; сумасшествие бывает почти всегда от неумения выразить свое собственное отношение к переживаниям; если есть контроль над самим собой – нет ничего страшного. Со мной бывали примеры забавные: я, как Вы знаете, самый не страшный из людей, саавсеем не страшный… А мне случалось, шутя, ужасать людей, которые из ужасов переживаний сделали себе несчастное profession dе foi[310], причем сам не покидал своей позиции «уравновешенности в нуменальном»…
Представьте себе: об отзыве Гофмана о сонате Николая Карловича я впервые узнал от Вас, хотя за это время видался с Николаем Карловичем. Вы не можете представить, до чего мне было приятно узнать подробности от Карла Петровича[311]. Да, самое интимное для меня вложено в этой сонате… И вот – она объявлена лучшим музыкальным произведением всей литературы. Об отзыве Рахманинова Вы, конечно, знаете…[312]
Я как-то лично горжусь Вашим братом…
Предвкушаю удовольствие услышать Николая Карловича в концерте 13-го: тройное удовольствие 1) игра Вашего брата, 2) аккомпанемент Никиша, 3) концерт Чайковского[313].
Вообще нас, москвичей, балуют это полугодие 1) Никиш, 2) Гофман (нечто невероятное по отчетливости выражаемых глубин), 3) Оленина. О последней я не мог удержаться, чтобы не послать заметки в «Мир Искусства», написав нечто «дичайшее», так что даже Дягилев (Брюсов передавал) ужасался, хотя и поместил (она идет в следующем №)[314].
…В заключение я позволю себе привести здесь два своих последних стихотворения: что Вы о них скажете? (Меня в последнее время интересует ужас среди голубого дня. Оба стихотворения разрабатывают, кажется, именно это одно…)
– Есть ли тут «немецки-подмигивающее» и «не гейневское»?..
Недавно вышла новая скорпионовская книжка «Драма Жизни» Кнута Гамсуна[317]. Очень советую Вам прочесть. Едва ли она не лучшее, что появлялось у нас за последние года в России, кроме «Пана», «Когда мы мертвые пробуждаемся» и «Михаила Крамера»[318]. Не знаю, быть может я вообще слишком очарован Гамсуном, – но «Драма Жизни» произвела на меня редкое впечатление[319]. Я как-то уж давно не увлекался ничем (да и можно ли чем-нибудь увлекаться в драматической литературе после Ибсена), даже мало читал (невозможно читать «маленьких великих людей», вроде Артура Шницлера, Теодора Винклера (быть может, есть и такой)[320] и Ко). И вот с недоумением пережил редкое художественное наслаждение. Очень советую приобресть «Драму Жизни»… Далее: пожалуйста, если можно, советуйте новгородцам выписывать «Новый Путь», у которого всего 102 подписчика[321]: я пока здесь стараюсь пропагандировать, где можно. От количества подписчиков будет зависеть судьба «журнала»…
Кстати о Мережковских: относительно них что-то решается или они что-то решают… В будущем Мережковскому грозит отлучение, или… или?.. Сойти на нет – не думаю, чтобы они были на это способны… Вообще церковь «начинает их узнавать»… Иногда мучительно тревожусь за них, потому что люблю их, как людей… В образе Д. С. есть «при всем» что-то, напоминающее «рыцаря печального образа»[322] и невольно располагающее, а в образе виденных мною на собрании у Л. А. Тихомирова представителей духовенства при всем моем априорном расположении к духовенству я узнал только пустоту, увитую догматическими пеленами. Л. А. Тихомиров читал доклад об учреждении патриаршества, а я при всем моем расположении к патриаршеству как-то невольно подумал: «Над чем стараетесь? Для кого стараетесь?..» Мне стало грустно от моих невольных мыслей…[323]
Но довольно…
До свиданья. Желаю Вам всего лучшего.
Мое искреннее расположение и глубокий поклон Анне Михайловне[324]. Да будет благословение Божие над Вами!
Остаюсь глубокопреданный и искренне любящийБорис Бугаев.
P. S. Еще вот: почему Вы пишете мне в лабораторию? Мне было бы приятнее, если бы Вы писали на дом. В лаборатории я не всегда бываю. Письмо может залежаться.
Адрес мой: Москва. Арбат, д<ом> Богдановой. Кв. № 11. Б. Н. Бугаеву.
Если я писал про лабораторию, то это относительно «Приднепровского Края»…[325]
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 5. Помета красным карандашом: «V».Ответ на п. 11.
13. Метнер – Белому
Н. Новгород 26 декабря 1902 г.
С великим праздником, дорогой и близкий мне Борис Николаевич![326] Надеюсь, что Алексей Сергеевич сообщил Вам содержание моего письма и Вы уже знаете, что я письмо Ваше получил[327] и т. д. и т. д. Теперь и Вы, в свою очередь, что сочтете возможным, – передайте Алексею Сергеевичу. Так скажите ему, что сегодня я был у Назария[328]: он в восторге от статьи Льва Александровича[329]; вырезал ее и спрятал в своей библиотеке; что именно он говорит – неважно; важнее – принципиальное его согласие с Тихомировым; проистекает ли это согласие от его недальновидности или недальновидно объяснять это недальновидностью, я не берусь судить. Если Вы меня сейчас не понимаете, то спросите Петровского, он разъяснит Вам, а еще… спать хочется.
27 декабря. Я рассуждаю так: хотя я и вижу, что церковь Божья, святотатственной рукой Петра прикованная к подножью «власти суетной земной»[330], избавлена таким образом от третьего соблазна, погубившего католичество, хотя я и знаю, что такое положение церкви есть исполнение пророчеств ее судьбы, но действовать я обязан против такого положения до последней капли крови, и лишь тогда входит в свои права amor fati[331]. Быть может, во мне говорит энергичная германская кровь. Валгала есть прямая противоположность Нирване[332], элементов которой так много, к сожалению, в русских.
1) О Коле см. письмо Алексея Сергеевича[333]. 2) Андрей Павлович Мельников (сын Печерского) сказал мне, что ему передавали раскольники о Мережковских; Д. С. и З. Н. были, как Вы знаете, «в лесах и горах»[334]; их там приняли некоторые старые раскольники за Антихриста и Вавилонскую блудницу. Тот же Мельников рассказал мне, как Мережковский совсем нечаянно разыграл Хлестакова: в каком-то селении исправник и другие власти сочли его за какое-то важное лицо, посланное от правительства, и сообразно с этим рассыпались в чрезмерных любезностях; возили его всюду даром на земских лошадях чуть ли не цугом и во всяком случае с эскортом верховых урядников; все это факты, ибо исправник представил счет расходам по приему Д<митрия> С<ергеевич>а с супругой[335]. Но – между нами! «Во всех нас есть нечто Хлестаковское». 3) Почему бы Вам не прочесть несколько стихотворений Ваших Коле; в особенности В дремучем лесу и Уж этот сон мне снился[336]; оба – немецки-подмигивающие и совсем оригинальные негейневские; последнее (откровенно скажу) лучше гейневских. Анюту[337] я знакомлю с Вашими поэтическими произведениями. Она в восторге. 4) Сегодня пришла Ваша карточка[338]. Спасибо за неизменную память; «сегодня» – уж 28 декабря. Пока до свидания.
«Странные явления наблюдались в Париже в ночь с (29 на 30) декабря н<ового> ст<иля>. Во многих местах вдруг остановились в 1 час 5 мин. пополуночи стенные часы с маятниками. Многие люди вдруг почувствовали себя как бы близко к обмороку. В это же время директор парижского центрального метеорологического бюро г. Маскар сказал сотруднику «Matin», что не наблюдалось никаких особенных атмосферически перемен, которые могли бы считаться причиной упомянутых странных явлений. Не было также замечено и землетрясения. Последнее из землетрясений (очень слабое) в Париже наблюдалось в 1869 г. Вопрос о причинах нынешнего явления остается таким образом открытым»[339] (?). Волгарь Нижний Новгород № 354 1902 года 26 дек<абря>.
(* *) след<овательно>: старого стиля с 16-го на 17-ое; дорогой Борис Николаевич! Посмотрите в моем письме, где я сообщаю Вам о полнолунии и описываю настроение, приводя выдержку из Заратустры и стихи Гёте[340]; посмотрите, не было ли мое ужасное настроение в описываемую в прилагаемой заметке ночь, когда останавливались часы (Время!) и люди чувствовали себя «как бы» близко к обмороку. Это «как бы» – очень верно передает на обывательском языке нуменальность всего события.
28 декабря. Сегодня я зачеркнул в Нижегородском Листке, тщательно коллекционирующем все известия, могущие подорвать уважение к духовенству, – перепечатку из Волынских Епархиальных Ведомостей циркулярного предложения преосвященного Антония, в котором последний констатирует… впрочем, вот оно, это предложение: «До моего сведения доходит, что весьма многие священники, невзирая на строгое воспрещение епархиального начальства брать водку от прихожан за требы, продолжают допускать такое вопиющее безобразие, кощунственно оправдываясь словами писания: всякое даяние благо. Священный Синод предлагал приходским священникам устраивать общества трезвости, а здесь приходится разбирать дела о беспатентной торговле водкой в доме священника, что, впрочем, и весьма естественно и при составлении коллекции из сороковок и полуштофов за священные и божественные таинства. Да будет же известно подобным недостойным иереям, что на будущее время один факт принятия водки в благодарность за требу составит судебное дело и повлечет за собою эпитимию и увольнение с прихода…»[341] – Ну-с! Что скажете, дорогой Борис Николаевич?? Не правда ли, ужасно! Очевидно, это не единичные случаи, а глубоко укоренившееся зло. Что это такое? Некультурность, бессознательное варварство или сознательное не<го>дяйство, вырождение, гниение, мерзость! Не стоит спасать!!
Дорогой Борис Николаевич, на оборотной странице находятся следы наших умственных прогулок в осенние вечера 1902 года[342]. Вы были на этот раз моим проводником; но покинутый Вами на полдороге, я в направлении, указанном Вами, идти сам дальше не могу; вот почему я не могу судить обо всем парти-де-плезир[343]. Будьте любезны, если Вам не трудно, когда Вам будет угодно, возобновите со мною эту прогулку… Вообще пишите мне что хотите, как хотите и сколько хотите; но под одним условием: не обижайтесь, если я не сразу стану на все отвечать Вам. Подробности по поводу этого в письме моем А. С. Петров<скому>[344].
28 декабря 1902 года. Боже мой! Дорогие мои, милые… мальчики; я обращаюсь к Вам обоим, телеграфировавшим мне о кончине Егорова![345] Неужели Вы думаете, что Зверев, которому необходим цензор в Н<ижнем> Новгороде, переведет меня сейчас же на место Егорова. Неужели Вы думаете, что я имею право без разрешения Зверева выехать в Москву. Я не имею права покинуть пост, пока мне не пришлют из Петербурга заместителя; если бы я заболел, то известил бы по телеграфу Зверева, и пока не прибыл бы мой временный заместитель, газеты не выходили бы. Вот как наказывал мне Зверев. Далее: неужели Вы думаете, что меня так скоро повысят и что кроме меня нет ни одного кандидата на место покойного. Да я не решусь даже заговорить об этом со Зверевым, а не только что выехать в Москву. Вот если бы Богу угодно было продлить дни Егорова еще в течение 1½ – 2 лет; тогда другое дело. Но все-таки спасибо Вам за телеграмму: она практически лишняя, но полна глубокого значения для меня: по ней я вижу, как Вы ко мне расположены. Если Вам придет фантазия в голову опять отправить мне подобную депешу, то, ради Ваших кошельков, пишите: Н. Новгород Цензору Метнеру.
Адрес для телеграмм: Н. Новгород цензору Метнеру.
29 декабря. Сейчас получил письмо от Коли[346]; он собирается в Нижний числа 4–5 января… Когда-то Вы с Алексеем Сергеевичем приедете??? У нас, конечно, дело не обошлось без елки, я разумею: у нас в Нижнем; я слишком немец, чтобы лишить себя Weihnachtsbaum’а[347], в усеянной свечами и блестящими игрушками елке есть что-<то> бесконечно милое, какая-то очаровательная смесь земного с небесным, волшебного с священным. Коля, как Weihnachtskind[348] (см. письмо Петровскому)[349], конечно, в особенности чувствует поэзию елки. Он, обыкновенно, совсем особенно играет в этот вечер, т. е. 24 дек<абря>; и я глубоко сожалел, что я первый раз в жизни был вне дома родителей в этот вечер… Давно я собираюсь Вас спросить: какое слово следует в стихотворении Блока за словами: меня пугает сонный (?)[350]. Тут у Вас нечто крайне неразборчивое. Я как-нибудь перечитаю Ваши письма сначала, а то я их только пробегал, а не прочитывал за недосугом. Тогда я кое о чем Вас переспрошу. С своей стороны я буду лишь тогда в состоянии сообщать Вам из области моих умствований, когда несколько успокоюсь от всех неожиданностей последних месяцев и впаду в прежнюю колею своих занятий (конечно, нецензорских), но Вы, не смущаясь, продолжайте писать мне… От редакции «Нового Пути» я получил несколько листов объявлений с просьбой – распространять. Стараюсь. Анюта Вам кланяется. Привет Вашим родителям от меня. С новым годом. Да хранит Вас Господь.
Ваш Э. Метнер.РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 8.
14. Белый – Метнеру
Москва. 31 декабря 1902 года.
Вы говорите о том, чтобы я напомнил Вам наш незаконченный осенний разговор, для уяснения которого прибегал к моему любимому методу – графическому. Все это так трудно в письме. Требуется множество звеньев мысли, предшествующих этим схемам, – звеньев мысли философской, исторической, экзотерически-религиозной, гаммы чувств, определенно звучащих. Вся эта совокупность должна быть фиксирована в один намек; психологическая глубина без потенциала пройденных ступеней окажется плоской и мои графические чертежи, опирающиеся на многое иное, неумело высказанными, краткими, схоластичными. Вот почему я предваряю эти схемы, заложив минимальный фундамент, чтобы основание нижесказанного опиралось хотя бы на крошечный материал, предшествующий, обычно – мыслимый. С ужасом думаю, сколько мне придется писать, но… героически решаюсь начать «ab ovo»[351].
Буду сперва непомерно скучен, намеренно пошл, чтобы дальнейшие безумия не упали прямо с неба.
Итак…
Следует ясно знать отличие в общеупотребительных понятиях, сферы которых заходят друг к другу настолько, что ими пользуются уже как синонимами. Эти часто лишь внешне-однозначные понятия необходимо прояснить, выяснить себе их объем и содержание. Пусть этот объем и это содержание разнится от обычных определений – дело не в звуковых обозначениях (они – ярлыки), дело в отличии их друг от друга, в резком проведении границ (всякий формальный синтез и заключается в упорядочении взаимных отношений в необработанном материале, т. е. в взаимноограничении). Как скоро ярлычки (обозначения) отстают от обозначаемого – все путается, начинаются бесконечно-фельетонные споры о «народничестве», «марксизме», «либерализме», «консерватизме», «символизме», «декадентстве». Сюда же я отношу путаницу, взаимное слияние общеупотребительных обозначений рассудка, ума, разума, мудрости.
Как скоро центр тяжести перенесен от метафизического определения рассудка, ума, и т. д. (пример – несовпадение этих понятий у Канта и Шопенгауэра) к просто-напросто разграничению главных этапов нашего сознания, снимается ответственность в правильном обозначении «α» – рассудком, а не разумом, «β» – разумом, а не рассудком; важно, чтобы главным ступеням сознания соответствовали бы разные словесные знаки (условно или безусловно, это все равно).
Мне хотелось бы расположить этапы сознания в зависимости от влияния нашей психики на познавательную силу человеческого духа.
1) Рассудок заведует механизмом нашей познавательной способности; функция его – вывод из данных оснований неизбежного следствия. Доказательность определяет состоятельность всякого рассудочного положения, причем правильность того, что мы доказываем, является конечным звеном среди ряда умозаключений. Сложность рассудочного механизма достигает там своего формального развития, где мы устанавливаем теоретическую связь какого-нибудь наиконкретнейшего явления с общим принципом (например: когда мы движение неправильного тела связуем с основными тремя принципами движения Нютона). Тут работа наиболее сложная, наиболее трезвый логический контроль. Логика наиболее чуждается всего личного, конкретного, психологического, проявляется ли она как диалектика или теснее, как эристика. О реторике ничего не скажу: реторика не исключительно рассудочна. Рассудок – противоположен, полярен физиологическому ощущению.
• ощущение • рассудок
2) Довольствуясь исключительно правильностью вывода, не обращая внимания на верность оснований, рассудок играет чисто служебную роль. Он ручается лишь за правильность вывода, а не за действительность выведенного. А между тем в умственной деятельности важно копить наш багаж знаний, а также соединять накопленное, ткать наше отношение к действительности. Важно, чтобы отдельные доказательства, слагаясь в общую ткань, пополняли друг друга. Мы нуждаемся в такой форме познавательной способности, которая, сохраняя нам раз выведенные доказательства, контролировала бы их взаимным сопоставлением. Это – функция ума. Выбор и контроль требуют личного почина, между тем как логические формы рассудка абсолютно безличны, мертвенны. Ум окрашивает умствование. Отдельные доказательства, графически изображаемые ↑↑↑↑↑, обрывочны, пока не связаны, не сотканы умом в одно связное целое, причем соблюдена правильность в расположении отдельных доказательств: а не
Каждый человек не совпадает в своем взгляде на окружающее с другими, ибо 1) не относительно всех в мире явлений сделал соответствующие выводы, 2) неодинаково расположил свои доказательства, не в том порядке соткал свою умственную схему. 3) Если присоединить еще разнообразие в логических ошибках, то понятен весь индивидуализм умственных схем сравнительно с формализмом логических доказательств. Отсюда самоуверенная ограниченность логиков («Д. С. Милль – обидная ясность» Ницше[352]) и разнообразие и шаткость научных гипотез, философских систем и т. д. В выборе и соединении обрывков доказательств в сложное целое играет уже роль мое личное, чувственно-психологическое отношение к действительности, которое оказывает давление на составление моего отношения к миру. Но… меня зовут встречать новый год… Обрываюсь…
1-го января 1903 года. 2 часа ночи. С Новым годом, Эмилий Карлович. Ночь ясна… Радостно… Пенно-пирное шампанское бьет в голову… Какое-то мировинное пьянство!.. с туманом в голове продолжаю…
Сторонники рационализма скажут: «Если ум отдельной личности ограничен, то ошибки мыслителей могут быть исправлены последующими мыслителями и таким образом формальный объективизм будет одерживать всё большие и большие победы над личностью: взаимно противоположные ошибки, уничтожив друг друга, обнаружат истину»…
Пустая реторика!.. Общее место! Когда говорят они так, у меня тоже вырастают ослиные уши: это – невольный миметизм…
Достаточно сказать следующее: два взаимно противоположных писателя: один отклонился от истинного пути <На этом текст обрывается.>
РГБ. Ф. 25. Карт. 30. Ед. хр. 10. Л. 1 – 3 об.Ответ на п. 13. Вероятно, не было закончено; не отправлено.
15. Метнер – Белому
Н. Новгород 31 декабря 1902 года.
Надеюсь, Вы получили мое калейдоскопическое письмо, в котором я говорю о чем угодно, только не отвечая на Ваши письма; о странных явлениях, замеченных в Париже; о попах-шинкарях и т. п.[353] Намереваясь кое о чем переспросить Вас, я взял Ваше первое письмо[354]. Вы упоминаете в нем об исследовании Мережковского. Хорошо было бы, если бы Вы снизошли до общедоступного и притом осторожного отзыва об этом исследовании с точки зрения религиозно-философской; тогда я бы написал о том же исследовании с точки зрения литературно-эстетической; получились бы две статьи двух авторов об одной книге, которые (статьи) дополняли бы друг друга[355]. Разумеется, это стоит сделать лишь в том случае, если Духовецкий, который сам же молил, чтобы ему присылали материалы, прекратит по крайней мере свое молчание.
1 января 1903 г. Вы – первый, дорогой Борис Николаевич, которому я пишу первое свое письмо в новом 1903-ьем году… Странно, что я сегодня и частью вчера в Silvesterabend[356] чувствую себя так же тоскливо, как в сочельник и Рождество. Меня это несколько тревожит: не из-за себя, а из-за жены и родителей: они очень рады, что я устроился; было бы ужасно, если бы что-нибудь случилось. Будем надеяться, что это дурное самочувствие имеет значение (подобно тому сну, помните, о двух змеях, черной и белой) не личное, не интимное, а всеобщее… Вчера вечером за три, четыре часа до нового года я уронил свои часы; они остановились, я снес их часовщику; оказалось – сломан маятник. Опять-таки: что это означает? Обращаю этот эпизод в шутку (полушутку) и делаю предположение: перестану ли я маяться? Или вообще жить? Буду думать, что только первое. – А в прошлом году в то же самое время я нашел подкову! Она принесла мне счастье. Продолжаю читать Ваше первое письмо. С удовольствием перечитываю: «всякое забегание вперед, как церковников (с их Антихристом) и теософов, так и теургов à la Мережковские с их речами о соединяющем религиозном делании значительны только как попытки „нового мышления“, а не сами по себе». Читаю Ваше второе письмо[357]. Вы обещаетесь написать по поводу книжки Файгингера о Ницше (с точки зрения законности его появления после Шопенгауэра; Ницше в связи с современным неоидеализмом). Эта тема была бы более удобна, нежели о докладе Тернавцева[358]. Читаю в третьем письме[359]: оказывается, что статью о Ницше Вы написали, но переписывать нет времени. Быть может, теперь найдется время; или присылайте непереписанною. Этот возмутительный Духовецкий не имеет обыкновения отвечать скоро на письма.
В своем IV письме[360] Вы говорите, что Ваш «внутренний путь каким-то странным образом слагается в сторону теософии» и притом «волюнтаризма», «отличную и от теософии в сторону теургии и от теургии в сторону теософии». Но возможна ли «равнодействующая между теософиею и теургиею»?? Не есть ли «объективация» (спрашиваю Вас на Вашем же «жаргоне») «воплощенного (теургического) на степень идеи» только умственная игрушка капризного ребенка, пожелавшего идти дальше «символического»; на деле же подобное «воплощенное» ничем не отличишь от «символического»?? – Вашу «лествицу» (1–8) я понимаю и в целом всю, чувствую же ее лишь до 7-ой ступени включительно; голубое мне очень, очень близко и знакомо; и просто голубое (бирюзовое с зеленоватым оттенком) и углубленное белым; недаром я родился 7-го декабря 1872 года; декабрь – месяц зимний, снежный и голубой в то же время; мне и белое (5-ая и 6-ая ступень) понятно лишь через голубое; я как-то перескочил или, вернее, быстро пробежал к голубому. Очень хорошо и верно до ужаса сказали Вы о «желто-шафранных волнах болотных испарений», распространяющихся вокруг лестницы… Я не раз оступался… О, я знаю, что значит «трясина ужаса»… Дальше об ощущении «невидимой близости Господа», о «Христовом чувстве» (как я это, кажется, нескладно называл) Вы, конечно, помните, наши мысли совпадают совершенно, еще дальше о «встрече с Господом» и переходе от 9–10, т. е. к 1 и т. д. все, что Вам поведал «муж знаменитый»[361], я не понимаю никак, ни чувством, ни умом, и не принимаю!! По-моему, это просто дерзость и амикошонство с Богом. Я согласен искать «9», но утверждать, что я там встречусь с Богом, – это опасно! Я могу так увериться в этом, что, подойдя вплотную к 9-и, попаду в лапы Серого; на 8-ой – бесцветное (то же, что на первой), на 9-ой (мнимой) – огненно-кроваво-красное (то же, что на 2-ой); на 10-й – горение багряницы и «вверх пятами», как на 3-ей, только уже навсегда… Опасно!
– середина клавиатуры – противный ток – представляется голубым, а на самом деле багряное.
Недостаточно ясно мне и учение теософов о четырех оболочках человека и об «астральной области»… Что касается «личного конечного» и «индивидуального, непреходящего», то это я вполне понимаю и еще давно при первом знакомстве с Ницше увидел в нем борьбу этих начал и их подчас безобразное смешение.
Верно: Ницше индивидуально-белый очернился лично. – Возвращаюсь к голубому: один раз зимою (уже к весне, т. е. после святок) я шел из суда (это было в начале 1901 года или в конце декабря 1900 г.). Я громко один усмехнулся близ университета напротив Манежа; мне стало вдруг страшно весело и легко и все вокруг мне казалось голубым, углубившимся. Я был с полчаса словно сумасшедший. Потом этого не повторялось, но я уже прочно освоился с голубым. – Мне в эти полчаса казалось, что я что-то узнал и знаю, чего другие и не подозревают, и я ухмылялся хитро… подмигивал… В письме пятом Вы говорите, что «самый главный ужас заключается в том, что вдруг 2‐ая тема Колиной Сонаты зазвучит для иных лунностью, лунатизмом»[362]. Эти иные насчитывают в своем числе меня, самого автора, да и Вас, наверно; Вам только страшно признаться в том, что при своем первом появлении тема эта звучит лунностью; она словно облита вся насквозь во всех своих очертаниях густым расточительно-роскошным сиянием полной, не заслоненной никакими облаками луны. Страшного же тут ничего нет; представьте себе, что нечто бесконечно глубокое и широкое, нечто объективно и субъективно (для Вас) священное, одновременно общее и интимное уютное предстает пред Вами после дневных трудных размышлений ночью в тишине внезапно (потому ночью, чтобы в тишине, а не впотьмах) освещенное луною. Не «нечто» содержит в себе лунное, а луна вносит в «нечто» лунное, и надо удивляться высокой чистоте (castitas), целомудрию этого «нечто», что оно, облитое лунным светом (не боится оно лунного света), сохраняет свою высоту и заявляет о ней. –
Страшно (для меня) то, что иному эта тема в первом (лунном) своем освещении покажется пикантной, подобно тому как пикантна иному сластолюбцу развращенная девочка-подросток с ангельским личиком. – Вот что страшно! Очень рад, что Вы пишете «я сам в нуменальном никуда не пойду»[363]. Я очень тронут, что Вы пишете о Коле: «я как-то лично горжусь Вашим братом»[364]; но вот что, милый Борис Николаевич; мы с Вами гордимся, что соната Коли нравится Гофману[365], что он ее теперь, быть может, разучивает; но не примешивается ли к этому чувству гордости какая-то ревнивая досада (или досадная ревность), что «нечто» интимное, наше (хотя и долженствующее стать всеобщим), уютно (хотя и при луне) представшее пред нами, то, в чем мы участвовали ночью в тишине, как заговорщики (хотя дело само доброе и не требует поэтому тайны), нечто мистериарное <так!> пока, вдруг перестало быть таковым; досадно! Не правда ли??.. Пришлите заметку об Олениной в Мире Искусства[366], я Вам с Колей же обратно пришлю номер. – «Ужас среди голубого дня»![367] Да! Это настоящий ужас. И Вы великолепно дали его в обоих стихотворениях, но, кажется, в них есть что-то и помимо этого ужаса; они шире, чем этот ужас. До свиданья, дорогой Борис Николаевич; кланяйтесь от меня Вашим родителям и Алексею Сергеевичу[368]. Анют<а>[369] приветствует Вас и желает Вам счастья в новом году. Христос с Вами!.. Любящий Вас Эмилий Метнер.
P. S. За неимением своих стихотворений приведу Вам Гётевское «Legende».
Это мефистофелевское стихотворение (ибо Гёте был в душе и Фаустом и Мефистофелем в одно время) Вы найдете в отделе «Epische Dichtungen. Parabolisch»[371]. – Обращаю далее Ваше внимание на фаустовское стихотворение «Im Voruebergehn»:
Вы знаете, что здесь есть частичка ужаса средь бела дня…
3 января 1903 года. Дорогой Борис Николаевич! Я уже второй раз рву конверт этого письма. Первый раз я забыл вложить первый клочок (добавление; стихи), второй раз сегодня утром, получив Ваше символически-египетское поздравление с новым годом…[373] Тут и воющая собака, и кошка со спинкой колесиком, и «любит – нелюбит», и луна. Люди поставлены так, что нет никакой надежды им когда-либо увидать друг друга… Во всяком случае, это не мы с Анютой… Мы живем с ней, говоря избитым языком, «душа в душу». Рядом с мущиною – собака, рядом с женщиной – кошка; мущина занят музыкой (собака тоже); женщина – цветами (кошка пластикой). Какая-то антитеза!.. Я забыл спросить Вас, дорогой Борис Николаевич, переписывается ли Мих<аил> Серг<еевич> Соловьев со здешнею сивиллою Шмидт[374]; дело в том, что Мельников сообщил мне, что Шмидт собирается ко мне ввиду того, что ей из Москвы сообщено, будто я мистик… Признаться, эстетично я боюсь этого посещения.
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 9.
1903
16. Белый – Метнеру
Москва. 4-го января 1903 года.
с большим удовольствием читал Ваше глубокое и поучительное письмо. Читал, читал и… споткнулся, когда прочитал вторично вложенный листок… Ужаснулся, а потом и обиделся. Величайшим ужасом я считаю всякую «bizarrerie»[375], я давно уж буквален, а не символичен, не аллегоричен, а Вы мне приписываете, по-видимому, bizar’ность самого пошлого, серого, дурного, средне-высшего тона. Надеюсь – в письмах мы лицом к лицу, а не за перегородками. Вот уже между нами проделка Серого. Если мы понимаем «7» ступеней, то мы должны ужасаться призрачной дымкой первой или второй стадии, зловеще-коварными, злыми, рысиными огонечками, вспыхивающими в словах. Это – призрак, и этот призрак получает вновь жизнь, силу и власть с расстоянием, когда люди не могут высказываться словесно, а следовательно труднее им снять паутину, которую плетет между ними Серый…
Вам померещилась галлюцинация – знаете ли Вы, какого низкого мнения Вы обо мне?
Повторяю: я слишком аристократичен в нуменальном, чтобы допускать всякую «bizarrerie». Если Вам эта «bizarrerie» чудится в моих словах – знайте, она от Серого. Надеюсь, все сказано. Я и не стал бы говорить так пространно, если бы усумнился в том, что Вы мне безусловно верите.
Кстати: о Сером. Понимаю Ваше состояние удрученности, потому что у нас в Москве были признаки, что «Колдун опять показался в наших местах»…[376] Да будет крестная сила над нами!..
Да, были признаки. Я не боюсь Его, потому что слишком верю Другому, в Его близость, но «береженого Бог бережет». Во всяком случае я констатировал. Особенно сильно было вторжение из «трясин ужаса» в сочельник, и в первые два дня Рождества; да и теперь «не без»… Признаюсь: два раза я пугался (слегка; это отблески прежнего), но я не боюсь: мне весело…
По поводу духовенства и… между нами: имел случай увидеть у Л. А. Тихомирова собрание церковников (Грингмут, Введенский, Погожев, Трифановский, Новоселов, Фудель, викарии Анастасий, Никон, В. Васнецов и др.), когда он читал свой реферат, – и… плевался три дня… Этим все сказано…[377]
Боже мой, как все печально!..
Вы вот боитесь вторжения Анны Николаевны Шмидт, а между тем эта самая Анна Николаевна гнездится и в недрах церкви. Я говорил Михаилу Сергеевичу[378] о Вас, а он говорил ей (она была в Москве) о новом нижегородском цензоре, причем она крайне заинтересовалась.
Это письмо пассивное: отвечательное. Буду пунктуален. 1) Письмо Ваше получил[379]. Вы пишете о чертежах. Так трудно напомнить на расстоянии. Попытаюсь, но не теперь. Сейчас у меня голова болит и легкое нездоровье. Ничего не пишется… 2) Я могу написать о книге Мережковского с религиозно-философской точки зрения. Я могу слить это с тем, что написал о Ницше и неоидеализме, сократив первый фельетон, так что получится одно целое[380]. 3) То, что Вы пишете о сочельнике и Рождестве, вполне совпадает с моим заключением о «возвратном появлении» – заключении, к которому руку приложили Алексей Сергеевич[381] и Михаил Серг<еевич> Соловьев, так что тут, кажется, нечто всеобще-тягостное. Не обращайте внимание на маятник; это было бы суеверием и только… 4) О равнодействующей между «символическим» и «воплощенным» следовало бы высказать так: равнодействующая между «началом символического» и «воплощенным», т. е. различные стадии символического и были бы подходом к воплощенному, которое само собой явилось бы нам как последняя стадия символизации, как «святое святых», «эзотеризм эзотеризма». Существенной разницы (пропасти) между теософией и теургией нет: пути их сливаются в конечном. Когда я говорю, что мой путь между теософией и теургией, это следует относить не к абсолютной теософии и теургии, а к современным теософам, среди которых знаю я только теософутиков, в сочинениях которых (Паскаль, Безант) сквозит вместе с истинной теософией, Божественной Мудростью, Софией Премудростью Божией, Розой, Душой Мира, воплощающей Логос, и теософутика, т. е. бескровно-схоластическое чириканье о глубоком. В равной степени касаясь теургии, я сейчас же представляю и современных теургов, которых искренне люблю, в которых сквозит и теургофутика, т. е. пересол в активности, да и то, кажется, больше в проповеди. Говоря о равнодействующей между той и другой инстанцией ви́дений, я высказываю самодовольную мысль о попытке избегать крайности пересола в теософии и теургии; поскольку эзотеризм эзотеризма (ядро теософии) и есть цель, постольку здесь сливается теософия с теургией. 5) О «мнимости» 9-го и «о вечном горении вверх пятами навсегда» в 10-м – Вы прекрасно говорите. Я разделяю Вашу точку зрения. 6) Мне знакомо все то, что Вы говорите о голубом. Тут действительно знаешь то, чего иные и не подозревают. И это не тягостно, а свободно, легко. Останавливаешься, смеешься – утешаешься бездумным знанием, вечным разговором. 7) Об астартизме второй темы: я потому смущен, что ведь тут глубочайший узел. Вечный вопрос об оправдании, искуплении мира и о вечном проклятии первородного греха. Тут пункт расхождения у нас с Ал<ексеем> Серг<еевичем>. Да и в самом деле: ведь страшна не лунность: это – символ, а то, что укрыто под этим символом. Если вторая тема может быть между прочим истолкована, как грядущее приближение Вечной Женственности, Мистической Розы, Души Мира (халдейское сказание): «Знайте же – Вечная Женственность ныне в теле нетленном на землю идет», Вл. Соловьев[382] – то наше отношение к ней чуть чуть мистически-влюбленное. Душа Мира в связи с тем, что Мережковский пишет о рыцарстве Средних Веков, Великой Матери, – это как бы Афродита Небесная… А стоит только вспомнить, что сюда пихает Розанов!! Далее. Недавно на религиозно-философском собрании по поводу воззрения на Ewig-Weibliche[383] Мережковского иер<омонах> Михаил встал и прямо в упор обратился к Мер<ежковскому>, обвиняя его в проповеди «греха содомского», причем он говорил, что понимает этот грех не в грубо-мерзком смысле, а весьма утонченно. Мы не знаем, как относится наша официальная Церковь к «Ewig-Weibliche» Гёте, Соловьева и т. д. В один прекрасный день она все это может обозвать грехом содомским… Далее: «Более сериозных оговорок требуют два другие произведения: Das Ewig-Weibliche и Три свидания… Не вносится ли здесь женское начало в самое Божество? Не входя в разбор этого теософского вопроса… я должен… заявить следующее: перенесение плотских животно-человеческих отношений в область сверх-человеческую есть величайшая мерзость и причина крайней гибели (потоп, Содом и Гоморра, глубины сатанинские последних времен)» (Вл. Соловьев)[384]. Культ Астарты отличался жестокой чувственностью; астартизм – символ чувственности… Нет, вопрос об астартизме того или иного, понимаемого мистически, самый сериозный, самый страшный вопрос. Тут неразрубленный узел. И то, что этот узел не разрешен, а лишь запутывается, усугубляет мистические опасения…
8) О «ревнивой досаде» по отношению к сонате Ник<олая> Карловича Вы верно. 9) Номер «Мира Искусства» не мой, а чужой. Заметка ничтожная. Кажется, я могу выслать оригинал. У знакомых есть список. Но право, не стоит. 10) В моих стихах, кажется, есть «и не только ужас». В общем они убоги. 11) Пока ничего не говорю о Гётевских стихах. Не особенно хорошо понимаю (много незнакомых слов, а переводить – ломит голова). То, что понял, – восхитительно, сильно.
Скоро я Вам напишу подробнее, а пока до свиданья, дорогой мне Эмилий Карлович. Призываю на Вас благословение Господа.
Остаюсь любящий Вас и глубокоуважающий
Борис Бугаев.
P. S. Мой искренний привет и глубокое уважение Анне Михайловне, а также и Николаю Карловичу, который по моим расчетам находится у Вас[385]. К сожалению, я еще не слышал от Ник<олая> Карловича той вещи, ноты которой Вы так любезно наметили в письме ко мне[386]: один раз Ник<олай> Карлович готовился к концерту. Я не мог ему мешать; а второй раз он очень устал.
P. P. S. Позвольте привести некоторые стихотворения А. Блока (из новых)[387]. ‹…›
Вышел «Новый Путь»[388]. Намеренно тускл, сух, сериозен. Это – пока. Прикидываются. Так хочет Перцов. Интересен рассказ «Вымысел» – Л. Денисова[389] (З. Гиппиус)[390]. Религиозно-философская хроника. Записки Р<елигиозно->Ф<илософского> Общества. К досадному изумлению узнал, что они без моего ведома напечатали отрывок из моего письма, кое-что переделав[391]. Жалею. Уж я пенял Перцову, когда он был в Москве[392], да было поздно. Просят рассказ, да я не дам. «Симфония» моя тоже будет напечатана не у них, а у «Скорпиона»[393]. Дорогой Эмилий Карлович, если можно, советуйте новгородцам покупать «Новый Путь». Подписчиков пока едва перевалило за 400[394]. Это мало. Существование журнала еще не упрочено вполне. Вот бы Вам написать о «Н<овом> П<ути>» в «Пр<иднепровском> Крае»?[395] В самом деле? Вот написали бы Вы? Это дало бы им несколько десятков подписчиков. Все же суть журнала симпатична, потому что они допускают всякое мнение, сериозно высказанное. Они в первом номере вовсе не о своих пунктиках, а об идеализме вообще… Если сопоставить их с их противниками-церковниками <нрзб> у Тихомирова я слушал, как их ругали глупо, «мимо», люди бездарно-бесцветные, среди которых были и такие, которые мне показались в общем еще и «прохвостами» (Введенский, Грингмут, Погожев). В общем эта кучка (Минский, Мережковский, Розанов, Перцов, Брюсов и др.) искренних, талантливых людей, у которых есть вера; если они глубоко и ошибаются в чем-либо, то это прощается им уже в силу количества противников (все пошло-толстые, глупые журналы их врагов, официальные мистики и церковники – враги). Журнал им необходим. Для этого необходимы подписчики. Подписчиков мало. Толстые журналы их будут замалчивать. Многие даже не узнают о возникновении «Нового Пути». Дор<огой> Эм<илий> Карл<ович> – напишите что-нибудь. Лично я буду Вам так благодарен!
P. P. P. S. Не могу кончить…
Быть может, Вы пошлете в ред<акцию> «Придн<епровского> Края» объявления о «Н<овом> П<ути>»? A? Для сего высылаю Вам несколько объявлений бандеролью.
Я, лично, потому так заинтересован в успехе их предприятия, что глубоко уверен в пользе для них заняться журналистикой. Они хотят «дела». Вот им и будет ближайшее дело. Они люди увлекающиеся. Увлекутся – отвлекутся от всякой любви к «bizarrerie». Я их люблю. Мне было бы жалко видеть их гибель. Все, что Вы писали о Мережковском – принял, понял, просмаковал, оценил – и с улыбкой простил. «Мы все Хлестаковы» – ведь это можно оценить с точки зрения детскости. Тут что-то добродушное, в этой <1 сл. нрзб>
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 6. Помета красным карандашом: «VI». Фрагмент опубликован: ЛН. Т. 92. Кн. 3. С. 194.Ответ на п. 15 (которое сохранилось не в полном объеме: упоминаемые в п. 15 и 16 добавления – «первый клочок», «вторично вложенный листок» – не выявлены).
17. Белый – Метнеру
Пишу Вам неожиданно для себя по какому-то внутреннему побуждению, даже приказанию. И о том, что у меня на сердце. Не удивляйтесь. Я чувствую, мне нужно Вам напомнить, что величайшее счастье человечества незаметно подкралось когда-то, тихо пришло. Просияло. Улетело. Навсегда оставило оно налет сладкой грусти везде и на всем. Это счастье – Христос. Христос для всех. Никого Он не забывает. Молю себе несчастий, чтобы приблизиться к Нему. Молю искушений, чтоб стать достойным молиться Ему. Дорогой Эмилий Карлович – Вы это знаете. Не забывайте нашего Солнца. Оно близко. Оно всегда рядом. «Се стою у дверей. Кто ми отверзет?»[396]
Не знаю – но мне кажется, придут дни (они близки), когда мрак охватит все, на чем нет отражения близости Его. Мне кажется, каждый человек будет иметь что-нибудь или в глубине своего духа, или во внешнем тяжелое, трудное. И это для всех людей. Дорогой Эмилий Карлович, предупреждаю Вас как брат во Христе – не забывайте Его. Он – нас всех связывает навек. Он – наше Солнце.
Солнце близко.
Вижу, как собираются где-то тучи; идут на нас или проходят мимо – не знаю. Знаю одно – с Ним не боюсь. Знаю – с Ним не страшно. Знаю.
Главное – с Ним чувствуешь себя над пропастями не страшно; начинаешь жить как-то по ту сторону жизни – в вечном чуде и уже окончательно не удивляешься, когда все удивительно.
Знаете ли, в чем я убедился? Москва – своего рода центр – верую, верую. Мы еще увидим кое-что. Еще будем удивляться – радоваться или ужасаться, судя по тому, с Ним или не с Ним будем. События не оставят нас в стороне, дорогой Эмилий Карлович. Всё же мы званы поддержать славу Имени Его. Будем же проводниками света, и свет в нас засветит, и тьма не наполнит нас…[397] И теперь, на расстоянии, мне приятно подать голос, окликнуть Вас и Анну Михайловну…[398] Напомнить. Пространства не властны. Мы все вместе. Людям «знающим» нужно особенно быть вместе… один не спасешься. «Где двое или трое во Имя Мое, там Я посреди их»[399].
В Москве уже потому центр, что уж очень просится в сердце то, чему настанет когда-либо время осуществиться. Открывается с поразительной ясностью, легко дается. Недавно был в Девичьем Монастыре. Восторг снегов превышал все меры. Снега заметали границу между жизнью и смертью. Сквозная сосна вопила о том, что тайно подкралось к душе. На другой день слушал в концерте Вашего брата. Он играл из Stimmungsbilder № 6, 7, 8[400]. Опять вопила метель. Радовался.
Между прочим: повсюду одно и то же. Московские оккультисты ждут в Москве рождение Мессии. Это факт. Только что узнал от Г. А. Рачинского. А. С. передавал слова Тихомирова о Мессии в городе Лионе; ему 14 лет[401]. В «Новом Пути» читали о киевской синагоге?[402]
Все это имеет смысл. С этим нужно считаться. Разобраться в «знаниях», откуда они.
Можем ли жить без обращения к Нему, когда нам начинает казаться, что времена и сроки исполняются? Вот, что мне безотчетно захотелось написать Вам, не знаю почему. Простите за глупый тон, но я от чистого сердца.
Получил от Блока письмо. Он тоже полагает, что центр в Москве[403].
Прощайте, дорогой Эмилий Карлович. До свиданья. Не забывайте. Господь да хранит Вас и Анну Михайловну.
Любящий Вас
Борис Бугаев.РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 7. Помета красным карандашом: «VII». Фрагмент опубликован: ЛН. Т. 92. Кн. 3. С. 194.
18. Белый – Метнеру
Москва. 1903 года 30 января.
Что за идиотский фельетон? Что за сумбур в голове? Что за слог? Что за зубоскальство?[404]
Большое спасибо за него. Для курьеза пошлю его в «Новый Путь». Пользуюсь случаем – пишу Вам эти несколько слов. Простите, что не больше. Масса дел, касающихся Университета, и своих собственных. Устаю. К тому же все еще не могу достаточно владеть своим спокойствием после кончины Соловьевых[405].
В Москве удивительные дни. То вопли метелей, то ясная, талая, гадкая, лунная слякоть – теперь полнолуние. Луна бросает от всего неверные тени – откидывает, а в тенях воры прячутся. К довершению истории на всех столбах расклеены рожи господина в цилиндре – мимиста Бернарди, удостоившего город своим подозрительным посещением[406].
Недавно был у Николая Карловича, который насмерть поразил меня восхищенной радостью финала своей сонаты. Это – небывалое явление, достойное 9-ой симфонии Бетховена (право)[407]. Весь день я был сам не свой и, кажется, обидел Ник<олая> Карловича глупо-неумеренной похвалой.
Дорогой Эмилий Карлович, я уж ничего не пошлю в «Приднепровский Край»: 1) некогда, 2) «Мир Искусства» чрезвычайно любезно просит меня присылать ему всевозможные рукописи, 3) у меня есть еще «Новый Путь», который я не утилизирую пока, потому что времени нет.
Как поживает Анна Михайловна?[408] Мой привет и уважение. Как поживаете Вы? Жду от Вас голоса.
Кстати: прочли Вы биографию Ницше?[409] Меня интересует Ваш отзыв о ней. Кто-то написал, что госпожа Ферстер-Ницше искажает факты. Меня заочно привели в негодование такие слова.
Не знаю.
Желаю Вам всего лучшего. Да хранит Вас Господь.
Остаюсь глубокопреданный искренне любящий
Борис Бугаев.
P. S. Вышел Пшебышевский[410]. Пшебышевский – скучен. Уныло скучен, однообразен – Пшебышевский. Пшебышевский.
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 8. Помета красным карандашом: «VIII».
19. Метнер – Белому
Н. Новгород январь 31 1903 год. 12 ч. дня. – Милый, дорогой мой Борис Николаевич! Собираюсь, окончив письмо Петровскому[411], ответить и Вам. Сначала на письмо VI от 4 января. Оно начинается, если помните, «проделкой Серого». Не отрицая здесь вмешательства Серого, я все же пытаюсь объяснить недоразумение мое, Вас обидевшее, тутошнею причиною. Я как старший по годам и гораздо больше Вас страдавший (хотя и меньше познавший) решился предостеречь Вас от каббалистического барона и от стремления скорее прийти (или быть приведенным «людьми добрыми») к 9-ти. Это мое предостережение в связи с очевидным теперь для меня неуловлением смысла нижеследующих Ваших слов и было причиной того, что Вы заподозрили меня в обвинении Вас в bizarrerie. Я знаю, что Вы «буквальны», и этото особенно мне и нравится в Вас. Но Вы не всегда ясны даже для такого слушателя и читателя, как я. Впрочем, наши беседы устные, кажется, достаточно показали, до какой степени далеко мы прошли вместе (хотя и отдельно); так далеко, что несогласия между нами просто немыслимы; возможны лишь детальные особенности и недоразумения. Не уловил же я смысла следующих слов (начало Вашего IV письма[412]): «Мой внутренний путь какимто странным образом склоняется в сторону теософии; определю ближе теософию эту, не как теософию вообще, а как теософию волюнтаризма, отличную и от теософии в сторону теургии, и от теургии в сторону теософии. Это как бы равнодействующая идея между теософией и теургией – все тот же узел между символическим и воплощенным, перемещающийся в сторону символического с объективацией этого воплощенного (теургического) на степень идеи»… – Вот я, кажется, не поняв этого места, и выразил сомнение в том, чтобы можно было всегда отдать себе отчет, всегда различить символическое и воплощенное, объективированное на степень идеи, чтобы можно было безошибочно вести линию равнодействующую между теософией и теургией, не очутившись между двух стульев. Вот и все. Инцидент исчерпан. Если Вы забыли свое тогдашнее течение мыслей и сами уже не ясно представляете себе, что такое эта равнодействующая, то бухайте все в Лету, если же помните и видите мою ошибку, то, пожалуйста, объясните мне ее… Дорогой мой! Не может быть между нами такого, на что бы нам пришлось друг на друга обижаться… «Колдун опять показался в наших местах» – констатируете Вы 4-го января. Вы знаете, как я себя чувствую (нуменально) с самого сочельника. Подробности об этом раньше сообщал в предшествующих письмах, а теперь в письме к Алексею Сергеевичу, законченном вчера…[413] А сегодня я бодр, весел и свободно дышу во всех смыслах. Вчера было полнолуние. Вчера был Собор трех святителей[414]. Вчера снята какая-то накипь. Накипит, конечно, опять. Но пока легче: эта очень подозрительная луна начала умирать. Духовецкий, очевидно, в отношении к религиозно-философским вопросам попал под влияние некоего Соколова, который, судя по его фельетонам, должен быть противником и притом не понимающим новопутейцев и вообще всего нового[415]. Духовецкий просил меня настойчиво и не раз писать ему. Я написал обзор книжки «Сев<ерных> Цветов»; это было в июле, когда Соколова там еще не было, статья была немедленно же помещена[416]. Затем вследствие занятий в Цензурном Комитете и приготовлений к отъезду я отложил свое сотрудничество на три месяца, в течение которых не раз получал от Духовецкого приглашения работать в его газете. На основании этих просьб я и обратился к Вам с предложением написать что-нибудь для Приднепровского Края. Сам же вскоре после приезда Анюты[417] написал страшно длинную и страшно нескладную канитель о книге Жида «Гражданское положение женщины», которую (не женщину, а книгу) я цензировал и потому решил и рецензировать. Эту канитель Духовецкий всю без сокращений поместил[418], а Вашу статью, а также мою заметку о предстоящем выходе в свет первой книжки Нового Пути не напечатал[419]. Между тем, по получении книжки, я написал обзор ее содержания, стараясь быть ясным и вполне цензурным. Видя, однако, что предварительной моей заметки не помещают, так же как и Вашей статьи, я бросил свой обзор «Нового Пути» и сделал запрос у Духовецкого, почему он ничего не хочет знать о «Новом Пути»?[420] На запрос этот я до сих пор ответа не получил. Я напишу еще раз. Пока не будет получен ответ, не пишите ничего для Приднепр<овского> Края! Мне страшно хотелось бы дать Вам заработок в этой газете: уже эгоистическая цель вынуждает меня хлопотать об этом: из первого же гонорара Вы должны отложить сумму, необходимую для путевых расходов из Москвы в Нижний и обратно. Я жду Вас в гости надолго летом… Некоторым ответом на страшный вопрос об астартизме, которого Вы касаетесь в своем VI письме[421], служит, по-моему, то, что Вы писали мне о сумасшествии и что Вы писали Мережковскому или Перцову («Новый Путь») об оргиазме; я думаю, что сумасшествие (не вследствие удара головой о тумбу), а Нитшевское, оргиазм Розановский суть явления психофизиологические и интеллектуалистические тою же сущностию астартизма. Астартизм же часто наблюдается на улицах Москвы; это схождение с рельс конки. Простите: я склонен сегодня говорить благоглупости. Но право же, отчасти это так. Движение духа по телеологическим рельсам, ведущим направо, коварно переводится стрелочником на рельсы параллельные (пока), но в конце концов приводящие налево; случается же это, когда кондуктор, полагаясь на Цель, притягивающую вагон (Causa finalis[422]), небдителен до такой степени, что не замечает легкого толчка, знаменующего перевод вагона на другие соседние рельсы, ведущие не к Космосу, а к Хаосу… Напрасно Вы называете свои стихи убогими и напрасно Вы некоторые из них не покажете Коле[423]. Очень жаль, что Вы не занимаетесь вовсе немецким языком. Немецкая поэзия и философия тесно связана с немецким языком и немецкой музыкой; гораздо теснее, нежели то наблюдается у других наций… Еще не так давно я читал Zarathustra, часть III Vom Voruebergehen[424] и думал о Вас; чтобы оценить до конца не только философию, но и музыку этого параграфа, не только суть, но и дух речей Нитцше, – необходимо читать это по-немецки… Положительно так никогда ни один смертный не говорил прозой… – Из стихотворений Блока особенно сильное впечатление произвело на меня последнее: Сбежал с горы etc.[425] Это такой тонкий змеиный упоительный ужас, какой я не раз ощущал… И опрокинувшись заглянет мой белый призрак им в лицо…[426] Кириллов за шкафом[427], сон мой о двух змеях… Ужасный сон… Но я спокойнее, вспоминая его теперь.
«Новый Путь», говорите Вы, «намеренно тускл, сух, сериозен». И фатально не объединен в терминологическом отношении… Полон недомолвок. Приблизительных касаний. Заигрываний с партиями… Я очень строг; я придираюсь. Я злюсь. Вот где и bizarrerie, и смешение аллегорического с символическим, символического с воплощенным… Статья Мережковского в чтении понравилась мне больше, нежели выслушанная как лекция…[428] Ваше «письмо»[429], дорогой мой, при всей халатности, с которою Вы, изумленно озираясь, очутились среди публики, будучи неожиданным толчком выброшены из Ваших внутренних интимных апартаментов, при всей нечесанности и неотесанности эпистолярного «неглиже с отвагою» является самым умным, самым талантливым и самым сильным словом во всей книжке. Оно произвело на меня почти зрительное впечатление… Я смеялся и радовался в душе за Вас. Рассказ Леопарда Дионисова – «интересен»[430]. Он очень понравился Анюте, которая до тех пор терпеть не могла писанья Зинаиды Николаевны. Л. Денисов – есть такой составитель разных клерикально-колокольных книжек…[431] Какой это рассказ просит у Вас Перцов?? Скоро ли выйдет Ваша новая симфония?? Да! Отрывок из Вашей статьи об Олениной я прочел в «Волгаре», который перепечатал его и снабдил quasi-ядовитыми замечаниями и массою????!!!! – [432]. Вы, конечно, получили от меня посланный Вам под бандеролью № „Волгаря“ со статьею о «Новом Пути»?![433] Обезьяна, совсем напрасно скрывающаяся под неподходящим прозвищем «Антропов», принадлежит к породе тех критиков, о которых Жан-Поль Рихтер так много и остроумно распространялся в своих сочинениях[434]. Что Вы хотите? Неужели Вы думаете, что наша «интеллигенция», которую хотят мирить с церковью, способна выйти из позитивистического нужника?
1 февраля. Сегодня у меня был в гостях преосвященный Назарий. Сегодня же по одному делу зашел ко мне городской голова Меморский[435]. Вот два человека: оба русские (по происхождению из духовного сословия), оба умные (хотя с неба звезд не хватают); оба с высшим образованием; оба довольно светские люди; один производит впечатление изумительной культурности; другой, Меморский, «интеллигент», «прогрессист» – азиат в сюртуке. Он кричит о гласности, пока его не задели… А как задели, что оказывается менее терпим, нежели о. Назарий… Нет! Представители церкви, пожалуй, даже в массе более гибки, нежели представители интеллигенции. Ваше последнее седьмое письмо ко мне[436], написанное «по какому-то внутреннему побуждению, даже… приказанию», обнаружило беспокойство обо мне, то же беспокойство, что охватило Алексея Сергеевича, о чем он и сообщил мне одновременно с Вами… Очевидно, оба Вы чувствовали, что я в опасности. Так это и было. Ваши письма пришли кстати. Теперь мне легче. Подробнее об этом в письме Петровскому[437]. Вы пишете: «События не оставят нас в стороне… Все же мы званы поддерживать славу Имени Его. Будем же праведниками света и свет в нас засветит и тьма не наполнит нас…» Тьма пыталась наполнить мою душу, и я особенно часто вспоминал свой «Denkspruch»[438] (Первое послание Петра. Гл. вторая, стих IX[439]), который выпал на мою долю во время конфирмации, как руководящее изречение на всю жизнь… Об этом лютеранском обычае я рассказывал Алексею Сергеевичу… Я с Вами согласен в том, что Москва один из центров. Но кто знает: не было ли в царствование Августа в Риме, Афинах, Александрии у некоторых ощущения, что центр именно там, где они, имеющие уши, слышат???[440]
Пишите! Христос с Вами.
Ваш Э. Метнер[441].
Вот Вам образчик отношения нашей интеллигенции к такому важному вопросу как «ересь». Не только наши отцы и старшие братья, но и наши сверстники и младшие братья – безнадежны (при жизни)… Разве наши дети и внуки поумнеют. Мне жалко «Новый Путь», но едва ли он жизнеспособен. Нас очень немного, дорогой Борис Николаевич!
2 февраля 1903 года. Отрывок из Фауста.
Faust:
Mephistopheles:
и т. д. и т. д. – до конца мефистофелевской реплики (Фауст, ч. I. Сцена в кухне ведьм).
Мне кажется, я недостаточно ясно в письме Петровскому сказал о девятой симфонии и Парсифале[443]. Мотив IV ч<асти> IX с<имфонии> при всем напряжении святости в нем не свободен от прометеевского элемента, присущего Бетховену, элемента, от которого лирик всегда себе верный и равный, как Бетховен, не мог и не намеревался освободиться. Основной же мотив Парсифаля при таком же напряжении святости не свободен от некоторой искусственности, к которой театрал и Uebermensch[444] Вагнер прибег, дабы скрыть, замаскировать неистребимость в себе титанизма. Он принуждает себя дать святость до конца. Ясно??. До свиданья.
P. S. Я забыл спросить Вас: получили ли Вы оба мои письма, которые я послал Вам одно вслед за другим в ответ на Ваше 5-ое?[445]
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 10. Фрагмент опубликован: ЛН. Т. 92. Кн. 3. С. 195.Ответ на п. 16.
20. Белый – Метнеру
Москва 1903 года февраля 14-го.
Простите мое долгое молчание. Оно вызвано не от меня зависящими причинами. 1) Легкое нездоровье, парализовавшее всю мою активность и притом настолько, что я не мог даже написать Вам письмо – а это для меня только удовольствие. 2) «Мир Искусства» просил у меня статью, и надо было ее закончить. Я и так опоздал к мартовскому номеру, где будет только одно из моих хождений на руках с разведением ног к ужасу обывателей, если только «Мир Искусства» дерзнет напечатать сию дикую штуку. Так что статья, быть может, выйдет в апреле[446]. 3) Еще с незапамятных времен залежались у меня письма З. Н. Гиппиус и Блока[447], так что нужно было сперва им ответить[448]. Все это отсрочило мой ответ. Но лучше поздно, чем никогда.
Эти дни были снежные вихри. Думается мне – замели они пылевые столбы серых шалунов, устраивающих жуткие шутки над Москвою, а может быть и над Россией. Хотелось бы отдохнуть для нового боя. А бой будет. Это заканчивается период, начавшийся с 1898 года. Это сводятся концы с концами – думается мне. Один из столбов замутил ясную поверхность между нами, прикинувшись «здешним», но «Да воскреснет Бог!»[449]. Разве могут быть между нами какие-нибудь особенные несогласия! Это – немыслимо, а если бы даже и были – что ж из этого. Принцип никогда не облечется плотью и кровью; человек останется впереди всего. Выписка, сделанная Вами из моих довольно-таки неудачно-корявых слов, означает следующую для меня простую (но мной хитро высказанную) истину: Я никогда не удовольствуюсь Символом. Всякое религиозное событие для меня «само по себе», т. е. воплощено. Выражение «объективация этого воплощенного на степень идеи» означает: я не принимаю никакого участия в воплощении религиозных истин; я не теург; но я извне созерцаю эти волевые движения, призывающие магически «божественные вибрации» (простите!); созерцаю их идею: ибо воля и идея, хотя глубоко не совпадают друг с другом, но лежат на одной плоскости по отношению к «сократическому человеку», о котором Ницше говорит, что его время проходит[450]. Если же принять во внимание все то, что В. Соловьев почти гениально говорит о классификации идей в «Чтении о Богочеловечестве»[451], то Мировая Идея (София) будет почти у порога сущности (метафизической воли). Равнодействующая между теософией и теургией будет заключаться в расширении идейности в вещах до степени родовых и т. д. идей. А так как идея по существу своему символична (во временном вневременное – σύμβολον), то в расширении и углублении символа и будет заключаться это слияние теософии, как начала и теургии, как конца. Скажу далее: эзотеризм эзотеризма, т. е. символ символа уже близит к воплощению. Узел между символическим и воплощенным заключается в том, чтоб найти меру между этими оттенками сокровенного. Между теософией, понимаемой символически, и между теургией, понимаемой окончательно и буквально (т. е. соединенно до конца), есть узел, но не пропасть. Эта пропасть была бы в том случае, если бы теософия только занималась аллегориями. Но я верю, что она глубже, т. е. что она символична. Здесь касаюсь о четырех стадиях 1) как таковое, 2) как аллегория, 3) как символ, 4) как воплощение, т. е. опять-таки как таковое, но иною, истинной реальностью. Как будто здесь на четвертом понимании отпадают несовершенства первых трех стадий (придатки и отягощающие хвостики) и действительность является законченно цельной. Это опять-таки возвращение (везде возврат). При таком естественно-последовательном переходе от образа сквозь символ (т. е. музыку, ибо самый совершенный символ – музыкальное сочетание звуков, вопиющее к Вечности) к новому образу («Новая земля, новое небо»)[452] уничтожается бездна между феноменальным и нуменальным Канта. Между тем отсеченность нуменального как вневременно-внепространственного создает весь тягостный ужас, зной без исхода кантовской философии, понимаемой формально, т. е. логически. Вы понимаете – тут крышка, грозно нависающая – в этих априорных формах познания, не высвеченных символом. Это все еще только вторая стадия аллегорическая, завершаемая гносеологией, как наиболее совершенной и наиболее безнадежной философской формой изыскания. Отсюда – или 1) ужас отчаяния, 2) или последовательное умерщвление самого себя – разложение души с атрофией чувства и воли, 3) или выход к символам. В символизме мы уже стоим по ту сторону даже гносеологии; гносеология – это уже оставленная нами оболочка; мы имеем право на это всей историей философии. В символизме к пяти чувствам прибавляется и шестое – чувство Вечности: это коэффициент, чудесно преломляющий все; тут после душного, замкнутого пространства, ограниченного временем, пространством, причинностью, раздается радостно-освобожденный и вместе недоумевающе-испуганный возглас: «Вижу, знаю». Тут впервые появляется язык вершин, не боящийся противоречий – тут танец веков, тут уже не метр мира, тут чистый, божественный ритм (ах, как вы чудесно писали Ал<ексею> Серг<еевичу> о ритме и метре[453]. Только с одним я не согласен: с необходимостью тысячелетий для уловления ритма мира). Да и кроме того: при логических формах (аллегориях) оставаться нельзя еще и потому, что ведь помимо ужаса гробовой крышки – кантовского ужаса в истории философии дан теоретический выход отсюда еще Шопенгауэром, который различием форм познания мыслящего от откровенного (интеллектуального) обосновал и предоставил для потомства право пользоваться так называемым «психологическим методом» – выдал патент на него. Ницше этим пользуется с правом. Ницше не философ, но он и философ, ибо и теоретически кровно связан с Шопенгауэром – этим достойным продолжателем Канта. Ницше связан с Кантом. Да. Это так.
Между тем слепые глаза и тугие уши ничего не видят и не слышат, фальсифицируя современный идеализм разогретыми пережитками.
Да, кстати: я еще ничего не писал Вам о забавной для меня истории с моим рефератом в филологическом кружке[454]. Тут вышла целая история. Я рассматривал формы как таковые, т. е. на первой стадии, иногда выкрикивая в виде реторических отступлений из области символизма (третьей стадии). Я обошел вторую стадию, т. е. гносеологический аллегоризм Канта. В некоторых местах при выкрикивании из области 3-ьей стадии я упомянул о «нуменальном», причем поставил этот термин в кавычках, ибо пользовался им условно; повторяю, центр реферата был на первой стадии. Я забыл при этом поставить всего две частицы: «как бы» нуменальное и поставил просто «нуменальное». Дурачки-кантята во главе с Фохтом уличили меня в незнании термина, употребленного Кантом!! А?! Тщетно я объяснял тресмысленность того не существенного для целого места – они ничего не поняли, и свели мой реферат к второй, аллегорической, т. е. гносеологической стадии, рассматривая его именно только с этой, единственно им доступной стадии. Теперь там вышел из-за реферата какой-то скандал, по поводу протокола Фохта, составленного о прениях по поводу его[455]. Впрочем, я ничего не знаю верного. Мне что-то передавали. Характерно, что Блок упрекает меня за другое (реферат с выбросом некоторых мест напечатан в № 12 «Мира Искусства»[456]): он пишет, что я недосказал многое, т. е. не свел всецело к Апокалипсису, т. е. он видит центр в этих несущественных отступлениях полу-мистического оттенка[457]. Вот что происходит, когда мистик и декадент вступает в сношения со студентами!!
Все это меня очень забавляет. Забавляет и лай доброго барбоса Трубецкого и бессильно-осторожные подтявкиванья Льва Михайловича Лопатина, который плачет надо мной, ругает меня, а при встречах позорно кривит душою. Дело в том, что он прочел «Симфонию», где, быть может, узнал себя в профессоре, бегущем жуликом навстречу жулику[458].
Дорогой Эмилий Карлович, большое спасибо за выдержки из Гёте. Прочел с большим вниманием и восхищался. А выдержка последняя про «Hexeneinmaleins» удивила и утешила, ибо я склонен рассматривать вопрос о 9-ом так же. Дело в том, что на восьмом приканчивается все. Если 9 = 1, то значит здесь мы имеем лишь возврат опять-таки к первой стадии, т. е. узнавание все тех же истин и тайн разными путями. Это – опять-таки периодичность возврата. Это «вечные упражнения» духа – упражнения в Вечности. Теософы говорят, что среди «7» ступеней каждая большая ступень распадается еще на «7» малых. Если принять во внимание, что «8» есть возвращение к «отчему лону», Он и Отец – одно, при 7-ом – белоголубая – бледноголубая встреча с Ним, то на символическом плане выступает все значение этого «und Neun ist Eins»[459]. Кстати «4» не есть ли 8⁄2, т. е. в малом, предварительном виде проекция «8-ми». Как на четвертом, воплощенном плане водворяется совершенство, так и на 8-ом – все земное сжигается и остается – старинное… Хотя последние слова мои – явная и сознательная натяжка, не опирающаяся на виʹдения.
Дорогой Эмилий Карлович, мне скорей было бы приятно, чтобы статья моя не была напечатана, ибо она очень и очень экзотерична, популярна[460]. У меня бы осталось чувство некоторого осадка. Так что я скорей доволен непомещением статьи. И во всяком случае не пошлю ничего больше в «Приднепровский Край». Мне очень приятно, что стихотворения Блока Вам нравятся. В III-ей книжке «Нового Пути» они будут[461]. Очень рад, что Вам нравится отрывок из моего письма, без моего ведома и разрешения напечатанный (это – наглость). Меня всюду бранят за него, да и я сам себя браню. Да и потом: они произвольно выбросили многие важные места, освещающие и углубляющие то, о чем я говорю[462]. И от всего этого получается какой-то глупо-непричесанный, мальчишеский оттенок, какое-то чириканье о глубоком. В результате это письмо – повод к моему «посрамлению» среди негодующих философутиков, которые узнали, что это – я. В результате я зол и на «Н<овый> П<уть>», и на свое письмо. Всякую нелепость отдела «частной переписки» теперь будут, чего доброго, приписывать мне. Вы спрашиваете – скоро ли выйдет моя «Симфония»? Да не ранее, как через год[463]. Она – в «Скорпионе», который медлителен и переполнен книгами. Туда же отдаю и свою «Третью Симфонию»[464]. В «С<еверных> Цв<етах>» 1903 г. будет мой драматический отрывок и стихи[465]. Надеюсь сорвать куш.
Благодарю Вас, Эмилий Карлович, за образчики интеллигентной тупости[466]. Безрадостно, безнадежно!.. Но надеюсь на… чудо?! Быть может, когда-нибудь, где-нибудь, что-нибудь будет в России… Когда-то Вы просили меня напомнить наш незаконченный разговор. Буду краток и субъективен, иначе пришлось бы увеличить письмо раз в двадцать. Итак, полагаюсь на чудо и на гений Вашей гибкости и тонкости в понимании.
I) сначала было так ; «ab» графический путь эволюции, где в «а»
и в «b» касания человека с Богом.
Этот путь был таков:
«ab» – русло Бож<ественной> воли – белое русло. После грехопадения произошел раскол, раздвоение, но не до конца, а в самом глубоком, внутренне-грядущем осталось соединение. После раскола стало так
На стадии волевой имеем
Раскол А _|_ В; вершина I налагается на 2; получаем
Вот что с одной стороны. С другой стороны имеем
1) Белое = полнота цвета = цвет Бож<ественного> Бытия.
2) Черный = все противоположное.
3) Серое = воплощение небожеского в образ и подобие Божеского.
4) Красное = относительное = сверк<ающий> белый луч сквозь серую пыль.
5) Розовое – очищение серого (все оттенки розового и золотистого, т. е. темновато-розового до полного обеления суть расчищение ужасной стаи).
6) Голубое = Внецветное, потуцветное (8) – сквозь белое (8). И чем тоньше цвет белого, тем синее, так что в небе имеем это двойственное, т. е. голубое (т. е. остатки тающего белого) и внецветное (Отчее символического плана). В небе намек на двуединство. Здешнее и тамошнее.
7) Белое = + 7 цветов спектра, т. е. цвет соединяющий. Пурпурное = цвет, соед<иняющий> линию спектра
= цвет нуменальный (Отчее на историческом (ветхозаветном) плане). Я и Отец – одно[467]; пурпурное (8) и белое (7) – не об одном ли? «Если дела ваши, как пурпур, как волну убелю»[468].
Если так на истор<ическом> – воплощен<ном> – теург<ическом> – плане, то на символ<ическом> плане не будет ли так:
Голубое (7) и Внецветное (8) не об одном ли?
8) Фиолетовое = Синее + Пурпурное = Внецветное + Голубое и Белое + Пурпурное. – Очень тонкий цвет. Тут как бы цветом дается какая-то мера, соединение между символич<еским> внутренне-религиозным путем и исторически воплощенным соединением, между «новыми» временами и пространствами и между вневременным и внепространственным. Здесь символизм и истор<ическое> воплощение на своих крайних ступенях как бы сливаются: это как бы два радиуса, выходящие на одну общую окружность.
И внешний знак этого – фиолетовое. Вот почему если красное есть напряжение, то фиолетовое найденный здесь условный, досмертный покой; недаром оба цвета на краях спектра и как крайние – законны. Но вот
9) зеленый – символ (4-ый цвет спектра
земной серединности, подобно тому, как серый есть символ премирно-нуменально-чертовской серединности. Зеленое – символ земности. Не оттого ли глухие, растительные организмы окрашены в зеленый цвет?
10) Если 1-ое Пришест<вие> Христа багряницей, жаром, огнем и кровию страдания, то второе – белым. Символическая же встреча с Христом, постоянно стоящим перед нами, – в голубом. Но в Христе и Отец, а Отец познается внецветным и пурпурным. Итак, априорно вывожу: В лике Христа встречаются цвета – Белый, Пурпурный, Голубой и Внецветный.
Тут же скажу Вам тайну: опытно я убедился, что в молитвенном созерцании Христа (мысленном) три цвета: Белый, Пурпурный, Голубой.
Христос пришел не водою (не голубым) только, но и кровию, и духом (белым). Внецветность же («о восьмом»), т. е. «Я и отец – одно» как символ новозаветности – эта внецветность есть умиленно-мягкий коефициент послевременной, старинной довременности, который вставляется во всякую новозаветную формулу.
Спешу заметить, что все, о чем я говорил по поводу цветов, то более, то менее (но всегда) опирается на некоторую интуитивность. Все это я не только внешне вывожу, но и «знаю», «вижу».
А теперь возвращаюсь к предыдущим схемам и вкратце совмещаю сказанное о стадиях рассудка и чувства со сказанным о цветах.
Вставляя 1) и 2), т. е. серое, в его графическое место «m» и «n», получаю: рис. № 2.
Соединение стадий рассудка и чувства на низших ступенях ведет к нуменально-смердяковски-карамазовской пошлости, а для глядения в нижнюю бездну, сверкающую, сквозь эту тучу серости порождает огненно-красное, т. е. либо ужас огня, либо <стра>дание<?>, а иногда и то и другое.
Исторический путь человечества от «a» к «d» и от «b» к «e» – ветхозаветен, труден – путь в гору. Линия de – момент взятия на себя грехов мира, и отсюда: первый момент христианства – красный, страдающий; второй – розовый, а розовость есть признак постепенного рассеяния ужасной, серой стаи, знамение того, что искупление мира совершается непрерывно – обеление риз кровию Агнца (см. Апок<алипсис>)[469]. Еще радость впереди, но ужасы минуют: отсюда: розовая сантиментальность христианства позднейшего вплоть до самого последнего времени (да и теперь еще мы в виʹдении белого не можем отрешиться от бледнорозовых рефлексов). Перевал по ту сторону линии «de» – это Голгофа – крест, упразднивший неискупленный доселе ветхий завет, – крест же есть символ четвертого (т. е. среднего, ибо всех посвящений 7) посвящения в мистерии глубокой древности. До линии «de» человечество не имело милого, вечно грустно-задумчивого с оттенком довременной, старинной родины (8-ое), а после «de» этот же оттенок и должен был занять первенствующее место. Если этого не случилось – тут вина европейских варваров. Итак, чтоб показать перелом, ломаю треугольник «aсb».
Получается фигура, напоминающая, что ∆ «abc» как бы насажен в плоскости, перпендикулярной на некий треугольник «xyz», где «x» соединение в духе и Истине, где «y» соединение во Христе, а «z» в Отце, т. е. вечная св. Троица.
Соединение по треугольнику «xyz» – свято, а по ∆ «aсb» (треугольнику еще не очищенному, где «a» – черное, «b» – черное, и лишь «c» – белое – серединно-нуменально-кощунственно). Здесь, срываясь, Мережковский впадает в ошибку, и эта ошибка коренная; и возражение о соединении не в том треугольнике было бы самым глубоким возражением Мережковскому, если бы его поняли, но… кто поймет?
Тут зафиксированы головокружительные ви́дения, открывающие путь в еще более головокружительное, для которого еще даже не настало время графического метода. Тут тайна. Но… понимаете ли Вы меня, дорогой Эмилий Карлович? Ведь я отдался субъективизму здесь, презрев все решительно, потому что иначе не мог бы говорить. Повторяю: здесь всё для меня виʹдения и натяжек графических нет. «Это» я всегда держу перед глазами, как азбуку «метода искренности», как константу теургически-теософского метода.
Повторяю рис. № 2
«abde» увенчанный конус серого – первая стадия опытного богопознания страхом и ужасом, предшествующая 2-ой стадии опытного богопознания радостью и любовью, лежащая между абсолютным неви́дением и совершенным ви́дением; в первой зоне – где прогоняют сквозь строй – характерны следующие цвета: черное, серое, красный ужас, коричневое (мера между черным и красным ужасом = красное + черное, не желтошафранное ли?). 4-ая стадия – Крест – красное страданием. Для второй зоны характерны цвета: розовый, белый, голубой, внецветный. Пролагаю это на символические стадии внутреннего пути.
(Мысли о Сатанаиле – старшем брате Христа[470]; зло = добру и т. д.
Секты: Манихеи, Богомилы, Гностики, Альбигойцы, элементы сектантства у Мережк<овского>, Розанова и др.)
Господь с Вами, дорогой и милый Эмилий Карлович. Остаюсь любящий и уважающий Вас
Борис Бугаев
P. S. Мой глубокий поклон и уважение Анне Михайловне[471]. Посылаю несколько стихотворений. ‹…›[472]
P. P. S. Как Вам нравится «Драма Жизни» Кнута Гамсуна?[475]
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 9. Помета красным карандашом: «IХ». Фрагмент опубликован: ЛН. Т. 92. Кн. 3. С. 196.Ответ на п. 19.
21. Метнер – Белому
Н. Новгород 27 февраля 1903 г. (накануне полнолуния).
Оба Ваши письма (VIII от 30 января и IX от 14 февраля) я получил, глубокоуважаемый и дорогой Борис Николаевич! Последнее Ваше письмо пришло вместе с февральским номером «Нового Пути», что и помешало мне Вам вскоре ответить. С Вашей рецензией о Драме Жизни[476] я согласен во всем, что касается производимого драмою впечатления, «нуменального»; но как драма, как форма, эстетически, это произведение Кнута Гамсуна не нравится мне; от Пана[477] я был в диком восторге. Читая Драму Жизни, я восхищался редко, моментами, и часто (простите), очень часто зевал от скуки. На обороте этой страницы Вы прочтете стихотворения одного декадентского савраса из местных жителей[478]. Я не читаю Пшибышевского (Шибздик); читает его Анюта[479] и согласна с Вашим отзывом о нем в P<ost> S<criptum’a>х Вашего VIII письма.
28 февраля 1903 года. Видели Вы репродукцию бюста Ницше работы Макса Клингера?[480] Это еще лучше, сильнее, нежели барельеф Курта Стевинга?..[481] Сестра Ницше и он сам (см. биографию[482]) свидетельствуют, что ни на одной фотографии не выходил Ницше – философ-поэт-музыкант, а Ницше-солдат. Но так как существует много фотографий и, притом, как профиль, так и фас, то талантливый художник, лично вдобавок видевший Ницше, может дать нам настоящего Ницше. Таким он является у Курта Стевинга (с орлом и змеей) и, в особенности, у Макса Клингера. Голова Ницше у Макса Клингера – нечто невероятное. Это самое замечательное лицо после Канта, Гёте, Бетховена. Ваше хождение на руках с разведением ног меня крайне интересует, и я намереваюсь абонироваться на Мир Искусства. Напишите мне, в каких №№ истекшего 1902 года были помещены Ваша заметка и реферат. Последний для меня важно прочесть. Ваше рассуждение об «объективации воплощенного на степень идеи» и о «равновесии между теософией и теургией» на этот раз вполне меня удовлетворило. Мне все только кажется, что Вы не совсем справедливы к Канту. Вы знаете его Пролегомены и Критику[483]. Но читали ли Вы его Traueme eines Geistersehers и Religion??[484] Его Die Macht des Gemueths?[485] Канта, в особенности (также как Гёте и Ницше), надо узнавать в подлиннике; надо больше читать Канта, нежели о Канте. Даже Ланге не дает истинного понятия о Канте[486]. А Шопенгауэр? Он самым бессовестным образом, ради подтверждения своей философии, объявляет Канта – атеистом. Кант считал Ад, Землю и Рай точными философскими терминами (см. его Religion (Kehrbach-Reclam, стр. 60))[487]. «Пропасть» (вернее ров, непереходимый для слабых ходоков), которую Кант вырыл между «феноменом» и «ноуменом», сохранит вечно свое значение и назначение. Философистеры и философутики будут знать свой «шесток». Области размежеваны. Друг другу никто не мешает. Опасность «смешать» и «смешить» ослаблена до minimum’а. На меня «отсеченность» нуменального никогда не производила впечатления «тягостного ужаса, зноя <?> без исхода», наоборот: чего-то освобождающего эту область от механичности <1 сл. нрзб> гносеологии. Шопенгауэр и Вл. Соловьев – представляются мне поэтому старомоднее Канта. Как Ницше – явление, возможное именно после освободительной строгости Канта (как в музыке строгий стиль предшествует свободному), – философ, поэт, музыкант и Вагнер – музыкант, поэт, философ вновь комбинируют, соединяют, символизируют то, что раньше «смешивалось», и что после Канта, его разумом обособленное друг от друга, способно стало к сочетанию не «смешному»… NB. В вагнеровской музыкальной драме (хотя я и очень плохо пока знаю ее) есть то, что Вы обозначили очень удачно «буквальностью в нуменальном». – Впрочем, дорогой Борис Николаевич, я не стою за верность моей мысли: я слишком плохо знаю и философию, и теософию (в широком смысле), чтобы претендовать на правильность своих заключений. Я знаю, Вам необходим Шопенгауэр, вернее, его волюнтаризм. Кроме того Вы, в качестве русского, ближе к Шопенгауэру, нежели к Канту, более германцу, нежели Шопенгауэр, в котором, говорят, было несколько капель славянской крови. Я же, как чистокровный немец, люблю Канта. Ich liebe meinen gemuethlichen Kant[488]. Впрочем, небольшой комментарий Вам дать могу, воспользовавшись вопросом о метре и ритме[489]; «Только с одним я не согласен», пишете Вы по поводу моей «теории ритма», «с необходимостью тысячелетий для уловления ритма мира». Смотря по тому, чтó разуметь под «уловлением»; я разумею: приблизительное, хотя бы, перенесение этого ритма (вернее: одного момента, невременного, конечно, этого ритма) сюда и включение его (хотя бы с натяжкою) в рамку метрики: например, 7/7, 9/9 и т. п. И вот для этого необходимы тысячелетия; и это человеку не под силу; ангелам – не надо. – Если бы Кант слышал меня, он со мною согласился, ибо он то же самое говорит о невозможности дискурсивного познания нуменального, гносеологии вещи в себе; интуицию он считает не познанием, а творчеством. И я полагаю, что ритм мира уловить можно творческим путем (как бы участвуя в творческом его движении), и для этого не надо тысячелетий; но другое дело, если Вы захотите передать субъективно уловленное другим; вот тогда необходим ряд поверок (вступает <?> гносеология, законы метрики) и тогда, тогда необходимо тысячелетие личного земного бытия…
1 марта 1903 года. Итак: Кант о вещи в себе (а я о ритме) верно говорит, утверждая, что она непознаваема. Непознаваема позитивистически; но возможны: «оправдания», «догадки», творческая аналогия; откровение; орган – интуитивный разум… «Творить – значит видеть» – сказал Г. Ибсен в своей речи студентам![490] Неужели он под словом видеть разумел обыкновенное зрение и обыкновенное сочетание зримого? Студенты, может быть, так и поняли! Итак: существует двоякое зрение. Кант вовсе не отрицал второго; он был только против смешения обоих видений в какую-то bizarre фантасмагорию, да и то в науке. Кант нигде не говорит, что невозможна разумная (Vernunft) интуиция, он говорит, что невозможна рассудочная (Verstand), т<ак> к<ак> рассудок в противоположность чувству, которое интуитивно, – дискурсивен. Канта всеми силами стараются (философутики) поставить на место надоевшего Конта. Конт служил верою и правдою, ибо его легко было окургузить, отшибив ему мистическую шишку; ну а Канта придется лишить головы, чтобы он мог продолжить роль философского «болвана», которую несколько десятилетий с успехом играл Конт. И выходит, что вся разница между старым и новым философским богом сводится к тому, что раньше кричали о, а теперь а.
Читая Вашу «явную и сознательную натяжку» о 4 = 8⁄2 (т. е. проекции 8-и; «все земное сжигается, остается старинное»), я сопоставил: старую ведьму, верхом на козле вылетающую в трубу на шабаш в Брокен в Вальпургиеву ночь[491], и «жил был у бабушки серенький козлик: вот как, вот как, серенький козлик? Бабушка козлика очень любила: вот как, вот etc.»[492], и Ваша натяжка не показалась мне уж чересчур таковою. – Вы пишете, что скорее довольны, что Ваша статья не была напечатана в Придн<епровском> Крае, т<ак> к<ак> она очень и очень экзотерична. Я не разделяю Вашего удовольствия и вот почему. Эзотеричны Вы всегда будете и сами по себе. Вам надо упражняться в экзотеричности, если Вы придаете серьезное значение своему писательству. Работая в Мире Искусства или Новом Пути, Вы никогда не выработаете себе экзотеричности и никогда не приучите к себе публику. А Вам это необходимо хотя бы для того, чтобы не тратить драгоценного времени на добывание хлеба, работая в каком-нибудь департаменте или т. п.; Вам необходимо быть литератором по профессии (избегая, конечно, дурных сторон ее; впрочем, за Вас бояться нечего в этом отношении), а для этого надо научиться говорить с толпой. Конечно Ваш Hauptwerk[493] будет эзотеричен; но Hauptwerk обыкновенно не дает доходу и меньше всего читается большинством, на которое следует смотреть отчасти как на дойную корову. Огромное спасибо за «продолжение начатого осенью в Москве разговора».
2 марта 1903 года. Сейчас перечитываю Вашу эзотерическую лекцию… Все понятно. Все очень хорошо. Поразительно! Поразительно – «три цвета – в молитвенном созерцании Христа»; я понимаю это; но пурпурный как-то исчезает из мыслей (у меня лично); остается белый и голубой; голубой особенный, нигде в природе не встречающийся, по котором я тоскую… Чудно сказано Вами о «милом, вечно-грустно-задумчивом, с оттенками довременной старинной родины»… Это Вы понимаете так, как никто из живых ныне людей, за исключением Коли…[494] Говорю живых, ибо Гёте и Бетховен понимали все. Ich ging im Walde…[495] и т. д. «Если этого не случилось», пишете Вы дальше (т. е. этот «оттенок» не занял подобающего места), то «тут вина европейских варваров». Не есть ли это вина всего человечества?.. Не сказалось ли тут влияние Ницше на Вас? Drang nach Sueden?[496] Ведь северяне глубже понимают южан, нежели наоборот. Впрочем: может быть, я Вас не понял? – «Срыв», «соединение не там», как «коренная ошибка» Мережковского указана Вами в Отрывке из письма, помещенного в «Новом Пути». Так, по крайней мере, я понял слова: «преждевременное соединение, когда ступени развития чувства и разума не пройдены до конца, ведет не к исполнению Св<ятым> Духом, а к оргиазму»[497]. Разница в форме выражения: в письме ко мне Вы выразили эту мысль графически, а в письме к Мережковскому: психологически. Я с своей стороны прибавлю к сказанному Вами только одно следующее свое впечатление. Мне крайне противно это: «начнем же делать!» Мережковского и «не до книг и не до больших статей теперь: время дышит нетерпеливо» Розанова; этот спех, эта гонка, эта торопливость («Вы, как русский, человек торопливый», пишет Бенуа Мережковскому[498]) ни к чему, кроме оргиазма, не приведут. Это во сто крат хуже, чем, например, вакханалия чувственности у Рихарда Вагнера или богохульство и богоотрицание Ницше, ибо здесь кончается раздвоенность (лучшая часть Ницше и Вагнера стремилась к Небу и Богу просто без заигрываний) и пропадает весь человек. Розанова мне как-то менее жаль, но Мережковского я люблю; мне страшно хотелось бы, чтобы он выжидал, только выжидал, вот как мы с Вами. Я понимаю, что, с моей стороны, смело так «решать» судьбу Ницше и Мережковского, Розанова и Вагнера. Но ведь я не виноват, если ужас Ницше и Вагнера, когда они упражняют свои гениальные силы, поворотив спину Христу, не вызывает во мне того беспокойства, как хождение по канату между двумя безднами Мережковского… (Бенуа смешон со своим предположением о действ. «trente ans»[499]). Из приведенных Вами стихотворений Блок мне на этот раз меньше нравится. Ваш «Возврат» – очень хорош: Вы отлично понимаете гнома, старинное, земное, зеленое, из которого (зеленого) однако удалено все змеиное… оттого и уютность: где змея, там уж не может быть уюта… Кстати, не говорите этого, а также о бабушке и сереньком козлике Алексею Сергеевичу: он не одобрит этого. Я знаю…
3 марта. NB. Очень важный вопрос: (прошу продумать!): I посл. Павла Коринфянам, гл. 14. glvττaiVlalein![500] Что это значит? И не ошибка ли переводчика вставить «незнакомый»?[501] Не противопоставляется ли в этом изумительном месте эзотеризм – экзотеризму? Причем экзотеризм есть пророчество (нечто бурное, фантастическое, невыяснившееся, смутное), а эзотеризм – γλῶττα – язык, нечто совершенно ясное, ослепительно чистое «белое» и потому непонятное обыкновенным людям. Апостол Павел, радея о церкви, т. е. обо всем обществе, советует не только говорить «языками», но и пророчествовать, чтобы назидать всех?[502] Что Вы на это скажете? И возможно ли понять до конца это место, принимая вставку «незнакомый»?
4 марта. Только что получил письмо от Алексея Сергеевича[503]. Скажу подробнее о нем после. А теперь, чтобы не забыть, спрашиваю Вас: чтó скажете о Фаусте и Маргарите Врубеля? Алексей <Сергее>вич восхищен[504]. Но не распространяется. Распространитесь Вы. Только, ради Бога, не спешите. Садитесь писать мне только если Вас тянет к этому «удовольствию» и если есть время… Петровский пишет, что в Москве нет настоящей весны[505], но зато солнце (в Нижнем, по крайней мере) – совершенно белое. Я раньше никогда не замечал такого цвета: прямо смотреть можно. И не серое, а именно белое, молочное.
Когда Вы написали мне о смерти Соловьевых, я подумал, что это описка (их вм<есто> а). Потом получил Новый Путь, где и прочел некролог…[506] Что делает их бедный сын?[507] – Вы пишете о биографии Ферстер-Ницше, что кто-то упрекает ее в искажении фактов. Но кому же лучше знать факты, как не сестре, всю жизнь ухаживавшей за братом?.. И затем: что такое факт и его искажение? Что Гёте был двадцать лет в связи с Христиной Вульпиус и на двадцать первом с ней обвенчался – это факт; что Гёте написал в честь ее Римские элегии – это тоже факт[508]; а вот Христина Вульпиус, будто бы, была «кухаркою» – это искажение факта; для тех же, кто последнее считает фактом, искажением оного является написание в честь ее Римских Элегий. Во всем, что пишет эта чудная женщина, столько внутренней символической правды (и притом невольной, непреднамеренной), все так гармонирует с автором Geburt der Tragoedie[509] и Zarathustra (каким он нам: мне, Вам – представляется из этих сочинений), кроме того, она так документально подтверждает приводимые факты, что надо задаться предвзятою (и злобною) целью, чтобы приводить какие-то контрдокументы… Вся работа Ферстер производит умилительное впечатление «жития». Как только выйдет второе отделение второго тома[510], я немедленно приобрету себе. Как обращик вышеупомянутой непреднамеренной символической правды см. стр. 57 II тома, Отделение I. Die Bergpredigt auf dem Monte-Bré…[511] Читали в газетах о Гарнеффере? Ученик Ницше? Он пишет, что могущественнее, прекраснее всего Ницше был в гробу; он казался погибшим богом![512] Это важно сопоставить с отсутствием всякой красоты в мертвом Вл. Соловьеве.
В девятом письме Вы пишете, что легкое нездоровье парализовало всю Вашу активность и притом настолько, что Вы не могли даже написать мне письма, а это для Вас только удовольствие… Это и огорчило и утешило меня. Огорчило потому, что Вы так поддаетесь (или, быть может, умышленно отдаетесь) парализующему действию недомоганий тела. Утешило, ибо легче стало на душе при мысли, что не виноват я в слабости своей активности, раз 10 лет, 10 лучших лет моей жизни я находился почти в непрерывном удушьи. А до удушья – пребывал в гимназическом кошмаре, который, быть может, способствовал появлению этой болезни, не покидающей меня и по сию пору. Конечно, болезнь мне многое дала, на многое раскрыла мне глаза, утонила мои чувства и т. д. и т. п. Я понимаю и ценю «священное» ее значение. Но все-таки с тоской думаю об утраченных силах: болезнь слишком мало оставила мне их. Лучше бы несколько менее созерцать, зато сделать хоть что-нибудь. Когда-нибудь я при случае вспомню и вернусь к оригинально сложившейся моей судьбе. Теперь мне тяжело говорить об этом… Обращу Ваше внимание на след<ующее>: какова должна быть сила гениальности Ницше, если он, невыносимо страдавший с 25-тилетнего возраста и до самой смерти[513], мог столько сделать!? – Меняю тему: в окрестностях Н. Новгорода появились… грачи. Пахнет весною. Губернатор ездит по губернии и совершает ревизию. Вместе с ним начальник его канцелярии, который просматривает входящие и исходящие всех присутственных мест и полицейских управлений. Идут усиленные приготовления к открытию мощей преподобного Серафима…[514] А у нас гостит Марья Михайловна[515], неугомонная шалунья, сестра Анюты, та самая, которая с Алексеем Сергеевичем играла в салки во всех залах Благородного Собрания. Кстати: Ал<ексей> Серг<еевич> ничего мне не пишет.
Пользуюсь отъездом Марьи Михайловны и передаю ей это тяжеловесное в почтовом и иных отношениях письмо, которое, надеюсь, будет передано Александром Михайловичем Вашему педелю[516]. Желаю Вам здоровья и терпения для экзаменов. Господь с Вами, дорогой мой! Ваш Э. Метнер. Анюта кланяется Вам[517].
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 11. Фрагмент опубликован: ЛН. Т. 92. Кн. 3. С. 197.Ответ на п. 18, 20.
22. Белый – Метнеру
Москва. 03 года. Марта 3.
И опять, и опять я пишу «все о том же»; пронеслась вторая волна недобрых вибраций, которые, однако, если держаться крепко за белое, голубое или розовое, совсем не опасны, а только разве что начнут рвать одежду – сорвут шляпу. И сейчас же мысль о Вас – как Вы? Заметили ли? Благополучно ли отнеслись?
И вот пишу…
Я не знаю, откуда берутся эти проносящиеся друг за другом астральные облака – гряды туч, гонимые бурей. Я не знаю, как Вы – я значительно окреп к перенесению всяких бурь сравнительно с прошлым годом, так что уже и надеюсь совладать, преодолеть ужас насмешкой к нему. Еще в прошлом году проносившиеся бури пронизывали, могли пронизывать центр моего главного. А теперь они больше вьются вокруг, задевая сбоку. По словам А<лексея> С<ергеевича>, теперь в Сарове тоже буря[518]. Весна и первая половина лета будет тревожна, а осень – благодатна и мирна. Таковы слова А<лексея> С<ергеевича>, а я неоднократно убеждался в его чуткости в этом отношении.
Все чаще и чаще мне начинает казаться, что старец Серафим – единственно несокрушимо-важная и нужная для России скала в наш исторический момент. Величина его настолько крупна, что у меня неоднократно являлось, по отношению к нему, особое, неразложимое чувство – чувство Серафима – напоминающее в меньшей степени… Христово чувство, но о другом… Люди, знающие, что такое молитвенное созерцание Христа (наступающее после длинной молитвы обращения), или чувствующие внезапный приход, невидимое приближение Его, – до некоторой степени заговорщики… Не заговорщики ли во Христе мы? Не анархисты ли мы по отношению ко всему, что прямо вопреки Ему? (Кстати: я ужасно легко себя чувствую со всяким анархистом – мы понимаем друг друга, хотя и о разном – мы). Мне хочется, чтобы мы были и заговорщиками в Серафиме – анархистами во имя его. В самом деле: многое темное, касающееся Серафима, есть, быть может, лишь внецветное, восьмое – новозаветное слишком новозаветное[519]. Вот пункт важный и драгоценный для психологического анализа: где историческое христианство черно (ужасно) и где оно внецветно (о восьмом, Отчее), т. е. невыносимо нежно и мило – несказанно, а внешне высказанно – кажущееся ужасным. И к чему относятся «старушки» – к 1-ому или к 8-му? У Исаака Сирианина (аскета) очень много кажущегося черным внецветного; теперь я понимаю, отчего его неофитам не рекомендуют читать (где слабым очам различать черное от внецветного?). Вот вопрос: аскетизм исторического христианства черен или внецветен по преимуществу (по осуществлениям)? Как ветхозаветно-пурпурное-Отчее на плоскости воплощения легко смешать с огненным ужасом третьей стадии (грехи, как багряное) внутреннего пути (огонек Денницы и огонек Отца – раздвоение нижней бездны – срыв), так и черное (1-ой стадии) и внецветное (8-ой стадии) часто сливаются на плоскости символа для неопытных, но дерзновенных богоискателей. Тут вся неоценимая, сокровенная глубина Его слов об Отце: «Принимающий Меня, принимает и Отца»[520]. Везде Отец сквозь Христа в Новом Завете, и обратно: Христос сквозь Отца в Ветхом. Изображаю графически.
1) В Ветхом Завете всегда «a» на «c» дает «b». 2) В Новом Завете «b» на «c» дает «a». Христос в «b» занавесил нижние бездны – дал возможность не смешивать пурпурное с огненнокрасным (желтокрасным), а познавать внецветным сквозь белое и голубое.
Был я у Николая Карловича[521]. Слушал его исполнение бетховенской сонаты – кажется, ор. 14 (или сонаты № 14 – не знаю). Это – сплошная несказанная гениальность; действительно: выше Бетховена никогда не существовало большего гения по силе углубленных и созидающих начал (мы говорим об искусстве, конечно). Прекрасно «Schkerzo infernale» Николая Карловича[522] – вот здесь сила буревых налетов – пролетов, столь характерных для современности. Как я верю в Вашего брата, как надеюсь на него!.. Ал<ексей> Сер<геевич> говорил мне, что недавно написал Вам о картине Врубеля «Фауст и Маргарита»[523]. Я уверен, что будь Вы на выставке «Мира Искусства», Вы заболели бы даже от силы и глубины этой картины (признаюсь – я всего два раза был на выставке, но образ Фауста, ведущего под руку Маргариту, которая в свою очередь длинной и бледной рукой срывает, проходя, маргаритку, врезался нестерпимой ясностью в мое сознание). Вот ходят они, кружатся – оборачиваются; уйдут из рамки картины, где останется лишь декоративный пейзаж – и опять вернутся; в это время им Кто-то аккомпанирует неизменно оборотами веретена – шубертовской музыкой к «Песне Маргариты»[524]. И эти обороты веретена суть обороты времени. Если я остался здоров, а я едва не занемог от этой картины, – то только потому, что Гёте мне менее известен, нежели Вам, а потому я, вероятно, и не мог до конца воспринять «это» идущее от Гёте и преподносимое публике в репродукции (транскрипции) Ницше – это «вечно-женственно» – жалобное и вечно-фаустовское – любопытно-мужское… Оно приходит и уходит – и приходит под звук веретена. И эти обороты веретена суть обороты времени.
Не забывайте меня, дорогой Эмилий Карлович, и простите, если редко и сравнительно мало пишу Вам – бледно пишу. Но я устаю: надвигаются государ<ственные> экзамены и все еще не поданное мною сочинение[525]. Поэтому я так бесцветно вял. Сообщите о себе. Буду ждать с нетерпением. Господь с Вами.
А пока остаюсь глубокоуважающий Вас и горячо любящий
Борис Бугаев.
P. S. Мое уважение и сердечный привет Анне Михайловне[526].
P. P. S. Посылаю этот маленький песенник «о прошлом».
P. P. P. S. Получили ли Вы мое предыдущее письмо?[532] Кажется, я послал его незаказным и при этом не наклеил достаточное количество марок…
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 10. Помета красным карандашом: «Х».
23. Белый – Метнеру
Сперва отвечаю в порядке Вашего письма. Вы спрашиваете о Сереже: он спокоен. Он принял свое несчастие героически – иначе быть не могло. Еще в день смерти своих родителей он говорил мне, что ко всему приготовлен (казалось – он уже знал, что и мать не будет жива – он все знал). Он готовился к ужасу, зачитываясь «Чтением о богочеловечестве»[533]. Говорил: «Во мне поднялась волна мессианических чувств, и она вынесет меня…»[534] В те дни стояли метели с шумом и свистом – и неслось, проносилось, заметало границы между жизнью и смертью. Мы придавали этой сладкой, снежной музыке все то значение, которое заключено в ней: «Метель» Николая Карловича[535] – наш, утонченно-высвеченный, новый, христианский хаос с просветами лазури – Его Милым голосом из-за бури. Эти были радостные дни. Приблизилось небо. Я радовался над могилой Соловьевых. Серафим прошел где-то недалеко от меня.
И неслось, и неслось – проносилось, вопя и взвивая снежнометельные восторги. Когда хоронили Соловьевых была метель. Служили литию. Потом закапывали. Недалеко торчала сосна. Два раза она взревела, взмахнув руками. Это было тогда, когда диакон молился за них. И эту жуткую милость присутствующие называли горем. Смеялся я про себя. И Серафим прошел где-то недалеко от нас.
Да.
Потом Сережа ездил в Киев[536]. Теперь он вернулся оттуда. Он живет один. У него отдельная квартира[537]. Мы собираемся у него, пьем чай и вспоминаем его родителей, чаще со смехом, чем с огорчением. В Соловьевых я потерял одних из самых близких людей себе. Какое блаженство – и радость, радость…
Постепенно все перебираются на зимние квартиры. Дачи пустеют. Это ничего. Укладываешься – пора в город[538]. Знакомые присылают приветы. И Серафим, Серафим…
Да.
Простите этот растерянный тон, но что же делать нам, Эмилий Карлович, как не поникать, слушая радостно-звенящую, пронзительно-грустную струну, пронизывающую время.
Это лейт-мотив Серафима, кивающий мне, – не то это белый, переломленный пополам смеющийся старик, не то грустно молчащий человек с мягкими усами и в больничном халате – тоже в белом – тоже святой. И вот – путается – Ницше, Серафим. Серафим, Ницше. Оба прошли – пришли. Один окапывал святое место, другой навсегда замолчал, потому что все узнал. Когда начинали играть на музыкальном инструменте – он тихонько рычал, «зная». Больше и больше мне кажется, что полет через пропасть ему удался, а то случайно неловкое движение, которое он сделал в тот момент, когда скрывался от нашего взора, мы приняли за окончательность безумия его. Но он не упал, не свалился, а только споткнулся на краю пропасти, перепрыгнув. Бог мне судья, если он не восхищался тогда, когда на всю Европу «они» огласили его безумие[539]. Ницше – святой, и биография его должна быть «житием».
И вот опять этот звеняще-надорванный, радостно-удивленный аккорд из неизвестных далей пробил оконные стекла, и хочется крикнуть: «Серафим, Распятый Дионис! К вам иду».
И, быть может, где-нибудь в соседней комнате поют цыганский романс леопардовым голосом Вяльцевой: «Приди ко Мне, прии-дии ко Мнее!..»[540]
И что это?
Но ничего не видишь, ничего не слышишь. В Девичьем Монастыре горит пунцовая лампадка на могиле Соловьевых[541] – пунцовая, потому что Рачинский в знак памяти повесил ее на могилу. Дело в том, что перед смертью Михаилу Сергеевичу Соловьеву понравилось одно мое стихотворение, где фигурирует пунцовая лампадка, и он во многих местах читал его. Вот оно:
Это читал Михаил Сергеевич. А теперь он не читает, но лежит. И над ним дрожит, тоже дрожит красная лампадка.
Ольга Михайловна каждый день наливала мне чаю, и спорила, спорила со мной, а теперь в их пустой квартире зияет черное, кровяное пятно в том месте, где она упала (она застрелилась – впрочем, это не важно).
А мы уже собираемся в других местах, и смеемся, вспоминая Соловьевых.
Вот все, что мы можем сделать для их памяти.
Вы спрашиваете, в каком № «Мира Искусства» мой реферат? В № 12‐ом[543]; я постараюсь его Вам прислать, хотя там лишь выдержки из него.
Дорогой Эмилий Карлович, начал писать Вам длинное письмо, но вот вспомнил красные лампадки, и какое-то сладкое бессилие заставляет меня прикончить его. Кто-то, удаленный, поет: «Приди ко Мне, прииди ко Мне»… И я все обрываю…
На днях буду писать сериозно. А пока простите и прощайте, мой дорогой и многоуважаемый Эмилий Карлович. Мой нижайший поклон Анне Михайловне[544].
Весь Ваш Борис Бугаев.1903 года. Март 19.РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 11. Помета красным карандашом: «ХI».Ответ на п. 21.
24. Метнер – Белому
Н. Новгород 22 марта 1903 г.
Дорогой и страшно милый Борис Николаевич. Оба Ваши письма X и XI – я получил. Помнится, свое последнее письмо я прервал сообщением о прибытии письма Алексея Сергеевича[545]. Письмо его поразило на этот раз меня своею христианско-ницшеанскою анархичностью, своим, в хорошем смысле слова, <нрзб> перед солью нашей все же милой земли, на которой мы проводим (по Вашему страшно милому слову) дачный сезон, перед солью, каковою несомненно являются Гёте, Бетховен и немногие другие… Я даже пожалел, что завел секретное отделение в моем письме к Вам[546]; а теперь жалею, что забыл в ответном письме сказать об этом секретном отделении Алексею Сергеевичу. Впрочем, во-первых, это поправимо, а, во-вторых, то, что я сепаратно сообщил Вам, кажется, не весьма важно и интересно. Я «заметил» и на этот раз в первый раз вполне «благополучно отнесся» к новой волне «недобрых вибраций», о которых Вы пишете в X письме от 3-го марта. Должно быть, начинаю крепнуть. Я вполне понял непатологичность (выражаясь словами Ницше) der versucherisches Tapferkeit des schaerfsten Blicks, die nach dem Furchtbaren verlangt, als nach dem Feinde, dem wuerdigen Feinde, an dem sie ihre Kraft erproben kann[547]. Это – не вызов, а просто готовность, приготовленность и потому как бы жажда. – И насмешка Ваша оттого, что самое главное защищено панцирем. – Особенность, неразложимость чувства Серафима – залог того, что Principium individuationis[548] в своем роде существует и «там»… Мы стали с Вами «заговорщиками», дорогой Борис Николаевич, в тот замечательный вечер в сентябре 1902 года, когда я сказал Вам: «не христианское, а Христово чувство…» Лишь имея последнее, можно спокойно говорить о «зимних квартирах», не подразумевая под ними солдатские казармы или пенитенциарные учреждения…
23 марта. Вчера у меня провел вечер А. П. Мельников (сын Андрея Печерского). Он чувствует себя одиноким в Нижнем, основательно говоря, что здесь есть чиновники, купцы, золоторотцы[549] – но нет людей. Но вот засасывающая сила нашей провинциальной жизни: ему уже 40 лет, и он, чиновник особых поручений при губернаторе, сам того не замечая, прирос к месту, которое лет 12–14 тому назад считал лишь ступенью к дальнейшему. «Я никогда не думал, что проживу в Нижнем больше двух лет, и вот застрял, быть может, на всю жизнь; холостой, я живу вы видели как, будто завтра съеду; сначала не хотелось устраиваться, а теперь привык и не стоит; я обожаю музыку, живопись и вот все-таки не имею решимости бросить все и уехать…» Мне страшно стало от этих слов… Вдруг и я?!. Впрочем он – полный буддист, а я худощавый германец; ничто же так не противоположно буддизму, как германизм (Шопенгауэр – гениальный урод![550]); подумайте только, Нирвана и Валгала[551]; сидение, поджав под себя ноги, с глупо блаженной улыбкой и Полет Валькирий[552]. Мельников пишет анпандо[553] (как говорят нижегородские купчихи) к Also sprach Zarathustra – так говорит Гаутама (Будда). В то же самое время: он считает Ницше предтечей воплощения Св. Духа (третьего царства), увлекается сектантством и смеется над тем, что в XX (?!) веке затеяли открывать мощи. Все это пока производит на меня впечатление странной смеси. Мне кажется, что его интерес к религии какой-то профессорский, какой может быть к химии или юриспруденции. Мельников и Назарий – единственные мои гости.
Вот что Мельников рассказал об открытии мощей Серафима[554], находя, что великий дух последнего профанируется этим нелепым обрядом: место действия, на границе Нижегородской (С<ерафимо>-Дивеевский монастырь) и Тамбовской (Сарово) губерний, начальниками которых состоят лютеране, относящиеся очень корректно, но весьма скептически к вопросу о нетленности мощей. За некоторое время до того, как Владимир Московский с двумя преосвященными Нижегородским и Тамбовским[555] отправились в Сарово, к атаману Унтербергеру, явился о. Серафим (Чичагов, автор Летописи[556]) и предупредил его, что, согласно завету преп<одобного> Серафима, мощи его могут оказаться не в Саровском монастыре (Тамбовская губерния), а в Дивееве (Ниж<егородская> г<уберния>), и что он считает долгом поставить его превосходительство в известность относительно этого обстоятельства. В ответ на это наш бисмарковский Тарас Бульба[557] совсем наивно сказал монаху: ну это, я говорю, вы как там знаете молитесь, но весь вопрос в том[558], что меня следует заранее (?) предупредить об этом чуде, а то народ бросится как угорелый из Сарова в Дивеево, а за порядок в последнем месте отвечаю я, а не тамбовский губернатор… Вскоре после этого три вышеупомянутых архиерея в сопровождении исправника отправились в Сарово освидетельствовать мощи… Когда приступили к самому акту и приподняли крышку гроба, то исправник удалился по просьбе архиереев… Вот это-то удаление исправника и подало, основательно или нет (Мельников полагает, что основательно), повод к толкам, что в гробу найден истлевший скелет и что если бы в нем находились нетленные мощи, то исправника незачем было бы выпроваживать… Скандал, говорит Мельников, страшный! И неизвестно, что теперь будет предпринято… Так говорит Гаутама… то бишь Мельников, который чрезвычайно высоко ценит личность старца Серафима. Что же говорят остальные интеллигентные нижегородцы и тамбовцы, Вы, дорогой Борис Николаевич, легко можете себе вообразить. Получается нечто подобное тому, что Достоевский написал об обстоятельствах, сопровождавших кончину Зосимы[559]. Вот только, кажется, наш Алеша, в отличие от Карамазова[560], спокойно отнесся к буре в Сарове. Он писал мне, по крайней мере, что мощи Серафима обнаружатся не тогда, когда захочет начальство, а когда пожелает этого сам Серафим…[561] Блажен, кто верует! Грустно!!
Спасибо за яркую передачу Вашего впечатления от картины Врубеля. Убежден, что Врубель трактовал тему Фауста в том роде, как это сделал Лист и Вагнер в музыке. «Сгущенно»? С большей, нежели у Гёте, дозой дионисовского элемента? Но вот вопрос: куда делся Мефистофель?? Не есть ли картина Врубеля – отчасти фокус? Вот лань, вот пес, а где охотник? Знаете, есть такие картины. Дети любят их. Фауст ведет под руку Маргариту. Ищи Мефистофеля! А он где-нибудь среди листвы опрокинувшись заглядывает прямо в лицо зрителю, и удивляется последний, как это он раньше его не заметил.
24 марта. Странный день был 21-го марта. В Петербурге мороз и снежная метель; в Москве летняя жара и гроза. В Нижнем слякотно; и снег и дождь. Мне показалось в этот день, что черт с насмешкой, временно куда-то удалившийся, возвратился; я даже как будто видел его: в нем всего 1½ аршина и он очень похудел и отощал; должно быть, хронический насморк одолел его. Примите это мое сообщение как полу-шутку. Я действительно что-то вроде черта видел и притом не однажды за эти дни, что-то небольшое, тонкое, изогнутое и серое… и вовсе не страшное… Я как-то даже легкомысленно не придал этому видению никакого значения.
Как Вы, должно быть, знаете уже из письма моего Алексею Сергеевичу, Ваша статья Церковь и Интеллигенция прошла в Приднепровском Крае[562]. Прошла давно еще в конце декабря; я ничего не знал об этом, т<ак> к<ак> как раз в то время мне почему-то прекратили высылать газеты. Желание Ваше (коему я вовсе не сочувствую), таким образом, не осуществилось, и Вы волею-неволею получаете прилагаемые при сем 20 рублей. Скромный этот гонорар как раз послужит Вам для путевых издержек из Москвы в Нижний и обратно летом. –
Вечером. В промежутке между чтением гранок, которые названы Маней Брате<нши>… поганками, – я взял Заратустру, открыл Ausser Dienst (случайно) и на первой странице прочел следующее о черте. Aber der Teufel ist nie am Platze, wo er am Platze waere: inmer kommt er zu spaet, dieser vermaledeite Zwerg und Klumpfuss…[563] Подчеркнутое мною указывает, что и Ницше видел черта ростом эдак в 1½ аршина, не более… Вообще вся глава Ausser Dienst (советую ее Вам перечитать) – заслуживает внимательного изучения. В ней – бездна души Ницше освещается так сильно, что сквозь его поверхностное богоотрицание светится хранящееся на дне сокровище любви к Богу, сокровище, которое он в детстве и в первой юности (см. биографию) зарывал все глубже и глубже и зарыл так глубоко, что потом сам потерял его местонахождение.
25 марта. Читаю Geburt der Tragoedie… Это – гениальная интерпретация аполлоно-дионисианской литургии, сделанная одним из ее средств… Антитеза Apollo-Dyonisus – одна из плодотворнейших в философии. Ницше дал здесь совсем неожиданно совсем новое направление диалектике бытия, новую вариацию на вечную тему… И при том в каких конкретных, почти осязательных образах… Пришел Новый Путь (март). Почему я получаю его на несколько дней позднее, нежели здешние редакции, которые уже успели сделать из него выдержки??? Как Вы, должно быть, знаете, я крайне недоволен всеми обстоятельствами, среди которых имеет состояться Колин концерт[564]. Вообще в своем родном городе не следует являться в качестве кандидата, а в качестве триумфатора. Надо было дать концерт в большой зале (т<ак> к<ак> к зале имеют больше уважения, нежели к артисту) и смелее выступить со своими сочинениями. Ко всем этим внешним нелепостям присоединилось одно внутреннее душевное страдание (последнее, дорогой Борис Николаевич, секрет!!). Я даже не знаю, как он будет в состоянии завтра играть. Пишу я Вам об этом потому, что знаю, как Вы к Коле относитесь и как глубоко Вы способны разобраться в психической атмосфере 26-го марта вечером, если примете во внимание факт огромного огорчения, которое терзало Колю последние две недели и о чем я только вчера узнал. Об этом факте Вы можете сообщить только Петровскому. – Переправа через Волгу очень опасна и, должно быть, это мое письмо не попадет к Вам завтра. Это досадно: я хотел, чтобы Вы прочли его до концерта. Впрочем, Вы, может быть, и так разберетесь и будете знать, что куда отнести… Как Вы прекрасно пишете о кончине Соловьевых и о Сереже… Эта «Heiterkeit»[565] среди ужасов смерти и самоубийств – есть огромный дар. Вам можно завидовать… Но я хочу сказать не только о Вашей душе, но и о Вашем литературном даровании… Вы трогаете меня не только тем, что Вы пишете, но и как… До свиданья, дорогой Борис Николаевич. Пишите, если урвете время от приготовления к экзаменам. Надеюсь, что Вы не ограничитесь одним факультетом?.. Кланяйтесь Вашим родителям… Простите за беспорядочное и нескладное письмо: я расстроен несколько делами Коли. Впрочем, в общем я чувствую себя день ото дня все лучше. Анюта[566] Вам кланяется… До свиданья. Господь с Вами. Ваш Э. Метнер[567].
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 12.Ответ на п. 22 и 23.
25. Белый – Метнеру
Москва. 26 марта 03 года.
Я возвратился. Как описать все недоумение и… смех, когда я почувствовал, что, описав духовное путешествие сквозь мир к довременному (старинному) хаосу (1–8), и пойдя дальше, я вновь родился (9 = 1), нашел самого себя[568]. Круг был замкнут, цикл жизни совершен; я уходил за смерть – я вернулся.
Я возвратился.
И это de facto, а не путем теософских размышлений. Теперь мне звучит совершенно в ином свете Ницшевское «я нашел самого себя» – теперь, когда я вторично живу, повторяюсь, не умирая, – мне смешно. С сериозным хохотом пишу Вам, дорогой Эмилий Карлович, об этом, как о приключении для меня странном[569], важном и необычайном. Не знаю, чревато ли оно следствиями, или это обрывок из «наваждения», но знаю, что кроме Вас, да, пожалуй, Алексея Сергеевича[570] меня никто не поймет (меня уж и так отказываются понимать во многом даже Блок, Сережа Соловьев, Мережковские).
Я возвратился.
Утешаюсь, что это возвращение есть совпадение аналогичных положений двух смежных и параллельных звеньев спирали. Утешаюсь – это не круг. Иначе было бы слишком обидно – повторение, возвращение совершалось бы всегда и во всем, но в направлении_|_ Ницшевскому возвращению. Верю, – что это спираль.
Тем не менее чувство совершенно такое же, как давно отошедшее для меня в область преданий – чувство Шопенгауэровского пессимизма. Не его боюсь – боюсь тучи ужаса, предшествующей розовому, белому, голубому. Но буду верить, что это еще все только кажется. И повторений не будет. Как бы то ни было, я обратился на самого себя. Я нашел свое другое. Или, быть может, мое другое (воля мет<афизическая>) поглотило то, что когда-то было мной, но что должно было погибнуть после совершенного им пути (1–8). Как бы то ни было – тут узел неразрешенного Шопенгауэром, намеченного Ницше.
И вот пишу Вам после совершившегося со мной странного приключения ужасно смешного, но и – верьте – трагического.
И центр опять в Ницше. Кстати: я и один молодой человек (Л. Л. Кобылинский) собираемся учредить некоторое негласное общество (союз) во имя Ницше – союз «Аргонавтов»: цель экзотерическая – изучение литературы, посвящ<енной> Шопенгауэру и Ницше, а также и их самих; цель эзотерическая – путешествие сквозь Ницше в надежде отыскать золотое руно («счастье – темная, золотая капля счастья, золотое вино»[571]). Это мы намерены предпринять на будущий год. Вот кого недостает для этого – Вас, дорогой Эмилий Карлович? Верю – духовно Вы с нами. Интересно, что проф<ессор> Озеров[572], узнавши о нашем намерении, заявил, что, быть может, присоединится к нам и тоже будет… аргонавтом. Эмилий Карлович – чувствуете ли Вы, что звучит в этом сочетании слов, произнесенном в XX столетии русскими студентами, – аргонавты сквозь Ницше !!
Я знаю, это – смело. По отношению ко всему другому (к обществу, к родным, к самому себе) становишься в совершенно новое, удаленное положение – уплываешь… И летишь среди волн, утопая в лазури для всех. Пусть жалеют этот
Дорогой Эмилий Карлович, для других это уплывание за черту горизонта, которое я хочу предпринять, будет казаться гибелью, но пусть знают и то, что в то время, когда парус утонет за горизонтом для взора береговых жителей, он все еще продолжает бороться с волнами, плывя… к неведомому Богу… Ведь казался же Ницше безумцем, между тем он был только уплывшим…
Я глубоко разочаровался (признаюсь – это между нами) и в Соловьеве, и в Мережковском, и во всех, кто на меня влиял. Со мной только Ницше, Серафим и Христос. Тяжесть ноши на моих плечах. Никто не разделит ее. Буду же и я нести ее молчаливо, без криков и взываний во имя чего бы то ни было. Чувствую – настала и для меня полоса молчаливого плавания, а порой и умолчания.
Сейчас иду на концерт Николая Карловича[574]. Ожидаю получить бездну наслаждения. К великому моему прискорбию, обе репетиции мне решительно нельзя было быть у Николая Карловича, не оскорбив лиц, которые предварительно заручились мной на эти вечера. Все же мне удалось прослушать сонату Шумана (она ужасна!) и Бетховена. Я вынес оглушающее впечатление. Как обидно, как жалко, что такая гениальная вещь, как 2-ая соната Н<иколая> К<арловича>, не будет исполняться![575] Признаюсь, – я даже сержусь на него за скромность, или… я не знаю, как это звать…
Буду отвечать на Ваше письмо[576], дорогой Эмилий Карлович, скоро. Это письмо – тоже не в счет, а просто так, невзначай писано…
Б. Бугаев.
P. S. Поклон мой и привет Анне Михайловне[577].
P. P. S. Посылаю свои стихотворения.
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 12. Помета красным карандашом: «ХII». Фрагмент опубликован: ЛН. Т. 92. Кн. 3. С. 197.
26. Метнер – Белому
Н. Новгород 29 марта 1903 г.11 ч<асов> ночи.
Дорогой мой аргонавт Борис Николаевич! Раньше, чем подробно отвечать Вам на Ваше XII письмо, я хочу откликнуться. Как аукнется, так и откликнется. Так ли? У меня нет тех сил, как у Вас! Откликнуться я могу только при помощи моего поэта. Но раньше скажу, что Вы, конечно, движетесь по спирали, а не по кругу. Hircus nocturnus[580] превращается в бабушкина козлика[581]; луна, которая весело и чисто сияет сейчас на небосклоне, очевидно далека от оргиастических тенденций – астартизма, таков изгиб (n-ый) ее спирали… Она так же светила, когда Коля концертировал свою вторую тему второй сонаты[582]: Вы – свое, «невозможное, вечное, милое, старое и новое во все времена»[583]; а Гёте свою дивную таинственную песню месяцу, в которой звучит и Колино, и Ваше… Прочтите, дорогой Борис Николаевич, ее внимательно, вслушайтесь в нее всем существом в ночной тиши, всмотритесь во все ее очертания при свете завтрашнего полнолуния и тогда, быть может, Вы поймете мой восторг и вместе с тем признаете, что ничем иным я не мог и не должен был откликнуться на Ваше XII письмо, на его аргонаутизм.
Милый мой! Это почти невыносимо хорошо! Это граничит со святостью! Когда я только думаю об этой песне, я задыхаюсь от счастья… не своего, а какого<-то> общего и в то же время интимного. В этих благоухающих строфах Гёте схоронил часть своей души (не метафора, а факт), ту часть, тождественную которой я ношу и в своей маленькой душе; вот почему чтение этого стихотворения (и некоторых других Гётевских) есть для меня по крайней мере, – некий обряд.
Проговорился!.. Ведь Гёте, несмотря на всю свою общительность (Geselligkeit), был одинок, как, может быть, никто.
P. S. Получил ли Алексей Сергеевич мое письмо, отправленное на этот раз незаказным?[586] Кланяйтесь ему! От меня и Анюты…[587] Получили ли Вы мое денежное письмо, адресованное Вам в Университет, педелю?[588] Когда будет время и станете мне писать, сообщите Ваши переживания во время концерта…[589] Я пока получил только телеграмму, извещавшую об успехе… Дорогой Борис Николаевич! Не переутомляйте себя! Надо много сил, чтобы жить такою жизнью, как Вы. Сдайте экзамены кое-как. До свиданья! Анюта шлет Вам сердечный привет. Горячо любящий Вас
Э. Метнер.РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 13.Ответ на п. 25.
27. Белый – Метнеру
Москва. 1903 года 9 апреля.
Христос воскрес! Поздравляю Вас и Анну Михайловну со светлым праздником[590]. Желаю всего лучшего.
Сначала отвечу Вам на те вопросы, которые Вы мне предлагали в письмах.
1) Репродукцию бюста Макса Клингера работы Ницше <так!> я видел. Вы пишете – «голова Ницше нечто невероятное». Вполне согласен. Я бы сказал, что мне лицо Ницше нравится совершенно исключительно – больше головы Бетховена, Гёте, Канта.
2) Мое хождение на руках с разведением ног будет напечатано в «Мире Искусства» только летом[591], потому что Философов и Дягилев уехали за границу и журнал без них не будет существовать самостоятельно.
3) Да: огромное спасибо за те хлопоты, которыми я невольно обременил Вас по напечатании статьи в «Приднепровском Крае». Деньги получил – и еще раз большое спасибо.
4) То, что Вы пишете о Канте 28-го февраля, мне очень нравится. По возможности постараюсь познакомиться с его «Religion». О «шестке» для философутиков и о рве, вырытом Кантом, я согласен: боюсь, что это не ров, а пропасть…
5) О Гарнеффере в газетах не читал… Не сообщите ли, где справиться.
6) Еще раз мне хочется повторить, что Ваше оправдание Канта мне чрезвычайно нравится.
7) Вы пишете, что мне следует быть экзотеричным в печати, если я хочу приучить к себе публику. Но я никакого сериозного значения своим произведениям за исключением 4-х «симфоний», пожалуй, – не придаю. Мне всегда кажется, что это мое временное амплуа, которое отметется.
8) Вы пишете: «голубой… нигде в природе не встречающийся, по котором я тоскую»… Мне это кажется сказанным очень и очень сильно, потому что действительно: голубые цвета природы, краски, и т. д. суть цвета, имеющие определенное положение в спектре, а голубой молитвенного созерцания Христа есть цвет потусторонний, лежащий за белым… Не белый, а «белый, тающий» на фоне внецветного. Такой цвет не может быть втиснут в мещански голубой спектральный цвет.
9) Вы пишете, что Вам противно выражение «начнем же дело делать»… Мне тоже… Недавно у меня был Перцов проездом, и мы долго говорили об этом[592]. Он со мной соглашается относительно Мережковского. Он говорит, что еще впереди много времени. Но тут я шепну Вам на ухо: «Оно гораздо ближе, чем кажется… Быть может, через 3½ года что-то начнется…» Но это между нами, и мы не должны делать ничего (разве только молиться). Мы должны быть ясны и уравновешенны – должны с улыбкой успокоения смотреть в будущее, каким бы оно ни казалось.
10) Вы спрашиваете меня, кто такой Знаменский и Бухарев. Кто Знаменский – не знаю[593], а Бухарев церковный писатель из священников, много потрудившийся в вопросе о браке и мало кем читаемый.
Отвечаю теперь на письмо 22-го марта.
11) Да, конечно, в тот самый вечер, когда Вы сказали о Христовом чувстве, мы стали заговорщиками. Да и вообще белые начала суть начала заговорные. Это, конечно, белые козни – тайно культивируемая уютность среди людей, для которых характерно следующее четверостишие:
И если Вы живете белыми настроениями или бело-голубыми с оттенком пурпура, вокруг Вас начинают распространяться и белые вибрации. И Вы становитесь волей-неволей благотворителем, подающим милостыню, хотя бы Вы лично этого и не сознавали.
12) Все, что Вы пишете о Серафиме, нисколько не изменяет моего отношения к нему, что было, то было, а что есть – тут вопрос сложный, запутанный и… прохожу мимо.
13) «Сгущенное» толкование Фауста именно характерно Врубелю. Сгущенное, но не пряное. Сгущенная интимность на фоне ужасной меланхолии – это трагично, как-то невозвратно и жалко, жалко… В этой картине его, как и в картине «Муза»[595] (молодая женщина с невыносимыми глазами, матово-бледным лицом и золотым морем волос, на фоне грустно догорающей зари) – что-то роковое. Точно к интимной грусти «подкрадывается, опять подкрадывается» ОНО и шепчет: «А я знаю Вас, гуляющая пара» (Фауст с Маргаритой прогуливаются под руку в саду). Они отворачиваются, а ОНО качает цветами, спрятавшись; и опять говорит: «А я знаю… гуляющая пара»… Вот какой Врубель!
14) «Geburt der Tragoedie» Вы, вероятно, прочли уже. Это одна из моих интимнейше-любимых книг. Относительно ее, как и относительно «Заратустры» у меня составилось мнение, что все это уже было мне известно в момент рождения, но я забыл в суете и мне напомнили. Для меня деление на александризм, аполлоновское и дионисовское миропонимание (всегда понимание, знание, а не творчество) – незыблемая истина. Кто против этих категорий заспорит, я не буду в состоянии ему отвечать.
15) Пишу о концерте Николая Карловича[596]: несомненно он произвел чрезвычайно благоприятное впечатление на сонных олухов, именуемых публикой. Что же касается меня, то я в восторге и от его игры – «знающей», «подмигивающей» – и в то же время удивительно благородной и корректной. Почти все произведения его (собственные) были бисированы единодушно. Особенное впечатление получилось от его прелюдии ко 2-ому альбому и от того отрывка из «Stimmungsbilder», который обозначен, кажется (программы у меня сейчас под рукой нет) «Allegro con ira». Вы, конечно, знаете, о чем я говорю. К сожалению, публика не совсем наполнила зал, что объясняется неудобным временем, выбранным для концерта Николаем Карловичем.
Исполнение бетховенской сонаты зачаровало меня в буквальном смысле слова. Вторая часть произвела на меня столь сильное впечатление, что я буквально не мог двинуться с места… так и застыл. Николай Карлович удивительный истолкователь Бетховена. Ему и Вам, дорогой Эмилий Карлович, я многим обязан в понимании Бетховена. Вы оба раскрыли мои прищуренные глаза на Бетховена (которого я еще раньше любил больше всех композиторов – но инстинктивно). Ужасна шумановская соната – я боюсь ее и отказываюсь что-либо писать. Вообще произведение гениальное… Вакхический гимн, сыгранный на бис Ник<олаем> Карл<овичем>, потряс меня еще и еще полнотой дионисианского восторга. Не хватало сонаты, которую я так давно не слышал[597]. Непременно буду писать об альбоме в «Мир Искусства», только не теперь, а после экзаменов, которые придвинулись ко мне и как туча загородили все решительно[598]. В «Мире Искусства» по всей вероятности знают о Вашем брате: я долго говорил о нем одному из членов редакции, проездом находившемуся в Москве. Он очень заинтересовался Николаем Карловичем. В «Мир Искусства» я пошлю оттого, что не хочу пока иметь никакого дела с «Новым Путем». Причины на это следующие: 1) Я не совсем в хороших отношениях с Мережковскими не феноменально, а нуменально, 2) Перцов не захотел поместить одно мое письмо, ссылаясь на непонятность его для публики[599]. И хотя он меня просил присылать каждый месяц что-нибудь даже по нескольку строк, хотя мы с ним и в прекрасных отношениях, но я решил твердо не давать им ничего по крайней мере несколько месяцев.
Теперь отвечаю на письмо от 29-го марта.
16) Спасибо за утешительные для меня слова: «„Hircus nocturnus“ превращается в бабушкина козлика»…
17) Гётевское стихотворение до странного мило и близко мне. Читаю и перечитываю… Скользит незаметно и вкрадчиво прямо в душу… И вдруг узнаешь, что заворожен… И уже силы нет избавиться. Спасибо, спасибо за него…
У нас Государь[600]. Не знаю – радоваться или печаловаться. Все-таки радуюсь. Почему-то я особенно люблю Николая II-го. От него добрые вибрации. Он знает и белое и голубое – мне так кажется. Насколько Александр III при всей своей разумности феноменальной был нуменально не то что глуп, а… уп… настолько Николай II-ой нуменально осмыслен, если не осведомлен. Была характерная сцена: царь гулял по кремлевским стенам. Собрался народ и кричал «ура». Когда царь сошел со стены, его подхватили на руки, целовали и гладили. (?!)[601] Это – типично. У нас в Москве страшное брожение: «новое» искусство разливается вширь, стучит в двери; «скорпионовская кучка»[602] интересует всех: ее ругают, хвалят – но все интересуются. Словом, начался процесс ассимиляции. Образовалась целая порода молодых людей и девиц, которых газетные репортеры уже окрестили позорным по их мнению прозвищем «подбрюсков», «брюссенят», «брюссиков»… Характерно, что бывали случаи, когда Брюсовым увлекались и почтенные люди (даже старики). Какова характерная картинка – «старички нового искусства»!! Один из сих почтенных старцев в литературном кружке, обращаясь к декадентам, воскликнул: «Господа – вперед, вперед!» Его фамилия – Баснин (кажется)…[603] Литературно-художественный кружок[604] попал в объятия к декадентам: там читается почти сплошь о декадентах или читают декаденты. Большинство возражателей – декаденты; результат: каждое заседание – спор, почти граничащий со скандалом, и потом пережевываемый мелкими московскими газетками чуть ли <не> неделю. Раза два я имел неосторожность говорить там (по поводу реферата о Кальдероне и о символизме[605]), за что мои кости перемывали довольно долго, обрадовавшись, что Андрей Белый появился (а то стали сочинять версии о «Симфонии»; например: что авторы ее – приказчики какого-то книжного магазина etc.) Одна газетка даже прямо облила ушатом грязи. Знаменательно, что «Скорпион» – открыл свою контору на театральной площади[606], и что образуется двойник «Скорпиона» – «Гриф»[607] – декадентское книгоиздательство. «Грифы» выпускают на днях альманах[608]; они просили напечатать мою 3-ью Симфония – «Возврат», к изданию которой приступят осенью[609]; кроме того они издадут в будущем сезоне сборник моих стихов[610]. Я очень рад их нарождению, а то «Скорпион» всегда переполнен и крайне медлителен (моя 1-ая симфония «Рыцарь и Королевна» появится, должно быть, года через два – не раньше[611]). Газетки делят теперь поклонников нового искусства на скорпионов, ложно-скорпионов и грифов, говоря, что двух гадин за глаза довольно для Москвы. Московские декаденты учредили еженедельные собрания в одном из ресторанов Москвы, который назвали по примеру парижских собратий (довольно бедная фантазия) «Chat noir» на радость газетчикам[612]. Вообще декаденты все больше и больше заявляют о себе. Если Москва будет прогрессировать в том же направлении, то, по словам Бальмонта, она превратится в декадентский городок менее чем через два года.
Кстати о Бальмонте: оный пиит, появившись в Москве после своей высылки, зачитал во всех обществах зажигательные рефераты в неимоверном количестве и стал злобой дня, возбуждая нападки и восторги. Последнее время я очень часто видал его, и всегда он производил на меня весьма серенькое впечатление, пока… у редактора «Грифа» не пришлось в продолжение 6-ти часов укрощать пьяного Бальмонта… Тогда я увидел, что это человек очень и очень незаурядный, необыкновенно углубленный, но в обществе или… молчащий, или… шалящий… Беру назад свое мнение: Бальмонт не сер, а сквозь желтое пламя и серный дым лазурен. Не правда ли, странная комбинация? И он, сознавая странность ее, молчит; когда же напьется, то начинает говорить, называя себя не-Бальмонтом, восклицая: «О, бедный, бедный Бальмонт!.. Как мне его жалко!..»
И действительно: и в обществе, и во время прений, и во многих стихах он – жалок и непонятен, и предосудителен.
Вышли «Северные Цветы»… Мне хотелось бы, чтобы Вы прочли мой отрывок из «ненаписанной мистерии», помещенный там[613]. Если в Нижнем их нет, я пришлю Вам экземпляр.
«Религиозно-философские» собрания закрыты правительством[614]. Я жалею. Хотя, быть может, это – и пройденная стадия, к чему не стоит возвращаться. Мережковские в будущем году все равно не принимали бы там участие; они – разочаровались; им – надоело. Буду ждать, что дальше…
Весь пост тянулась в «Московских Ведомостях» длиннейшая статья Басаргина о современных богоискателях[615]. Она написана с тактом, по-джентельменски, корректно, отдавая Мережковскому должное. Я этого не ожидал от Басаргина. Я – в восторге. Видно, он основательно и с пониманием (с «пониманием», на какое он способен) изучил исследование Мережковского[616]. Одно место у него прямо замечательно: он сравнил свечение («мы – светимся») со свечением огней вальпургиевой ночи. Он говорит: «Вальпургиева ночь уже начинается… Древний хаос шевелится»…[617] Он кончил в великую субботу, обратившись к богоискателям с «Христос Воскресе», приглашая их ответить историческому христианству их ответное «воистину»… Эдакой прыти я не ожидал.
Дорогой Эмилий Карлович, прощайте. Желаю Вам всего, всего хорошего – Вам и Анне Михайловне. Христос с Вами.
Остаюсь любящий и глубокоуважающий
Борис Бугаев.
P. S. Пишите. Я же замолчу до после экзаменов. Простите меня за мое внешнее письмо. Сейчас у меня какое-то опустошение в способности выражаться. Посылаю Вам свои стихотворения.
А вот стихотворение, характеризующее хорошую сторону Бальмонта и ему посвященное.
А вот стихотворение, которое я написал под влиянием одной струйки в жизни, которую заметил; а через несколько дней зашел ко мне один знакомый из «знающих» и говорил, что ему казалось эти дни, будто неведомый вампир подстерегает его. Не затемняло ли в продолжение этих нескольких дней крыло вампира ясность астральных горизонтов? Стихотворения, говоря откровенно, я побаиваюсь, как приключения для меня странного, посылаемого для испытания.
Вот оно:
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 13. Помета красным карандашом: «ХIII».Ответ на п. 21, 24 и 26.
28. Белый – Метнеру
Москва. 1903, а вернее Мировое пространство в неизвестное время.
Это пишу Вам не я, канувший в лету, а то, оставшееся неизменным и не могущее меняться. Оно радуется своей свободе. Вот как все это произошло:
Сегодня я захлебнулся. Звенящее серебро – оно лизало мне лицо, как будто оно было озером, куда я погружался. Оно подступало к моим глазам, сверкая нестерпимо. Кто-то погладил меня и вздохнул. Струевые, влажные напевы хлынули в душу – струевые, струнные…
Очнувшись, я был там, но всё те же люди меня окружали. И они не увидели во мне перемен. Но я понял, что совершилось. Прежде я был здесь и заглядывал временами туда. Теперь я глядел оттуда. И они не увидели во мне перемен, хотя понял, что совершилось. Совершилось наводнение. Океан нежности недаром охватил меня своей прохладой. Волны Вечности выступили из берегов. Покатились вдоль суши. Мне угрожал потоп, но это был только потоп счастья.
Я опрокинулся. Бархатно-мягкая глубина глянула мне в сердце. И я канул в Вечность.
Я опрокинулся.
Произошло невозможное. Я вытеснил оттуда свое отражение. Оно всплыло на поверхность.
Тогда я взял «Заратустру» в русском переводе. И наткнулся на следующее: «Была ли это жизнь?» – хочу я сказать смерти. «Добро! Еще раз вновь. Друзья мои, как вам кажется? Не хотите ли вы также сказать смерти: Это ли была жизнь? Ради Заратустры, хорошо! Еще один раз. (Пьяная песнь)[622].
И я вновь живу, еще один раз.
Я живу, но не на земле, а в пространстве, где на каждом шагу вырыты колодцы. На дне их плещется струевое, влажное серебро – плещет струнные ласки – выплескивает. Плещет фонтанной лаской. Я умею кидаться в колодцы, чтобы вынырнуть в другой части пространства. Вот что мне захотелось вдруг сказать Вам, когда уж отправил письмо. Любящий Вас «Кто-то».
Мой товарищ перевел из Ницше:
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 14. Помета красным карандашом: «ХIV».
29. Метнер – Белому
Н. Новгород 13 апр. 1903 года.
Мой дорогой Борис Николаевич! Оба Ваши письма XIII и XIV – я получил. Буду отвечать и по порядку. Но сейчас, пока, скажу вот что. Ваш Вампир и сопряженное с ним переживание – есть нечто смердящее. Это – Медузин ужас; это – Шиворот-На-Выворот. Это надо выкинуть, не разглядывая. Это тот ужас, в котором в сущности нет ничего; нéчего его и рассматривать. На нем – только маска того гнома, который навещает Вас; гном сам по себе довольно безобиден. Я в детстве испытывал некий ужас, который потом осмыслил, как Медузин; лежит ребенок, напр<имер> маленький Коля[623], я стою и с любовью смотрю ему в лицо; потом подхожу со стороны головы и засматриваю ему в лицо так, что верхняя часть лица стала нижней, а нижняя верхней; становится отвратительно-страшно; я пробовал (в детстве) проделывать то же самое и со взрослыми; с отцом, напр<имер>, когда он отдыхал на диване, – вовсе не так страшно: просто нелепо; но вот детское лицо, почему-то, – невыносимо! Привожу эту справку из глупого детства, чтобы экземплифицировать Вам ужас, заключающийся в полном отсутствии чего бы то ни было, кроме точки зрения. Не становитесь на такую точку зрения сам, а если Серый Вам подносит к глазам что-либо кувырком, то бейте его прямо в морду, как то советовал еще Гоголь[624]. –
19 апреля. Получил письмо от Алексея Сергеевича[625]. Скажите ему об этом при встрече, а также прибавьте, что его опасения насчет моего сомнения напрасны. Неужели он не помнит, что я с досадой указывал на неверие Мережковского в воскресение той самой плоти Христа, которая страдала на Кресте и не только страдала, но и перестала страдать и жить слитно с душою[626]. Алексей Сергеевич, конечно, читал мое письмо к Вам, в котором я сообщаю о нижегородской сплетне по поводу мощей ст<арца> Серафима[627]; но и тут не надо думать, что я смутился; поскольку я, подобно Вам, дорогой Борис Николаевич, прохожу мимо этого. Алексей Сергеевич прислал мне карточку свою; должно быть, он снимался по случаю государственных экзаменов[628]. Если и Вы тоже снимались и имеете лишнюю карточку, то пришлите мне, пожалуйста, о реванше я позабочусь. Северные Цветы я купил и Вашу мистерию прочел захлебываясь; помещение оной рукописи в печати – не одобряю[629]; пощадите себя; неужели Вам не будет больно от камней, хотя бы их бросали в Вас презираемые Вами «неповоротливые мужики с низин»; нет; Вы напрасно не считаете себя и писателем также: в Вас трепещет задорная, задирающая жилка писателя-«преторианца»[630]; Вы ждете с тайным удовольствием ударов, чтобы отражать их; отлично: я очень доволен; нуменальное само по себе, а… фехтовальное тоже само по себе. Итак, Ваши статьи в Мире Искусства пока помещены в двух номерах: 12 от 1902 и 1 от 1903?[631] Или были еще, кроме этих двух №№? Почему не выходит № 2 Мира Искусства? Уж не прекращается ли журнал? Пока до свиданья, буду писать подробнее! «Зубрите!» Анюта[632] Вам кланяется. Она восхищена Мистерией! Ах да! Надо высечь Зинаиду Николаевну. Я мерзостней никогда ничего не читал ее рассказа в Сев<ерных> Цветах[633][634].
Ваш Э. Метнер.РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 14.Ответ на п. 27 и 28.
30. Белый – Метнеру
Никак не думал, что напишу Вам. А вот случилось, что пишу.
Прежде всего простите за мою предыдущую дикость: я не помню, что написал, но кажется, – чепуху порядочную[635].
Извиняюсь… и снова впадаю в чушь…
Мне хотелось бы Вам сообщить об одном способе уплывания на корабле Арго за золотым руном.
Мне кажется, что я ушел туда; мое прежнее бедное, маленькое «я» трепещет и бьется на «Мне», как перевернутая одежда. Я – выворочен наизнанку, но сохранил свои прежние контуры. Вот почему в жизни никто не замечает во мне никаких перемен – я все тот же, но это потому, что люди судят по контурам. Для «невидящих» тамошнее я – черный контур, очерчивающий границу между освещенным солнечным светом пространством и внецветным хаосом.
Если бы они пригляделись ко мне, они не допустили бы меня – они не допустили бы, чтобы черный контур существовал рядом с ними. Но они не умеют даже пристально смотреть: они допускают меня.
Мне легко. Как тень, плаваю я среди людей, делая вид, что хожу. А они говорят: «У вас быстрые ноги». Мое желание солнца все усиливается. Мне хочется ринуться сквозь черную пустоту, поплыть сквозь океан безвременья; но как мне осилить пустоту? Ведь там я – черный контур – сольюсь с хаосом: я не достигну солнца.
Стенька Разин все рисовал на стене тюрьмы лодочку, все смеялся над палачами, все говорил, что сядет в нее и уплывет[636]. Я знаю, что это. Я поступлю приблизительно так же: построю себе солнечный корабль – Арго. Я – хочу стать аргонавтом. И не я. Многие хотят. Они не знают, а это – так.
Теперь в заливе ожидания стоит флотилия солнечных броненосцев. Аргонавты ринутся к солнцу. Нужны были всякие отчаяния, чтобы разбить их маленькие кумиры, но зато отчаяние обратило их к Солнцу. Они запросились к нему. Они измыслили немыслимое. Они подстерегли златотканные солнечные лучи, протянувшиеся к ним сквозь миллионный хаос пустоты – всё призывы: они нарезали листы золотой ткани, употребив ее на обшивку своих крылатых желаний. Получились солнечные корабли, излучающие молниезарные струи. Флотилия таких кораблей стоит теперь в нашем тихом заливе, чтобы с первым попутным ветром устремиться сквозь ужас за золотым руном. Сами они заковали свои черные контуры в золотую кольчугу. Сияющие латники ходят теперь среди людей, возбуждая то насмешки, то страх, то благоговение. Это рыцари ордена Золотого Руна. Их щит – солнце. Их ослепительное забрало спущено. Когда они его поднимают, «видящим» улыбается нежное, грустное лицо, исполненное отваги; невидящие пугаются круглого черного пятна, которое, как дыра, зияет на них вместо лица.
Это всё аргонавты. Они полетят к солнцу. Но вот они взошли на свои корабли. Солнечный порыв зажег озеро. Распластанные золотые языки лижут торчащие из воды камни. На носу Арго стоит сияющий латник и трубит отъезд в рог возврата.
Чей-то корабль ринулся. Распластанные крылья корабля очертили сияющий зигзаг и ушли в высь от любопытных взоров. Вот еще. И еще. И все улетели. Точно молньи разрезали воздух. Теперь слышится из пространств глухой гром. Кто-то – палит в улетевших аргонавтов из пушек. Путь их далек… Помолимся за них: ведь и мы собираемся вслед за ними.
Будем же собирать солнечность, чтобы построить свои корабли! Эмилий Карлович, – распластанные золотые языки лижут торчащие из воды камни; солнечные струи пробивают стекла наших жилищ; вот они ударились о потолок и стены… Вот все засияло кругом…
Собирайте, собирайте это сияние! Черпайте взорами эту льющуюся светозарность! Каждая капля ее способна родить море света. Аргонавты да помолятся за нас![637]
Остаюсь глубоко преданный и любящий Вас
Борис Бугаев.
P. S. Мой привет и уважение Анне Михайловне.
P. P. S. Кажется, «Новый Путь» закрыт по доносу Грингмута…[638] Мерзость, мерзость!!
Москва. 1903. Апреля 19-го.
P. P. P. S. Дорогой Эмилий Карлович, не пришлете ли Вы мне своего портрета? Мне бы было так приятно иметь его у себя! Пожалуйста, сделайте мне это удовольствие.
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 15. Помета красным карандашом: «ХV».
31. Метнер – Белому
Н. Новгород. 28 апреля 1903 года. Дорогой Борис Николаевич! Сегодня полнолуние; послезавтра Вальпургиева ночь[639]; сочетание чрезвычайно выгодное для участников последней; будет веселье при свете полной луны. По этому случаю цитирую Вам из Classische Walpurgisnacht (Faust II)[640] молитву Анаксагора, обращенную к луне[641]: Anaxagoras (nach einer Pause feierlich):
Гёте(вский Анаксагор) хочет, чтобы древняя мощь, ныне доступная лишь при помощи заклинаний, проявлялась, как некогда, непосредственно… Кстати скажу: что бы Гёте ни сказал, у меня никогда не бывает мутного осадка от его слов; того осадка, от которого я до сих пор не могу отделаться после прочтения Северных Цветов, разумеется Ваши и отчасти вещи Блока – тут не в счет[644]. Подробнее о Сев<ерных> Цветах – в последнем моем письме Алексею Сергеевичу[645]. Письма наши, в которых мы говорим о фотографиях[646], встретились на полпути из Нижнего в Москву. Вы, конечно, мое получили? Оно – незаказное. В нем я говорю о Вашем «Вампире».
Дорогой Борис Николаевич! Собственно говоря, я, как следует, не ответил Вам ни на одно из последних Ваших четырех писем: XII–XV. Я вижу, я делаю ошибку, что не отвечаю тотчас; при перечитывании Ваших писем я уже не нахожу в себе тех рычагов, которые при первом прочтении подымали в моей голове ряд восторженных согласий, резких несогласий с Вашими положениями и ви́дениями. Бессознательно все, с жадностью воспринятое, перерабатывается, перекраивается, сглаживается, а так как напряженного подъема мысли у меня нет, то когда я собрался наконец отвечать, мысль уже уснула. Поэтому теперь поневоле приходится быть кратким и сухим. 1) «Я возвратился»; верьте, что по спирали. В более слабой, нежели у Вас, степени эти возвращения я подмечал и в себе. 2) «Чувствую – настала и для меня полоса молчаливого плавания, а порой и умолчания…» Это всегда сопровождает ощущение «я возвратился»: «А?! Да! Теперь понимаю! Но не скажу никому! Скажу только часть, приблизительно, и непременно так, как говорят детям, образно и не без некоторого ломания, которое противно самому себе, но которого, знаю, в момент, когда заговорю, не избегну; не избегну потому, что ломание это – щит, забрало, маска, защищающая мое «святая святых» от нескромных взоров; важно только, чтобы это ломание было an und für sich[647] красиво… Кстати, скажу Вам по поводу вращения Вашего (не по спирали), а во чреве (не кита, а) Скорпиона[648]: «умалчивайте порою». Помните речь, обращенную Заратустрой к Höheren Menschen[649]: «Habt heute ein gutes Misstrauen…nackten Mädchen zusahn…» (Von der Wissenschaft ibidem)[650]. – 3) «Соната Шумана (fis-moll) – ужасна». Да, Вы правы; но знаете ли Вы, что в ней ужасно? в ней неутомимое и при том отнюдь не физиологическое (как в Тристане Вагнера[651]), а эстетическое любование, жениховство двух полов доведено до ужаса, до зеркального ужаса: как одно зеркало в другом отражается, смотрится мужское в женское, женское в мужское и опять обратно и так далее, и т. д. до бесконечной глубины. – 4) «Море вечернего золота в небе опять разлилось»[652]. У нас последние дни удивительные закаты – золотисто-красноватые; наблюдая их, мы с Анютой[653] жалели, что Вы не присутствуете и не можете нам прочесть, чтó написано на «облачно-грозных твердынях»[654]; в самом деле; что-то каждый день, в течение последней недели, пишется на облаках темно-красными непонятными рунами. 6) Так как Вы продолжаете называть ров, вырытый Кантом, «пропастью», то я Вам ни за что не посоветую прочесть его Religion[655]. В этом сочинении надо многое простить про-тестанту, про-фессору, про-стаку, qui censuit coelestia procul a cognitione nostra esse[656]; в то же время иметь в виду, что Кант крайне интересовался Сведенборгом и написал свою книгу против него[657], только когда убедился, что в шведском фантасте много гримас. Нет! Пока не читайте Religion. Новых знаний это Вам не даст, а то, что Вы уже знаете, во что верите, не утвердит, т<ак> к<ак> читая Religion, Вы будете все равно видеть «пропасть» вместо рва; для меня это сочинение, первая половина его, одна из утешительнейших; разумеется, держась теории «рва» и различая моралитет Канта от имморалитета Ницше, с одной стороны, и этики всех остальных систем, с другой. Кто последнее упустил из виду, тому кантовская религиозность неизбежно представляется плоской подстановкой ходячей нравственности вместо религии. Моралитет Канта ближе к имморалитету Ницше и к системе воззрений вненравственной святости, нежели к этике любого философа. Суть и сила нравственного учения Канта в форме, в конститутивных и регулятивных принципах, а не в том налете буржуазной добродетели, которая нечаянно очутилась в работе опрятного и любезного холостяка-профессора. Итак, подождите читать Religion. 7) Горнеффер венский профессор-ницшеанец; его описание внешности больного и мертвого Ницше я прочел в Новостях Дня с месяц тому назад[658]. Недавно я прочел в биографии Клингера, что последний страстный поклонник Ницше, знал его лично[659]: понятно, что ему, как никому, удалось создать его портрет. Кстати, Клингер – личность весьма и весьма значительная и… подозрительная. Видели Вы его Христа в гостях у Олимпийских богов?[660] – Невозможное, нежное и т. д.[661] – 8) Я согласен, что амплуа писателя – «временно» для
Вас, но только в противоположность «вневременному»; но ждать, что оно здесь отметется, – нечего; разве если Вы станете монахом или «уплывете» от нас, как Ницше, но только гораздо скорее и раньше его; ни того, ни другого я Вам не желаю; во всяком случае, не желаю, чтобы это произошло вскоре, а потому феноменально будьте, чем Вам быть надлежит, а, следовательно, работайте феноменально же над своими жестами, как работает дирижер, который знает, что это хотя и не важнейшее, но необходимейшее, иначе он не будет занят (не толпою слушателей, до которых ему не должно быть дела, а музыкантами, коими он водительствует). – 9) Чтó Вы говорите о Geburt der Tragödie, очень верно. Жаль только, что сочинение это несколько испорчено зерном Шопенгауэровской мысли; антитеза: Intellekt – Wille[662] вторгается то в антитезу Apollo – Dionysus, то Sokratismus – Dionysus. Антитезы Ницше – плодотворны не менее Intellekt – Wille, но к этому в них нет деспотизма абстрактной мысли. Не знаю, ясно ли я выразился? В тисках Wille – Intellekt мне всегда было более не по себе, нежели в каких-либо других… Дивное произведение – Geburt der Tragödie, но сколько там умолчаний; стоит взять том IX («аргонавты» обязательно должны читать II отделение сочинений Ницше)[663] и почитать наброски к Geburt der Tragödie; сколько там смелых и неожиданных (для тех, кто берет Ницше с его доступной свободомыслящей антихристианской стороны) обмолвок. Нет! не неприязненно в Tragödie молчание о христианстве, как то ошибочно писал Ницше в своем предисловии в 1886 г. к весеннему своему творению, появившемуся на свет в 1872 г.[664]; это молчание – до поры до времени, молчание почтительное; еще не решен был им вопрос, куда девать die schönste Frucht des Christenthums, des Johannisevangelium[665] (как он называет последнее в IX томе[666]); к сожалению, потом, потом он… ну Вы знаете, что потом… Я не стану цитировать оттуда; скажу только, что ненависть Ницше к христианству сильно подвержена сомнению для того, кто прочел IX том. 10) За что был выслан Бальмонт?[667] Эта «польская панна»[668], неужели она опасна для политического порядка? Неужели ее «поцелуи» (см. стих<отворение> Виктора Гофмана) ядовиты не только в эротическом отношении? Кстати: что это за фокусник Касперович?[669] Не тень ли Пшибышевского? К чему этот полонизм пустоцветный в среде московского декадентства? Не становится ли все это достоянием толпы, а следовательно общим местом? Что это за вакханалия с Ewigweibliche?![670] Все это порядком противно!
11) Ваше XIV письмо, датированное «мировое пространство, в неизвестное время», не удивило меня. Волнообразное движение по новой плоскости спирали. Вы почувствовали, что началось что-то новое и в то же время знакомое, старое (аналогичная точка двух плоскостей спирали); Вам страшно захотелось «умолчать»; но когда стало все ясно, как «струевое серебро», Вы не выдержали и высказались; но ничего не высказали, а только нарисовали «кого-то»; нечего высказывать: нового Вы словесноопределимого и не узнали, а только некий мотив, который прекрасно передали в серебристых струнных звуках. – 12) (29 апреля). То, что Ваш товарищ перевел из Ницше, очень интересно, но, кажется, страшно вольно: по крайней мере я знаю только одно стихотворение Unter Feinden (Nach einem Zigeuner-Spruechwort)[671], которое могло бы быть названо оригиналом этого перевода. Отчего Вы не написали заглавия? Может быть, это перевод совсем другой, схожей с указанной мною вещью? – 13) С большим удовольствием презентую Вам свой портрет и жду Вашего. Если Вам нравится тот, что я послал Петровскому, то я и такой могу выслать; мне же самому кажется, что лучший (не удачнейший в «женском» смысле) это снимок, который сделал с меня Коля (брат), когда я готовился к государственному экзамену[672] и сидел над толстейшими пандектами; там всего сильнее выразилась черта, которая подмечена Вами и Петровским в портрете, сделанном с меня кузеном Штембером[673]. – 14) Ваше 15-ое письмо являющееся (несмотря на (совершенно напрасные) извинения) прямым продолжением письма 14-го, знакомо, знакомо, дорогой Борис Николаевич, мне это переживание: не в состоянии я только словесно выразить так ярко его, как это делаете Вы: если бы я был пианист или дирижер – я бы в такие минуты совершал бы чудеса; в слове же я слишком сократичен не от сократить. Чтобы показать Вам, что я Вас понимаю, я укажу Вам на Фантазию Шопена[674]; Коля ее играет именно так, что можно в ней прочесть то, о чем я сейчас хочу сказать Вам. Попросите его сыграть ее Вам. На Шопена я указываю Вам сейчас, потому, что у бóльших, нежели он, музыкальных гениев, «ухождение туда, выворачивание наизнанку с сохранением своих прежних контуров, уплывание к солнцу на корабле Арго» обычнее и менее контрастирует с их буднями. Ведь есть и «райские будни»; так метко Коля называет, напр<имер>, IV концерт Бетховена…[675] (его играет Гофман). Но Шопеновские не райские будни в его Фантазии внезапно, как разрыв сердца, впадают в страшно контрастирующее торжество; это впадение, этот выпад так сильно сделан настолько выше, далеко выше всего остального, написанного им, что невольно говоришь себе: здесь Шопен сумел сделать невероятное, прыгнул выше самого себя. Вот поэтому, дорогой Борис Николаевич, я и рекомендую Вам для разнообразия, как (в данном случае у того, кто «и не знает, что хочет быть аргонавтом») в музыке дается, показывается это «уплывание». Если Вы внимательно вслушаетесь в фантазию, то Вы увидите, как аргонавт проходит один за другим поясы небесной сферы, отделяющей его от солнца… Чтобы знать это место, спросите Колю, где «прохождение небес». 15) Ваша (с позволения сказать) статья об Олениной наконец попала мне в руки[676]. Она произвела на меня впечатление, схожее с тем, какое я имею от Ваших писем, но несколько испорченное тем, что Ваши интимнейшие излияния я читаю не в рукописи, а в строгих столбцах ровненьких букв; этого не следовало печатать; выдержки из Вашего письма Мережковскому, напечатанные в Новом Пути № 1[677], – куда стройнее и яснее; многие Ваши письма ко мне более удобопечатаемы, нежели эти излияния в музыке, искусстве an und für sich[678] непонятнейшем. Впрочем, я с восторгом прочел отдельные места: о Маргарите, о Двойнике, о сдержанном ужасе Шуберта и Шумана… Куриозно, что в том же номере в отделе хроники помещена заметка о той же Олениной; и в заметке этой некто, очевидно именно в музыке ничего не смыслящий, отзывается о ней пренебрежительно[679].
(30 апреля) 16) Прочел я сейчас и Вашу нашумевшую тираду о формах искусства[680]. Я решительно недоумеваю, на что обозлились философутики? Неужели они и этого не поняли? Неужели их рассердила только терминологическая некорректность? Неужели надо им согласиться с кем-нибудь или придираться, а нельзя просто понять?.. Что касается меня, то Вы можете себе представить, дорогой Борис Николаевич, что я не встретил в Вашей статье ничего нового для себя. Нет в ней, на мой взгляд и ничего крупноошибочного. О частностях не стоит говорить, т<ак> к<ак> едва ли Вы сами очень убеждены в окончательности Ваших формулировок… Если бы Вы говорили (а не писали), я бы, прерывая Вас, вставлял бы кратко свои поправки и возражения, а теперь – не стóит. Я доволен, что еще прошлым летом, как раз перед началом цензурной деятельности набросал первую статью о Вашей симфонии; в этой статье я рассматриваю еще кратче, еще в несколько раз доступнее, поверхностнее, «газетнее», тот же вопрос, который Вас занимал в Формах Искусства. Я намеревался размахнуться о Вашей Симфонии в трех фельетонах Приднепр<овского> Края, да моя цензура помешала. Когда выйдет Гриф[681], вернее когда он получен будет в здешних книжных лавках, я куплю его и тогда буду писать по поводу двух симфоний: 2-ой и отрывка 4-ой…[682] Итак, я доволен, что это введение уже мною написано почти год тому назад; а то я невольно после Вашей статьи Формы Искусства копировал бы ход Ваших мыслей. Ваша статья знаменательна как попытка, одна из первых наметить новую эстетику; это то, о чем я мечтал, о чем я исписывал массу бумаги и с чем не имел ни смелости, ни возможности выступить. Должен Вам сказать, что все это (а также и то, что по существу сказано) мне известно давно больше 10 лет, когда я не знал Ницше и почти не знал Шопенгауэра.
17) Гениально Ваше четверостишие «Черный бархат усыпан так щедро» и т. д.[683] – О Пришедшем молчу: это не подлежит критике, также как Ваши письма: скажу только, что «есть только неизменное, старинное»[684]; обстановка, среди которой происходит действие (вернее: накапливается напряжение) Вашей мистерии, напомнила мне, как мы втроем[685] год тому назад до часу ночи, при свете луны, говорили на сквере Христа Спасителя, при свете луны, которая «взошла и заогневела, вознесясь; а потом на нее стало наплывать что-то темное, темное»[686], но «горели звезды счастьем незабытым…»[687] Мне чужда та напряженность ожидания, дорогой Борис Николаевич, которая охватывает Вас порою. Я понимаю ее. Я вижу признаки, но думаю, что все это было когда-то; когда же Он придет, того не знаем мы; мы должны быть готовы принять его каждую минуту, должны готовиться, но не метаться в нетерпении. Все это не исключает, конечно, колоссальной силы Вашего таланта, которая сказалась в этом недозрелом плоде Вашей первой юности. Недозрелость же эта сказывается в чрезмерности какого-то ултранео– или неоултраромантического стиля, понимая романтизм не в смысле мировоззрения, а в смысле манеры, хватки. В художественном отношении Ваши стихи (некоторые) и симфония[688] значительно зрелее и прекраснее… Да, впрочем, я так осмеливаюсь рассуждать, быть может, только потому, что, повторяю, я больше всех сочувствую Михаилу, который, кстати сказать, куда-то и почему-то совсем исчезает; я не разделяю только его разочарованности и безо всякой печали готов воскликнуть: «Все новое – старое; существует лишь неизменно-забытое, вечное, старинно-милое, постоянное»[689]; я не согласен с ним, что Дмитрий, Сергей да и он сам раньше «играли комедию»[690]; нет; тут искренно все (не без неизбежного для человека ломания в проявлении этой искренности); и то, и это; различие – в темпераментах. Я не стану!.. Однако довольно… Всего хорошего, дорогой Борис Николаевич! Не подражайте Алексею Сергеевичу и пишите только от избытка сердца и времени. Ваши письма и письма Алексея Сергеевича – одно из главных моих утешений в ссылке, иначе назвать я не умею жизнь в этом отвратительном (не по местоположению и т. д., а по культуре) гнезде. Кстати, вы совсем без юмора обойтись не в состоянии. Развивайте юмор. В нем залог Вашего равновесия не мистического, а эстетического… Ваш Михаил пощипывает бородку[691], как я; его бородка так же торчит вперед… Я его вижу. Э. Метнер.
P. S. Кончаю письмо. Walpurgisnacht[692] не удастся, несмотря на полнолуние. Пошел дождь, который, судя по небу, не прекратится; «море вечернего золота» не «разольется» в небе[693]; луна не выплывет; а ведьмы, рискнувшие выстрельнуть из трубы, схватят насморк и раскиснут, как мокрые курицы. – 1 мая. Не удалось вчера кончить. К вечеру погода разгулялась, а у меня на душе стало очень тоскливо, нудно и пусто. Гадкого цвета луна как-то незаметно по-змеиному выползла на горизонт. Мое злорадство по адресу ведьм оказалось преждевременным… Скажите, дорогой Борис Николаевич, разве Новый Путь и Мир Искусства прекратили свое существование? Сейчас пришло письмо Алексея Сергеевича[694]. Скажите ему, что очень счастлив и рад его быстрому ответу, но в то же время склонен пожурить его за это; отнимать столько времени от подготовки к экзаменам не следует. Свободное от подготовки время надо гулять, слушать музыку, а не просиживать по три часа за письменным столом. – P. S. (2 мая) Никак не могу кончить и никак не могу решиться отправить Вам это письмо. Вот уж больше недели я не могу, словно старая баба, отвязаться от мысли, что Вы нуменально отошли далеко от меня и Коли… А раз так, то Вы не разберетесь в моей мазне. Поймете вкривь и вкось и т. д. Поймете только умом. Осудите за многое… Не сердитесь, дорогой Борис Николаевич, и не бросайтесь из-за этого моего признания скорее отвечать мне. Я не хочу, чтобы Вы теряли драгоценное время. Но не сознаться Вам в этом ощущении я не мог, т<ак> к<ак> даже если оно и вздор (в чем я глубоко уверен), то все-таки что-нибудь оно да означает, а потому его необходимо фиксировать. Мне бы не хотелось, чтобы Вы об этом рассказывали даже Алексею Сергеевичу. Итак, пишите, не принимая во внимание мнимой необходимости возражать мне на мое признание. Будьте здоровы. Разделывайтесь скорее с экзаменами. При встрече с Карлом Карловичем[695] не стесняйтесь спросить его о моей карточке. Передайте мой привет Вашим родителям. Анюта Вам кланяется, я регулярно забываю передавать Вам ее приветствие. До свиданья. Христос с Вами.
Ваш Э. Метнер.
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 15. Фрагмент опубликован: ЛН. Т. 92. Кн. 3. С. 199.Ответ на п. 25, 27, 28, 30.
32. Белый – Метнеру
Отвечаю кратко и лаконично, только не на конец Вашего письма (Бог знает, что Вы там пишете): скорее, скорее присылайте мне Вашу карточку и ту, которую сочтете нужным. Буду ждать с нетерпением. Посылаю Вам свою. Буду писать подробно после экзаменов, а теперь ужасно утомляюсь.
Остаюсь готовый к услугам и любящий Вас
Борис Бугаев.
P. S. Если Вам попадет в руки «Гриф»[696], не вините меня за ужасы, которые встретите: все это опечатки.
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 16. Помета красным карандашом: «ХVI».Ответ на п. 31. Датируется по связи с ним.
33. Метнер – Белому
Н. Новгород 16 мая 1903 г.
Простите, дорогой Борис Николаевич, что я не сейчас ответил на Ваше лаконичное и нетерпеливое письмо. Вы пишете, чтобы я скорее отправил ту карточку, которую сочту нужным. Вот оба эти условия нельзя было исполнить, нельзя и теперь, т<ак> к<ак> в моем распоряжении только солдатская карточка[697], а та, которую я считаю нужным Вам и Петровскому дать, может быть отпечатана братом (Карлом Карловичем) не раньше осени, так как он, переезжая на другую квартиру, все негативы запаковал и отправил на лето в склад. Впрочем, у него один оттиск есть, и он передаст Вам, если увидит Вас до Вашего отъезда в деревню. «Вам», а не Петровскому потому, что для Вас присылаемая мною сейчас солдатская не имеет большого смысла, т<ак> к<ак> Вы меня в наряде Марса не лицезрели. – Может быть, соберусь сняться и здесь, но с Анютой[698], т<ак> к<ак> ни у кого из наших нет ее карточки. Тогда вышлю Вам, как своему дорогому шаферу. – Гостит Касперович. Хаживает ко мне частенько. От Вас в восторге. Касперович столь же культурен, сколь и поверхностен. Впрочем, иного (и того и другого) нечего и ждать от шопеновской помеси польского с французским. Но он мил и прекрасно держит себя. Я ожидал встретить нечто менее симпатичное. На днях он читает лекцию[699]. Вы хорошо сделали, что предупредили меня Вашим P<ost> S<cript>умом! Не «Ужасы», а ужас, который я встретил в «Грифе», я предчувствовал, впрочем, получив письмо Петровского, который что-то писал мне о маге[700]. Предчувствовал даже еще ранее, когда писал Вам то, на что Вы отказались отвечать в своем последнем лаконичном XVI письме… Иначе как опечаткой я назвать Ваше обращение к Брюсову не могу[701]. Впрочем, есть люди, которые при непосредственном личном общении с ними оказываются неизмеримо высшими сравнительно с тем, чтó и как они делают. Я лично Брюсова не знаю. Как писатель он не заслуживает таких обращений. Раньше всего он немузыкален до мозга костей, а затем он весьма далек от castitas[702]. Он наивно грязен. Коля[703] защищает его и говорит, что он мыслитель; но тогда к чему он пишет стихи? Впрочем, Вы сами назвали свои ужасы «опечатками». Я не ставлю Вам это лыко в строку… Инцидент исчерпан… Предлагаю формулу перехода к очередным делам. Правительство, признавая обращение к Брюсову досадной опечаткой, переходит и т. д. Впрочем, повторяю, я не знаю лично Брюсова и, быть может, он так великолепно раскрывает глубокий смысл[704] «шуршания бумаг» (где?), что я сам готов буду приветствовать его магом[705]. –
Посвящение, которое надписали Вы на обороте Вашей карточки, за которую приношу Вам мою искреннюю благодарность, – очень тронуло меня; но (во всем ведь есть «но») отчего же Вам вдруг так стало грустно, когда Вы собрались написать мне что-нибудь? Мне казалось, что именно Вам со мною и мне с Вами становится весело «о будущем» с примесью легкой грусти «о старинном»[706]. У Вас же крик альбатросов занимает только четвертую строфу (только она в кавычках), последняя же строфа как будто переносит печаль из прошедшего через настоящее в будущее. Солнца нет уже, т<ак> к<ак> «вместо солнца ослепительный пурпур огня»[707]. Какое же будущее без солнца. Впрочем, может быть, я не понял стихотворения. В Грифе мне понравилось стихотворение Курсинского: «Об одном, все об одном шепчут капли под окном»[708]. В нем есть не только метр, но и ритм. Есть перекрестное направление движений. Есть музыка… Ваша IV симфония по-видимому гениальна[709]. Говорю по-видимому, т<ак> к<ак> она мне пока не везде понятна, вследствие незнакомства с целым. Не пишу больше, чтобы не развлекать Вас. Кланяюсь Вашим родителям. Крепко жму Вашу руку. Ваш Э. Метнер.
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 16.Ответ на п. 32.
34. Белый – Метнеру
Только на днях окончил экзамены[710]. Вот почему при всем желании не мог Вам отвечать. Да и теперь я не отвечаю Вам, не могу собраться мыслями. Я смертельно устал, а тут новое уже настоящее горе: у меня скончался папа 29-го мая, а вчера были похороны[711]. Помимо непривычной мысли об утрате тысячи мелочных хлопот: все обрушилось на меня. Мама была в деревне, и я был один. Спасибо, товарищи и дядя[712] поддержали.
Но все это «внешнее»…
Я радостен, восторженно радостен: что может меня обезнадежить? Сейчас из Девичьего Монастыря сижу вот и пишу Вам, гляжу на свой черный креп и улыбаюсь – тихо, ясно… «Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем: „Я сказал: вы боги“» (Пс. 81. 6) (Ев<ангелие> от Иоанна 10, 34) – что смерть богам. В открытом окне голубая бесконечность с ласточками… Их визг… Их визг – о вечно-задумчивом.
«Я сказал: вы боги»…
Их визг – о вечно-странном…
Странна наша жизнь… Жизнь наша восторженная. Нет ничего страннее смерти и смерть лучше всего, всего восторженней.
Смерть о вечно-грустном, о вечно-грустном, и мы – вечно-грустные боги, опьяненные мировинным золотом вечных набатов, пьяным абрисом винно-золотых куполов, звенящетихим ударом довременных прикосновений.
Вся жизнь – сплошное недосказанное сказание – сказка, и на смерти сказка обрывается; кто-то улыбнется в тишине печали, тихо скажет: «Ну вот и конец сказке. Когда вернется забытое и сказка доскажется»… И вот свежая могилка в цветах; красный огонек лампадки уже знаменательно блещет. Мировинное пьянство – радость мирового вина сквозь зеленую зыбь березовых ветвей.
Доскажется сказка: Мы боги.
«Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем: „Я сказал: вы боги“» (Ев<ангелие> от Иоанна 10, 34). Это любимый папин текст, и о нем кричат мне ласточки из открытого окна.
Больше я не могу писать Вам: простите – пишу какую-то чушь, но мне хочется написать это Вам, именно Вам.
Борис Бугаев.
P. S. Спасибо за карточку.
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 17. Помета красным карандашом: «ХVII».Датируется по упоминанию о дне похорон Н. В. Бугаева.
35. Метнер – Белому
Н. Новгород 3 июня 1903 г.
Милый, дорогой Борис Николаевич! Анюта[713] и я горячо сочувствуем Вашему настоящему горю, разлуке с отцом. Несмотря на то, что наши здешние газеты оповестили об этом уже 30-го, кажется[714], но т<ак> к<ак> они не раз передавали разные ложные слухи о кончине здравствующих лиц, то я решил пообождать со своим письмом. Как раз сегодня я думал написать Вам, а вот и подоспело Ваше письмо. За этот тревожный переходный год Провидение лишило Вас двух старших друзей, Соловьева и отца. Да! это так. Я глубоко убежден, что отец Ваш не мог быть для Вас иначе, как другом… Такое впечатление оставила после себя моя краткая беседа с ним, когда я осенью, в то время, как Вы были уже у меня, вечером, заехал к Вам сделать прощальный визит… Помню, что я даже не сразу уверился, что говорю с Вашим отцом. Я представлял себе его старше и менее оживленным… Заговорил же я тогда с ним, как с Вашим старинным и старшим другом… Я несказанно рад, что приведенный Вами текст был его любимым… Мне иногда кажется, что мысль человеческая, его убеждение, то, что есть результат разумно-волевых движений его духа, то, что Аполлон Григорьев называл «чувством, вымучившимся до слов и определений»[715], что все это в той или иной мере оказывает влияние на то прохождение небесных кругов, о котором, как я Вам писал когда, так удачно пел Шопен в своей фантазии[716]. И не только поэтически, но и мистически, быть может, прав был Боратынский в стихотворении (лучшем своем) на смерть Гёте, когда он закончил его словами: И в небе земное его не смутит…[717] Мысль, что индивидуальное бессмертие, быть может, зависит от нашей веры в него, приходит ко мне обыкновенно рядом с другой: если бы люди были бессмертны здесь на земле, мог ли бы у них возникнуть вопрос о духе, душе как о чем-то особом от тела… –
4 июня. Радуюсь за Вас, дорогой Борис Николаевич, что ничто не может Вас обезнадежить… Понимаю, что в такое время писать «радостен, восторженно радостен» Вы можете только человеку, который знает Вас так, как я. Но все-таки, быть может, есть еще и сепаратная, мне не ясная сразу причина, что Вы как-то особенно дважды подчеркнули последнюю фразу Вашего письма: Но мне хочется написать это Вам, именно Вам.
Передайте мое искреннее соболезнование Вашей матушке. Обнимаю Вас. Христос с Вами. Когда оправитесь, пишите. Горячо любящий Вас
Э. Метнер.
P. S. Я беспокоюсь о том, достаточно ли у Вас средств к жизни??..
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 17.Ответ на п. 34.
36. Метнер – Белому
Н. Новгород 9 июня 1903 года.
Дорогой Борис Николаевич! Получили ли Вы мое письмо[718], в ответ на Ваше последнее? Что Вы умолкли – понятно, но почему молчит Алексей Сергеевич[719] – не понимаю. Быть может, он не получил моего последнего письма, отправленного в ответ на два его последних?[720] И Вам и ему я писал по городскому адресу. – Получил сегодня майскую книжку Нового Пути. Набросился на Вечное Возвращение[721]. «Если ты проникнешься этою своею мыслью мыслей, она переменит тебя»; «Те, кто в нее (в мысль о вечном возвращении) не уверуют, должны в силу своей природы, в конце концов вымереть»; «уцелеет лишь тот, кто считает свое существование способным к такому вечному повторению»[722]. Подчеркиваю то, что mutatis mutandis[723] сказано мною Вам в последнем письме. Мысль о равной по крайней мере зависимости мысли от факта и факта от мысли, а тайное чаяние, что последняя зависимость, пожалуй, и довлеет над первой, казалась мне моим Hirngespinnst’ом (мозговым сплетением, пряжею: любимое выражение Канта). Невыразимо рад, что встретил ее у Ницше… Ведь в этой мысли узел субъективного и объективного связан сухо, безо всякой поэзии, что имеет свою ценность.
19 июня. Отложил в сторону это письмо, так как у меня гостил Коля, а потом и отец…[724] Несмотря на крайне неблагоприятные обстоятельства, о которых я не стану распространяться, Коля не только разрабатывает прежние темы, но и создает новые. Вероятно, выйдут одновременно две сонаты под одним opus’ом, каждая из четырех частей[725]; первая, из которой Вы знаете, кажется, только третью часть (гимн Дионису), и вторая – «наша». Альбом вышел целиком; но продаются пьесы и отдельно. – [726]
Дорогой Борис Николаевич! Я очень устал и взволнован от пребывания и отъезда Коли… Поэтому простите меня великодушно, если я ограничусь весьма немногим в этом письме… Я получил письмо от Алексея Сергеевича. Он пишет, что Вы не поступите на филологический факультет, а будете искать занятий[727]. Это крайне огорчает меня. Именно Вам необходимы тиски образования разностороннего строгого. Обещайте мне, по крайней мере, самостоятельные занятия языками древними и немецким, а также упорным чтением Канта в подлиннике, хотя бы по две страницы в день… – Настоящее окружающее я могу характеризовать след<ующими> стихами Гёте, которые разобрать Вам поможет гостящий у Вас Петровский:
Как Вы думаете? есть ли надежда, что все это рассеется к осени?.. Дорогой Борис Николаевич! Вы не можете себе представить, как важно было бы для меня (отчасти и для Вас), если бы Вам удалось вырваться ко мне хотя бы на недельку… Посылаю Вам фотографию, снятую с меня братом[729]. Это самое удачное в «нуменальном» отношении. Если она Вам не нравится, отдайте Петровскому. Коля приготовит второй экземпляр осенью, если Вы оба желаете иметь такую.
Получили ли Вы мое письмо в ответ на Ваше, извещающее о кончине Вашего отца?[730] Я адресовал его в городскую квартиру.
Предлагаю эту карточку Вам, а не Алексею Сергеевичу, потому, что военная для Вас никакого смысла не имеет.
До свиданья, дорогой Борис Николаевич! Кланяйтесь Вашей маме… Анюта[731] шлет Вам привет и приглашает Вас к нам. Ваш Э. Метнер[732].
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 18.
37. Белый – Метнеру
2-го июля 1903 года. Сер<ебряный> Колодезь.
Вы, конечно, понимаете причину моего долгого, а может, и упорного молчания. Тому причин много: прежде всего нравственное утомление, сказавшееся после излишнего подъема; предэкзаменная суета, надорвавшая мои силы, сверхъестественная работа приготовления к экзаменам, наконец ужасное горе, сказавшееся сначала как мистическая радость, и только теперь возрастающее медленно, но верно; кроме того: множество вопросов никогда не решенных, которых я избегал, топя их в музыкальности, внезапно встали предо мной, прибавляя нравственной тяжести; наконец, моя декадентская прокаженность при не декадентской сущности – все это заставило меня утихнуть.
Помимо неожиданного потрясения все мелочные дрязги похорон и мелких распоряжений пали на меня, потому что мама, бывшая в деревне, только в день похорон приехала в Москву[733]. А эти послепохоронные дела с судебным приставом, со всевозможными официальностями!.. Приехав в деревню, я как-то сразу пал духом и от этого заболел даже физически. Слава Богу, Алексей Сергеевич и Вас<илий> Вас<ильевич> Владимиров, гостившие у меня[734], на время как бы облегчали мне мое ужасное состояние, а вот теперь оно вновь меня обуревает. Я вижу во сне отца, слышу его голос…
Я знаю, как неприятно получать письма, в каждой фразе которых сквозит нравственная утомленность; тем не менее пишу, чтобы Вы, такой мнительный человек, опять не подумали чегонибудь… неподходящего…
Благодарю Вас за карточку. Мне она по сердцу, хотя я имею нечто, совсем маленькое нечто против изображения, которое чуть-чуть не так передает Вас. Но еще раз благодарю. С каким бы я удовольствием воспользовался Вашим любезным приглашением – Вашим и Анны Михайловны[735] приехать в Нижний, и как мне это было бы важно, но некоторые обстоятельства задерживают меня при маме по крайней мере до зимы; одно из этих обстоятельств беспокойство за меня мамы, которая так нервно теперь хочет, чтобы я был при ней, и я это глубоко уважаю. Зимой же в ноябре, декабре я собираюсь в Нижний; тут у меня есть даже одна комбинация, относительно которой Ваше мнение мне было бы очень дорого…
Теперь я выброшен за борт. Все мои прежние предположения разбились. Я решительно не знаю, кто я, что я… А между тем, надо же мне что-нибудь делать, хотя бы для того чтобы иметь минимальные свои собственные деньги. Средства наши, кроме проблематической земли на Кавказе, за которую можно бы при хорошей продаже в близком будущем получить от 50 до 100 тысяч[736], состоят только в маминой пенсии (кажется, 1200 или 1500, не знаю) да в Тульском имении, которое может только себя окупать (оно заложено; приходится ежегодно платить 900 р. процентов в банк). Как видите, упорное мое нежелание пользоваться мамиными деньгами и иметь, хотя бы минимальные, свои, вполне обосновано… Но что мне делать?.. Писать в московских газетах я не могу, и не хочу после того, что они обо мне писали: вполне понятная щепетильность. На издаваемые книги рассчитывать не приходится. Остается или быть преподавателем, или идти в акциз[737], куда почему-то попадают очень многие естественники. Конечно, мне приятнее первое уже потому, что преподавание как-то чище, но 1) найти себе место в Москве крайне трудно, почти невозможно. 2) Я еще не знаю, могу ли я быть преподавателем со скандальной репутацией Андрея Белого, которого называют всем чем угодно вплоть до хулигана; тут-то и приходится считаться со своей прокаженностью. 3) Наконец, я не знаю, сумел ли бы я занимать место преподавателя.
Остается место в акцизе (в который еще надо суметь попасть), но как-то больно… Мне хочется помедлить с этим…[738] Вот тут-то и начинается мой проект. Если бы я, написав на соответственную тему, попытался прочесть лекцию в Историческом Музее, озаглавив ее как-нибудь громко (записали в арлекины – надо таковым и быть, что делать, или нельзя быть самостоятельным, не став юродивым). Не знаю, собралась ли публика, если бы я прочел не под своей фамилией, а под псевдонимом. Я хочу попробовать сделать этот опыт в Москве; если получится барыш хотя бы в 150 рублей, я могу прочесть и другую, предварительно заготовленную лекцию; потом у меня есть план прочесть их в Петербурге и Нижнем (что делать: «нужда пляшет, нужда скачет, нужда песенки поет»…). Я думаю, что аппетитное заглавие с аппетитным, à la Кашперович[739], оглавлением, хотя бы покроет барыш. Если бы от всей этой операции я мог бы получить ну хотя бы рублей 500, это мне хватило бы приблизительно на год. Что Вы скажете? Ваш совет мне был бы чрезвычайно полезен, а также что нижегородцы: заряжены ли они той минимальной и примитивной культурностью, которая заставляет наших курсисток и гимназистов хаживать на лекции, т. е. имеет ли смысл проделывать мой опыт в таком месте, как Нижний?
Да. Теперь я чувствую себя на распутьи, которое застало меня не тогда, когда я владел всей своей энергией, жизнеспособностью и т. д., а когда я разочарован, придавлен, опустошен, ослаблен физически, так что с холодным ужасом я иногда спрашиваю себя: «Да счастлив ли я, неужели я лишен моей пьяной радости»? Вы понимаете, Эмилий Карлович, что для меня этот вопрос – вопрос самый тяжелый: ведь пьяная радость – я знаю – мой raison d’être[740]. Но она улетает. Теперь мной говорит мое несносное тяжелое похмелье. Два последние года в феноменальном у меня только неприятность: 1) смерть бабушки, 2) мама сломала ногу, 3) папа сломал руку, 4) целый год нервной болезни мамы, 5) одно мое личное разочарование, 6) смерть Соловьевых, 7) папина кончина. Жду несчастий. Хочется вдруг крикнуть: «Боже, Боже! Вскую оставиши Меня!»…[741] Но да будет назначенное мне от Бога. Стыжусь роптать.
Скоро откроют мощи Серафима[742]. Теперь все тянется та пелена проносящихся туч, о которых, помните, я предупреждал Вас зимой, когда несся первый отряд, а главная масса еще находилась у горизонта. Теперь вокруг Серафима пылевые смерчи – все так двусмысленно вокруг него. Я жду напряженно неожиданностей, которые теперь вероятны как в хорошую сторону, так и в дурную. Почему-то я боюсь за всю эту многотысячную толпу, за Императора. События мистического оттенка могут завязаться с удвоенной силой, что развяжет многое из современного. Может быть, развяжутся руки, может быть, все будет связано: я и боюсь и надеюсь. Важно то – что у меня есть предчувствия. Мне даже кажется, что это событие не оставит без влияния то, о чем Ницше – германец (и как выдающийся германец всегда эстет) – говорил: «У нас для разговора есть терпение, и время, и излишек времени. Но некогда оно должно же прийти и не может пройти мимо. Кто должен прийти и не может пройти мимо? Наш великий случай, наше великое, отдаленное человеческое царство, тысячелетнее царство Заратустры»…[743] Если Ницше заговорил о том, как некогда должны прейти времена созерцаний, разговоров, если его озабочивало не уже несамоуглубленный видящий эстетизм или, вернее, эстетство, значит гениальный (может, наигениальнейший из всего, что было) квиэтизм à la Гёте, Кант – нарушен. «Этим» не спасешься. Что могло быть обязанностью и вершиной мудрости в то (еще недавнее) время, то теперь – компромисс. А эта фраза: «О как много морей вокруг меня, что за сумрачная будущность людей! А надо мной – что за розовая тишина!»[744] показывает, что нарушитель равновесия знал и равновесие.
Знал и тем не менее…
Тут попадаю на почву нашего принципиального разногласия: 1) хочу кричать о необходимости дела, 2) об отношении религии к искусству, 3) теософии к теургии, 4) Канта к Шопенгауэру, 5) законченной (и тем приконченной) красоты к незаконченной (к безобразию), 6) классицизма (в необычном смысле) к декадентству, 7) Германии к России.
1) Всякое созерцание выше обыденной жизни. Отсюда, конечно, выход в созерцающий квиэтизм, убегание от безобразия при сознании невозможности исправить это безобразие существующими средствами в данный момент бытия. Отсюда официальное отношение к жизни даже при наличности всевозможной горячности прозревания. И не призывом к социальной работе, не принципом разделения труда, не упреками в паразитстве или механичности я буду громить созерцающе-вещий квиэтизм, выросший на скептицизме и критицизме, а указанием на нежелание проводить действующие религиозные начала в мыслях, в жизни, в литературе – начала, меняющие этот красиво и мудро построенный компромисс – слишком хитрый; действительно: если существует «нечто», нисходящее в область феноменов (а всякая религия таковое предполагает: тем она и религия, а не философский критицизм, принципиально не отвергающий религию, но и не идущий к ней) – если существует «оно» – актом молитвенного призывания, вооружившись мистической помощью, – должны мы начать изменение жизни; я знаю, это так трудно: тут может открыться гниль, тут обвал, а измененное когда-то еще будет высвечено; но еще тяжелее сидеть в избе, которая может скоро рухнуть, и умильно поглядывать на небо из окна, проще бы выйти: да вот не хочется проходить крытый двор, где ноги утонут в жидком навозе, а тем паче выводить других. Но вот крыша рушится; прихлопывая человека, застилая и окно, т. е. эстетствующий компромисс, и в этом грохоте проваливающихся балок слышно грозное: «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры»…[745] «Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее» (Матфей)[746]. Почему Заратустра, несмотря на свою «розовую тишину» и «безоблачное молчание»[747], несмотря на презрение даже к высшим людям («все эти высшие люди (Платон (?), Кант (?), Гёте (?), Бетховен (?)), может быть, они не хорошо пахнут?»[748]). И вот он все-таки спускается проповедывать, т. е. звать, приурочивая свои ухождения (а у многих убегания) к накоплению сил, а прихождения к отдаванию этих сил… А вы знаете, что лучше зловонная толпа обычных людей, чем сквозь духи и курения припахивающий высший человек, ибо последнее – Компромисс, терпимый, уважаемый, но не единственно возможный и необходимый, а особенно для настоящей эпохи. Кроме того: во всяком созерцании – намек на прошедшее блаженное действие или отблеск будущего дела; даже созерцание «последней высоты» предполагает устремление души и тела на эту высоту путем самодеятельного преображения… Я не знаю: по-моему, смрадный, прокаженный пророк, покрытый пылью, в лохмотьях, не смешон: трудно, да и невозможно его представить в смешном положении, а вот припахивающий сквозь духи гений ужасно часто – комичен. Отсюда я за пророков, а не за гениев.
Классическое искусство рождало гениев; теперь гении вымирают, да уж и нет их; в будущем возможность их появления потонет в разлагающем классицизм декадентстве.
Истинное декадентство (если его понимать, как отделение) – это переход от культуры, созидающей гениев, коих существование основано на компромиссе, к культуре, созидающей пророков, т. е. людей, приготавливающих человечество к самодеятельному преображению жизни. Соответственно этому литератор в будущем переходит в проповедника, поэт – в пророка. Я не стану приводить оснований того, что теперь, конечно, пророки и проповедники нужны человечеству, а не гении.
Да. Ужасное назначение декадентства. Ужасно назначение декадента: вытравить красоту созерцания лихорадкой движения. И мне начинает казаться, что не след декадентам пробиваться к пушкинской гармонии, ибо это было бы, пожалуй, предвзятостью, уступкой обществу, которое бы со своей стороны и допустило бы декадентство и узаконило, но какой ценой! Да. Новая гармония, быть может, достигнется лишь там, в конце, вдали, на краю горизонта, а не здесь, не сейчас. Да. Декадентство – это кругосветное путешествие, а не приятное partie de plaisir[749] в область безумия. В последнем случае оно неминуемо ведет к смерти, а не к вырождению из современно-пошлых условий существования.
2) Уже в древнеперсидской религии 9-ти чинам ангельским соответствовали девять порядков идей. Отсюда ясна связь идейного отношения к искусству с религиозным отношением к действительности. Отсюда первый намек, что существуют грани и плоскости, откуда искусство переходит в религию, а не обратно, ибо ангелы, да и идеи суть отношения Господа к миру, следовательно, обусловлены религиозным началом, а не обратно. Кроме того: научно-позитивный атомизм переходит либо в динамизм и энергетизм, откуда действительность рассматривается с одной плоскости, либо в монадологию. В освещении Соловьева центральная монада есть в то же время и идея, т. е. вечно-сущее, непреходящее, типичное в известной вещи. Из разнообразной и бесконечной интеграции монад вытекают различные отношения между ними, дающие возможность монаду «b» рассматривать как родовую относительно монады «с» и как видовую относительно монады «а». И так без конца. То же относительно идей. И в девяти ангельских чинах мы имеем, быть может, какое-то предвечное подразделение идей. Из прямого отношения между объемом и содержанием в идеях (обратного отношению объема к содержанию в понятиях) вытекает увеличение их значительности, увеличение их психического воздействия на человека. Последняя ступень обобщения – Душа Мира, Мировая Идея, возносящаяся над другими, не окончательными порядками идей – монад – ангелов – «Честнейшая Херувим, и славнейшая без сравнения Серафим, без истления Бога Слова, родшая», Ее величаем…[750] И искусство, по мере углубления, начинает переходить в славословие Той, Которая открывается как отблеск на каждой вещи, о Которой только мечтал величайший из гениев Гёте, и Которой Приближение указывает в некрасивых, быть может, но уже почти пророческих словах Вл. Соловьев:
(т. е. небо верхнее с небом нижним, две темы изумительной сонаты Вашего брата[752], Артемида и Венера «Ипполита»[753]).
Искусство с этой вершины уже не может довольствоваться гениальными прозрениями, оно сосредоточивается на прозрениях пророческих, религиозно-окончательных (ибо Она – Конец, Радужные Врата, выпускающие нас из голубой тюрьмы на Христову Свободу). Какой бы вершины эстетическое художество ни достигало, оно уж не утолит нас окончательной сладостью, окончательной свободой, которую дает теургическое, религиозное искусство, т. е. искусство относиться через Нее, скорой Заступницы и Помощницы, к Богу; такое же искусство есть уже религия, а всякая религия обязывает нас к бесконечно большому, охватывает жизнь, к святому делу, к молитве взывает. Я не требую ограничения искусству, я только преклоняюсь пред всяким художественным произведением, перед Ней же или перед Христом я падаю ниц.
Современное человечество не сразу подошло к этим эстетическим вершинам, засквозившим теургией. Дальнейший путь должен заключаться в концентрации теургического (которое есть синтез бесконечности эстетических и только идей) и атрофии эстетического и только. Это не означает обязательности атрофии вообще искусства, а только эстетического в искусстве прогрессирующем.
Мой вывод. Гении только открыли теургические перспективы. Роль пророков совсем увести в эти открывшиеся горизонты. Пророк – гений наизнанку, или вернее: гений – недоросший пророк, и классик недоросший декадент. Я парадоксален, но услышьте мои точки зрения и вы увидите, что это так.
Июля 3-го.
Продолжаю о пунктах расхождения с Вами. Только что перечитал написанное вчера: не отказываюсь от написанного; приглашаю лишь понимать все это в смягченном тоне, а то много угловатых и резких суждений.
3) О теософии и теургии писал Вам когда-то. Не отказываюсь от написанного. Прибавлю, что теософия – удел гениев, теургия – пророков. Трудная примиримость той и другой облегчается, как бы цементом – церковью, которая, сохраняя предания, указывает, как на направление линии дальнейшего развития религиозной истины на земле (теургии), так и дает пищу для осмысливания (теософии). Вопросы культурно-исторические, эстетические, социальные, коснувшись в последних своих выводах теургических деяний, оформленных теософскими схемами-знаниями, вдруг оказываются во власти господствующей религии, утраченный смысл которой загорается от предшествующего грандиозного наведения. Из контроля, вытекающего между взаимным сопоставлением теургизма, теософии, Писания и Предания рождается то, что я называю методом искренности, которым принуждены volens nolens[754] руководствоваться мы. Присутствием метода искренности или отсутствием его я различаю своих от не своих, все равно, кто они: декаденты (в глупо-тривиальном смысле) или не декаденты, софисты или психологи, либералы или консерваторы. Зачатки метода искренности – вот что соединяет людей, сбросивших путы прошлого (вернее, впитавших и переработавших это прошлое), причем их переработка дошла до определенной черты, откуда разным людям открывается, как знание, единая, грядущая, милая радость – открывающаяся как знание, а не как со-знание.
Резюме: декадентство есть тот эквивалент, прибавка которого необходима для начала формировки в человеке пророческого элемента.
4) Из всего предыдущего явствует, в чем заключается наше разногласие относительно Канта и Шопенгауэра. То, что я называл в начале письма слишком хитрым и умным (даже мудрым)… компромиссом, есть нечто веками вырабатываемое, законченное, совершенное в своем роде, если не принимать во внимание опускание глаз перед Господом Богом. Слишком не хочется покидать это блаженноспокойное, как бы у неба предвосхищенное, а на самом деле украдкой стянутое спокойствие для того, что еще смутно мерещится вдали. Кантовская теория познания есть таковое явление в философии. Шопенгауэр уже глухо, несуразно заваривает ту кашу, необходимый выход из которой – философский символизм. Соловьев логически отчетливо формулирует изменившееся в теории познания отношение между нуменом и феноменом. Этот акт переработки огромнейшей важности. Уже в перекрестном сопоставлении закона основания познания с зак<оном> осн<ования> бытия, закона причинности с закон<ом> мотивации раздается вздох пробуждающегося хаоса, превратившийся в ураган на наших днях, разрушающий, ломающий, освежающий ураган Мирового. Вы как-то писали, что Шопенгауэр мне ближе, как славянину, своим пессимизмом. Но я враг пессимизма, и это свойство шопенгауэровской философии теперь мне чуждо. Значение его открывается мне, если я буду рассматривать с точки зрения исторического момента развития философской мысли. А что Шопенгауэр мне нравится как славянину (вернее, как русскому)[755], под этим я подписываюсь. Шопенгауэровское построение грандиозно начато, проникновенно задумано, но аляповато-несуразно, даже безобразно… Какая противоположность заглаженно-несокрушимому Канту!.. Но то же декадентски безобразное, титаническое по начинанию, но не вскипевшее «что-то» аналогично шопенгауэро-ницшевскому, только всегда религиозно-теургически – вечно-загрязненное, желто-янтарное (у Ницше ослепительно-золотое), как воск густое и как мед ароматно-тягучее (у Ницше «оно» – воздушное), пронизало русский народ и где-то глубоко, глубоко сквозь вечную вырожденность, пессимизм, вспыхивает, но таким пламенем, что невольно рождает мысль о русском деле, как деле мировом, несмотря ни на что. Быть может, переворот германской мысли и искусства от великого равновесия к великому неравновесию есть переход к тому, что глухо, века волновало непросветленный русский хаос, лишенный навсегда германского равновесия благодаря 200-летнему порабощению и унижению за спасение других (Европы), а также благодаря множеству роковых ошибок. Быть может, России нужна германская культура для того, чтобы восстало из хаоса то, что выше всякой культуры – занесенная с Востока бездонная глубина теургии. Невольно припоминается мне стихотворение одного очень милого студента-новопутейца, Семенова, у которого я и списал его[756]:
Вот он несет свою свечу, безвинно окруженный пустынными тенями! И уже в золотом пламени ницшеанского дионисианства можно угадать то пламя, которое зажжет великим пожаром восковую свечу безвинно-декадентского народа. И сквозь вечное убожество (юродство) русских «выродков» вечно слышалась и пушкинская египетски-ницшеанская цыганственность, зароненная навсегда искони. Сколько дионисианской радости в словах:
Здесь восковая свеча, растопленная и золотисто-янтарная, начинает сверкать ослепительно ницшевской винностью среди униженных равнин сквозь пронзительный визг метели[759]. И обратно: здесь мечты о человекобожестве преображаются светом немеркнущим, здесь сверхчеловек Ницше зажигается пред Господом, как «свеча восковая» – великая свеча…[760]
Мой тезис: от Гёте к Ницше (показавшем на себе, чем тайно болел гётизм) и от Ницше к Тому Неизвестному, который дальше Достоевского, всегда живущего скрыто в русском народе. Или: Германия, классическая страна гениев, продолжится в декадентской России – грядущей стране пророков. Нечто, соединяющее Германию с Россией, есть в изумительной сонате Ник<олая> Карловича (ведь есть же в ней много чисто русско-мистического наряду с германским точно так же, как и в Альбоме[761]). Вот куда я невольно перепрыгнул от Шопенгауэра и Канта.
Дальнейшие наши разногласия (5, 6, и 7) вытекают из вышеизложенного. Я бы мог продолжать, но ведь надо же наконец и прикончить это безмерно затянувшееся письмо.
Переписываю Вам одно из моих стихотворений под названием «Вечный Зов», состоящее из трех отрывков.
Письмо Ваше получил, точно так же как и предпоследнее[763]. Спасибо за «ядовитую» статью. Что касается до «братушек», то вполне разделяю Вашу нелюбовь к мужикам, считающим себя европейцами, а Кронштадтского понимаю[764].
Да хранит Вас Христос.
Борис Бугаев.
P. S. Мой привет и уважение Анне Михайловне.
P. P. S. На днях пошлю в «Новый Путь» статью, где между прочим говорю об «Альбоме» и об неизданной Сонате Николая Карловича[765]. Не будучи музыкантом, чрезвычайно затрудняюсь определять совершенство этих произведений с музыкальной точки зрения. Поэтому беру за главную теургическую точку. Не знаю, пропустит ли цензура (их ужасно казнят, вычеркивая решительно все, что имеет какое бы то ни было отношение к религии).
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 18. Помета красным карандашом: «ХVIII».
38. Метнер – Белому
12 июля 1903 г. Н. Новгород.
Раньше всего, мой милый и дорогой Борис Николаевич, позвольте Вас пожурить… Не могу не сделать этого: старею; из Эмилия Карловича, из Мили постепенно и очевидно преобразовываюсь в «дядю Милю»; а дяди все поварчивают, брюзжат… Я так был удивлен, получив Ваше письмо от 2 июля, что даже не сразу обрадовался ему… И вдруг читаю, что Вы пишете, чтобы я опять и т. д… Да я ни разу за все это время не укорил Вас даже мысленно за Ваше молчание, вполне естественное. Кроме того, от столь близких мне людей, как Вы, я готов получать ежедневно письма с «нравственной утомленностью» в каждой букве. Если только Вас облегчает это, то пишите мне; я же, в свою очередь, постараюсь, если это возможно, разделить с Вами, или лучше, отделить от Вас эту «нравственную утомленность». Вы, кажется, не шутя считаете меня каким-то монстром мнительности. Алексей Сергеевич (он сегодня утром уехал в Саров)[766] – передавал мне Ваше и сообщил свое мнение о моей фотографии. Она Вам, также как и ему, не понравилась, что мне вполне понятно; у меня крайне нервное лицо, и снять меня очень трудно; гораздо легче писать портрет. Между тем Вы пишете, что имеете против «совсем маленькое нечто…» и «чуть, чуть». Я хохотал, читая это, т<ак> к<ак> в эту минуту я очень ясно видел выражение Вашего лица в то время, как Вы это пишете! Вы – очень милы и… галантны. Ну а я вовсе уж не так мнителен… Вот только стар я стал и ворчлив. Дело в том, что я не могу жить без музыки…
Перехожу к делу, к деловитому. Об акцизе – нечего и думать. О преподавательской деятельности – нечего мечтать: едва ли Вы получите место в Москве. Против учительства (не мистического, а географического) я ничего не имею: занятие благородное и для Вас полезное: Вы бы приучились говорить с детьми; сначала с детьми по возрасту, а там и с детьми по уму-разуму. Сначала устно, а затем уж и письменно. Вы видите, что я готов вполне одобрить Вашу затею читать лекции. Но думаю, что Вам бы следовало брать пример не с Касперовича (столь же глупого, сколь и культурного) с его волшебными фонарями и неволшебными пианистками[767], а с Брюсова, который, несмотря на его не только (как у Вас) декадентскую прокаженность, но и декадентскую сущность, умеет говорить не только как упорный маг, сложивший руки[768], но и как добросовестный сократик; и я признáюсь Вам, что последняя роль ему более к лицу! Вы, конечно, никогда вовсе не лишитесь своей пьяной радости, которая у Вас не только Ваше raison d’être[769], но и всеобщее, русское, чистое (не мутное), я бы хотел сказать целомудренное бражничанье; если изъять только некоторые угловатости и нагромождения (результат молодости и некоторой декадентской прокаженности), – то Вы успели уже дать меру, образчики этой пьяной радости, каких немного. К тому же Вы молоды, а Jugend, сказал Гёте, ist Trunkenheit ohne Wein…[770] Поэтому скажите себе вместе с ним:
Но Вы не только не лишились и не лишитесь этой пьяной радости; пусть также она царит и в Ваших лекциях.
13 июля. Представьте! Я еще не дочитал до конца Вашего письма, которое пришло третьего дня вечером. Дело в том, что я решил отвечать на него по мере чтения. И в этой задаче своей встретил препятствие в лице Алексея Сергеевича и Андрея Михайловича (брата жены)[773]; Вы знаете, как мне трудно оторваться от разговора… Итак; да здравствует пьяная радость! Но пусть она не изгоняет из Ваших лекций ту долю элементарной азбучной ясности, которая необходима для аудитории, состоящей из лиц с «минимальной и примитивной культурностью». Не бойтесь, что половина лекции будет непонята почти всеми, лишь бы другая половина была понята почти всеми. Тогда успех Ваш обеспечен. Скажу о Нижнем. Здесь среди представителей интеллигентской расы царит мысль о необходимости умственного развития, par excellence, <нрзб>, т. е. развития без сосредоточения, развития неизвестно куда и зачем. Главари (например, газетчики), конечно, знают куда: в сторону дельности; вот почему печать казнит бездельников-декадентов, начиная с Фета и Вл. Соловьева (?! «специалиста по демонологии», как его назвал один местный scribler)[774] и кончая Андреем Белым и Розановым. Признаюсь, я ждал неблагосклонных предварительных заметок о Касперовиче; однако с газетных столбцов было лишь заявлено, что любопытно, мол, послушать, что скажет нам о новом искусстве один из его представителей; правда, в тоне этой заметки слышалось: ничего путного не скажет[775]; но это только мог прочесть между строк внимательный читатель… Публика толпой валила на лекцию… Пойдет она охотно и на Вашу. Пойдет в особенности, если nimbus[776] учености, «буквальности» замечен будет ею в оглавлении. Я вполне одобряю Ваш план. Во всяком случае Вы должны сделать попытку стать на свои ноги без помощи акциза и т. п. –
Я мог бы очень много, дорогой Борис Николаевич, сказать Вам не против, а по поводу Вашего великолепного разбора нашего с Вами принципиального разногласия, но не сделаю этого по двум причинам: 1) некогда: гостит брат жены; 2) даже если бы и удосужился, то не сумел бы вполне высказаться по усталости своей мысли, которая все медленнее и слабее движется у меня. Ограничусь весьма немногим. Когда осенью прошлого года мы лихорадочно интервьюировали друг друга, то оказалось, что, помимо чисто вкусового (расового) несогласия о Шопенгауэре и Канте, мы вполне во всем солидарны вплоть до осуждения будем же делать Мережковского[777]. Не отрицая правомерности ожидания, необходимости пребывать в боевой готовности ввиду очевидного для маломальски зрячих приближения к узловой станции, поворотному пункту, мы оба признавали тогда нетерпение даже кощунственным. Ведь надо же признать, что реально эмпирически то, что Вы показываете в Своем Пришедшем, в данный исторический момент еще невозможно. По всей вероятности, мы находимся относительно близко к X, Y, Z, – ну, напр<имер>, на U, V; но эта относительность, может быть, продлится три-четыре столетия, подобно промежутку от Сократа и Платона до Христа. Ведь и Еврипид уже был декадент… относительно Эсхила и Софокла… Ваш Пришедший[778] есть гениальный симптом, а отсюда до пророческого (не предусматривающего события, а создающего их) глагола отнюдь не рукою подать… Таким же симптомом является и все Вами написанное в последнем Вашем письме. Я в основных чертах принимаю все это, но думаю, что на мой век достаточно и одного принятия, спокойного ожидания, квиэтизма, гениальности. Мне жутко от теургизма (чистого, не смешанного с элементами ему предшествующими), от пророческой стремительности; мое слабое сердце не выдержит такого полета; я ни на чей зов сам не двинусь, ни на чей человеческий; а на призыв сверхчеловеческий мне, если только я доживу до него, труда не будет двинуться; я готов, а силы, которых нет у меня для следования призыву человеческому, даст мне тот Сверхчеловек, призыв которого раздастся… Пишите, пишите мне, дорогой Борис Николаевич, все, что Вы думаете; я все готов слышать; я думаю, что я более готов к этому, чем многие другие, именно вследствие пассивности своей… Я пока ограничусь по существу сказанным. А теперь коснусь частностей: 1) мне страшно нравится Ваше отношение (pietas[779]) к Вашей матушке. Я заметил и оценил это еще тогда, когда был у Вас в гостях. 2) «Но везде вместо солнца ослепительный пурпур огня»[780] – вот что смутило меня в стихотворении, мне посвященном! Теперь после Вашего теперешнего письма ко мне я начинаю понимать эти строки и прошу Вас извинить меня за вздор, который я Вам, кажется, написал тогда[781]. Сознательно благодарю Вас за это посвящение. 3) В музыке Коли[782] говорит глубокий германец о русской глубине. Но это не всегда: в Коле есть нечто архиантидекадентское, чтó часто уединяет на высотах чистого эгоистического и отнюдь не русского созерцания. – 4) Едва ли Ницше – славянин! Он такой же сомнительный славянин, как Боголюб Ефрем Лесников (Лессинг), как Любенюк (Лейбниц)[783] и т<ому> п<одобные> славянофильские химеры. Ведь тогда Пушкин – арап, Жуковский – турок, Чайковский – армянин, Лермонтов и Кант – шотландцы, Фет – немец и т. д. и т. д….
До свиданья! Поклон Вашей матушке… Жду Вас с нетерпением в ноябре. – Анюта[784] кланяется Вам. Христос с Вами. Горячо любящий Вас Э. Метнер[785].
С роковым значением для России монгольского ига я никак не могу согласиться; Россия отделена от Запада не Уральским хребтом и не Китайской стеною; вольно же ей было терпеть это иго 200 лет; да и иго то это вовсе уж не так тяжко было; тридцатилетняя война похуже изуродовала Германию…[786] Вообще я враг ссылок на несчастные обстоятельства, если речь идет о крупных явлениях вроде мировой роли великой нации. Ваш Вечный Зов (вещь изумительная по дерзкому сочетанию идеализма и натурализма) разве не показывает Вам самому, как рискованно из совершенно правильной по существу формулировки хода судеб человеческих переходить под влиянием грустно-задумчивого зова к реализации формулированного… Тут одно из двух: или, чувствуя призвание стать одним из предтечей, надо удалиться от мира для подготовки, или же, оставаясь в миру, исполнять свой долг, не сомневаясь в богоугодности его… Tertium non datur[787]: впрочем, участок или дом умалишенных… Преждевременно появившийся на свет теургизм может вызвать или оргиазм, или квиэтизм, но уже не эстетический, а нечто вроде маразма дряхловосточной нирваны[788].
Зачеркнул из-за «pietas» к Кронштадтскому. Но отказываюсь без Вашей двойной помощи обмозговать этот факт.
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 19.Ответ на п. 37.
39. Белый – Метнеру
1903 года 25 июля.
Ужасно рад получить от Вас письмо. Спасибо за «журенье»: принимаю и молчу, ибо Вы попали в сущность одного моего большого недостатка – боязнь сказать то, что может, если и не произвести на человека дурного впечатления, то во всяком случае оставить осадок, но опять-таки я излишне «галантен» до известной черты, за которой уже не знаю границ. Всю жизнь стараюсь избавиться от двух (в сущности от одного) недостатка: от излишней мягкости и грубости.
Уведомляю Вас, что отправил в «Новый Путь» статью, в которой одна часть посвящена произведениям Николая Карловича (альбому)[789]. Я принужден был поступить так (т. е. вместо отдельной заметки говорить о Вашем брате в статье), потому что не могу, конечно, с чисто музыкальной точки зрения писать о таких высокохудожественных произведениях. Поэтому, упомянув вскользь о их выдающейся художественности, стал напирать на теургизм их, что на фоне всей статьи (она называется: «О теургии») больше оттеняет и уясняет произведения Вашего брата, нежели это возможно в заметке. Содержание статьи таково (привожу оглавление отрывков, из которых она состоит): «Отзывчивость идей. Теургия и магия. Их выражение в музыке. Магизм Лермонтова. Произведения г. Метнера, их теургизм. Теургический путь»[790]. Я не послал Вам предварительно (по уговору) о Ник<олае> Карл<овиче>, потому что отрывок, вырванный из предыдущего и последующего, не мог иметь самостоятельной цельности, опираясь на предшествующие рассуждения, а всю статью я торопился отослать, чтобы она могла появиться в августовской книжке. Не знаю, 1) пропустит ли духовная цензура (там много есть, к чему можно придраться), 2) не обезобразит ли чего-нибудь редакция, 3) поместят ли вообще мое, ибо у нас с «Новым Путем» глухие и продолжительные нелады и даже «старые счеты»… Вот почему уже месяцев «5» я принципиально не печатаюсь в «Новом Пути», несмотря на просьбы Мережковского и Перцова, которые, выказав много пристрастности и тенденциозности, оттолкнули меня от себя (не как люди, а как деятели). Может статься, что они (будучи памятными (не зло-, а просто памятными)) припомнят мне некоторые мои вызывающие поступки и не напечатают.
Прежде всего Перцов обиделся, что я его отчитал за помещение моего письма в «Новом Пути» без моего ведома[791], потом обиделся вдвойне за то, что я отказал им в просьбе напечатать мое письмо к Блоку (слишком интимного характера)[792], затем обиделся Мережковский за присылку рассказа, в котором Вл. Соловьев выставляется перлом создания (он терпеть на может В. Соловьева) и который они не поместили[793]. Наконец обиделся я за непомещение одной заметки, которую они (в Редакции) не поняли[794]. Кроме того: у нас с Мережковскими свои личные, усложненные до nec plus ultra[795], отношения… Все это делает мое участие в «Новом Пути» нежелательным для меня, тем более что и Мережковские понимают меня совсем превратно. Вообще я чувствую ужасное одиночество среди лиц, которые меня окружают и с которыми volens nolens[796] приходится иметь дело: все эти Брюсовы, Бальмонты, Соколовы, Мережковские и т. д., все это, что вовсе не то, что нужно… Нет среди них пророков, ни на кого не глядишь с искренним доверием и дружбой (разве вот Бальмонт, который честен, прям, детски доброжелателен и капризен – он самый мне симпатичный, да и то…).
Вы всё еще вспоминаете мне, что я назвал «магом» Валерия Брюсова, но ведь «магизм» я понимаю в широком смысле, и как чудодейственность силы, употребленной не во Славу Божию (как, напр<имер>, у Лермонтова), так и отблеск того отношения к действительности, которое родит магов в тесном смысле. А если бы Вы ближе узнали Брюсова, то Вы согласились бы, что он истинный маг в потенции – маг, как тип человека, стоящего ступенью ниже теурга, ибо теург – белый маг. Вот Блок, тот бóльший маг и уже почти в настоящем смысле, почти равный в своем магизме Лермонтову. Маг – это заклинатель, манипулирующий до зоны хаоса, перед ней, наконец в самом хаосе, а теург – это маг, уже увидевший просветы или ушедший по ту сторону хаоса, во всяком случае хотя бы созерцанием победивший хаос. Отсюда: плоскости магизма и теургизма суть совершенно разнствующие во славе плоскости, со своими ступенями, своей логикой, своим путем, своим величием и т. д. Лица-маски, столь обильно показывающиеся на улицах, в театрах и общественных местах за последнее время и принадлежащие почти всегда молодым людям и девицам, понимающим новое искусство, – эти маски – только магичны самой элементарной долей магизма, но уже… магизма. Следовательно: и они до некоторой степени маги. Конечно, Брюсов среди магов выдающийся, умный, знающий маг, к которому термин «пророк безвременной весны»[797] подходит, ибо над-временность очень характерна в Брюсове. Может быть, это у него только поза, но он великолепный в таком случае актер, когда в обществе «застывше» и «надвременно»[798] относится к окружающему. Кроме того, он донельзя гиератичен в манерах – опять-таки черта магическая…
Среди официальных выразителей магизма, с сознательным актерством ретуширующих себя перед обществом, пальма первенства принадлежит, конечно, Брюсову, который «играет роль» с чувством, с пафосом, исполняя свою миссию (миссию показного мага) перед целой Россией, и, конечно, заслуживает уважение и признание за это, ибо он же громоотвод – принимающий львиную долю грязи, оскорблений на себя, приучающий нашу, мужиковато удивляющуюся толпу не удивляться. Не знаю, понятно ли характеризую его, но для меня понятен и по-своему близок an sich[799] Брюсов. Вот почему в своем стихотворении я и постарался дать изображение идей и прототипа Брюсова…
Что касается лекций, которые мною еще не написаны (мне теперь ужасно трудно писать, да и все, что я пишу в настоящую минуту, так сомнительно и шатко для меня; испытания начались для меня решительно на всех пунктах и планах) – что касается лекций, – придам первой из них сериозную внешность, а второй богословскую, хотя под оболочкой сериозности спрячу магизм, а под оболочкой богословствования – теургизм. Лекцию хочу озаглавить так: «О великом перевале сознания» или просто: «О перевале сознания»[800]. Конечно, постараюсь не подражать дураку Кашперовичу, который был ужасно смешон, объявляя столь же известные и неинтересные, сколь и неубедительно формулированные истины.
Что как Вы нашли Алексея Сергеевича, какова его эпопея? Был у Вас мой товарищ Владимиров? Я жду их в половине августа к себе, но думаю, что оба меня обманут[801].
Я всё время напряженно следил за погодой, начиная с 8-го и кончая 20-тыми числами. 11 июля началось какое-то генеральное очистительное разряжение атмосферы грозы ужасающего характера, а потом, в дни торжеств[802], какое-то усмирение, после торжеств – то же, а 19-го какой-то… срыв… Читаю о чудесах, говорю вслух: «Слава Богу», а в душе – грусть, грусть… я ждал, быть может, большего (воскресения мертвых, катастрофы, а все сошло по-видимому благо-получно… чуть-чуть серединно…). Я не знаю, чего я ждал, но мне грустно.
Большое спасибо за указания тех границ, которых мне держаться относительно нижегородской публики, потому что сам я никогда не знаю границ и меры. И это вытекает из какого-то изнутри меня идущего побуждения, разбираясь в котором, вижу, что оно – особого рода хитрость: отсутствие чувства такта часто признак глупости: выгодно ли, чтобы меня считали не глупым, не лучше ли быть юродивым, Иванушкой дурачком и т. д., так что не есть ли «умственность» обуза совершенно лишняя. Ловя себя на этой идее – настроении, я почему-то краснею от стыда за себя… Но почему?.. Не уличаю ли я себя в чем-либо?.. Совершенно согласен с Вами – я преувеличил значение татарства, хотя оно у нас пустило глубоко корни; достаточно уж одного того, что множество дворянских родов ведет свое начало от выходцев из Орды… Вот хотя бы мы: при Ал<ексее> Михайловиче Бугаевы были стрелецкими сотниками (уж я не знаю кем, но служили в стрелецком войске, а раньше, кажется, татарского происхождения)[803].
Но довольно. Лучше я Вам напишу в следующий раз. А то какая-то беспричинная грустность парализует каждую мою мысль, не давая возможности писать ни о чем, кроме пустяков. Если я и пишу Вам, то только благодаря Вашему чересчур любезному приглашению писать даже с нервной утомленностью. Прощайте, дорогой Эмилий Карлович, я так часто думаю о Вас. Да хранит Вас Господь.
Остаюсь готовый к услугам и любящий
Борис Бугаев.
P. S. Мой привет и уважение Анне Михайловне[804]. Жду от Вас известий. Пишите о себе.
P. P. S. Так как Вам не понравилось прежде «ослепительный пурпур огня»[805], то я Вам посвятил восстановляющее огонь в золото стихотворение. Кроме того, позвольте мне посвятить Вам пять нижеследующих стихотворений, из которых одно Вы уже знаете[806]. Привожу для цельности и его.
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 19. Помета красным карандашом: «ХIХ». Фрагмент опубликован: ЛН. Т. 92. Кн. 3. С. 200–201.Ответ на п. 38.
40. Белый – Метнеру
Серебряный Колодезь. 9-го авг<уста> 03 г.
На этот раз пишу Вам чисто деловое письмо. Обращаюсь к Вам вместо Алексея Сергеевича потому, что он вообще ходит под солнцем, но где именно в настоящую минуту, не знаю. Отправленное письмо к нему[811], а также и то, что адресовано в пространство, он, по всей вероятности, не получил, ибо упорно молчит, несмотря на обещание сообщить мне о Сарове из первых источников и неоднократные напоминания об этом[812].
Вот о чем собственно я пишу: мы с мамой собираемся ехать в Саров на богомолье, вероятно в конце сентября[813]. Вы, как нижегородец (??!!?) все-таки больше знаете, да и Алексей Сергеевич, быть может, говорил Вам что-либо: 1) Не слишком ли это поздно, 2) 60 верст от Арзамаса, которые мама так боится проехать без попутчиков, можно ли безопасно проехать? Есть ли там экипажи, линейки – вообще каково там сообщение. 3) Предполагаются ли богомольцы к осени?
Мама ужасно боится всего, и я по поручению ее задаю Вам все эти вопросы, зная, что Вы вряд ли знаете что-либо. Простите за некоторую назойливость этих вопросов… По всей вероятности, мы скоро увидимся. На возвратном пути мы остановимся в Нижнем на несколько дней. Лекции же я думаю прочесть в Нижнем после Москвы, т. е. в конце ноября и начале декабря[814]. Одну уж вчерне я написал. Она носит название: «О великом перевале в сознании». Посылаю Вам формулированное ее содержание: достаточно ли деловито оно составлено? Содержание таково: «Ступени познания. Рассудок. Ум. Разум. Критицизм разума. Теория познания. Кант. Шопенгауэр. Их отношение друг к другу. Символизм. Мудрость. Безумие. Декадентство.
Пессимизм. Связь энергетизма с Шопенгауэром. Последователи Шопенгауэра: Гартман, Ницше. Теософия.
Характер философии Ницше. Три идеи ницшеанства. Различные зоны понимания Ницше. Трагизм. Теургизм. Теургическое христианство. Три религиозных русла (церковь, теософия, теургия)»[815].
Вторая лекции будет озаглавлена: «Новый Путь» (не журнал, конечно). До скорого разговора (на днях я еще напишу Вам, а теперь скопилось масса писем, на которые нужно отвечать).
Остаюсь любящий и глубокопреданный Б. Бугаев.
P. S. Мой нижайший привет и уважение Анне Михайловне[816].
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 20. Помета красным карандашом: «XX».
41. Метнер – Белому
Н. Новгород 9 августа 1903 г.
Мой дорогой, мой милый Борис Николаевич! Мне давно, очень давно хочется поболтать с Вами. Но дела и гости все отвлекали меня от этого. Прочел я вместе с братом жены (Андреем Михайловичем[817]) по его просьбе Мережковского. Скажу по этому поводу два замечания. 1) Странно, что даже такие Андреи Михайловичи начинают беситься или юродствовать: читают, захлебываясь, Новый Путь и ездят в Саров. Эдак искалечился (с точки зрения позитивизма) вьюноша в одну зиму. Даже не узнал его. 2) Мережковский никакого понятия о Христовом чувстве (в нашем смысле) не имеет. В этом я окончательно убедился. Кроме того, он смешивает Богочеловека (явление божественной революции) с человекобогом (явлением животно-человеческой эволюции); он нападает на сверхчеловека Ницше, между тем его Христос ничем ровно не отличается от сверхчеловека. Все более также вижу, как глубоко верно Вы возразили ему в письме, помещенном в первой кн<ижке> Нов<ого> Пути[818]. Далее: мне все более и более понятным становится то taedium litterarum[819], которое, несмотря на интерес и увлекательность, несмотря на мастерство и даже талантливость, остается в результате чтения большинства «новых»; человеку надоело быть человеком; от слишком человеческого он ищет исцеления не в чисто-вечно-человеческом, а в сверх-человеческом. А это нудно, подчас, даже у Ницше, а не только у Мережковского и друг<их>. По-моему, величайшее достоинство человека, это не позволить Серому спихнуть себя с позиции. Я в этом смысле написал нечто для Придн<епровского> Края…[820] – Кстати: все мои статьи о религиозно-философских собраниях, несмотря на их безобидность, екатеринославский цензор не пропустил. Вообще писать в подцензурной газете можно только пошлости (в смысле содержания). Кроме того, я решительно не писатель, а пишу потому, что, как любил выражаться Казимир Клементьевич[821], голь на выдумки хитра. С одного жалованья – сыт не будешь. Вот почему, дорогой мой, никогда не берите в руки Придн<епровского> Края, чтобы как-нибудь случайно не прочесть чего-нибудь моего и не покачать печально головой… 10 августа. Я забыл сказать, что при вторичном чтении Мережковского[822] меня поразила еще больше его виртуозность, порою переходящая в магизм (не внутренний, а внешний). Ну а вот Никиш (иератические манеры!) – маг? Или только внешность мага? А вот эти строки из X тома Ницше, из его дивного очерка досократовской, т. е. трагической греческой философии какое имеют, по-Вашему, отношение к магии. Не маги ли трагические философы; маг ли Перикл? Сам Ницше? Но вот эти строки, кстати сказать, дающие образчик прозы неслыханной красоты. NB. Речь идет о философии Анаксагора; его все приводящий в движение и устраивающий Nous[823] – представляется Ницше художником (не магом?). Der allergrösste Anaxagoreer ist aber Perikles, der mächtigste und würdigste Mensch der Welt; und gerade über ihn legt Plato das Zeugniss ab, dass allein die Philosophie des Anaxagoras seinem Genie den erhabnen Flug gegeben habe. Wenn er als öffentlicher Redner vor seinem Volke stand, in der schönen Starrheit und Unbewegtheit eines marmornen Olympiers, und jetzt, ruhig, in seinen Mantel gehüllt, bei unverändertem Faltenwurfe, ohne jeden Wechsel des Gesichtsausdrucks, ohne Lächeln, mit dem gleichbleibenden starken Ton der Stimme, also ganz und gar undemosthenisch, aber eben perikleisch redete donnerte blitzte vernichtete und erlöste – dann war er die Abbreviatur des anaxagorischen Kosmos, das Bild des Nous, der sich das schönste und würdevollste Gehäuse gebaut hat, und gleichsam die sichtbare Menschwerdung der bauenden bewegenden ausscheidenden ordnenden überschauenden künstlerisch-undeterminirten Kraft des Geistes. Anaxagoras selbst hat gesagt, der Mensch sei schon deshalb das vernünftigste Wesen oder müsse schon darum den Nous in grösserer Fülle als alle anderen Wesen in sich beherbergen, weil er so bewunderungswürdige Organe wie die Hände habe; er schloss also darauf, dass jener Nous je nach der Grösse und Masse, in der er sich eines materiellen Körpers bemächtigt, sich immer die seinem Quantitätsgrade entsprechenden Werkzeuge aus dieser Materie baue, die schönsten und zweckmässigsten somit, wenn er in grösster Fülle erscheint. Und wie die wundersamste und zweckmässigste That des Nous jene kreisförmige Urbewegung sein musste, da damals der Geist noch ungetheilt in sich zusammen war, so erschien wohl die Wirkung der perikleischen Rede dem horchenden Anaxagoras oftmals als ein Gleichnissbild jener kreisförmigen Urbewegung; den auch hier spürte er zuerst einen mit furchtbarer Kraft, aber geordnet sich bewegenden Gedankenwirbel, der in concentrischen Kreisen die Nächsten und die Fernsten allmählich erfasste und fortriss und der, wenn er sein Ende erreichte, das gesammte Volk ordnend und scheidend umgestaltet hatte[824].
Перевод: Величайший анаксагореец – Перикл, самый мощный и достойный человек на свете; и как раз о нем свидетельствует Платон, что только философия Анаксагора дала его гению возвышенный взмах[825]. Когда он, как публичный оратор, стоял перед своим народом, в прекрасной оцепенелости и недвижности мраморного олимпийца и вот спокойно, облеченный в плащ, складки коего, не изменяясь, безо всякой смены в выражении лица, без улыбки, монотонно и с равной силой голоса, следовательно, отнюдь не демосфеновски, но именно перикловски изрекал, гремел, блистал, уничтожал и освобождал – тогда он был аббревиатурою анаксагорейского Космоса, образ Нуса, который построил себе самое прекрасное и полное достоинства здание, и как видимое вочеловечение строющей, движущей, выделяющей, образующей, обозревающей, художественно неограниченной силы духа. Анаксагор сам сказал, что человек оттого уже разумнейшее существо, именно потому должен служить Нусу кровом в большей степени, нежели все другие существа, что у него есть такие удивительные органы, как руки; он заключал, следовательно, к тому, что это Nous, смотря по объему и плотности, (того материального тела, которым он овладел) (или, можно понять и так (пожалуй – вернее)), с каковым он овладел данным материальным телом, – строит из этой материи орудия, отвечающие своему количеству, стало быть, наиболее прекрасные и целесообразные, если он является в величайшей полноте. И как изумительнейшием и наиболее целесообразным деянием Нуса должно было быть кругообразное перводвижение, потому что тогда дух был еще нераздельным в самом себе, то действие перикловой речи прислушивающемуся Анаксагору представлялось часто символом того кругообразного перводвижения; так как и здесь осязал он раньше всего круговорот мыслей (вихрь мыслей, мыслекружение), движущийся со страшной, но организованной силой, который захватывал и отрывал постепенно сначала ближайших, затем дальнейших в концентрических кругах (находящихся слушателей), и который (круговорот), когда достигал своего конца, то вместе с тем преобразовывал, строя и деля весь народ. – Не взыщите, дорогой Борис Николаевич, ни за труд, к которому я толкнул Вас, прочтения этой немецкой тирады, ни за «чешскогимназический» перевод ее на русс<кий> язык. Здесь сам Ницше, который умеет говорить, и «демосфеновский» – артистически заговорил магически-«перикловски». Когда будете читать лекции, вспомните образ говорящего Перикла. – Спасибо за объяснение «магизма» и «теургизма»; теперь я понимаю Ваше стихотворение о Брюсове, хотя и продолжаю считать его слабейшим в поэтическом отношении, которого по этой причине, а также и по крайней его эсотеричности не следовало бы печатать. Стихотворение Бальмонту – куда лучше и понятнее[826]. – Отвечаю на Ваше письмо. 1) «Теургизм» Колиных сочинений – формула для меня понятная. Прибавлю: Коля почти не пребывал в «магизме»; он как бы перескочил через него. NB. Недурно было бы, если бы Вы в печати называли Колю не «г. Метнер» а «г. Николай Метнер» или «Н. К. Метнер», а то ведь есть и Александр (скрипач)[827]. 2) Алексея Сергеевича я нашел все в том же состоянии[828]; хотя успокоенность его, а вместе с тем и большая толерантность по отношению к мирскому, пожалуй, сделала еще шаг вперед; он – на перепутьи и все-таки имеет вид человека, уже остановившего свой выбор. Ваш товарищ Владимиров, «странниками» которого я остался очень доволен[829], особенно их ножищами в лаптищах, – лично произвел на меня симпатичное впечатление. У нас он был всего два раза. Говорил мало. Рассуждал еще меньше. – 12-го августа. 3) Ваше настроение во время Саровских торжеств крайне характерно для Вас. Но не грустите: я глубоко убежден, что мартовские иды еще не прошли[830]. Серафим слишком крупен, чтобы «его» были только дни, а не месяцы и даже годы. Ведь народу-то все прибывает; «серединное», сиречь официальное, полицейское отступает. Кстати: возмутительно вела себя полиция в Сарове; палки и нагайки работали усердно, к великому огорчению преосв<ященного> Назария. Оттого и «благо-получие». 4) Ваш самоанализ великолепен и правдив… Краснейте чаще «от стыда» за свой «стыд умственности»; в Вас говорит пока человек новейшей, но не наиновейшей формации. Как первые христиане со всей силой оттолкнулись от берега язычества и потому очутились не в фарватере, а только у другого берега, так и «новые», отталкиваясь от берега сократизма, тоже не всегда соизмеряют свою силу. И чем у кого эта сила больше, тем более опасность для него впасть в юродство. 5) Что касается татарства, то я не отрицаю «глубоких корней», которые оно пустило в России, но я и не усматриваю в этом дурной стороны; или, вернее, убежден, что хорошие стороны этого обстоятельства превышают дурные. Я только не признаю ссылки на татар, как на нечто роковое, помешавшее России поспевать за Западом. В истории все – роковое, и потому нет ничего рокового. Каждый народ кует свою историю. Извинения – не допускаются. Если бы да кабы, да вот «среда заела», все это не оправдания; все это надо выбросить, как сор, в особенности «великому» народу; все это мешает, приводит к квиетизму, как раз там, где я не признаю уютного поджидания (как в нуменальной области), а неослабно-энергичное действование. 6) Поверьте, что «мое чересчур любезное предложение писать даже с нервной утомленностью» столь же эгоистично, сколь и альтруистично; этот «alter ego» – Вы, «старинный» друг мой; я не хочу, чтобы Вы слишком долго solo думали при теперешних Ваших переживаниях; это небезопасно для Вас. 7) С чего же Вы это выдумали, что я уступаю Вам «ослепительный пурпур огня», освещающий Вашу фотографическую карточку? Просто я не понял сначала этого стихотворения, потому и не восхитился им. А теперь я его Вам не отдам. За «Аргонавтов» и за «Старинного Друга» низко кланяюсь Вам. Как и следует быть, я не воспользовался первым пылом и не сел писать Вам ответ немедленно, по прочтении Вашего письма и посвященных мне стихотворений. И вот теперь уж не в силах показать Вам своего восторга. Скажу только, что «Аргонавты» объясняют уже до конца то стихотворение, которое я сначала не понял, и должны следовать за ним: получается чисто музыкальный эффект[831]. Но если эта пара стихотворений будит, влечет, в ней что-то боевое, а потому сомнительное (он настигает свое золотое руно… Конечно и настигнет, но все-таки это еще не облеклось в слово…) – то сюита «Старинный Друг» имеет в себе нечто несомненное; буквальное; читаешь и знаешь, что это так и будет; иначе быть не может. И даже не будет и не было, а вечность… Я бесконечно счастлив, что Вы посвятили мне те семь стихотворений[832], которые наиболее изо всех Ваших стихотворений остановили мое внимание не только как произведения искусства, но и как интуиции, и притом интуиции мне родственные, тихие, глубина которых меня не ужасает… Скажите, Ваш карла, гном[833], горбун зародился вполне самостоятельно или под влиянием Заратустры? И если последнее, то что у Вас до встречи с этим существом стояло на его месте? Как символизировался у Вас этот дух бездушного?
Читали пародию А. Измайлова в Бирж<евых> Вед<омостях> на стихи Бальмонта?
Я положительно мечтаю о Вашем нашествии на Нижний. Мне страшно важно говорить с Вами. Писать – мало. У меня «защелкивается» что-то, совсем как у Алексея Сергеевича, когда я берусь за перо. 13 августа. Вы приезжайте с тем расчетом, чтобы как можно дольше погостить у меня. Анюта[835] шлет Вам поклон и просит передать, что очень рада будет видеть Вас в Нижнем. Пользуйтесь всяким упадком продуктивности, чтобы читать. Вы непременно должны еще много себя муштровать. Раз Вы не поступили на филологический факультет, то пройдите его дома. Занимайтесь нем<ецким> яз<ыком>: Ницше невероятно проигрывает в переводе.
Ах, неужели не разобьется светло-голубая скорлупа мирового яйца? Так восклицал Э. И. Стагнелиус (1793–1823), самый значительный шведский поэт, по-видимому, совсем не понятый Шерром[836]. Слышали ли Вы что-нибудь о нем? Это был мистический гностик. Две аргонавтические мысли Ницше (из 10 тома)[837]. 1) Das Kunstwerk reizt zur Geburt des Genius (Художественное произведение раздражает к рождению гения)[838]; 2) Es ist ein Quell aus dem Kunst und Religion fliesst (один источник, источающий Искусство и Религию) До свиданья. Крепко обнимаю Вас. Христос с Вами. Любящий Вас Э. Метнер.
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 20.Ответ на п. 39.
42. Метнер – Белому
Н. Новгород. 13 августа 1903 года.
Дорогой мой Борис Николаевич! Только что я вернулся из почтамта, где сдал заказное письмо Вам, как получил Ваше письмо от 9-го августа. Спешу на него ответить немедленно. 1) Посылаю Вам экземпляр Путеводителя, составленного Андреем Павловичем Мельниковым[839]. 2) Сейчас не только не поздно, но даже скорее слишком рано ехать в Сарово: приток богомольцев, ослабевший было к концу торжеств, ныне усилился снова до размеров, еще небывалых; об этом я имею сведения из первоисточника, от преосв<ященного> Назария, у которого я на днях был… В сентябре можно ждать некоторой убыли, но не настолько, чтобы интерес, представляемый наличностью огромной религиозно настроенной толпы, пропал совсем; скорее эта убыль дает возможность с большею легкостью и удобством осмотреть все замечательные места и предметы обителей; говорю «обителей», т<ак> к<ак> большинство посещает все три монастыря, Саровский, Дивеевский и Похетаевский, где гениальный, (а не только чудотворный) образ Знамения Пр<е>с<вятой> Богородицы). – 3) Никакой опасности переезд на лошадях в монастыри не представляет. Цены, указанные Мельниковым, наверное к осени, падут. 4) Вам иного пути, как через Москву и Нижний, нет; Вы меня уведомите о дне Вашего приезда в Нижний; я Вам «приготовлю» к тому времени новейшие сведения. –
Я завидую Вашему паломничеству. Но мне вырваться – это целая катавасия[840]. Алексей Сергеевич, очевидно, застрял в монастыре где-то между Ярославлем и Сергиевской лаврой[841]. Так что с некоторою приблизительною точностью можно сказать, что он в пространстве и под такою-то долготой и широтой. Уезжая из Нижнего, Алекс<ей> Серг<еевич> так прямо и сказал мне, что легко может случиться, что он где-то между останется навсегда… Спасибо за присылку оглавления лекции. Вы спрашиваете, достаточно ли деловито оно составлено. Я нахожу: да. Рекомендую только разжевывать подольше термины и церковь брать в «», как суть, идею, а не как учреждение, как факт, и постоянно подчеркивать (для толпы и для цензуры это равно необходимо), чтó именно Вы разумеете под Церковью (традиция?), Теософия (умственность?), Теургия (творчество, творческое сознание, познание, соучастие?). Милый, дорогой Борис Николаевич, Вы себе представить не можете, как я обрадовался, получив известие, что мы скоро лично свидимся. Вы непременно остановитесь у нас. Анюта[842] настоятельно просит Вас об этом. Передайте мой искренний привет Вашей матушке… Крепко жму Вашу руку. Ваш Э. Метнер.
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 21.Ответ на п. 40.
43. Белый – Метнеру
20-го августа 1903 года. Серебр<яный> Колодезь (здесь до 14-го сентября).
Океаны испарились, чтобы образовать эти комья виснущих в воздухе вод, которые кругом несутся, увлекая деревья. Сижу и пишу Вам на открытом воздухе. Бумага рвется из рук. Полынь испуганно машет полыни на соседней меже – всё большие такие, лапчатые метла. Простите меня за эти кляксы.
Осень. Все летит – проносится. Вон надутые щеки гигантской головы на небе – вот свистящее дуновение Осени. Она обдувает. Все улетает. Не улететь ли? Приготовляешься к полету, и опять не улетаешь…
У Вас «taedium litterarum» – о, как я понимаю, но не очень ругайте «новых». Ведь их идеал бежать от литературы, не они виноваты, если пока это еще не удается. Ведь они не о «литературном», а о жизни души. Если они и лепечут пока глупо – не их вина, поверьте. Конец литературе! Окончательный выход из нее близок. Пора думать о мистериях. «Пора, крайняя пора!» (Ницше)[843]. Однажды граф Толстой написал (где, не помню), что сочинения крестьянских мальчиков часто бывали гениальны[844]. Я понимаю, что хотел сказать Толстой, а он не совсем неправ. Если литература создает в конце концов целую атмосферу («ору», «нимб») вокруг себя, разве это не одна из величайших мерзостей. Ведь литература о другом. Ну что ж, погибнет литература, но ведь другое-то не погибнет. Не будут писать – будут говорить, сначала говорить, потом вместе собираться. А если и говорить не будут, будут слушать пролет ревущих потоков времени, как я вот сейчас слушаю ветер – и доволен, больше мне ничего не нужно!..
Ведь литература с ее законами, рамками – учреждение педагогическое, т. е. школа жизни живой. Если душа зазвучала – какое мне дело до литературы!.. Я прочитываю грубо-невежественные намеки, но звучащие знакомым, больше мне ничего не нужно. «Et tout le reste est littérature» (Верлен)[845]. «Новые» – разве это литература. Черт их знает, что они такое, но уж конечно не литература. И если они стараются быть литературными – это позор, это дает оружие против них. «Новая литература» – ничего не понимаю! Соединение слов, взаимно уничтожающих.
Вот я сейчас весь обложился книгами, чтобы ветер не изорвал бумагу. Я представляю в данный момент символ. Вся новая литература, если она что-нибудь означает, изображает человечество, у которого вечность вырывает бумагу, опрокидывает чернильницу. Конец. Осень. День безвременья – день осенний.
Ведь душа просится на свободу, в жизнь. До сих пор она была загнана в литературу. Теперь ей претит ее темница. Ей хочется свободы. Душа пробуждается – вернее, приближается к поверхности, объективируется. Весь мир должен стать в наших глазах только духом, только объективированной душой». «Mens sanа in corpore sano»[846] для нас, европейцев, парадокс. Если это и бывало, теперь невозможно: теперь «mens sana in corpore insano»[847], [848]. Тело совр<еменной> литературы прокажено. Но да будет так: не нужно телесного! L’âme… remonte pour ainsi dire à la surface de l’humanité et manifeste plus directement son existence et sa puissance. Cette exi<stence> et cette puissance se révèlent de mille manières inattendues et diverses… Les hommes sont plus près d’eux mêmes et près de leurs frères; ils se regardent et s’aimant plus gravement et plus intimement… A une époque très reculée de l’histore de l’Inde, l’âme doit s’être approchée de la surface de la vie… Aujourd’hui, il est clair qu’elle fait de grands efforts. Elle se manifeste partout d’une manière anormale, impérieuse et pressante… Elle doit se préparer à une lutte decisive, et nul ne peut prêvoir tout ce qui dépendra de la victoire ou de la fuite… Même par moments cela ressemble à un ultimatum… Il faut être prudent; ce n’est pas sans raison que notre âme s’agite (M. Maeterlinck)[849]. Если бы Гёте жил с нами, если бы видел смущенных, обступающих его, быть может он изменил бы свою квиэтическую тактику. Он, конечно, соблюдал эзотеризм. Но ведь теперь все перепуталось. Восходящие, с трудом восшедшие на горы оказываются как бы оставшимися на плоскости. Если масса и не идет к горам, часто горы расстилаются перед ними. Кто теперь эзотеричен, кто экзотеричен – право, не разберешь. А всё потому, что начало воплощения, т. е. выступление души наружу – объективация. Вот почему часто говоришь без разбора со всеми и с каждым. Чужая душа – потемки. Если Вас удивляют и несколько шокируют быстрые перерождения, то ведь эпоха сама такова. Против рожна не пойдешь[850]. «Ныне плачущие, как не плачущие… ибо проходит образ мира сего» (Павел, 1 к Кор<инфянам>)[851]. А что до Конца не более 100, 200 лет, в этом я уверен (а может быть, и скорее). Далее. Я недавно изме<нил> взгляд на способ действия. Мой девиз теперь: популяризание, пропаганда в толпе без совести; я не боюсь ни повторений, ни запошливания. Ибо не в выражении суть, а в выражаемом, а само это выражаемое, конечно, только намек. Создать в душе других иное, да для этого стоит миллион раз повторять самые азбучные истины. Теперь я уверен, что это не бесплодно. Скоро все сравняются душами. Великое нивелирование близко. Только тогда, когда многие станут понимать, зазвучат глаголы иные. Факт. Ведь вот безукоризненный Гёте и косноязычный Метерлинк! Боже мой, да конечно между ними нет сравнения. А ведь большинство, масса-то ближе к пониманию метерлинковской тишины, нежели глубин Фауста (я не об официальном признании, а о постижении). Что из этого следует? А вот что: Метерлинк более одухотворяет, будит, ведет, нежели сам гениальный олимпиец Гёте, который не желает снисходить в силу своей гениальности. Теперь: если значительное количество способно понять an sich тишину Метерлинка (не Бог весть какой глубины), то ведь для этой «толпы» наступает своего рода духовное перерождение. Толпа начинает слушать – слышать! Погодите: толпа и Гёте поймет в его глубине, но не для того, чтобы поклониться вовеки, а чтобы, взяв у Гёте, идти, куда ей суждено… Я не умею выразить свою мысль. Она выходит на бумаге проще, примитивнее, нежели мне бы хотелось. Я передаю не теми понятиями <?>. Боюсь, Вы меня не поймете. Метерлинк погиб. Заплыл жиром. Стал писать пошлости. Но что ж из этого? Он пошел на удобрение – на удобрение Метерлинковщины. И посмотрите – какие пышные всходы ее! Сегодня стал не нужен Метерлинк, вчера Бодлер, завтра Мережковский (в теургическом смысле), но дело делается, движение создается, «виʹдения» их нынче открываются, а завтра и перестанут казаться виʹдениями, как не кажутся нам прозрениями система, наприм<ер>, Гераклита, но все это вскроет новые видения – такие видения! Такие большие! Метерлинк погиб для дела: но вот его песенка:
Разве она не бессмертна? Такое внешнее изображение интимно-заветного! Он не аристократ: не постыдился отпрепарировать интимное и поднести вплотную на блюде толпе. Несколько таких песенок открывают глаза мало-мальски не идиотам. Вот какой хороший педагог Метерлинк! Но он скромно ретировался, не претендуя на «бессмертие». Но «его», хотя он и не бессмертен, «его» виденье будет жить всегда.
Кто говорит не так? Тот говорит не так, кто распространяет мнение о «новом искусстве», будто оно аристократично. Оно – демократично. «Новые» не должны драпироваться в величественные тоги, не должны казаться и маститыми: это всё «неказистые из себя», скромные, но благородные педагоги. Их произведения только пособие к самообразованию. Их положение самое неблагодарное, ибо им суждены две фазы, одинаково непривлекательные. 1) Хохот, глумление, пока их не понимают (педагогические приемы их наглядны и преувеличенны, они всегда обо всем стараются перекричать, но ведь детям так полезнее всего). 2) Презрение за наглядность ожидает их тогда, когда дети, заимствуя их виденья, позабудут учителей, вообразив, что превзошли их (но ведь заветная мечта скромных тружеников и заключается в любви к детям). Конечно, я вижу все недостатки так называемых «новых», но у меня не хватает духу осуждать этих благородных (и никогда никем не понятых до конца) тружеников души. А разве нижеследующее не замечательно по своей педагогике (не эстетизму):
Дорогой Эмилий Карлович, «нечто» я слышал о Стагнелиусе, но не обратил внимания. Осталось, впрочем, о нем мнение (может, и ложное), что он был из фосфористов[854]. В свою очередь спрашиваю: знаете ли Вы Тегнера. Вот удивительный поэт: я знаком с его «Фритиофом»[855]. Это нечто поразительное по северной сумрачности и оригинальное по размерам. Многое там есть галленовского. Перевод, к удивлению, великолепен (академика Грота)[856]. Вообще в шведской литературе много интересного и вместе незнакомого (или малознакомого) нам. Нравится Вам И. Шерр? Ужасно неполно!
Дорогой Эмилий Карлович, теперь я окончательно решил свое дальнейшее: год отдыхаю, пытаюсь что-нибудь заработать (хотя бы лекциями), а на следующий год опять поступаю на фил<ологический> факул<ьтет>. Так хочет непременно мама, и это не идет вразрез с моим желанием. Очень благодарен за путеводитель. В Нижнем буду в двадцатых числах сентября 24, 23, 22, 25, вот так. Да хранит Вас Господь!
Любящий Вас Борис Бугаев.
P. S. Мой привет и уважение Анне Михайловне[857].
Спасибо за удивительную выдержку. Ну конечно, это «потенциалы» настоящей, чистой, незамутненной магии, на какую неспособен Мережковский (этот «ну право же» карлик, карабкающийся по великанам). Знаете что: он просто недалек при всей своей удивительной талантливости. Он гораздо глупее, чем пишет. В Христе не понимает ничего. В Церкви – очень мало. «Новый Путь» бессодержательная (за искл<ючением> Мер<ежковского>, Розан<ова>, Минск<ого> и Религ<иозных> собр<аний>[858]) оперетка, гораздо более скучная, нежели «Мир Божий»[859] и т. д.
Посылаю стихи.
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 21. Помета красным карандашом: «XXI».Ответ на п. 41 и 42.
44. Белый – Метнеру
Припоминаю, сколько вздору я Вам написал так недавно[861]. Вернее, не вздору, а с «бухты-барахты», как говорят иные. Я и теперь не отказываюсь от своих слов о назначении искусства «декадентов» и т. д., но безусловно не верю во всеобщность «нового искусства», в способность его привести к религиозно-пророческой концепции мира. Конечно, оно образует в «демосе демос», и только. И теперь столько общественных сфер сосуществует параллельно. Кто желает перейти из одной общественной сферы в другую, тому нужен руководитель. Т<ак> н<азываемое> декадентское искусство научится руководить известною накипью разных общественных сфер, но никогда не упразднит их. Параллельность существования, думается мне, не будет еще скоро нарушена. Пути отдельных личностей будут пересекать эти параллели, и только. Тень всеобщности его в том, что в противоположность многим организациям, образующимся путем деления материнской сферы на две дочерних, сфера декадентов образуется из накипи всех сфер (анархисты (прежде всего и всегда), эстеты, скептики, социал-демократы, расширившиеся до neс plus ultra[862], всевозможные фракции мистицизма). Эта постоянно пребывающая накипь, столь же быстро приливающая, сколь быстро и тающая, как пена, придает так называемому декадентству его упорную настойчивость, сделает его хроническим заболеванием известной части всех слоев общества (в том его законная санкция). Это будет лестницей ко всевозможным направлениям, одним из центральных узлов не в смысле всеобщности, а в смысле передаточной станции. Либерал желает стать консерватором, например. Как затушевать этот переход? Декадентством. Где нынешние декаденты? Их нет. Брюсов – рационалист, софист и спирит (очень важно понимать), Бальмонт – манихей, теософ, революционер с задатками маститости à la Веселовский[863] и т. д. В состав скорпионов[864] входят форменные анархисты, между прочим. «Мир Искусства» – заигрывает с философией, «Новый Путь» – с либералами. В результате декадентство цементирует, проводит, облегчает средства сообщения между различными общественными сферами. Это еще пока конгломерат, которому следует сделаться единством – трансцендентальная идея в кантовском смысле, которой следует стать трансценд<ентным> идеалом. Но когда такое внутреннее единство настанет, исчезнет декадентство, не устранив старые сферы, а проведя черту между ними и еще новой, т. е. параллельность не исчезнет, конечно, «Декадентство» – ни положительно, ни отрицательно. Оно – безразлично. Это – факт. Оно не определяет, определяясь в свою очередь целями, к которым прикладывается; оно нейтрализирует, уничтожая ± и =. Оно – расшатанность (как и в смысле гибкости, так и в смысле беспринципности). Оно – двусмысленная, пассивная женская природа, внимающая добру и злу с одинаковым любопытством. Ни больше, но и не меньше. Оно – женщина, самая обыкновенная, феноменальная. Но с некоторой поры я благосклонно отношусь к эмансипации женщин, а посему ничего не имею против декадентства.
Закончил на днях свою вторую лекцию. Вот оглавление ее: «Любовь. Разнообразные формы любви. Вечная любовь. Мировая душа. Любовь во Христе. Конец мира. Окончательность. Молитва. Восторг. Богосыновство»…
Я набросил на лекцию не покров, а тончайший вуаль философии. Позволяю себе тот заведомый облик в силу того, что лекцию читать мне нужно, чтобы иметь собственный заработок, а публика ведь состоит на 7⁄9 из олухов. Но я сам хохочу над философским оттенком своей лекции. Так смешон ее философский raison d’être[865], когда сам видишь перескоки, перелеты, перепархиванья (зовите, как хотите) мысли с точки зрения чистого разума. И ведь вполне, вполне сознательно. Но что хотите: символический raison d’être не примет публика, так что во что бы то ни стало следует набросить некоторое подобие философии (как это ни беззастенчиво) к тому, что всегда и везде не предмет философского исследования.
Дорогой Эмилий Карлович, надеюсь, мы скоро увидимся (в этом месяце), а посему я не стану подробно писать (так неудобно переписываться там, где только речь имеет силу). Все же жду письма от Вас. До 14-го мой адрес прежний, а с 14-го московский. Пока при всем желании не могу определенно сообщить Вам о дне нашего проезда; мы сначала проедем в Саров и лишь на возвратном пути остановимся в Нижнем, да и то весьма не надолго[866]. Очень тронут Вашим любезным предложением остановиться у Вас; позвольте Вам выразить мою искреннюю благодарность, но вряд ли удастся воспользоваться Вашим гостеприимством, потому что мама недолго пробудет в Нижнем и мне придется ее сопровождать в Москву.
Остаюсь уважающий и любящий Вас
Борис Бугаев.1 сентября 03 года. Сер<ебряный> Кол<одезь>.P. S. Мой привет и уважение Анне Михайловне[867].РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 22. Помета красным карандашом: «XXII».
45. Метнер – Белому
Н. Новгород 31 августа 1903 г.
Дорогой Борис Николаевич! Беру почтовый лист, так как не могу писать теперь много. Я занят и не совсем здоров. 26–30<-го> происходило что-то ужасное в атмосфере. Не желая это «мистифицировать», я счел свою болезнь (лежал в постели) (жар, общую слабость, неясность сознания, ощущение какой-то отравленности организма) чисто феноменальной. Но вот получаю письмо от Петровского[868]. Он тоже в это время был болен так же, как я… 10 сентября. Видно, не судьба мне писать Вам. Опять оторвался. Гостил Корещенко, который приезжал с Шаляпиным давать концерт[869]. Писал в Приднепровский Край (нужны деньги)[870]. Зачитался… и прямо с ужасом заметил, что прошло десять дней. Раньше всего я должен Вам сказать, что влюблен в Вашу «Старушку». Жаль, что нет Чайковского. Он написал бы к ней и к песеннику о былом аналогичную музыку. Письмо Ваше от 20 августа и от 1 сентября получил. После<д>нее вносит некоторые поправки в первое, несколько смутившее меня. Но поверьте, дорогой Борис Николаевич, что, во-первых, я очень радуюсь, когда меня так смущают, как это делаете Вы, а, во-вторых, если я не отвечал, то, конечно, не потому, что был смущен: это обстоятельство, наоборот, есть побудитель к быстрейшему ответу. Итак, будьте со мною бесстрашно-откровенны (и, кстати, оставьте легенду о моей мнительности). – Благодарю Вас за интереснейшие французские цитаты. Я – круглый невежда во французской литературе. Я не знаю ее, потому что в общем терпеть не могу ни языка, ни культуры французов. Впрочем, может быть, кое-что я и полюбил бы, если бы больше знал. Да не хочется как-то бродить в стране, которая антипатична, отыскивая в ней симпатичные грани… Люблю Стендаля, Мериме, Бизе, Рамо, Метерлинка (я не считаю Наполеона: это такой же француз, как и мы с Вами)… Шерр – не только не полон, но и крайне поверхностен. Это либерал (очень честный и серьезный) середины XIX века. Впрочем, едва ли сильная оригинальность и вдохновенный мыслитель сможет написать Всеобщую историю[871]. За это всегда будут браться средние прилежные и способные, но безличные люди…
В Вас очень много русско-студенческого. Этот элемент (который показан в Бесах Достоевского) в Вас живет неискоренимо, но в наиболее высокой прекрасной аристократической форме… Тут и заговор (но не коммуна, а Арго), тут демократизм (но не равенство всех перед законом, а «великое нивелирование») и т. д. и т. д. Вы понимаете сами, о чем я говорю. Что касается Гёте, то Вы все еще мало знаете его, если повторяете «олимпиец». Он таковым был для многих современников, так же как и Ницше, ибо был unzeitgemaess[872]. Для нас он – не олимпиец. Вы боитесь, что я Вас не пойму, т<ак> к<ак> «на бумаге мысль выходит примитивнее». Нет, я Вас вполне понимаю. Потому и не нахожу ничего Вам возразить против того главного, от чего Вы не отказываетесь и в последнем письме от 1 сентября. Я не согласен лишь с деталями. Напр<имер>, «Метерлинк пошел на удобрение». Быть может, и вся эллинская культура тоже только хороший навоз?? Навоз для всхода («пышного всхода») целой массы проникающих во все глубины нивелированных душ, имевших завидное счастье родиться незадолго (за 100–200 лет?) до конца мира. Я понимаю, что Вы неудачно выразились (я надеюсь, по крайней мере, на формальную только ошибочность Вашего выражения), но я всегда буду придираться к Вам, т<ак> к<ак> Вы обязаны не быть неряшливыми (noblesse oblige)[873] и, притом, не только вследствие огромности своего дарования, но и вследствие желания Вашего отныне говорить с толпой, быть эксотеричным.
Очень рад, что Вы все-таки поступите на филологический факультет. Нельзя ходить голым по улицам, а Вы из презрения оных, нападая на литературу, как на таковую. Пока человек на земле или, вернее, на Арбате, в зале Благ<ородного> Собрания или универс<итетской> аудит<ории>, он одинаково должен быть в штанах и должен быть литературен. Розанов (лет десять тому назад, когда был еще консервативно глуп) сказал в Русском Обозрении о декадентах: «Умер человек, остались одни панталоны»[874]. Я бы сказал наоборот: человек остался без панталон. Конечно, глупо и недостойно человека любить свои панталоны больше, нежели ближнего. Но отсюда еще не следует, что перед лицом этого ближнего надо их снять. В костюме Адама можно ходить только в пустыне, перед Богом. А смешивать два этих ремесла и т. д. Итак, мое taedium litterarum[875] вовсе не признак, что пора сбросить литературу; а признак, что надо сделать новые выкройки штанов, более отвечающих изменившейся мускулатуре ног. –
Вы пишете о Брюсове: «рационалист, софист, спирит». Наконец-то! Ведь я же это и говорил. Спиритизм еще не поэзия и легко сочетается и с софизмом и с рационализмом… Я не вижу в Брюсове поэтического дарования. Мне гораздо больше нравятся его критические и политические статьи. Это александриец среди декадентов… О заигрывании Нового Пути с либералами – очень важно. Вообще декадентство, как метод – охарактеризовано Вами великолепно. Вы должны сказать об этом в лекции. С какой такой «некоторой поры» Вы относитесь благосклонно к эмансипации женщин? Неужели вплоть до политических прав? До священства? Вы – эгоист. Теперь Вам надо читать лекции, и вот Вы стоите за устную речь, за популяризацию, след<овательно>, за экзотеризм. (Я шучу: не сердитесь). До свиданья, дорогой Борис Николаевич! До скорого свиданья! Вы все-таки уведомите меня, в какой день Вы приедете в Нижний, т<ак> к<ак> я надеюсь, Вы и Ваша мама удостоите нас посещением… Сейчас получил письмо от Коли. Он едет с мамой в Берлин. Приглашен на открытие памятника Вагнеру…[876] До скорого свиданья. Крепко жму Вашу руку. Ваш Э. Метнер.
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 22.Ответ на п. 43 и 44.
46. Белый – Метнеру
бесконечно виноват перед Вами. Не отвечал столько времени. Дело в том, что Москва совсем закружила меня. Не было время даже письма написать. Теперь у меня большое дело: составляю каталог для книг из библиотеки отца Университету[877]. Ежедневно утром у меня отнимают часа по четыре. Потом с пустой головой, ни на что не пригодной, отправляюсь ходить по знакомым, так как ни на что иное не способен. И так день за днем.
Вы видите по тону моего письма, насколько опустошен я духом. Вы простите меня за этот тон? Настоящий «Я» ушел куда-то далеко, за миллионы верст. И словом не вызовешь «Его» из «бессмертных далей». А то, что осталось, составляет каталог, ходит по знакомым, пишет Вам эти опустошенные строки и не умеет больше быть центральным. «Я» доволен. Лекций читать не буду. Мне запретил это эпископ Антоний (тот, что исцелял в Сарове)[878]. Может быть, он прав, может быть, нет – но раз я его спросил совета, я должен повиноваться, хотя мне это и не выгодно экономически: я лишился благодаря этому главного экон<омического> источника, на который рассчитывал. Но это к лучшему: не послушался бы я его, если б он не выказал себя «бездонно-глубоким» по отношению ко мне и к А. С. Петр<овскому>. Увы, нам не придется увидеться, Эмилий Карлович, в этом году. А я так рассчитывал поговорить с Вами по существу. Странное дело: теперь я начинаю узнавать свою сущность: она заключается в том, что я в последний момент изменяю раз задуманному плану. Вспоминаю тысячи мелочей и не мелочей, где я был таковым.
Дорогой Эм<илий> Карлович, напишите мне что-нибудь… Как поживаете?.. Был у Ник<олая> Карл<овича>, слышал 3-ью часть его сонаты[879]. Удивительна!..
Простите – в моей опустошенной голове нет ни одной мысли, ни одного чувства…
Так холодно, холодно…
Любящий и уважающий Вас Борис Бугаев.
1903 г. 4 октября.
P. S. Мой привет и уважение Анне Михайловне[880].
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 23. Помета красным карандашом: «XXIII».
47. Метнер – Белому
Ваша статья О Теургии – (Вы легко можете себе представить это!) – должна была произвести на меня сильное впечатление.
«Родившаяся от восприятий нервной системой новых вибраций», она написана с лихорадочной живостью, и в ней, если и не «совершенно» (это пока немыслимо), то все же довольно отчетливо «кристаллизованы новые мысли» и притом мысли захватывающие, способные «заразить» целые группы лиц и в особенности чутких художников всех специальностей[881].
Нет сомнения, что за этой Вашей первой попыткой заговорить о теургии последует как с Вашей стороны, так и со стороны Ваших единомышленников целый ряд новых опытов, направленных к дальнейшему развитию и формированию высказанных Вами идей. Отделенный от Вас огромным пространством, я лишен возможности в устной беседе изложить Вам свой взгляд на эти идеи; я особенно сожалею об этом на сей раз потому, что за всю нашу довольно деятельную переписку еще не возникало ни разу контроверз столь серьезных и сложных, требующих различных демонстраций, многочисленных ссылок и притом имеющих безусловно-объективное значение. Диспутировать на страницах повременных изданий я не хотел бы потому уже, что не допустил бы в такого рода своем писании ни малейших изменений, сокращений, а тем более приспособлений к тенденции даже какого-нибудь из ненаправленских органов печати вроде того же Нового Пути. Прибегаю поэтому к частному письму; Вы можете использовать его как Вам заблагорассудится, а для того, чтобы это оказалось не слишком затруднительным, я постараюсь не злоупотреблять «идиомом», образовавшимся путем наших устных и письменных бесед и понятным только представителям «умственных цветников», окончательно «испорченным» симфониями Андрея Белого.
Вы находите, что чудодейственность некоторых исключительных художественных мест, встречающихся у светских писателей, например у Достоевского, Гоголя, Гёте, объясняется наличностью не только молитвенного обращения к Богу, не только ясного видения, но и «способности ясного, т. е. лучезарного религиозного делания», т. е. того, что заключается в выдвинутом Вами понятии теургии[882].
Я не знаю, почему Вы сочли необходимым ближе определить поименованных писателей эпитетом «светских»?.. Я хочу, придравшись к этому прилагательному, обозначить свою позицию и подойти к некоторым моментам Вашей статьи, взятым sub specie sanctitatis[883], отправляясь не от святости, а от светскости, как истый profanus; а потому… очень возможно, что буду ссылаться на новозаветные книги.
Чудодейственность повседневных слов в необычайных (а иногда даже и – внешне – в обычных) сочетаниях проистекает у «светских» писателей не только от восхи́щенности теургическим восторгом. Так последний налицо у Гёте в его Alles Vergängliche ist nur ein Gleichniss[884] etc., но в Ich gieng im Felde etc. (Im Vorübergehen или Gefunden)[885], но в этих вот строках, обращенных к Фредерике Брион.
Как раз те самые художники, которые «приняв тон пророков», истерически, подобно Достоевскому, «пробивались к пророческому достоинству», были бессознательно менее (или вовсе не) теургичны, ибо менее чисты, менее призваны к тому, нежели иные, сознательно стоявшие очень далеко от теургии уже окончательно «светские» художники даже из тех, что «утешают нас пустотою»[887]. Вот именно тогда-то искусство и срывается, когда оно суррогат теургии, когда оно мнит себя детищем теургии, его порождением (или вырождением), а не родным братом ее от общего родителя «Гуманитета», если, конечно, понимать это слово в самом широком и глубоком смысле, в смысле всеобъемлюще проявленной чистой человечности. И как нежелательно обратное сведение всей флоры к одному растению (хотя бы и животворящему древу), всей фауны – к одному животному виду (хотя бы голубю, воплотившему дух святой), всех племен и народов – к одной расе (хотя бы сверхчеловеков), так нежелательно для чтущего красоту мироздания и поглощение теургией других творческих тенденций.
В тесной связи с вопросом о теургии и о пророческом даре находится, по-моему, следующий вопрос, которым задавался в свое время Гёте[888].
Именно: чтó значит говорить языками (γλῶσσαις λαλεῖν)?
1. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе.
2. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились.
3. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них.
4. И исполнились все Духа Святаго и начали говорить на иных (?) языках, как Дух давал им провещавать. (Деяния Апостолов, гл. II)[889].
Исполнившись духа на языке духа возвещать тайны духа…
Обетованный дух наполняет собравшихся учеников силою своей мудрости…
Божественнейшее ощущение течет из души в органы речи, и, пламенея, она возвещает великие дела Божии на новом языке ἑτέραις γλῶσσαις; это и был язык духа, καϑὼς τò πνεῦμα ’εδίδoυ αύτοίς ἀποφϑέγγεσϑαί[890].
По мнению Гёте, это был тот простой общий язык, найти который напрасно бы тщился иной великий ум. В границах человеческого и в помине не осталось ничего от этого языка, но у апостолов он звучит в полном своем великолепии!
Парфяне, мидяне и эламиты ужасаются; каждый думает, что слышит свой язык, так как он понимает дивных мужей; он слышит, что проповедуют великие дела Божии, и не знает, что происходит с ним.
Но не у всех были открыты уши, чтобы слышать. Только восприимчивые души (ἄνδρες εύλαβεῖς) принимали участие в этом блаженстве. Дурные люди, холодные сердца глумились и говорили: они напились сладкого вина!
Впоследствии, если дух охватывал чью-либо душу, то первое необходимейшее движение столь удостоенного сердца было выдыхнуть всю полноту. Оно через край переполнялось духом, который так прост, как свет, и так же всеобщ, и только после, когда волны отбушевали, заструился из этого моря нежный учительный ручей (προφητεύειν) для пробуждения и изменения людей.
Но, как со всяким источником, если он от своего чистого начала течет в сторону, чрез всевозможные проходы, смешивается с земными частицами и, хотя сохраняет свою самостоятельную внутреннюю чистоту, но глазу кажется помутневшим, в конце же концов затеривается в болоте; так произошло и с этим языком духа.
Уже во времена Павла этим даром в христианской общине злоупотребляли.
Полнота святейшего глубочайшего ощущения напрягала на мгновение человека до сверхземного существа; он говорил языком духов и из глубин божества текла пламенная речь о жизни и свете.
На высоте такого ощущения не в состоянии удержаться ни один смертный. И все-таки воспоминание об этом блаженнейшем мгновении должно было у апостолов трепетно жить всю жизнь.
Кто не чувствует в своей груди, что он стал бы непрестанно стремиться снова к тому мгновению? Так они и поступали. Они замыкались сами в себе, запруживали чистую реку жизненного учения, чтобы при помощи плотины довести воды до их первоначальной высоты, витали своим собственным духом над мраком и шевелили глубину. Напрасно!
Взвинченная подобным образом сила не могла вымучить ничего иного кроме темных предчувствий; они выкрикивали (λαλεῖν), их никто не понимал, и они портили таким образом лучшее время собраний.
Против этого работал Павел со всею своею серьезною строгостью в четырнадцатой главе первого послания к коринфянам…
«Кто подобно вам говорит языком духа, тот говорит не человеку, а Богу; потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом. Ибо когда я молюсь глубокодуховным языком, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Итак подобная духовная речь есть только знамение (σημεῖον), производящее впечатление на неверующих, возбуждающее их внимание, но не назидающее их, а тем более – отнюдь не поучение для общества верующих»; вот что хотел сказать, по мнению Гёте, апостол Павел в 14-ой главе первого послания к Коринфянам.
Что Гёте правильно толкует выражение: γλώσσαις λαλεῖν, под которым традиционно и позитивистично понимают речь на чужом языке, по моему мнению, не может быть сомнения у того, кто вспомнит о различении апостолом Павлом πνεύμα (духа) и νούς (ума) и затем вникнет в следующие стихи вышеупомянутой четырнадцатой главы первого послания к Коринфянам[891]:
5. Желаю, чтобы вы все говорили языками; но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующие превосходнее того, кто говорит языками, разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание.
6. Теперь, если я приду к вам, братия, и стану говорить на <незнакомых> языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением?
7. И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, чтó играют на свирели или на гуслях?
8. И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению?
9. Так, если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, чтó вы говорите? Вы будете говорить на ветер.
10. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения.
11. Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец.
12. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви.
13. А потом<у> говорящий на <незнакомом> языке, молись о даре истолкования.
14. Ибо когда я молюсь на <незнакомом> языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода.
15. Чтó же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и умом.
16. Ибо, если Ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина кáк скажет: «аминь» при твоем благодарении? Ибо он не понимает, чтó ты говоришь.
17. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается.
18. Благодарю Бога моего: я более всех <вас> говорю языками.
19. Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтоб и других наставить, нежели тьму слов на <незнакомом> языке.
…
23. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить <незнакомыми> языками и войдут к вам незнающие или неверующие, – то не скажут ли, что вы беснуетесь?
24. Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится.
25. И таким образом тайна сердца его обнаруживается и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: истинно с вами Бог.
26. Итак, что же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование. Все сие да будет к назиданию[892].
Итак, язык духа, язык, которым говорили апостолы, когда сошел на них св<ятой> Дух, есть средство общения, способ передачи, не встречающий на пути своем никаких ни полупроницаемых, ни вовсе непроницаемых средостений, ни в виде национальной ограниченности (незнание языков), ни в виде ограниченности индивидуальной (неразвитость, слабоумие).
Этот язык духа, язык, отвечающий тому, чтó Кант называл Ding an sich[893], слишком ясный и точный, для того, чтобы связанные с феноменальным многообразием и разноцветностью определенности, ограниченности, приблизительности могли с ним конкурировать или задержать его действие.
Как дар небес и для небесных целей этот язык духа мог функционировать лишь на той высоте ощущения Бога, удержаться на которой, как говорит Гёте, не в состоянии ни один смертный.
Воды этого прозрачного источника при малейшей попытке от себя воздействовать на их направление сбегают в болота. Мне думается, что под этими болотами, которых «избегают все опрятно одетые», протестант и германец Гёте разумел так называемое юродство.
Оставляя в стороне вопрос о сомнительной религиозной ценности этого состояния, я упоминаю о нем только, как о срыве с того уже несомненно высшего состояния, в котором апостолы говорили на языке духа, а окружающая их разноязычная толпа внимала им и понимала их.
С этим состоянием как в его чистом, так и в его искаженном виде, по-моему, ни речь пророка, ни речь художника ничего общего не имеет. Это – дар, внезапно нисходящий и внезапно покидающий человека, не имеющий никакого отношения к феноменальным условиям жизни этого человека и не находящий в них в своем проявлении никакого ограничения.
Но вот пророк – уже представитель данного времени, данного народа, определенного языка. Речь его о небесном вечном уже менее ясна, менее точна, ибо более феноменально-определенна, более связана с земным, временным, более с Werden[894], чем с Sein[895]. Меньшая степень ясности в передаче здесь неизбежна, как бы ни было ясно, точно, вдохновенно и проникновенно созерцание пророка.
Еще менее прозрачным потоком течет речь о небесном у поэта, так как он связан еще и законами своего искусства. То же – у философа. Оба они теряют, как таковые, удаляясь (в особенности умышленно удаляясь) из своих очень обширных и по объему, и по содержанию, но все же ограниченных, определенных областей.
С ограниченностью необходимо мириться; это не значит помириться с нею окончательно и оставить вовсе мысль о полете; высокое смирение в данном случае «теургично» и мудро, так как приближает к ощущению божественного, а не исключает последнего, подобно форсированному исступленному порыванию.
«Удара судьбы нельзя было обойти Лермонтову. Он увидел слишком много»[896]. Да, слишком много, для себя; но кто увлекал его заглядывать глубже, нежели это ему следовало?
Достоевский переживал «минуты вечной гармонии», которые, как Вы пишете, – «всегда мгновенны: какой-то порывистый, душащий восторг; как понятно, что это состояние связано с эпилепсией; воистину тут начало какого-то перегиба к мирам иным; не все выдерживают»[897]. – Но к чему эти перегибы с надрывом? Это не чисто демонично; это – не «белая магия», как Вы называете теургию, а или «черная», или «серая»; я знаю, что и Вам претит «душащий восторг»; но этого мало: необходимо вовсе не сопоставлять его на одной плоскости с «восторгом глубоким, мягким, белым, длительным»[898].
Припадочность, распущенность, одержимость в связи между собою; самочинность в религиозном делании не исключает одержимости, а как раз предполагает ее; чистейшая и сильнейшая сторона нашего «я», активная в делах человеческих, квиетична и оптимистична в небесных делах и никогда не шевелит мистической глубины, не устремляет экзальтированно своей воли к тому, чтобы «концы концов коснулись»[899]; немощная и менее высокая наша самость делает человека способным быть демонически одержимым; одержимый, он проявляет активность там, где не следует; унижение паче гордости и иллюзорность свободы при полном духовном рабстве характеризуют это состояние. «Ощущение нуменального греха» у тех, «кто не может идти все вперед и вперед»[900], указывает только на ненужность самого начала похода. А «кто, раз войдя, запрет себе обратный выход и навсегда останется с этими вершинными переживаниями»[901], тот не «выучится дальнейшему», как Вы думаете, а непременно погибнет, если он не «сын Божий».
Но кто же имеет основание считать себя таковым? Во всяком случае никто из тех, у кого, по Вашему выражению, mens sana in corpore insano[902]. Необходимо держаться созерцательной позиции in rebus coelestibus[903] и не сходить с нее, пока не будешь выбит Высшею Силою; тогда, смотря по тому, какая это была Сила или гибель или «святость», но во всяком случае уже никто не осмелится предъявить иска покинувшему позицию, так как, выражаясь юридически, последует exceptio[904] с ссылкой на vis major[905].
Только таким образом, дорогой Борис Николаевич, я и понимаю и принимаю богоборство. Я готов вместе с Вами констатировать «перевал к религиозно-мистическим методам», готов видеть объективную реальность этого перевала в наблюденной Вами «отзывчивости идей», но я останавливаюсь в недоумении перед тезисом: теургия выродилась в художественность.
Признавая теургичность некоторых прежних творений человеческого духа; допуская законность, больше того, желательность усиления теургической тенденции впредь, я в интересах творчества и культуры и самой теургии стою за полную и, притом, не только внутреннюю, но и внешнюю автономию искусства, опасаясь, как бы в противном случае хорошая (хотя «пустая», но зато «утешительная») художественность не выродилась в теургию (во что бы то ни стало: хотя бы с истерикою!)…
«Теургия выродилась в художественность»[906]; другими словами: пророки стали поэтами.
Видимо томясь желанием обратного движения, Вы зорко следите и подмечаете признаки последнего. Размышляя о Ваших «чувствах, вымучившихся до формул и определений» (как непременно назвал бы Аполлон Григорьев положения о теургии)[907], я поставил себе раньше всего два вопроса: 1) верен ли указанный Вами генезис художественности; 2) необходим ли всеобщий обратный процесс.
Вы указываете на то, что погрузились в отчаяние многие лучшие умы[908]. Совершенно верно. «Чем выше человек», сказал 24 марта 1829 года Эккерману Гёте, «тем более находится он под влиянием демонов, и он должен только всегда быть настороже, чтобы его управляющая воля не попала на окольные пути»[909].
Наилучшие выдержали борьбу, нисколько не сводя всего творчества к теургии и всего делания к религиозному деланию.
Не надо углублять в себе опасного любопытства; не надо перепрыгивать. «Всякое забегание вперед как церковников (с их Антихристом) и теософов, так и теургов à la *** с их речами о соединяющем религиозном делании значительны только как попытки нового мышления, а не сами по себе»[910]. Так писали Вы мне в декабре 1902 года… Оказывается, что эти «попытки» настолько «значительны», что «заражают»… Повторяю, чтó принципиально сказал Вам в одном недавнем своем письме: человеку надоело быть человеком; от слишком-человеческого он ищет исцеления не в чисто-человеческом, а в сверх-человеческом. Как первые христиане со всей силой оттолкнулись от берега язычества и потому очутились не в фарватере, а только у другого берега, так и «новые» художники и мыслители, отталкиваясь от берега «сократизма», тоже не всегда соразмеряют свою силу. И чем у кого эта сила больше, тем более опасности для него впасть в юродство. Поэтому долой болезненную напряженность! Соблазн «объявиться»! Самочинное вмешательство в непреклонный ход мистических событий и прочие грехи суетливости, суеты, неритмичности! Раньше теургии необходима антропургия.
Чистота человечности – несовместима с одержимостью как в жизни и в деятельности, так и в творчестве.
Впечатление от художника-демониста всегда заключает в себе какую-то примесь, ничего общего с его искусством не имеющую; то же следует сказать и о речи пророка.
Возьму резкий пример. Паганини был несомненно демоничен; независимо от дошедших до нас характеристик его (например, Гейне)[911], это заключение можно сделать на основании разбора его композиций: чисто музыкальная ценность их, очевидно, далеко ниже того впечатления, которое они производили на всех в исполнении их автора.
Итак, мое первое возражение сводится к принципу независимости и самостоятельности искусства и вообще творчества от теургии. Мое второе возражение касается Вашего чрезмерного возвеличения музыки надо всеми другими искусствами. Все искусства поглощаются у Вас музыкой так же, как все виды и направления творчества тонут в теургии. Вы знаете, что я люблю музыку больше других искусств, но мне отнюдь не «хочется» (как Вам) «думать, что музыкальные идеи суть родовые относительно идей поэтических», что «музыка – вершина искусств», что «музыка – это действительная стихийная магия»[912].
По поводу первых двух абзацев третьего параграфа Вашей статьи скажу Вам, что при пользовании воззрениями, принципами и терминами Ницше эпохи «Die Geburt der Tragoedie»[913] необходимо иметь в виду его тогдашнее нахождение в плену у Шопенгауэровской мысли. То, чтó говорил о музыке Шопенгауэр, так же верно и так же неверно, как и все в его философии. Шопенгауэр только гениальный начинатель новой эстетики, Ницше и Вагнер – гениальные продолжатели, но дело ждет еще исправителя и завершителя.
Бесстрашие и несравненная серьезность Кантовской мысли сказались в анонимности, которою облечена у кенигсбергского мудреца сущность – (ноумен – Ding an sich); Шопенгауэр не выдержал и прибег к… псевдониму «Wille»[914]; без игрушки не могло обойтись большое и гениальное дитя. Затем, облюбовав музыку, крестный отец «Ding an sich»’а, разумеется, не мог найти ей достаточно почетного места в своей системе искусств.
Платоновы идеи суть адекватная объективация воли; таковою же представляется Шопенгауэру и музыка; она снимок (Abbild) не идей (подобно другим искусствам), а самой воли; потому ее действие несравненно сильнее, нежели действие остальных искусств; музыка возвышается надо всеми ними; она говорит нам о самом существе, а не о тенях последнего, как другие. Вторя Шопенгауэру, Ницше называет музыку: Schein des Seins[915], а другие искусства: Schein des Scheins[916].
Дорогой Борис Николаевич! Мне не «хочется думать», не только, «что музыкальные идеи суть родовые относительно идей поэтических», но и что интеллект – сын воли и притом только воли, что у «темного хаоса» могла родиться «светлая дочь»[917], что «дух Аполлона – иное выражение» (может быть даже порождение?) «тех же дионисианских начал»[918]; нахожу, что, к сожалению, опутанный Шопенгауэром Ницше недостаточно «старался подчеркнуть глубокое различие в обоих началах», так что о «благодетельном влиянии», оказанном «построением Шопенгауэра», и речи не может быть[919]; тем более, что Вы идете дальше Ницше и прямо объявляете аполлинизм «объективированным дионисианским началом» и постулируете «подчиненность духа Аполлона духу Диониса»[920].
Психологически не может беспокоить исследователя плюрализм или дуализм в плоскости, на которой мы находимся, говоря об искусстве (хотя бы и теургическом); наоборот, не без натяжки проведенный монизм – бесплоден, уничтожает необходимую многогранность и быстро приводит исследователя к неплодотворному концу.
Волюнтаристический монизм есть философская подпочва оспариваемого мною тезиса, но где эмпирико-эстетический исходный пункт для сопряженного с этим тезисом столь чрезмерного возвеличения музыки?
Вершиною искусств музыка является только для человека очень музыкального; этому субъективному мнению придавать объективное значение было бы все равно, что делать музыкальность обязательным элементом для каждого художника, для каждого творца. Между тем, как раз музыкальность, настоящая природная музыкальность – очень редкое явление. Физиологическое действие музыки, более интенсивное навязчивое, нежели таковое других искусств, действие, коему подвержены не только люди, но и животные (лошади, пауки), не может идти в счет; к тому же это действие на людей антимузыкальных бывает крайне отрицательным именно потому, что сильным вне-эстетически.
Я иначе, нежели Вы, объясняю себе «ореол вечного неудовлетворенного, но и примиряющего чаяния»[921], которым окружена музыка. Эстетическая сторона музыки, музыка как искусство, имеющее отношение к музыкальности, не как к оргиастическому беснованию под влиянием физиологического воздействия звуков (на которое способны кавалерийские лошади и кавалерийские на оных болваны), строго говоря, до конца доступна немногим. Большинство, даже любящих музыку, даже изучавших ее, но не обладающих большою природною музыкальностью, с трудом отдает себе эстетический отчет, чтó такое и о чем – та музыка, которою они восхищаются; это обстоятельство, по моему мнению, и «дало» (пользуюсь Вашим выражением) «повод называть музыку самым романтическим искусством», то есть (прибавлю от себя) искусством неопределенным, неуловимым, неустановившимся, неуравновешенным, стихийным, хаотическим, дионисическим. Но не является ли в том же смысле «романтическим» всякое искусство для непосвященных? Разве безнадежно влюбленные в поэзию не витают среди «неудовлетворенных, но и примиряющих чаяний»? Разве поэзию не оценивают чаще всего со стороны содержания, материала, идей, сюжета? И не то же ли самое происходит с изобразительными искусствами? И не потому ли среди наименее художественных по природе людей имеет наибольший успех программная музыка, гражданская поэзия и идейная живопись?
Все дело в том, что, если музыка, так сказать, популярно-прикладная, – наиболее доступное искусство, то музыка, как высокое и чистое искусство, – менее доступно, нежели другие искусства. Это обстоятельство побуждает ошибочно ставить музыку вне системы искусств.
Теперь представьте себе, Борис Николаевич, что нет германской музыки и, разумеется, всей той негерманской, которая совершенно очевидно является невольным (или… вольным…) рефлексом германской. Могла ли бы явиться мысль поставить музыку вне системы искусств или над всеми искусствами? Конечно, нет! Итак, вот где следует искать реальный фактор, толкнувший Шопенгауэра к возвеличению музыки. Но вместо этого можно было бы ждать постановки и решения совсем другого рода вопроса. Именно: почему у различных народов и в различные эпохи различные виды человеческого творчества поглощают наиболее сильных индивидов?
Ведь Бах, Бетховен, Вагнер так же, как Леонардо, Микель Анджело, Рафаэль, так же, как Эсхил, Софокл, Эврипид, – не только необычайные искусники в своей специальности, но и крупнейшие и характернейшие представители своей расы и своей эпохи. Разве людям Возрождения не казалось изобразительное искусство наиболее божественным, искусством по преимуществу, «теургией», совсем так же, как людям XIX–XX веков, ошеломленным никогда ранее неслыханным взрывом музыкальной гениальности у таких экземпляров человеческой породы, каким был, например, Бетховен, представляется «вершиною искусств» музыка?
Но с тем же правом высшею точкою человеческих дел можно было бы объявить войну и притом не оттого, что был столь гениальный стратег, как Наполеон, а потому, что среди гениальных стратегов оказалось такое существо, как Наполеон.
Я думаю, что Аполлон и Дионис равноправны и соподчинены друг другу и притом в каждом искусстве, а не только в музыке; что все искусства и вообще все виды творчества равновелики и равноценны.
Музыка имеет свои сильные и свои слабые стороны. Там, где налицо истинное элементарное первичное творчество, музыка является «субъективнейшим» искусством; она способна тогда к интимности гораздо бóльшей, нежели всякое другое искусство, ибо лишено условности, не нуждается вовсе в притворстве, в маске; а впечатление «объективности», общности, чего-то родового сравнительно с остальными искусствами проистекает от непосредственности и нематериальности, с какою передаются переживания композитора; причем, конечно, большинство действительно замечает и схватывает только объективный фон, основное настроение, нечто общее, общедоступное и вполне выразимое словами, а невыразимое субъективное наиболее ценное, в чем именно и сказалась индивидуальность и напряженная сила творчества, большинство или вовсе пропускает мимо ушей, или же, смутно ощущая некий странный привходящий элемент, относит его к «романтичности». Очень музыкальное меньшинство разбирается более или менее во всем, но отнюдь не делая перевода с языка музыки на язык словесного или иного искусства; наоборот: по мере углубления и выяснения композиции все больше и больше забывая и отрекаясь от иного языка, кроме музыкального.
Музыкант (если он не грубо подражает, искусно заметая следы), передает впечатления бытия («энергетическую разницу» Оствальда) с бóльшею точностью, нежели всякий другой художник, но зато отвлеченно и притом крайне субъективно; он ничем не стеснен, так как его орудие изображения все равно, что карандаш в руках ребенка, который, повинуясь своему капризу, может чертить как и куда угодно, но только не в состоянии нарисовать, например, корову, чтобы ею восхищались как коровою Мирона; единственно что требуется от ребенка – это, чтобы он, нажимая сильно на карандаш, не сломал его; уподобляя в данном случае музыканта ребенку, я под карандашом разумею музыку, как способ искусства, как organon; современные музыкальные новаторы – очень невоспитанные дети, они слишком часто ломают карандаши и притом совершенно зря, так как никогда кроме карандаша им в руки ничего не дадут и никогда другой линии кроме карандашной им провести не придется.
Собственно говоря, то, чтó принято называть «субъективным», вовсе не менее точно и определенно, нежели так называемое «объективное», а, наоборот, гораздо определеннее, точнее, резче, острее.
И вот то, чтó музыка теряет в объективности, она выигрывает в субъективности. Почти все ошибочно говорят: это нечто неопределенное, не поддающееся словесной или изобразительной передаче, нечто неуловимое и потому музыкальное; следует сказать: это нечто слишком определенное, слишком утонченное, чересчур интимное, требующее непосредственной безусловной передачи, а потому с трудом воспроизводимое недостаточно гибкими изобразительным и словесным искусствами и более поддающееся музыкальному воспроизведению.
Но если гениальному поэту, живописцу, ваятелю, зодчему удается победить коренящиеся в природе изобразительного и словесного искусств препоны к непосредственности и безусловности воспроизведения, то получается эффект, который, конечно, уступая все-таки несколько музыкальному эффекту в означенных отношениях, в итоге может оказаться сильнее вследствие бóльшей наглядности, вразумительности «объективности», к которой способны изобразительное и словесное искусства.
В своей статье о теургии Вы рассматриваете, дорогой Борис Николаевич, искусство с точки зрения способов передачи, в качестве коммуникационного средства. Подходя к человеческому творчеству с той же стороны, я строю следующую лестницу способов общения: I язык духа; II пророчество; III искусство; IV философия; V наука; VI ораторская речь; VII обыкновенная речь об обыкновенных вещах.
I и VII сходятся в том, что все, чтó хотел передать говорящий, до конца и без усилий усваивается слушателем; различие – лишь в содержании, смысле и значении передаваемого. Ведь под первым способом следует разуметь тот случай, когда каждый из разноязычной и, конечно, разнохарактерной, разносословной, разногруппной толпы, слушая говорящего апостола, думал слышать своего, свою родную речь; тут доведено до последней ясности самое неуловимое движение мысли о самых глубочайших тайнах бытия; каждый слышал не только своего соотечественника, сородича в апостоле, но как бы самого себя вдруг все уразумевшего, слышал не только свою родную, но и свою собственную речь. Эта речь была так же точна и ясна каждому, как просьба прийти в гости или констатирование хорошей погоды, или, еще лучше, как грозный или ласковый тон или жест говорящего на чужом языке[922].
РГБ. Ф. 167. Карт. 9. Ед. хр. 1. Копия рукой А. М. Метнер с правкой Э. К. Метнера. Датировка проставлена карандашом: «1903, окт. 15».Письмо не было по написании доставлено адресату. Метнер ознакомил с ним Белого во время его пребывания в Нижнем Новгороде в марте 1904 г.В архиве Метнера сохранился также черновой текст письма (РГБ. Ф. 167. Карт. 9. Ед. хр. 2).
48. Белый – Метнеру
вот почему я Вам не писал:
У каждого человека бывают минуты раздумья, сомнений. И не эти минуты заставили меня замолчать. Один ничтожный случай вызвал во мне целую бурю, всколыхнул все сомненья, показав, что и эти сомненья только поверхностные. Мне стало мучительно казаться, что я ужасная дрянь, ужасное ничтожество, которое даже из своих сомнений устраивает позы, чтобы на них любоваться «откуда» – то (может быть, из глубины своего ничтожества, называя эту глубину пошлости каким-то «там»). И вот сразу все источники подкрепления, о которых я думал, что они исходят из глубины, иссякли – даже письмо, простое письмо, написанное моей манерой (дурной или хорошей – не знаю) писать – письмо о мучительных переживаниях мне казалось аффектированной позой. Я ничего не мог делать, ни работать, ни мысленно беседовать с людьми (хотя бы и с Вами) – и знаете, что я делал: я метался по гостям с каким-то опьяненным остервенением и выкрикивал все то, что мне казалось позой в те минуты, чтобы мучительно наслаждаться своим позором – говорил об «ухождениях», о дионисианском христианстве и т. д. – в тот самый момент, когда все это было моим чудовищем – ужасом – подтвержением собственного ничтожества. Теперь, когда острый период пароксизма миновал и одна обиженная горечь осталась мне – горечь обиженного ребенка, который говорит себе: «убегу из дому, буду просить милостыни, папа с мамой будут плакать обо мне – пусть, пусть безвозвратное совершится». Теперь я пишу Вам, жалуясь. Не осудите меня. Я и так себя осудил за все: и за то, что не сомневался в существовании того, что мне казалось единственно-верным, и за то, что посмел оборвать лучшие, некогда мне звучавшие струны. Не осудите меня. Я и сам себя осудил. Мне больно от самого себя.
Знаете ли конкретный факт, который вызвал во мне все эти горькие минуты? Вот он: я был у одних хороших знакомых. Там был один очень умный человек, которого я ценю за редкий ум, но который мне совершенно стихийно чужд. В его присутствии я подобрался, чтобы случайно не оскорбить его излишне-грубыми несовпадениями – настолько подобрался, что весь вечер скромнейшим образом говорил иным языком – даже пугливо изменился. Я ушел, унося лучшие воспоминания об этом человеке, сознавая однако, что он мне чужд. И что же: едва я вышел из двери, как этот человек с безмерной ненавистью, захлебываясь от избытка негодования, набросился на меня, ругал, критиковал, называл избалованным дураком, самоуверенным упрямцем и т. д. и даже хуже – позорно бранил. И это тогда, когда я, не желая его оскорбить декадентизмом, скромно молчал и через силу был не собой… В меня мучительно заползла мысль: да неужели я действительно такое чудовище, которое даже видом, интонацией голоса (это мне ставилось все в упрек) может возбуждать не насмешки, не равнодушие, не неприязнь, а ненависть – и ведь это человек, которого я очень ценил и ценю за глубокий ум. Тем обиднее мне. За что меня не любят? Или я действительно какой-то отщепенец?
И вот поднялась у меня критика на себя, на свои верования, критика на все то, чем я дышал и дышу.
Этот единичный случай, ошеломивший меня, сделал меня таким недоверчивым, что, признаюсь Вам, Эмилий Карлович, помимо всего я удерживался от того, чтобы писать Вам, боясь, что Эмилий Карлович, которого я так люблю, вовсе не тот, а нечто другое, холодно изучающее меня, чтобы некогда сказать: «Дрянь. Декадент»… и т. д. Я не верю в это: но вот какой я стал.
Я не понимаю, почему меня не любят так сильно: в прошлом году (между нами) один из профессоров, всегда любезный ко мне, когда мы столкнулись в дверях Университета без свидетелей, едва кивнул мне, взглянув на меня с ненавистью…
Мне страшно. Между нами ходят маски. Никогда не узнаешь, где эти маски обнаружатся. (Помните маски из «Пиковой Дамы» и лейт-мотив трех карт[923] – я теперь даже в мелочах открываю все это).
Мне страшно, и грустно, и больно.
Вот и Вы молчите. Не рассердил ли я и Вас чем-нибудь? Мне страшно. Я потерялся, затерялся в жизни.
Прощайте, Эмилий Карлович, остаюсь любящий Вас и уважающий
Борис Бугаев.
P. S. Слышал совершенно со стороны радостные вести о Ник<олае> Карлов<иче>. Гофман играл его сонату в Германии среди специалистов и привел их в восторг[924]. Только раз забегал на минуту к Вашим. Был все время в отравленном настроении. Скоро буду.
P. P. S. На днях вышлю Вам «1-ую Симфонию»[925] – плод былого недоразумения, ошибку. Ведь все, что я пишу и – может быть, буду писать, – недоразумение.
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 24. Помета красным карандашом: «XXIV».
49. Белый – Метнеру
Вы, вероятно, получите это письмо вместе с тем, другим, где я – не я[927]. Но я не виноват – все, все печально здесь, в этой пасмурно-грустной осени. Все лежит это письмо, и нет воли послать Вам его.
Хочется что-то прибавить… Но что?..
Вот сейчас я бродил. Ветер рвал непрерывные ткани туманов, поддувал мне пальто, и чертил я ломаную линию по улицам и переулкам, иногда возвращаясь на пути свои, пересекал свои пути.
Иногда я останавливался на этих пересечениях, озирая перекрестки дорог. Тут видел я – то, что оставил когда-то и опять нашел, и то, от чего убегал в этот миг, видел то, что ко мне выбегало на встречу в грядущем. Тут видел я, пока прохожий не толкал меня с тротуара на тумбу. Тут я понял одну милую сказку, которую теперь мог наконец вырвать из тисков фантазии, для того чтоб воплотить наяву. Тут упали две капли мне на нос. И западали капли кругом. И я понял, что – все это – струны, натянутые между небом и землей. Мне захотелось провести руками по струнам – извлечь звуки, мне казалось, что со мной лоенгриновые лебеди[928] – белые лебеди, белые сны. Тщетно водил я мокрыми пальцами – ни один звук не раздался в пространстве. Вдруг пронесся порыв ветряной, и согнулись звенящие струны. И запел белый лебедь – белый лебедь запел Лоенгрина.
Тут вернулся домой я и сел Вам писать, потому что я знаю – уж времени нет…
…
…
Дорогой Эмилий Карлович, простите мне сальтоморталь в тоне, но верьте – уж я знаю, что делаю…
Плохо… очень плохо… Из рук вон… Не могу я писать про то, что совершается теперь. Я поеду по времени и вернусь в прошлое… Буду писать о том, что было, войду в другое. Для этого я поворачиваю стрелку времени. Пружина визжит – описывается дуга. В окнах начинается миганье – это примелькиваются дни и ночи – всё летит обратным порядком.
Тпруу… Стой… Останавливаю стрелку…
Сижу за столом, весь обваленный конспектами по зоологии… Жара… В окно в бесконечность зияет вовеки и ломится в окна весенняя ночь – фантастически-сонная…
Завтра экзамен…[929] Верите ли, Эмилий Карлович, я ничего не знаю… Там заря – матово-бледно-весенне-грустящая радость залегает у горизонта и все эти скелеты путаются в голове. Эти кости – черепа, позвонки скверных рыб – все смешалось – завтра я провалюсь… Можно ли заниматься, нет, лучше уж я буду задыхаться от жары, нет, уж лучше закрою я окна. В них не будет мне скалиться черною пастью бездонность – слишком сильны эти зияющие улыбки – словно пасти смерти.
Слышу, за стеной проходит папа. Он по обычаю отправляется в клуб. Сегодня он чувствовал себя прекрасно. Слышу, захлопывается дверь. Всякий раз, когда захлопывается дверь за кем-нибудь, кого я люблю, всякий раз я вздрагиваю невольно.
Вот теперь я один – я смеюсь, мы смеемся с зорей, жемчугами бросаем друг в друга. Я ныряю в пролет, что зовется окном, и несусь на зоре, по зоре. О, я верю, я знаю, мне радостно…
Я пишу Вам, как пьяный, вопреки уговору, что я не буду писать во время экзаменов. Вы простите отрывистость в тоне – я пьян от избытка чего, я не знаю, мне весело… Вот смешал я все конспекты в кучу… Завтра утром перед экзаменом в страхе я их буду опять разбирать, пробегая… Но поздно… Пора кончать… Завтра рано вставать… Уже белое утро – три часа… Застучал экипаж. Это папа из клуба, подъехал. Он заигрался в шахматы… Ему вредно так долго играть… Встаю на подоконник… Вот его черный котелок, сутулая спина, зонтик под мышкой… Вот по лестнице чьи-то шаги тяжело поднимаются… ближе… Это папа… Сейчас позвонит… Ух, как жарко… Подхожу к умывальнику, нажимаю педаль, обливаюсь холодной водой –
– Но забыл я, что струи воды не вода, а текучее время. Вот я выпустил время – раздается звонок (это папа звонится) – и снова мне в окнах мелькают просветы и мраки – все несется в обратном порядке.
Тпруу… Стой… Останавливаю стрелку, а то как бы не перелететь в будущее…
Весь Ваш Борис Бугаев.
P. S. Мой привет и уважение Анне Михайловне[930].
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 25. Помета красным карандашом: «XXV».
50. Метнер – Белому
Н. Новгород 20 октября 1903 года.
Дорогой Борис Николаевич! Письмо Ваше от 4 октября получил, также как и письмо Алексея Сергеевича от 5 октября….Так же как и… визитные карточки Единочиха и Единорога[931]. Жду объяснения по поводу последних. По некоторым косвенным уликам до некоторой степени уверен, что оба вы (и Огыга и Виндалай[932]) получили мои письма, ответами на которые до некоторой степени являются вышеупомянутые ваши… Впрочем не подумайте, что я обиделся на Ваш лаконизм… Отдыхайте! Это Вам необходимо. Алексей Сергеевич пишет очень интересные вещи о Вашем совместном визите у епископа Антония[933]. Когда соберетесь мне отвечать, не забудьте с своей стороны кое-что сообщить мне об этом визите. Вы просите сообщить что-н<ибудь> о себе. Внешняя жизнь моя крайне однообразна. Что же касается внутренней, то полоса, в которой я сейчас нахожусь – полюс позитивистического оптимизма; вследствие чего я глух ко всему «нуменальному» и щеки у меня несколько пополнели; пройдет эта полоса, попаду я на противоположный полюс (что может произойти каждую минуту), и тогда щеки снова опадут… Похож я на татарина, который видел во сне то кисель без ложки, то ложку без киселя. В настоящем моем состоянии у меня избыток сил, да не о чем писать; попадая на противоположный полюс, я при избытке материала не нахожу сил для передачи его… Отчего Вы не сообщили мне, целиком ли напечатана Ваша статья О теургии или искажена цензурою и редакцией?[934] Она несколько рапсодична, тема же ее слишком значительна и требует, так сказать, философски-симфонической обработки. Я мог бы сделать кое-какие добавления и поправки к Вашей статье. Одно из двух: или я их сделаю, если хватит сил и уменья, в форме «открытого письма» Вам, которое попытаюсь предложить «Новому Пути» или «Миру Искусства» (куда лучше??)[935]; или же, если это мне не удастся, то я кое-что изложу в следующем моем письме к Вам, по получении от Вас ответа на сие краткое послание; напишите хоть два слова; как идет Ваше занятие библиотекой; небось, оттого работа у Вас и не спорится, как следует, что Вы не только составляете каталог, но и проглатываете содержание книг. Если Вам почему-либо не хочется, что<бы> я примкнул свое рассуждение к Вашей статье, то напишите; напишите также, стоит ли вообще «соваться с суконным рылом в кузнечный ряд». Если 10 %, что поместят, тогда я напишу… Для Придн<епровского> Края я слишком продуктивен; и, пожалуй, слишком труден; для «новых» журналов недостаточно «нов», для «старых» – слишком «нов», слишком нелиберален или неконсервативен; для всех же недостаточно талантлив. Между тем у меня начался небольшой писательский зуд; написал о Вагнере; собрался писать о Чайковском; но в портфеле редакции Придн<епровского> Края накопилось несколько моих фельетонов и вот статья о Вагнере – не помещена до сих пор[936]. А раз не поместили о Вагнере, то я со злости раздумал писать и о Чайковском. Теперь я жалею, что раньше не затеял что-нибудь более крупное (для журнала) о Чайковском ко дню 10-летия его кончины… Я набросал план и содержание статьи. Оказалось, что у меня многое есть, что сказать о Чайковском, но, разумеется, для серьезной работы надо время и некоторые пособия, здесь отсутствующие. В последнее время я занимался обследованием причин разрыва между Ницше и Вагнером[937]. Мне кажется, что я выяснил себе эту трагедию дружбы. Мне кажется также, что выяснение это необходимо для уразумения глубин Ницше. Разойдясь с Вагнером, Ницше должен был бы покинуть свет, уйти в пустыню; или застрелиться; но он не сделал ни того, ни другого; благодаря чему мы и имеем Заратустру…
1) Не забудьте 25 окт<ября> отправиться к обедне в Большое Воскресение на Никитской, чтобы прослушать заупокойную обедню Чайковского. 2) Удивлюсь, как могли Вы спрашивать советы у «ушедшего» Антония относительно совершенно постороннего дела, как чтение лекций. Понятно, он отсоветовал. Это можно было бы предсказать[938]. – 3) Я крайне огорчен, что раньше нежели через год не увижусь с Вами. Как только отдохнете, посылайте мне опять «доклады». 4) Гофман будет играть сонату Коли во время американского турнэ (Впрочем, это пока секрет)[939]. 5) То, что Вы написали о Коле – восхитительно[940]. Против этого § я не имею ничего возразить. – 6) Мельников в восторге от Вашей симфонии (II); но… но все-таки не мог не написать пародии, местами очень удачной. – До свиданья! Будьте жизнерадостны! Возьмите пример с Блока и влюбитесь!..[941] Поклон Вашей матушке. Горячо любящий Вас Э. Метнер. – P. S. Анюта[942] кланяется.
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 23. Фрагмент опубликован: ЛН. Т. 92. Кн. 3. С. 206.Ответ на п. 46.
51. Метнер – Белому
Н. Новгород 23 октября 1903 г. (Наш свадебный день![943])
Ваши письма, мой дорогой, горячо любимый друг, потрясли меня. Я получил их вчера, когда мы с Анютой, обедая, припоминали мельчайшие подробности знаменательных для меня октябрьских прошлогодних дней. Как все это было чудно, неожиданно, вдруг решительно и в то же время мирно, происполнено <так!> бодрых счастливых предчувствий, только окрашенных грустью о расставании с Москвой… Среди этих воспоминаний Вы, мой милый Борис Николаевич, не раз стояли перед нашими взорами. Для меня, в особенности, Ваше участие тогда является звеном, органически связанным с важнейшим событием моей интимной жизни… Ведь тогда началась и весна нашего сближения… Линии, идущие от Вашей симфонии[944] и наших бесед[945], от Колиной сонаты и от всего того, что подымалось, переплеталось и теснилось тогда в моей груди, все эти линии тогда слились в одной точке, создав тем настроение, которое с такою силою уже и не повторится более, но которое всегда (я это чувствую) будет возвращаться в октябре, настроение необычайной полноты и гармоничности, слиянности разных плоскостей измерений мотивов устремлений и перспектив… Разбираясь в этой полифонии, важной партией которой были Ваши вдохновенные речи, я вдруг узнаю, что кто-то очень умный ненавидит Вас за эти речи… Я не знаю, кто это. Скажу Вам, что существуют позитивисты по мировоззрению, но есть позитивисты и по характеру ума, хотя бы то с самым мистическим мировоззрением. Далее. В России не выносят стильных людей, если только они не являются представителями простонародной манеры, которая характеризует иных славных малых с душой нараспашку, кричащих о русской широте, простоте и искренности, а на самом деле безалаберно и амикошонно фамильярных, и только. Русские также страшно боятся сентиментального (признак варварства), и потому впадают нередко в какую-то черствость и сухость… Вы – исключение. У Вас есть своя изукрашивающая роскошная манера, которая Вас никогда не покидает. Она пока несколько угловата, резка, но всегда натуральна. Она залог того, что Вы, быть может, дадите не только новое, но и в новой форме. «Симфония» – только первые неверные шаги… Весьма многие умные люди не понимают, что манера может быть связана с человеком органически, а не только механически, что может быть искренняя манера, даже искренняя риторика (напр<имер>, Шиллер); эти люди обыкновенно не понимают таинственного в создании индивидуальных форм или даже индивидуальных оттенков уже существующих форм. Ницше возбуждал во многих такую же ненависть одним своим видом, одною интонацией своего голоса, как и Вы в том умном человеке, который захлебывался от негодования после Вашего ухода… Кого могут сильно ненавидеть, того столь же сильно любят. Шиллер сказал:
Нехорошо, опасно всем нравиться. Пожалуй, Антоний и прав, отговорив Вас от чтения лекций… теперь[947], когда Вы еще слишком молоды и резки… Поверьте, дорогой друг мой, что я не обиделся на Вас за Ваше бредовое предположение обо мне как человеке, только с интересом до поры до времени наблюдающим Вас, как представителя декадентизма. Я надеюсь только, что Вы никогда больше, ни при каких обстоятельствах не будете в состоянии снова сделать подобное предположение. NB! Скорее Вы имеете основание предполагать, что я не всегда и не всюду могу и хочу следовать своею мыслью за Вашею, нежели сомневаться в том, что Ваше существо, во всяком случае сущность Ваша, мне глубоко симпатична: Вы один из немногих, кого я сильно и прочно полюбил. – Ваш Э. Метнер.
P. S. Поклон Вам от Анюты; Вашей матушке от меня. – Не придавайте особого значения моим намерениям писать о Вашей статье[948]. – Получили ли Вы мое письмо, отправленное до получения Ваших?[949]
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 24.Ответ на п. 48 и 49.
52. Белый – Метнеру
22 октября 03 года.
1) Я не знаю, о каких письмах Вы говорите («по некоторым… уликам… уверен, что оба вы (и Огыга и Виндалай) получили мои письма, ответом на которые… являются вышеуказанные письма…»). Простите, дорогой Эмилий Карлович, я не знаю, о каких письмах Вы говорите… Я получал от Вас последнее еще около 15-го сентября…[950] Должен просить прощение у Вас за неостроумную шутку, в которой не последнее место занимал и Ал<ексей> Сергеевич, так как он собственно заказал карточки. Карточки эти были разосланы мною добрым знакомым (между прочим я послал в «Н<овый> П<уть>», «М<ир> И<скусства>» и т. д.), вследствие чего один почтенный господин объявил меня сошедшим с ума, так что мне стоило больших хлопот доказать, что я 1) здрав, 2) что не желал обидеть почтенного и уважаемого мною лица…[951] Принимайте карточки, как озорство (придумано – заказано, заказано – принято, принято – надо посылать, посылать – кому же послать, как не Вам, Бальмонту, т. е. тем, кто может скользнуть взором, улыбнуться и забыть, не обижаясь), не имеющее ничего сериозного по существу, как «странные» сочетанья букв… И еще раз простите, если что-либо в этих карточках Вас шокирует в глубине души. Теперь мне неприятно взглянуть на них.
2) Давно уж собираюсь написать Вам, Эмилий Карлович, покорнейшую просьбу. Бога ради, не обижайте меня: отчего Вы ничего не присылаете мне из Вашего? Дело в том, что я не знаю верно, где Вы пишете: в «Придн<епровском> Крае» или нижегородских изданиях. Да и не знаю, когда выходит Ваше. А между тем я жажду не только переписываться с Вами, но и учиться у Вас! Да мне крайне важно и нужно Вас читать! Что же Вы меня лишаете этой возможности! Разве это хорошо с Вашей стороны?! Вот почему нижайше[952] прошу Вас, сообщите мне или те №№ и издания, где есть Ваши фельетоны, или пришлите мне (я потом возвратно пришлю, верну) эти №№ – и всё, всё… А то ведь я при желании Вас читать не имею никакой возможности. Видел как-то на днях «Пр<иднепровский> Край» несколько номеров, но Вашего там не было. Дайте мне эту возможность, а то ведь это прямо обидно мне!!
Вы пишете о статье. Конечно, что же я могу иметь тут, кроме радостного чувства, что мои убогие слова вызвали дальнейшее… Что касается «Н<ового> П<ути>» и «М<ира> И<скусства>», то я думаю, не 10 %, а, вероятно, 70 % в пользу того, что они примут[953]. Во всяком случае мне было бы приятно знать, в чем состоят Ваши поправки, в которых не только нуждается моя статья, но и вся-то она состоит из недомолвок и написана она в 2 дня – порывом, без предварительной обработки. Мне хотелось главным образом сказать несколько слов о Н<иколае> К<арловиче>[954], но я не мог стать на чисто музыкальную точку зрения; отсюда потребовалось сказать о теургии (первая подпорка), а для этого бросить несколько слов о магизме (2-ая подпорка), о представителях его, о причинах возможности говорить о магии и теургии (третья подпорка) и т. д. Отсюда: случайные неорганически связанные отрывки предшествовали тому, где мне хотелось сказать 2 слова о Н<иколае> К<арловиче> и т. д. Вот причина крайней растрепанности статьи. Да и кроме того: тон внешний, несериозный тон, в котором говорится о вещах сериозных, вызван нетерпимой узостью «Н<ового> П<ути>», который боится всякой сериозности (как научно-философской, так и мистической). Вот ведь теперь, когда я послал им мои лекции в сокращенном виде для статьи – лекции, где я не могу быть столь же внешним, как в статье, – они забраковали и передали «М<иру> И<скусства>»[955], где и печатается статья. Поэтому, если я когда-либо напишу что-либо для «Н<ового> П<ути>», всегда оно будет внешним и легким, как необходимое условие всего, что печатается там (за исключением «Своих углов»[956], где говорят центральнее)…
Дорогой Эмилий Карлович, сию минуту получил Ваше, столь меня обрадовавшее, письмо. Оно подбодрило меня. Если б Вы знали, как я одинок. Ведь я – один, совсем один. Вы и Ал<ексей> Серг<еевич> – самые близкие мне люди, – Вы оба не в Москве[957]. Владимиров, которого я очень люблю и который более других меня понимает, все-таки во многом чужд мне. А все другие – чужие для меня. Мало того – все они навязывают мне свое и тащат на части, а я это вижу и часто не противлюсь, но все это ужасно утомляет. Вы видите опустошенный тон моих писем. Вы знаете, что при мало-мальски сносном отношении к жизни я радуюсь и веселюсь. Но теперь нет со мной даже «мало-мальски сносного»…
И вот я злюсь… Вчера разругался с несколькими мистиками из-за недобросовестного отношения к жизни. Вечером обругал целое теософское собрание за сектантство. Здесь глупость, там закрывание глаз, тут необразованность, а всё вместе – величает себя «мистицизмом». К черту такой мистицизм! Я хочу не духовного воровства, а только одной добросовестности. Неужели ее нужно искать днем со свечой у мистиков. Знаете ли, Эмилий Карлович, постепенно я все больший кантианец. Будучи внутренне одинок, а внешне «совместен», хочу быть и внешне одинок: ведь честнее! Хочу объявить добрым знакомым по мистицизму, что, мол, во мне произошел эдакий, знаете, «радикальный» переворот и что, мол, стал я ни более, ни менее как позитивист: то-то будут вытянутые физиономии. Хочется оставленности там, где внутри действительная оставленность…
Сегодня 25 октября Вы мне советовали быть у Большого Вознесения. Я собрался. Я давно не был в церкви, так хотелось. Вдруг случилось обстоятельство, которое до такой степени меня расстроило, что уже я не мог быть в церкви. И вот сижу здесь, один, наказавши себя Чайковским. Если бы Вы знали, какая во мне несчастная черта: срывать в последний момент то, что дорого, в момент, к которому я готовлюсь, как к святыне, – во всем я так!..
Что касается до Антония, то он бездонно глубок, но в глубине он меня не понял… (Я это ясно увидел во второе посещение – секрет от А<лексея> С<ергеевича>)…
Со всех сторон передо мною захлопываются двери. В одной двери едва не прищемили мне нос…
Еще одна захлопнутая дверь, и я окончательно забунтую (бесповоротно).
Вы советовали мне «влюбиться». Между нами: но я был только раз влюблен и сериозно, тому назад года три…[958] И теперь еще «это» чувство осталось, занесенное сверху пылью… Но я никогда даже не был знаком с той, которую я любил. Теперь все замутилось, ушло, отхлынуло,
Но –
Лерм<онтов>[959].
Дорогой Эмилий Карлович, быть может, зимой приеду к Вам в Нижний повидаться дня на три: мне очень, очень необходимо Вас видеть и с Вами говорить. Остаюсь горячо любящий и уважающий
Б. Бугаев.
P. S. Мой искренний привет и уважение Анне Михайловне[960].
Посылаю стихотворение.
P. P. S. Все Ваши письма получил.
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 26. Помета красным карандашом: «XXVI» (л. 1), «XXVII» (л. 3).Ответ на п. 50 и 51.
53. Метнер – Белому
Н. Новгород 4 ноября 1903 года.
Раньше всего не удивляйтесь, что я пишу Вам карандашом. Терпеть не могу чернил и прибегаю к ним лишь в случае необходимости и ради соблюдения приличия. Хочу быть с Вами неприличным… Ведь мы – («смею сказать») друзья с Вами! 1) Огромное спасибо за Северную Симфонию. Только что получил ее. Прочесть еще не успел, но уж заглянул[962]. Высмотрел бледную женщину в черном, знакомый и дорогой мотив Вечности[963]. Есть Метерлинковское. – Даже Оссиановское[964]. Разумеется, в новом освещении. В двух местах вместо текста стихов – ряды точек. Что это? Если цензура, то сообщите, пожалуйста, что было сметено ее рукою! Попадается карла, гном![965] Я как-то просил Вас написать мне, какую связь Ваш гном имеет с гномом Заратустры[966]. Кажется (пока) мне, что эта симфония более стройна, но материал второй для меня более привлекателен. Кроме того, думается мне, необходим больший подъем поэтический, чтобы так стилизовать животрепещущую действительность, как это проделано Вами во второй симфонии. Повторяю, я еще только заглянул, пробегал, а не прочитывал страницы. – 2) Среди переводчиков объявленного перевода Ницше выставлено и Ваше имя[967]. Мне интересно знать, что именно будете переводить Вы? И, вообще, основательно ли продуман план этого грандиозного предприятия? Будут ли переводить все или только 8 первых томов[968]. Будут ли переводить биографию?[969] 3) Третьего дня внезапно появился опять Касперович. На этот раз он «безотлагательно» прочтет свою лекцию[970]. А вчера приковыляла впервые ко мне Шмидтиха[971]. Признаюсь, чуть-чуть испугался. Не помогли намеки Мельникова, делаемые ей по моему поручению, о замкнутости моего характера и моей нелюдимости. Пришла-таки. Пришла и сказала, что еще придет. Пела о Соловьевых Владимире, Михаиле и Сергее. Обиделась на Андрея Белого за смешение им Софии и Марии (в статье о Теургии). Просила меня передать ему, что написала в Новый Путь заметку и что ей хотелось бы узнать судьбу этой заметки. Что такое?! Я, кажется, заразился расстановкой слов «симфонии»! Сделайте милость, Борис Николаевич, узнайте в редакции Нового Пути, куда девалась эта заметка?[972] А то мистическая поблекшая роза[973] не даст мне покою ни днем, ни ночью. Она уже объявила мне, что ложится спать страшно поздно и может говорить целую ночь! О Боже! Я читаю Menschliches Allzumenschliches[974] Ницше и совершенно не в мистической колее. Я сейчас – позитивист. Тем более, что щеки у меня расширились еще на 1½ т. т. – Непременно узнайте о заметке А. Н. Шмидт из Н<ижнего> Новгорода (Редакция Нижегородского Листка).
4) Своей нескладной фразой о некоторых письмах и т. д. я хотел только указать на то, что нередко я не могу вывести из Ваших писем и писем Алексея Сергеевича[975], получили ли Вы мои. В особенности если прошло много времени. <5)> О Вашей шутке[976], на которую я не мог, конечно, рассердиться, я писал Алексею Сергеевичу в последнем моем письме, адресованном в Академию (чтобы ей пусто было, ни дна ни покрышки!)[977]. 6) Написал я ему и о Вашей «покорнейшей просьбе» в которой отказать наотрез мне страшно хочется…[978] Поверьте, дорогой Борис Николаевич, когда я читал, что Вы жаждете не только переписываться со мною, но и учиться у меня, я хотел закричать, подобно одному комическому герою, кажется Островского, «расступись ты мать, сыра земля»[979]. Я с Вами откровенен (клянусь!) до самых крайних пределов: я вовсе не хочу отрицать, что общение со мною Вам очень полезно, м<ожет> б<ыть>, полезнее, нежели со всеми тремя (они же четыре, см. ст<атью> В. Соловьева) мушкетерами[980], с магами (опускают ли они или подымают руки – безразлично); я старше Вас, но сохранил чисто отроческую восприимчивость (видите! видите! я сам хвалю себя), при восприимчивости этой я, однако, очень консервативен и не без скептицизма; это крайне выгодное сочетание; далее, я не-русский (все более чувствую это), будучи, однако, немцем, я люблю и понимаю русское; я Гетист и музыкален; в сумме – я очень полезный товарищ и собеседник для Вас. Советчик, доверенный, поверенный и т. д. – Но! Мои фельетоны не только ничему не научат Вас, но произведут на Вас гнетущее впечатление, как портрет, еще не законченный, еле набросанный, и вдобавок такой, в котором все невыгодные стороны выдвинуты, а все милое близкое Вам и лучшее стушевалось. Я не могу писать. У меня «защелкивается» еще больше, нежели у Алексея Сергеевича. Может быть, это потому, что я должен был бы писать по-немецки, а может быть и оттого, просто, что я – бездарен. Не знаю. Когда я в восторге, восторг мешает мне выразить мысль, у меня нет мыслей. – Далее. Я бы, пожалуй, кое-что и мог бы написать, но под одним условием: не заботиться ни о читателе, ни о цензоре. Между тем, работая на Придн<епровский> Край, я вынужден все время иметь в виду, что это подцензурная и притом провинциальная газета, которой не разрешается очень многого, и, затем, что читатели мои ждут встретить нечто такое, что бы их развлекало, а если и поучало, то без усилий с их стороны. Говорить при таких обстоятельствах о новом искусстве и о Новом Пути крайне затруднительно даже литературно ловкому и талантливому человеку, а не только что мне грешному. Ко всему этому надо прибавить, что требуется крайне сжатое изложение и чрезмерно общее обозрение даже таких книг, как Лев Толстой и Достоевский[981], и таких журналов, как Новый Путь. – Я писал Петровскому, что статьи о религ<иозно>-филос<офских> собраниях и о Вагнере не поместили. Остановилось также печатание моих статей о Мережковском[982] и притом, как раз, на том месте, с которого начинается более существенное. – Дорогой Борис Николаевич, если, несмотря на все это, Вы настаиваете на своем желании «меня читать», то я пришлю Вам два, три фельетона, где речь идет, между прочим, и о Вас. – Что касается моей статьи по поводу Теургии, то пока еще я не решил, займусь ли я ею, как следует и отправлю ли ее в Н<овый> П<уть> или М<ир> И<скусства>[983]. – Сейчас читаю Ваше письмо, то место его, где Вы возмущаетесь требованием редакции Нового Пути – быть легким, внешним, несерьезным… и улыбнулся. Что же после того должен сказать сотрудник Придн<епровского> Края? – 7) Очень рад, что мое последнее письмо «подбодрило» Вас. Пишите всегда мне без стеснения обо всех Ваших печалях и радостях. 8) Прививайте, прививайте себе кантианство. 9) Вы рассказываете, как вы не пошли 25 октября в церковь Вознесения слушать обедню Чайковского! Узнаю, узнаю в этом себя. Сознайтесь, дорогой Борис Николаевич, что с Вами бывают припадки будто бы беспричинного стихийно-гневного уныния, отчаяния! Часто перед моментом, «к которому Вы готовитесь как к свят<ыне>». Если да, если я угадал, то утешьтесь, утешьтесь сознанием, что и я – такой. Боже мой, как я могу быть гневен; и притом именно из-за пустяков, из-за каких-то полутонов, вмешивающихся в испытываемую мною гармонию. Теперь меньше. Я думаю, что необходимо проанализировать гнев. Ira furor brevis est. Animum rege (Horatius)[984]. – 10) Я был уверен, что Антоний не поймет Вас. 11) Когда я советовал Вам влюбиться, я не думал об «одной, только одной», займите свое воображение, как Ницше в 1876 г., когда он болел кризисом Вагнеризма и платонически ухаживал за парижанкой[985]. – 12) Приезжайте не на три дня, а на три недели. – 13) Спасибо за чудесного Незнакомого друга. – До свиданья. Поклон и искреннее уважение Вашей маме. Горячо любящий и уважающий Вас Э. М.
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 25 (л. 1–2), 26 (л. 3).Ответ на п. 52.
54. Белый – Метнеру
1) Прежде всего несколько слов о письмах. Если из чтения Вами моих писем не получается впечатления того, что я получил Ваши[986], – верьте, я жадно вчитываюсь в Ваши письма. Но текущий момент всегда заслоняет собою предыдущее, и часто не видно поэтому, что я получал Ваши письма. 2) «Северная симфония» – вещь старая, скучная, мертвая, Бог весть когда написанная[987]. В те времена я еще находился под обаянием шопенгауэровских настроений. Ей не следовало бы, пожалуй, появляться в печати. Зализанность ее (она стройнее второй) есть результат позднейшей техники, не коснувшейся существа Симфонии именно вследствие ее омертвелости для меня. В ней характерны, пожалуй, ужасы 2-ой и 3-ьей части, как нечто знакомое в детстве и опять, реально вернувшееся для меня, когда я писал эти части. Они и попали в Симфонию вследствие того, что я мучился боязнью и страхом. В ней отразился перевал для меня от философского эстетизма к трагизму и мистериям. И только. Остальное – деланно, отдает ремесленным «style moderne» и английскими прерафаэлитами, а также живописью по стеклу. Всё в достаточной мере уже опротивевшее нам, превратившееся в общее место. 3) Несомненно мой гном не без влияния Заратустры. Впрочем, всю жизнь я мыслю о гномах, карлах и т. д. Вернее, великан появился у меня, как воплощение ницшеанства в древние сказки[988]. Сам я вижу рождение великана и кентавра у себя под влиянием Ницше (менее Бёклин), за гнома же не ручаюсь вполне. 4) Дорогой Эмилий Карлович, опять накатило на меня ницшеанство… Глотаю Ницше в плохих переводах. Смею не соглашаться, любя… Мучаюсь грандиозной задачей, за которую хочу приняться в будущем, – пересмотром «Рождения Трагедии», образ которой все растет и растет перед моим духовным взором – вот потому-то я и начинаю замечать непроявленности у Ницше здесь и там, что достоинства этой книги застилают все прочее. Хочется уйти в нее – как в лабиринт – вот потому-то испытующим взором озираешь место своей будущей квартиры. Что же касается предприятия «Скорпиона», то оно еще все в будущем[989]. Опубликовано для того, чтобы предупредить иных переводчиков о намерениях «Скорпиона», если таковые существуют. Будет еще много обсуждений впереди… Пока дело обстоит таким образом. «Заратустру» переведет Бальмонт. «Рождение Трагедии» – Вячеслав Иванов[990], по признанию всех чуть ли не единств<енный> знаток культа Диониса у древних (он лектор парижского вольного Университета[991]). Что переведут остальные – не знаю. Относительно себя я не знаю. Они (скорпионы) без моего ведома выставили мое имя, когда я еще не решился. Во всяком случае попробую (и только). Если пойдет дело, буду переводить, если нет – не буду. Кажется, возьму себе «Помрачение Кумиров»[992]. Вообще же это предприятие, видимо, сериозное уже потому, что культ Ницше за последнее время все растет и растет в «Скорпионе». Там (в конторе книгоизд<ательства>) висит огромный портрет Ницше работы Штука…[993] Вообще есть Ницше только Ницше, а прочее – потуги, неосуществленные мечтанья… за исключением попытки Мережковского организовать Христово…
Да, Христово!.. Мережковский знает это… Между ним и мной произошло нечто неизгладимое. Мы узнали друг друга в Христовом. (Они были тут, в Москве)[994]. Мережковский присмирел, стал благолепнее, не переставая быть интеллигентом. Мы впятером (Дм<итрий> Серг<еевич>, Зин<аида> Ник<олаевна>, Хлудов с женой и я) были… у Антония[995]. (Моя выдумка. Химический опыт, блистательно сошедший). Получилось что-то пиршественно-радостное – не то золотое дионисианское вино, не то сладкий мед (тоже золотой) с воском в виде свечечки… Антоний видимо все понял до дна (провиденьем), радостно и просто относился к Дм<итрию> Серг<еевичу>, а особенно к Зинаиде Николаевне… Говорил о любви, о радости, о том, как он хочет образовать обитель на горе, над Волгой, и тогда покорнейше просит Мережковских к себе в прекрасные места, где будет ждать их угощение из абрикосов и персиков (!!!) (что-то хилиастическое!) Мережковский совершенно откровенно сказал ему, в чем его raison d’être[996], говорил о недостаточности исторической церкви, о хулиганах… Еп<ископ> Антоний только улыбался знающе да сказал в ответ: «Ишь вы какие пылкие!» А за объяснение сущности хулиганства (одержимых) еще и благодарил, говоря, что не знает, что это такое, но чувствует в словах Мережковского, что «что-то есть»… Между прочим промелькнули слова у Антония о Матери (какой?), которая лучше Отца утешает и которую (монахиню или кого?) больше любит Антоний, ибо она мягче (это – сказано с подчеркиваньем З<инаи>де Н<иколаев>не); тут блеснуло что-то из области «Непостижного виденья, А. М. D.»[997] и скрылось (может быть, показалось…). Потом Антоний повел к себе в келью, указал на книжный шкаф, показал за стеклом на ангела (картинка), под которым подписано какое-то посвящение какой-то барышни Антонию (картинка рядом с флаконом одеколона (констатирую и только))… Вообще что-то близкое и радостное… Чувствовалось, что Мережковские и Антоний в чем-то соприкоснулись (но как будто с обратных сторон), как будто подошли друг к другу, разделенные узким ущельем, для обхождения которого нужны миллионы верст, но которое настолько узко, что возможно пожать друг другу руки через ущелье… Факт остался фактом: Антоний пришел в духовный восторг, Мережковский целовал у Антония руки, а я про себя потирал руки, радуясь, что мой эксперимент дал блестящие результаты.
Потом Мережковский, хватая себя за голову, все твердил: «Нельзя разрывать с 2000<-ле>тним опытом Церкви». И мне: «Слушайтесь Антония». Между прочим: они читали «Летопись С<ерафимо->Д<ивеевского> монастыря»[998] и увидели в Серафимове чувстве нечто близкое.
«Новый Путь» прекратится. Его прирезали[999]. Он мог бы еще с грехом пополам существовать, так как предвиделась им огромная субсидия, но люди, искренне любящие Мережковских, наложили «veto» на субсидию и ее присоединили к «М<иру> И<скусства>»[1000]. Друзья Мережковских ради Мережковских не допустили существования «Н<ового> П<ути>». (Это – строго между нами). Сказать правду: угрюмый как скалы Балтрушайтис[1001] сознательно и хладнокровно (с внутренней болью) зарезал «Новый Путь» (это уже совсем тайна – пожалуйста, да останется она между нами). Буренин перекрестил Балтрушайтиса в «Перголе-Перкиярви»[1002] (знаменательно!).
Зато: «Мир Искусства» преобразуется в литературный журнал, оставаясь по-прежнему художественным с рисунками, принимает Мережковских с религиозной хроникой[1003]. Между прочим здесь будет печататься «Петр» Мережковского[1004], а также единственно в «М<ире> И<скусства>» будет участвовать Чехов[1005]. Согласитесь – это будет единственный в своем роде журнал!..
Вышла книга стихотворений Бальмонта «Только Любовь», очень недурная, а также Брюсова «Urbi et orbi»[1006]… Но тут… боюсь начать…
…
Брюсов по этому сборнику оказывается единственным современным поэтом, держащим в руках судьбы будущей русской поэзии. Все иные (включая сюда и Бальмонта) мелкие величины сравнительно с Брюсовым. Такой концентрации, мощи, порой Микель-Анжеловских взмахов, вдумчивости русская поэзия не видала со времен Фета, Тютчева, Майкова. Правда, легко просмотреть (особенность всех крупных поэтов) Брюсова (он не ярок), но мое глубочайшее убеждение, что отныне к именам Пушкина, Лермонтова, Баратынского, Дельвига, Тютчева, Майкова, Полонского, Ал. Толстого должно присоединять имя Брюсова!..
Такие строфы, как:
встречаются только у мировых поэтов! Или:
Или:
Или:
А!..
Или:
Или:
Или:
Но довольно! Вижу иронию на Вашем лице и спешу закончить наводящие на иронию, дорогие для меня строки…
Дорогой Эмилий Карлович, пишите. Извините убогость и внешность письма, но у меня накопилось много внешнего, что я и передал Вам.
Остаюсь горячолюбящий Вас.
Борис Бугаев.
P. S. Мой привет Анне Михайловне[1015]. Заметка Шмидт (я слышал что-то о ней) не пойдет в «Н<овом> П<ути>», если не ошибаюсь. Но постараюсь узнать. Знал, что делал, когда путал Софию с Марией, но в той плоскости, на которой я стоял (символической, а не воплощ<енной>), можно и должно смешивать Софию с Марией. Г-жа Шмидт не умеет соблюдать перспективы плоскостей.
Посылаю стихи.
P. P. S. Точки в «Симфонии» от меня, а не от цензуры, для пауз.
P. P. P. S. Дорогой Эмилий Карлович, простите за дерзость: очень скоро из Лейпцига на свое имя Вы получите полное собрание сочинений Ницше. Будьте любезны. Перешлите его мне. Еще раз простите за дерзость. Перевожу «Человеческое слишком человеческое». Как получу, засяду за перевод[1017]. Будут переводить с дополнительными томами[1018]. Предприятие сериозное. Будет к сочинению приложен еще том о Ницше[1019].
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 27. Помета красным карандашом: «XXVIII».Ответ на п. 53.
55. Метнер – Белому
Н. Новгород 12 ноября 1903 года.
Только что получил Ваше письмо. Хотя у меня нет пока ничего особенного, что бы стоило доложить Вам, но берусь (с Вашего дозволения) за карандаш, так как считаю необходимым попросить Вас вот о чем. Я очень счастлив оказать Вам услугу в деле получения полного собрания сочинений Ницше, но должен предупредить Вас, что и для меня не делается исключений в исполнении формальностей. Необходимо подать прошение председателю цензурного комитета, указав точно издание, количество томов и магазин, через который выписываешь. Вот почему прошу Вас немедленно сообщить мне и то и другое, дабы я мог отправить отсюда прошение. Если Вы уже заказ послали, не пугайтесь, книги не пропадут, только их выдадут не иначе как по совершении формальностей. Очень рад, что Вы будете переводить Ницше: прозой не владел так ни один смертный; самый лучший способ изучить немецкий язык это переводить Ницше; я просто даже завидую Вам, что Вы имеете возможность заняться такого рода работой с расчетом, что плодами ее воспользуются и другие. Переводить, чтобы рукопись осталась в портфеле у себя или, еще хуже, в какой-н<ибудь> редакции, конечно, не стоит. Не думаю, чтобы Бальмонт хорошо перевел Заратустру; он слишком жеманен, простак <?> и дерзок. Лучше было бы предоставить Заратустру Брюсову, а Бальмонту стихи. Вы тоже читаете Menschliches Allzumenschliches! Между нами: я, читая эту книгу, не могу развязаться от мысли, что Ницше тогда был болен, когда воображал себя здоровым (второй период – позитивизм), и тогда здоров (первый период, вагнеризм, «артистическая метафизика»), когда ему казалось, что он болен… Вы очень хорошо сказали: «Смею не соглашаться, любя». Это и мое господствующее настроение при перелистывании страниц «Человеческого». Но вот что! Обратили ли Вы внимание на след<ующие> строки: «Personenwechsel – Sobald eine Religion herrscht, hat sie alle die (среди них сам Ницше) zu ihren Gegnern, welche ihre ersten Juenger gewesen waeren». Вот это называется проговориться! (Афоризм 118, том I)[1020]. – Что касается поэзии Брюсова, то тут… «смею не соглашаться, не любя». Впрочем, не читал Urbi er Orbi (заглавие напоминает папскую энциклику; заказана ли у Пиронэ туфля)[1021]. Простите мне мое неудачное остроумие, и, быть может, отсутствие настоящего поэтического чутья и чутья к русскому слову. Я ведь урод: от немцев отстал, а к русским не пристал. Не сердитесь, дорогой Борис Николаевич; я ведь не поэт; а каждое искусство все-таки специальность. «Он не ярок», говорите Вы про Брюсова; быть может, Вас, как поэта par excellence[1022], это отсутствие яркости не смущает; я же, признаюсь, вижу в этом признак преобладания ума над творчеством, мастерства над вдохновением и, как профит <?>, просто ничего не ощущаю при чтении даже приведенных (очевидно, лучших) стихов декадентского папы. Все это очень складно, тонко, умно, даже глубоко, но не захватывает меня. Полное отсутствие музыкальности, внутреннего ритмического живого цельного движения; мне несимпатичен и Бальмонт, но в нем больше этого движения, хотя оно и жеманно, манерно, несколько польского характера… «Взмахи микель-анджеловские» у Брюсова привлечь меня не могут, т<ак> к<ак> я не люблю Микель-Анджело… Польский характер как-то неразделен с русским декадентством… Боюсь, что Ницше в русском переводе будет полонизирован… Это претит мне. Я люблю и признаю Ницше, как представителя германизма, на том же самом основании, на котором почитаю Лермонтова как второго русского поэта, а не как шотландского барда[1023]. Я не хочу Ницше как ученика Словацких и учителя Пшибышевских. Все, что есть в Ницше польского (а это еще очень-очень под сомнением)[1024], только служило ему ко вреду: я разумею его выходки, кривляния, неустойчивость, его «не позволям» и «я буду дерзок, я так хочу»[1025]. Ницше бывает подчас противен мне, даже в Заратустре. И когда я анализирую это ощущение, то всегда вижу, что противное в нем в то же время как бы чуждо его исконной германской сущности. Мне и Вагнер бывает иногда противен; но эта противность уже не польская, а немецкая (ueberdeutsch[1026]). И вот, наблюдая за распространением ницшеанства, я с большим огорчением вижу, что в ход пошли, главным образом, его пошлости (нравственные полонизмы). Со страхом я думаю также о книге скорпионов о Ницше; вперед чувствую, что придется мне ее ругать жестоко. Однако письмо мое незаметно разрастается. Дорогой Борис Николаевич! Поймите и не осудите меня за все, что я Вам сегодня намарал. Наконец Касперович (культурный оболтус) прочел свою лекцию; упомянул и <о> Брюююсове, Бальмонтисе, Бальтрушайте, Белугине[1027] и т. д.[1028] – Касперович просто нестерпимо глуп. Я все время думал, что лопну со смеху, слушая его польские выкрикивания. А картины? А скерцо и полонез Шопена (сыгранные деревянной нижегородской дамой, неприятной во всех отношениях[1029])? Подчас я думал, что нахожусь в сумасшедшем доме! А нижегородский декадент подбрюсовик Чулков (книгу которого я на днях цензировал)[1030], подобострастно говоривший с мейстером Касперовичем, который держал себя с ним величественно снисходительно; Чулков, принимавший невероятно глубокомысленные позы во время лекции; по программе впадавший в то или другое невероятно сложное, простым смертным недоступное, настроение и, после отъезда Касперовича, несколько лягнувший его в газете![1031] До чего все это противно: впрочем, это было бы грустно, если бы не было так смешно. Такие Касперовичи только дискредитируют то, что берут под свою защиту. – Дорогой, бесконечно дорогой мне, Борис Николаевич! Не сердитесь на меня за contr’ы! Я мечтаю видеть Вас у себя; я не могу всего высказать в письме; да и Вы, я думаю, несмотря на свой эпистолярный натиск, тоже не прочь перейти к устной речи. Живо представляю себе Ваш коллективный визит у Антония[1032]. Милый Мережковский! Мне страшно понравилась статья Розанова о Мережковском[1033]. Правда, что Мережковские покидают Россию? NB. Знайте, что Балтрушайтис ненавидит Мережковского и завидует ему. Это я верно знаю. До свиданья, поклон Вашей матушке. Анюта[1034] кланяется Вам. Ваш Э. Метнер.
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 26 (л. 1–2), 25 (л. 3).Ответ на п. 52, 54.
56. Белый – Метнеру
У нас в Москве открываются «Весы» – журнал библиографический с критическими статьями в области науки, искусства, литературы, музыки[1035]. Поляков и Брюсов просят меня передать Вам, чтобы Вы присылали им статьи о музыке, да и вообще. Дорогой Эмилий Карлович, Вам было бы удобнее писать в московском органе, чем в «Приднепровском Крае». Главное просят о музыке. Журнал обещает быть сериозным и широким. Участвуют: Розанов, Мережков<ский>, Гиппиус и т. д. В научный отдел войдут вероятно ученые (Умов и т. д.)[1036]. Редакция будет в «Скорпионе». (Театральная площадь. Метрополь. Кв. № 23). Будет выходить с 1-го января ежемесячно.
У нас в Москве война Скорпионов с Грифами. Те и другие за фалды тащат меня к себе[1037]. Просто не знаю, что делать.
Весь Ваш душевнопреданный
Борис Бугаев.
P. S. Мой привет Анне Михайловне[1038]. По какому поводу в «Казанском Телеграфе» (Поляков показывал) шуточная мистерия, где участвует Брюсов, Кашперович и я?[1039] Это что-то невероятно дикое для Казани.
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 28. Две пометы красным карандашом: «XXIX».
57. Метнер – Белому
Н. Новгород 19 ноября 1903.
Получили ли Вы мое письмо о Ницше?[1040] Отчего не сообщаете, через кого Вы выписали Ницше? Письмо Ваше «деловое» получил. Не мало, должно быть, Вы обо мне распространялись среди своих литературных приятелей, если через Вас обращаются ко мне со столь лестными предложениями, совершенно не зная степени моей литературной и музыкальной грамотности. Позвольте Вас поблагодарить за… за такое доверие к моим слабым силам. Передайте, пожалуйста, гг. Брюсову и Полякову, что я весьма польщен их предложением и что постараюсь исполнить их просьбу о музыкальных статьях. Я должен Вас предупредить, однако, дорогой Борис Николаевич, что и вообще-то писать о музыке, не получая никаких музыкальных впечатлений, крайне трудно, в особенности же мне, лишенному к тому же всякого музыкального образования и умения. Как, напр<имер>, мне писать о Чайковском, когда я его здесь не могу услышать за отсутствием и оперы и симфонических; разобрать партитуры ни я, ни Анюта[1041] – не в состоянии. – Итак, я наверное обещать ничего не могу, пока я в Нижнем. Что же касается моих немузыкальных статей, то они, по всей вероятности, покажутся редакторам и слишком консервативными, и слишком дилетантскими. Несмотря, однако, на это, я все-таки попробую что-н<ибудь> написать. Напр<имер>, по поводу Вашей Теургии, о Ницше и Вагнере (трагедия дружбы (?)), затем о Чайковском (в общих чертах)[1042]. Еще раз большое спасибо! Я бы не прочь испытать свои силы в переводе Ницше. Только Вы пока об этом не говорите Брюсову…[1043] Уж не обиделись ли Вы за него (папа)?[1044] Передайте мой привет Вашей матушке. Крепко жму Вашу руку. Ваш Э. Метнер.
Анюта кланяется Вам, собирается в Москву в 20-х числах с<его> м<есяца>. – Когда Вы к нам? В январе? Жду, жду, ждем…
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 27.Ответ на п. 56.
58. Метнер – Белому
Н. Новгород 21 ноября 1903.
Дорогой Борис Николаевич! Получили ли Вы мое письмо, в котором я спрашиваю Вас, через кого Вы выписываете Ницше, и, затем, последнее письмо, в котором я отвечаю Вам на переданное Вами мне приглашение Весов?[1045] – Завтра Анюта[1046] едет в Москву; быть может, Вы увидитесь с нею? – Отвечайте скорее, т<ак> к<ак> боюсь, не обиделись ли Вы на меня за Брюсова – декадентского папу![1047] –
Дорогой Борис Николаевич, собираясь сказать несколько слов о Ваших симфониях в Приднепровском Крае[1048], я прочитал снова и Вашу вторую симфонию. Она снова по-прежнему захватила меня. Сколько в ней для меня милого, милого навсегда, что бы ни произошло, как бы ни разошлись наши пути, что бы Вы ни написали в будущем. У меня нет сил и способностей письменно передать Вам то жгучее и нежное чувство, которое волновало меня при чтении в особенности тех мест, которые являются аналогами, параллелями второй темы Колиной сонаты…[1049] Вторая Ваша симфония заставила меня разыскать среди Ваших писем пять вещиц opuscula[1050], озаглавленных «Старинный друг», которые Вы посвятили мне[1051]. Сопоставляя их со второй симфонией и перечитывая то и другое, я погружался в атмосферу, лишенную всех тех раздражающих элементов, которые приводят меня (и Колю) в неистовство и которые в таком огромном количестве присутствуют в большинстве «новых» произведений. Вы – исключение. Исключение и Блок, но уже в меньшей степени. Когда выйдут Ваши стихотворения?[1052] Выдумайте мне псевдоним. До свиданья! Обнимаю Вас и жду к себе. Привет Вашей матушке. Отчего не отвечает, пишет Петровский? Ваш Э. Метнер.
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 28. Фрагмент опубликован: ЛН. Т. 92. Кн. 3. С. 206.
59. Белый – Метнеру
Пишу Вам с радостным сознанием, что все очень хорошо. Сны мои расцвели цветами Вечности, и их пьяный аромат я слышу даже тогда, когда перестаю спать. Опять близится несказанная радость, весна ясная. Опять хочу осыпать себя белыми душистыми цветами – утонуть в знаменательном отсвете пунцовой, церковной лампадки. Да вот о пунцовом –
Не следует путать пунцовое с красным (с алым). Пунцовое ближе к пурпуру, а пурпур – это огонь не злых земных страстей («а вдали, догорая, дымилось злое пламя земного огня», Вл. Сол<овьев>)[1053], а огонь Божий, который сожжет небо и землю и отделит праведников (которым он в восхищение) от грешников (которым он воздаст за алость их деяний).
Вот почему я стою за символ. Символ, указывая соединением многого в одно на относительность относительного, способом от противного устремляет взоры к Вечности. Вот почему по сравнению с феноменализмом поверхностной жизни символ существеннее. Но и он относителен (ибо символ прежде всего – сравнение многого в одном отношении). Переход от реальности к символизму есть переход от чего-то более относительного к менее относительному: от алости к пунцовости, а уже пунцовость есть этап, ближе лежащий к пурпуру, выпавшему из спектра: пурпур «8» – ой цвет. На исторически-воплощенном плане пурпур в Ветхом Завете (см. О юдаизме Розанова, где указано, что Авраам нашел меру (пурпур) среди Содомских князей там, где Гоморра и Содом провалились (от алости))[1054], Завете слишком было трудно различать алость от пурпурности, вот и даны были соединяющие цвета в белом и голубом. Пурпур на исторически-воплощенном плане говорит о «8-ом», тогда как на символическом плане «8-ое» – внецветно. Внецветное от радости легко спутать с черным ужасом, Отца с Пустотой. В таком же отношении легко спутать пурпурное с алым – Отца – с «Густотой»?! (густота = серое + белое):
густота = черное + белое + белое[1055].
пыль
Оттуда еще раз подтверждается опасность религиозных отношений к Отцу. Мне это дело представляется так: едва я забываю, что Христос – Бог мой, едва я переношу религиозное чувство свое вообще на Бога (конечно, Отца) – как из соседней двери выскакивает бородатый, лохматый старик в охрянице с двумя небольшими рожками из-под волос и насаживается на меня (помнится из «Трех сестер»: «Он ахнуть не успел, как на него медведь насел»[1056]). Вот таким-то одержимым медведем представляется мне Ог отец (т. е. Бог без «Б», т. е. искаженное благодаря моей незоркости относительно пурпурного (ибо его нет в спектре) и алого (которое налицо) имя Бога. Некоторое лингвинистическое соображение: «Ог» для силы удвояется: «Огого» или Огыга. Бог Отец вне Христа может в конце концов подмениться Огыгой Пеллевичем Кохтик-Ррогиковым из Вечных Боязней[1057]. Пролагаю на цвета: пурпурное я незаметно подменяю алым и затем вместо того, чтоб из алого выбраться к розовому (Душа мира; карамель, пахнущая розовым маслом, и т. д.), я удаляюсь прочь от света. Слой серой пыли между мной и источником света увеличивается, и то, что казалось красным, теперь кажется желто-шафранно-бурым. Несомненно, что Огыга из желто-шафранных болот ужаса. Кстати: А. Блок, которому я послал карточку Огыги, прислал мне в ответ стихотворение, полное ужаса. Он за Огыгу принимает… Иммануила Канта[1058] – он, а не я, Эмилий Карлович!..
Итак, воплощение до физической перемены (до Конца) ужасно рискованно т. е. просто «ужасно». А следовательно символ, наше единственное знамение о Христе, еще все-таки относителен, т. е. аскетичен (ибо он, как всякий аскетизм, средство, становящееся целью). Потому-то и проклята алость, что это ненужно-аскетический нарост на аскезе символизма. Жизненность в алом смысле – аскетизм аскетизма, и вся борьба с нею именно сводится к борьбе с аскетизмом. Цель нашей культуры – расположить символы в систему, при этом может меняться и порядок символов и содержание их, т. е. расположение догматов и степень углубления в них в нашей власти, хотя количество догматов-символов неизменно. Вот в чем должна заключаться дозволенная свыше реформа Христианства.
В Элевзинских мистериях[1059] системой символов участники (мисты) приводились в экстаз, и тогда у них бывало общее виденье, непостижное уму[1060]. Они соединились с Богом и были Богами. Не в этом ли путь эволюции нашего современного символизма? Не должны ли мы ждать Элевзинских религиозно-христианских мистерий – Тайных Вечерь «Приимите и я дите…» и т. д. Ведь сущность – все та же. И это не теургия еще, а символизм, засквозивший ею.
Недавно видел сон.
Знакомое, вечное, сонное место: оно – как будто усадьба, как будто – имение. Одна часть дома как будто выходит в угрюмо-запущенный сад. Другая часть дома – разделена от мирового шоссе несколькими саженями душистой, пряной травой. У стола стоит покойный отец, как бы провожающий меня в путь. Он остается дома, а я из окна выпрыгиваю в густую траву, чтоб перейти на шоссе, опоясывающее весь мир. Чувство знакомой, когда-то испытанной грусти, чувство расставания с отцом, который не умер и никогда не умрет. Он останется дома, но сам этот дом у самого мирового шоссе, и я, странствуя по всему миру, не забуду, что не схожу с того самого шоссе, которое пересекает родные места. Весь я смеюсь и тону в траве, подхожу к шоссе; ветер свистит в уши: «Началось – вернулось». На горизонте сладкий бархат небесных персиков, а выше – бледные пятна душистых лимонов.
Возвратилось.
Дорогой Эмилий Карлович – будет ли тот день, когда все мы вместе с котомками за плечами потянемся вдоль мирового шоссе, убегающего к горизонту, оттуда ветер принесет аромат оранжевых, закатных персиков и бледных лимонов? Или это будет «там»? Но это будет.
Привожу стихотворение Блока, где выражено настроение моего сна:
Вот еще из Блока:
Вот еще:
Как Вам нравится? По-моему, ужасно сильно. И это я Вам посылаю без выбора. Есть гораздо лучше, и меня подмывает переписать еще что-нибудь из Блока. Но теряюсь в выборе. Лучше уж, если буду в Нижнем, привезу Вам стихов Блока. Дорогой Эмилий Карлович, знаете ли, что я послал в «Скорпион – Весы» грозный и непреклонный ультиматум, грозя выйти из «Скорпиона – Весов»[1064] – почему, это я Вам напишу лучше в другой раз – длинно, и неинтересно. Если они не смирятся перед моим ультиматумом, безвозвратно покидаю «Скорпион» и «Весы» (хотя мне и негде будет писать), где я усмотрел некоторую <?> стадность и баронство – правда, в потенциале. Но против потенциала-то тем сильнее я восстаю. Не получал еще ответа на «ультиматум». Мне грустно выходить из «Скорпиона» и «Весов». «Скорпион» мне любезен, а на «Весы» я лично уповаю очень – но вынужден так поступать, ибо борюсь за собственную «партийную независимость». Присылайте статьи в «Весы»! Бога ради простите за Ницше. Бестактность моя по отношению к Вам имеет смягчающие причины (длинно писать – но верьте мне). Ужасно сожалею, что пришлось мало видеться с Анной Михайловной[1065]. Передайте ей, что я не мог <в> воскресенье[1066] быть у нее, так как в полугодовой день смерти отца мне пришлось до 12½ быть в университетской церкви, а потом ехать в Девичий Монастырь[1067], откуда совершенно усталый я вернулся только в три часа. Христос с Вами, дорогой Эмилий Карлович.
Пишите.
Ваш Борис Бугаев.
P. S. Мой привет и уважение Анне Михайловне.
P. P. S. Едва написал Вам письмо, как пришел Брюсов извиняться, а также и укорять меня в совершенном ужасе. Оказывается, что я произвел переполох не на шутку в «Скорпионе», так что они отправили в Петербург «Новому Пути» и «Миру Искусства» жалобы на мое поведение и просьбу повлиять на меня и изменить мое намерение бросить «Скорпион» и «Весы»[1068]. Мы, конечно, помирились[1069].
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 29. Три пометы красным карандашом: «XXХ». Фрагменты опубликованы: ЛН. Т. 92. Кн. 3. С. 208.
60. Метнер – Белому
Н. Новгород 13 декабря 1903.
Милый! Дорогой Борис Николаевич. Сегодня получил Ваше письмо. Давно Вы не писали. Вы не выставляете даты. Но вспомните последнее Ваше письмо – деловое, в котором Вы предлагаете мне писать для Весов[1070]. – За этот промежуток я написал Вам два или три письма; не помню. Анюта[1071] сказала мне, что Вы будто отвечали мне, между тем, кроме сегодняшнего письма, я ничего не получал. Простите, дорогой Борис Николаевич, что я говорю о мелочах. Я питаю какое-то отвращение к мысли о потере моих писем или писем, адресованных ко мне. Вот почему я усвоил себе максиму в начале письма уведомлять моего корреспондента о получении его письма, а на своем письме выставлять дату. Признаюсь, на этот раз я почему-то ждал, что Вы скорее отзоветесь хотя бы «деловым» письмом по поводу выписанного собрания сочинений Ницше и по поводу моего участия в Весах и в предприятии перевода Ницше на русский язык. Получили ли Вы то мое письмо, где я шутя предлагаю Вам выдумать для меня псевдоним?..[1072] Какова судьба собрания сочинений, выписанного из-за границы?.. Не подумайте, дорогой Борис Николаевич, что я сержусь на Вас. Вы принадлежите к тем немногим, слишком немногим, на которых я неспособен негодовать даже по более важному ‹…›[1073] Настоящее мое письмо чисто внешнее. У меня гостит моя мама[1074], с которой я не виделся целый год. Вы понимаете! Когда она уедет, я напишу подробнее и «центральнее». А теперь вот что. Есть у Вагнера эстетический трактат Kunstwerk der Zukunft[1075] (художественное произведение будущего; искусство будущего; как лучше?). Этот небольшой трактат в несколько более популярном изложении содержит почти то же, что более громоздкая и специальная Oper und Drama[1076]. Трактат написан в 1850 г., влияние его на Geburt der Tragoedie и на Richard Wagner in Bayreuth[1077] – несомненное. Русского перевода, насколько мне известно, не существует. Думаю, что нелишне было бы Весам познакомить публику с философемою вагнеризма. Если принципиально редакция со мною согласна, я не прочь сделать попытку перевести эту книгу[1078]. Объем ее: 230 стр. довольно крупной готической печати, in VIII-o. Что касается моих статей, то наверное я обещать не могу, но если напишется нечто менее несносное, то пошлю. Кстати: я не шутя думаю о псевдониме. Как цензору мне неудобно подписываться настоящим именем; как музыкальному невежде и брату музыкантов также неудобно выставлять свое имя под статьями, где речь идет о музыке. Получили ли Вы то мое письмо, где я пишу, что вновь перечитал Вашу драматическую симфонию и стихи, мне посвященные?[1079] Еще раз опять повторяю, что просто влюблен в эти Ваши opus’ы. – Мамочка рассказала мне, что Коля как-то был у Вас, просидел до двух часов ночи и возвратился домой совсем зачарованный Вашей беседой… Мне он почему-то не написал о том, что навестил Вас. Но в одном из последних его писем (вообще редких и кратких) содержится следующая приблизительно фраза: «не так давно для меня впервые стало ясно, до какой степени талантлив Борис Николаевич»[1080]. Думаю, что он имел в виду эту беседу с Вами, проложившую ему дорогу к пониманию Ваших произведений, с которыми он ведь знаком был и раньше… Я страшно рад, что между Вами и им устанавливается modus vivendi[1081]… Я боялся, что отсутствие философского образования у Коли и музыкального у Вас станет нерушимою стеною на пути более близкого понимания… Дорогой Борис Николаевич! Будьте снисходительны с Колей и выражайте ему свои мысли возможно конкретнее, выпуклее и проще… В заключение выражаю Вам мою радость как по поводу того, что «все очень хорошо», так и того, что «символ наше единственное знамение». Вы выздоровели. Вы снова в том настроении радостного и спокойного ожидания, в каком я желал бы Вас всегда видеть. Долой напряженность! Соблазн «обольщения» <?>, самочинное вмешательство в непреклонный ход мистических событий и прочие грехи суетливости, суеты, неритмичности. – Крепко жму Вашу руку. Ваш Э. Метнер.
Memorandum. Ждем Вас обязательно в Нижний гостить надолго.
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 29.Ответ на п. 59.
61. Метнер – Белому
Н. Новгород 18 декабря 1903.
Снова пишу Вам, дорогой Борис Николаевич, и опять пустяшное письмо. Высылаю Вам начало моей статьи о Ваших симфониях[1082]. Берегите ее от зоркого глаза консерватора и насмешника Поповского…[1083] а также и от других. Странное дело! Знаете, почему я внезапно решил выслать Вам эту статью? Вовсе не потому, что она трактует о Ваших произведениях; были и другие статьи о Северных Цветах, Новом Пути, Грифе, в которых я также касался продуктов Вашего творчества, отнюдь не (потому) для того я посылаю Вам эту статью, чтобы Вы показали ее Скорпионщикам; тогда я рекомендовал бы Вашему вниманию скорее статьи о Мережковском и о Новом Пути[1084]. А посылаю я Вам эту статью потому, что я страшно обозлился на опечатки и в особенности на перестановку абзацов (см. красный и синий карандаш) – учиненные приднепровской типографией: зло мое еще не прошло и я не могу установить психологической связи между типографскими погрешностями и внезапно возникшим намерением отправить эту статью Вам, вопреки прежним своим решениям. Мне наступили на мозоль, и я, вскрикнув от боли, выкрикнул то, о чем хотел было умолчать. Может быть, так, а может быть, иначе; не могу знать! Возможно, что просто черт попутал. Присутствие последнего я иногда ясно ощущаю, когда впадаю в гневное состояние… Утешаюсь мыслью, что нет худа без добра! Думаю, что теперь мне будет легче дать Вам прочесть то или иное из моих газетных словоизвержений. Ледяная кора треснула… Будьте снисходительны и не упускайте из виду, что статья написана для «приготовишек». Я мог бы и «центральнее». Получили ли Вы мое письмо, в котором я говорю о Kunstwerk der Zukunft Вагнера?[1085] Жду Вас обязательно к себе гостить надолго. Анюта[1086] кланяется и приглашает. Передайте мой искренний привет Вашей матушке. Желаю радостного сочельника. Ваш Э. Метнер.
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 30.
62. Метнер – Белому
Н. Новгород 21 декабря 1903.
Дорогой Борис Николаевич. Опять и опять я пишу Вам. Опять и опять «внешнее» письмо. Посылаю Вам окончание статьи[1087]. Можете оставить обе вырезки себе, т<ак> к<ак> мне вышлют другие экземпляры. Не осудите меня за несколько позитивно-поверхностное объяснение «беспредметной скуки»[1088]: повторяю, статья носит гимназический характер, ибо писана для газетно-провинциальных читателей, т. е. для приготовишек в деле «нового искусства». Третьего дня я отправил Вам письмо с первым фельетоном.
Получил сегодня Новый Путь (декабрь). Обратили внимание на список подписчиков журнала?[1089] Если не считать Петербурга и Москвы, то Екатеринослав по числу подписчиков (72) занимает первое место после Киева (76). Льщу себя надеждой, что мои зазывательные статьи о Новом Пути в Екатеринославской газете (Придн<епровский> Край) сыграли некоторую роль в деле увеличения этой цифры[1090]. «И мы пахали!»[1091]
Молчит Алексей Сергеевич; ничего не отвечает мне на письмо[1092]. Погряз в волтерианстве.
Приближается Рождество и день рождения Коли[1093], который ухитрился появиться на свет в 8 ч. вечера 24 декабря 1880 г… –
Я жду его к 26 или 28 декабря. Произойдет генеральная музыкальная баня. –
Боюсь отупеть без музыки окончательно.
Напишите, когда Вы предполагаете собраться в Нижний?
Обращаю Ваше внимание теперь, когда Вы находитесь в самой (с моей точки зрения) здоровой полосе, на тот отдел стихотворений Гёте, который озаглавлен Gott und Welt[1094]. В первом же стихотворении (Prоoemion) Вы найдете след<ующую> сейчас Вам столь родную мысль.
Кант не Огыга, как думает Александр Блок[1096]; Кант не «сухой теоретик», как думает некто Вершинский (см. Литературную хронику. Декабрь. Новый Путь)[1097]. Кант – единственный философ чистой воды, без примесей пророческих поэтических публицистических и т. д. Как философ Кант отнюдь не законодатель для жизни… Впрочем, осталось мало места и времени. Скажу только, что никакого «ужаса» и никакой «сухости» я в Канте не вижу. Ужаса гораздо больше у Шопенгауэра и Ницше, сухости у Влад. Соловьева и в патристике. Кроме того, не надо забывать, что Кант совершил только первую половину своего труда, критическую. – До свиданья. Желаю Вашей матушке и Вам радостных праздников. Ваш Э. Метнер.
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 31. Фрагмент опубликован: ЛН. Т. 92. Кн. 3. С. 209–210.
63. Метнер – Белому
Н. Новгород 28 дек. 1903.
Радостных праздников и счастливой встречи нового года Вашей уважаемой матушке и Вам желает Э. Метнер.
Анюта[1098] приветствует Вас.
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 32. Открытка с рисунком, стилизованным под древнеегипетские изображения: Raphael Kirchnen «Les Cigarettes du Monde V». Khe-di-va.
64. Белый – Метнеру
Москва. Декабря 29-го 03 года.
С удивлением узнаю, что Вы не получали двух моих писем (небольших), где я подробно отвечал на предложенные Вами вопросы. Пишу еще раз. 1) Относительно сочинений Ницше я только попросил Вашего согласия, а не категорически решился сам переслать их Вам: да и то, это я сделал по усиленной просьбе «Скорпиона». Дело было так: дня за два до отъезда за границу Семенов предложил переслать из Лейпцига каким-нибудь образом полное собрание сочинений Ницше[1099]. Зная, что Вы цензор, «Скорпионы» тут же убедительно просили меня взять на себя дерзость выписать через Вас. И так как в это время они, должно быть, забыли о трудностях, а я тоже не знал, то и произошла эта путаница. Что же касается Ницше, то я, право, не знаю – выслал ли Семенов его, или нет. С Поляковым я говорил, но он пробурчал что-то неопределенное и обещал дать подробные сведения потом, так что сейчас я ничего не знаю.
2) «Весы» очень рады Вашему участию, просят статей все равно каких. Письмо же о Вашем псевдониме получил и ответил (Вы его не получили, очевидно). Ужасно трудно выдумать псевдоним. Предлагаю Вашему вниманию и внутренне краснею за бедность вымысла: Lucifer, Ingifer <?>, Signifer, Lictor, Тирский, Пантерин, Светозаров и т. д.
3) Что касается перевода Ницше, то это теперь еще вопрос отдаленного будущего, еще не выясненный. Вы позволите мне передать Брюсову Ваше желание участвовать в переводе? Согласно Вашему пред-предыдущему письму, я пока еще не говорил ему ничего. 4) О Вашем намерении переводить «Kunstwerk der Zukunft» еще не передавал (эти дни я болен – у меня разболелись зубы, жар, недомогание и бессонница, так что никуда не выходил). В понедельник[1100], по всей вероятности, я пойду в «Скорпион» и сообщу о Вашем намерении.
Дорогой Эмилий Карлович, ужасно жалею, что не виделся продолжительней с Анной Михайловной[1101]. Буду стараться попасть в Нижний к Вам во втором полугодии, но это далеко не будет зависеть от меня, так что не сетуйте, пожалуйста.
Подписка на «Весы» ужасно плохо подвигается[1102]. Не сообщите ли Вы в Нижнем о сем, обещающем быть интересным, журнале. Если нужно, могу Вам переслать несколько пачек объявлений.
5) Последнее формальное сообщение: я не виноват, Эмилий Карлович, что делаюсь перекрестным пунктом для сообщения Вам всевозможных нудностей; вот в чем дело: есть у меня знакомый, Павел Николаевич Батюшков – теософ и «святой» (буквально), жизнь которого в настоящую минуту – подвиг; вот почему я не могу ему прямо отказать, а потому лучше Вы отрежьте мне прямо: не надо, не хочу… Так я ему и передам. Он просит Вас убедительно подписать прилагаемый лист[1103]. Сюда же присоединяет просьбы и А. А. Ланг. Вот и всё.
Чтобы уже докончить о деле, спешу упомянуть еще об одном пункте: теперь (сегодня 29<-го>) виделся с Брюсовым и говорил о Вашем намерении переводить для «Весов» трактат Вагнера. Брюсов просил меня передать Вам, что статья в 230 страниц представляет нечто слишком объемистое для «Весов», а вообще переводы желательны, особенно недавно вышедших статей. Кроме того Брюсов просил меня Вам передать, что очень желательны Ваши статьи, и не позволите ли Вы объявить Вас (или Ваш псевдоним) в числе сотрудников «Весов». Далее: прилагаю при сем воззвание книжного магазина Н. Лидерта о Ницше[1104]. Очень просит Вас «Скорпион – Весы» обозначить число томов полного собрания сочинений Ницше, и так как точное количество томов неизвестно (около 10-ти), то просит выставить 17 томов, полагая, что недостающие томы магазин пополнит другими книгами. Вот документальная передача слов Брюсова.
Дорогой Эмилий Карлович, спасибо за присланные статьи об Андрее Белом. Читал с интересом и краснел, краснел за то, что Вы меня не по заслугам хвалите. Очень спасибо. Напоминаю Вам о моей давней просьбе, которую Вы не хотите уважать: указать мне или №№ «Приднепровского Края», где есть Ваши статьи, или на время прислать мне их, ибо я хочу учиться – ибо я хочу учиться. (Видите, даже в тон Заратустры впадаю).
Как хотелось бы мне побеседовать с Вами, Эмилий Карлович (ибо я писать разлучился и упорно никому почти не могу писать). Думаю побывать у Вас в Нижнем не ранее февраля. В Москве у нас теперь очень мило. «Грустно-задумчивая» радость ждет – притаилась. Как часто удается теперь мне подслушать вздохи счастья у разных лиц, «чающих» мира. Знаете ли, Эмилий Карлович, что если бы в Москве когда-нибудь было дело, то оно началось бы неожиданно, легко, без потуг, и просто. А ведь оно – слышу – крадется вместе с миром и счастьем. Если я так позволяю себе говорить, так это потому, что «жизнь», которая скрыта в жизни в иных из своих глубинных переживаний, опережает ожидания, настигая врасплох. И неожиданные шутки подкравшихся снов – шутки, переплеснувшие в действительность, – они-то и вызывают вздохи белого счастья.
Посылаю свои стихотворения.
Христос с Вами, дорогой Эмилий Карлович! Простите убогость письма. Нем и безглаголен.
Остаюсь любящий и искренне преданный
Борис Бугаев.
P. S. Мой привет и уважение Анне Михайловне и Николаю Карловичу[1112].
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 30. Четыре пометы красным карандашом: «XXХI».Ответ на п. 60–62.
1904
65. Метнер – Белому
Н. Новгород 6 января 1904 года.(Поправлено мною 25 марта 1906 г.)[1113]
Очень жаль, что Ваши письма не дошли. Получили ли Вы мою египетскую открытку?[1114] Ваши карточки и письмо от 29-го дек<абря> я вчера получил. У меня гостит Коля[1115] и гостил отец, который вчера только уехал. За последние два месяца я почти ничего не читаю и не пишу; не потому, что утомлен или не тянет; причина – гости (обе мамаши[1116], брат Карл Карлович, отец и Коля) и отъезд Анюты в Москву[1117]; это вышибло меня из колеи. Я не обещаю Вам в сегодняшнем письме более или менее серьезной беседы, т<ак> к<ак> мысли мои отвлечены присутствием музыки в моей хате, но спешу скорее ответить на деловые пункты. 1) Не подумайте, дорогой Борис Николаевич, что я сержусь на Вас или Семенова за выписку Ницше. Если я спрашивал Вас, то только потому, что мне хотелось знать результат этой операции по двум причинам (слушайте внимательно, Вы ведь ребенок в таких делах!). Во-первых: мне было бы досадно, если бы Семенов потерпел убыток от задержки или конфискации книги. Во-вторых, если он получил книги, то мне, раньше нежели подписывать бланк на новое получение тех же книг Ницше, надлежит справиться, можно ли одному и тому же лицу получить несколько экземпляров одного и того же издания. Текст прошения гласит: «в одном экземпляре» «для моего собственного употребления». Ведь для собственного употребления не может понадобиться два или три экземпляра?! Надо Вам сказать, что недавно, месяца четыре тому назад я подавал уже прошение в Московский Цензурный комитет о получении Ницше (через магазин Ланга[1118]). Так что если Семенов получил тоже, то я, подавая опять прошение, следовательно, за полгода, выписываю для собственного употребления третий экземпляр полного собрания Ницше. Кстати: всего вышло 15 томов, 14-й распродан и печатается новым изданием[1119]. В прошении достаточно упомянуть «полное собрание сочинений Ницше» в издании Наумана, тогда те томы, которые выйдут позже, могут быть доставлены магазинам на основании прежнего прошения. Скажите «Весам», что я обещаю им раздобыть так или иначе (хотя бы через Главное Управление по делам печати) Ницше, но сейчас не посылаю бланк магазина Лидерта, т<ак> к<ак> предварительно хочу (немедля, сейчас же) осведомиться у милейшего секретаря Комитета, ловко ли подавать новое прошение о том же, пренебрегая правилом римских юристов: non bis in idem[1120]. Секретарь со свойственною ему любезностью ответит мне немедленно, и в случае невозможности я подам прошение в главное управление или поступлю еще как-нибудь. NB. Если ничего не буду в состоянии сделать, то пусть кто-нибудь из скорпионщиков обратится к какому-нибудь хорошему знакомому действ<ительному> статскому советнику с просьбой подать такое прошение. Что же касается сочинения А. Besant Le Dharma[1121], то прошение о нем я при сем направляю Вам. Ради Бога! не подумайте, что я хочу избавиться от выписывания Ницше. Наоборот. Я не хочу неловкости, которая может испортить все дело. Между нами: почему Брюсов не обратился к Юрию Петровичу Бартеневу (цензору), с которым он, кажется, был в очень хороших отношениях??. – 2) По поводу предполагаемого моего участия в «Весах» скажу следующее. Писать статьи общего (не чисто эстетического публицистического) характера я под своею фамилиею не могу, как цензор; статьи строго специальные (музыкально-эстетические) я не могу подписывать своею фамилией как дилетант и как брат двух профессионалов[1122]. Вот почему псевдоним – необходим (новая рифма: примечайте!). Откровенно говоря я – против предложенных Вами псевдонимов не из-за бедности, а скорее из-за роскоши вымысла и, притом, роскоши красочной. Если бы я писал только музыкальные статьи, то остановился бы на «mi-la» (Миля[1123])… Во всяком случае это не неотложный вопрос. Вместе со статьей придет в голову и псевдоним. Выставлять же мое авторское имя в числе сотрудников «Весов», когда я еще не написал ни одной строки, я думаю, излишне, как для журнала, так и для меня… О моем желании участвовать в переводе Ницше можете сообщить Скорпионам… Но опять-таки фамилии моей в числе переводчиков прошу пока не выставлять. 3) В нижегородских газетах я как их цензор не имею права помещать никаких заметок. Когда выйдет и будет прислан мне первый номер Весов, я напишу заметку в Приднепровском Крае. А теперь советую Вам смастерить небольшую предварительную зазывательную заметку и отправить ее в Придн<епровский> Край. В Екатеринославе многие интересуются новым искусством и новыми путями. Придн<епровский> Край я превращаю своими статьями в филиальное отделение «нового». – Я намерен ежемесячно помещать большой фельетон, посвященный обзору трех журналов – Нового Пути, Мира Искусств и Весов… Нижний же Новгород – тупица в деле неземском, нелиберальном, негуманном или неденежном. Здесь – Горький. Кстати, появился ученик Горького Никифор Пропащий[1124]. – 4) Очень рад, что мои поверхностные статьи об Андрее Белом доставили Вам все-таки несколько приятных минут. Когда будут напечатаны все мои статьи о Мережковском[1125], то я сообщу Вам №№ или же Вы их возьмете у моего отца, который, кажется, хочет их выписать. Что же касается статей о Школе и рецензий о Новом Пути, Северных Цветах и Грифе[1126], то их читать не стоит. Я уже писал Вам подробно, чтó эти статьи из себя представляют и почему они не должны интересовать Вас. К тому же половина моих статей (лучшая) о Новом Пути не пропущена екатеринославской цензурою, т<ак> к<ак> я касался религиозно-философских собраний, что запрещено для подцензурной провинциальной ежедневной прессы.
<Вклеена вырезка «Москва. Сенсационный слух»>[1127]. 5) Почти ручаюсь, что это ужасное сообщение – факт. По крайней мере моя тетушка[1128], знакомая близко и с пастором Дикгофом и с г-жой Нейфельдт, слышала это из их уст. Со слов же «по наведенным справкам» – неверно, т<ак> к<ак> могила, действительно, по словам моей тетушки, была разрыта и т. д… Сообщаю Вам, как яркий случай появления духа… NB. Кистер (дьячок) Нейфельд<т> был склонен к апоплексии и, говорят, много пил. –
Вы пишете в последнем письме о грустно-задумчивой радости. И что в Москве у вас теперь очень мило. А здесь этого нет. Нижний окутан серою мглою. Что-то гонит меня отсюда. Настроение Анюты и Коли тоже не из важных. Конечно, при желании все можно объяснить феноменальными причинами… Смерть обоих издателей, Юргенсона и Беляева (приобревшего <так!> некоторые сочинения Коли)[1129], произвела на Колю сильное впечатление. Скончался Максимов[1130] (лучший пианист из настоящих русских, а не только по местожительству или подданству). Это тоже огорчило Колю… – Приезжайте скорее, дорогой Борис Николаевич! Позвольте мне быть с Вами до конца откровенным. Если у Вас нет денег, я Вам дам взаймы. Когда будут – отдадите. Ведь всего-то надо каких-нибудь пятнадцать рублей на проезд.
Алексей Сергеевич давно не писал мне, точнее, он до сих пор не ответил мне на мое последнее письмо к нему…[1131] Я ему послал поздравление по адресу его отца. – Ваш трактат о пунцовом[1132] – важное дополнение к тому, что Вы писали мне давно уже о спектре. Спасибо также за объяснение Огыга[1133]. Когда мы были маленькие, то говорили в каком-то экстазе разные глупости (особенно Коля и Карл Карлович); этот экстаз – назывался «остервенением». Откуда у нас явился такой странный и неблагозвучный термин – не знаю. Коля в «остервенении» сочинял даже бессмысленные, но очень музыкальные по ритму и рифмам стихи… Так вот Ваш Огыга Пеллевич и т. д. есть mutatis mutandis[1134] продукт «остервенения». Когда Коля увидел эти карточки (простите, я их ему показал), он нисколько не удивился и сказал, что в них он видит что-то «родное». Особенно ему понравились Беллиндриковы Поля и Вечные Боязни…[1135] Спасибо за великолепные стихотворения Блока и Ваши. Мне особенно нравятся: Все кричали у круглых столов[1136] и Поединок (последний очень понравился и Коле, который, между прочим, очень любит Ваш Песенник о былом[1137], Незнакомого Друга и Старушку[1138]). В частности, осмеливаюсь заметить Вам, что Вы должны отучиться от пристрастия к несколько вычурным рифмам. Они иногда лишают Ваши образы, Ваши мысли – прелести и серьезности. Впрочем, это пристрастие находит на Вас изредка. – Как жалко, что Вас нет сейчас с нами. Коля, хотя и не в духе, но сочиняет один прекрасный романс за другим. Он только что написал великолепную и в первый раз проникнутую русским духом музыку на слова Пушкина Буря мглою небо кроет (Зимний вечер)…[1139] Грустно-задумчивая радость!.. До свиданья! Анюта и Коля Вам кланяются. Передайте мой привет Вашей матушке… Приезжайте. Христос с Вами. Ваш Э. Метнер.
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 33. Фрагмент опубликован: ЛН. Т. 92. Кн. 3. С. 210.Ответ на п. 64.
66. Метнер – Белому
Н. Новгород 19 января 1904.
Скажите, дорогой Борис Николаевич, С. А. Полякову, что я выхлопотал ему право на получение полного собрания Ницше. Пусть он немедля подает за своею подписью прошение Председателю Моск<овского> Ценз<урного> Комитета. Ваш Э. Метнер.
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 34. Открытка.
67. Белый – Метнеру
О счастии, о том, что уходит и приходит, но никогда не покидает навеки – о белом счастии грустных детей – вот о чем я хочу Вам писать, дорогой, милый Эмилий Карлович. Нет, лучше я опишу Вам знамения.
Долго тянулись клоки тумана, мчавшегося на землю Бог весть откуда. То здесь, то там проплывали обрывки лазури и снова затягивалось. Дорогой Эмилий Карлович, помните одно мое прошлогоднее письмо о том, что Серафим где-то близко, близко[1140], что с горизонта по опьяненной лазури тянутся низко пепельные клоки туч. Я писал, кажется, Вам, что надо готовиться. И все было так, как я писал Вам – для меня по крайней мере. Наступили экзамены, смерть отца, ужасное нервное расстройство, бунты, бунты на юго-западе[1141], оставленность, срыв во время Серафимовских торжеств[1142], сентябрьские и октябрьские сомнения и «вечные боязни»[1143]. Я уже изнемогал. И вот стало редеть[1144]. Это кончалась пелена туч, проплывавших, которых приближение мне открылось в молитве еще за три месяца до «ужасов».
Но лазурь блеснула только 31-го[1145] с 6 часов вечера. Я стал удивляться и радостно «чуять». Павел Николаевич Батюшков – теософ и святой – среди обыденного подмигнул «старинным».
«Пропел петух и пахнуло старинным»[1146]. Тут же сидел А<лексей> Серг<еевич> Петровский. Они ушли – и вот Он на фоне «старины» с лазурью глаз и в белом с пурпуром пожарных губ – опять стоял Он рядом со мной. Я все забыл. Вечером мы пошли в церковь. Все было мягко и грустно – старинно. Недоставало метели, но чуялось, что и она приближается. Вышел священник и сказал притчу о девах и о часе[1147], в «Он же грядет судити живых и мертвых»[1148]. Что-то радостное было, когда возвращались. «Доброе знамение», – сказал я себе. Прихожу – и кто-то, неизвестный, прислал мне лилий и белых роз в 12 часов нового года. На другое утро (Петровский мне сообщил) Антоний собирался к нам (но не был). Я пришел к 75-летней старушке[1149], и она грустила о счастье, подмигивала стариной, знала, хотела белой радости. Старушка, я и Сережа Соловьев – мы сравнялись возрастами. После мы стояли на дворе и вокруг нас плясали снежные круги танец белых серпантин – и Сережа мне сказал что-то о Христове чувстве (старушка знала то же обо всем).
Потом рассказывали (мама), что <в> 11 часов утра на Арбате видели человека с удивительным взором в выцвеченной шубе, с жезлом в руках и босиком. На жезле сидел жестяной голубь. Прошел неизвестно куда. Кто это был? Вечером бегал по улицам, высматривал – а метель рвала и мела, и плела белизну, и опять приближалась радость, наша радость. На другой день я был у одной дамы, и опять Он стоял рядом и не я один заметил, что все хорошо. С тех пор началось опять вернувшееся счастье.
После узнал о словах Отца Иоанна Кр<онштадтского>. Проповедь под новый год начиналась словами: «Празднующих новый гражданский год переношу мысленно к новому небу и новой земле… Да, по неложному обещанию Божию, настанет скоро полное обновление неба и земли для обновленного, Искупителем нашим человеческого рода» – «нынешняя земля сгорит, а небеса, как риза, обветшают»… (Моск<овские> Вед<омости>. 2 января)[1150].
И вот все опять и опять приходит счастье. Был у Ланга, и было ясно. Вчера 3 раза начиналось счастье. Вечером мы сидели с П. Н. Батюшковым и слышали, как пришло что-то, Кто-то. Отмечали волны добрых вибраций, перекатывающиеся в пространстве. В моей комнате образовался беспроволочный телеграф. Сегодня опять повторилось счастье. Пишу Вам, опьяненный, усталый от радости – Христос, Бог наш, да будет с Вами. Он между нами. Радость с нами. Мысленно благословляю Вас, не оставьте и Вы меня без добрых пожеланий. Счастья хочется. Есть люди, которые знают, которые чисты, которые хотят молиться Господу. Что-то тихое, тихое начинает объединять людей, и не у одного меня мелькают образы тайнозначительных братских вечерь. Это так ясно, легко и просто, это и без труда само собой реет и носится над осчастливленными детьми белой радости. Очень недостает Вас, дорогой милый Эмилий Карлович, (как бы) брат мой во Христе.
Вот и все, что хочу сказать Вам. Христос с Вами.
Любящий Вас Борис Бугаев.
P. S. Мой привет и уважение Анне Михайловне[1151]. Сейчас иду в «Весы» и передам Ваши слова о Ницше (сейчас только получил Ваше письмо)[1152]. Спасибо за Батюшкова. Получил с благодарностью «Прошение»[1153].
Посылаю стихи.
Вот ужас:
P. S. Были Блоки 2 недели[1157]. Происходило Бог знает что: хорошее, больше хорошее (кое-что было из области ужасов). Язык не передаст всех тех нюансов, которые меня совершенно вывели из колеи, так что вот сейчас я даже как будто болен.
Время приблизилось. Обозначился центр в Москве. Э<милий> К<арлович>, со временем нужно, чтобы Вы жили в Москве. Блок по окончании курса переезжает в Москву[1158].
В феврале грядут Мережковские в Москву с Философовым и надолго[1159]. Чувствую, что с. – петербургские мистики едут сюда не без задних мыслей. Держу ухо востро. Любовь к Мер<ежковским> остается любовью, но и осторожность остается осторожностью. Пишите, пишите о себе, Эм<илий> Карлович.
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 31. Пять помет красным карандашом: «XXХII». Фрагмент опубликован: ЛН. Т. 92. Кн. 3. С. 210–211.Над текстом – приписка Метнера: «Это письмо написано накануне разрыва (неожиданного) диплом<атических> снош<ений> с Японией. Получено мною, когда разрыв произошел». Япония порвала дипломатические отношения с Россией 24 января.
68. Белый – Метнеру
Серг<ей> А<лександрович> Поляков у меня просил Вас спросить, на имя какого председателя Ценз<урного> Комитета ему подавать прошение: московского или петерб<ургского>? А это знать ему важно: если на имя московского, то дело идет дальше в С. – Петербург (или я путаю?). Посылаю Вам еще письмо[1160]. Да хранит Вас Христос.
Уважающий и любящий Вас
Борис Бугаев.
С. А. Поляков просит меня выразить Вам благодарность за беспокойство; он бесконечно извиняется в доставленных Вам хлопотах.
Шмидт прислала мне возражение на «Теургию». Верно и хорошо, но – Бог мой – как длинно: посему они и не могут идти в «Весах». (В. Я. забраковал)[1161].
Присылайте, присылайте статей. Читал Вашу статью о воспитании[1162]. (Теперь «Пр<иднепровский> Кр<ай>» получается Редакцией).
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 32. Л. 3 об. – 3. Помета красным карандашом: «XХXIII» (ошибочно относящая текст к п. 70).Ответ на п. 66.
69. Метнер – Белому
Н. Новгород. 26 января 1904 г.
Милый, дорогой Борис Николаевич! Ваши письма (большое и маленькое) получил[1163]. Отвечаю на деловое. Председатель Ценз<урного> Ком<итета> имеет полномочие разрешить издание, не обращаясь в Гл<авное> Упр<авление> по д<елам> п<ечати>. Прошение, следовательно, надо подать Назаревскому[1164], т<ак> к<ак> я лично просил его и ни один другой председатель, а тем более петербургский, ничего об этом не зная, не разрешит выписать. Прошение – на бланке – все должно быть написано (не на ремингтоне) собственноручно просителем. С ужасом прочел, что Весы получают Придн<епровский> Край!! К чему это????.. В особенности теперь, когда я не только серьезных (в Весы), но и фельетонных (в Придн<епровский> Край) статей писать не способен, занятый мыслью о войне. Спасибо, спасибо Вам за светлое письмо о белой радости[1165]. Оно пришло сегодня, а весть о войне вчера вечером[1166]. Оно утешило меня, погруженного в невеселую думу, не спавшего всю ночь из-за этой думы, думы об ужасе, безобразном своею слишком откровенною феноменальностью. Вы знаете, чтó такое шрапнель? Нет! И никогда не узнаете. А я – знаю[1167]. И не дай Бог узнать ее действие не на мишенях, а на «пушечном мясе». Дорогой Борис Николаевич! Чтó говорит Вам сердце Ваше о моем участии (?!) в этом богопротивном и канто-противном деле? Знаете ли Вы, что сегодня я узнал (между нами) о полной возможности моего участия…[1168] Анюта[1169] – спокойна: почему-то убеждена (мистически), что я останусь в стороне. Но, может быть, для этого надо что-нибудь сделать? Есть один только способ… но тогда не исполнится никогда Ваше желание, чтобы я со временем навсегда поселился в Москве. Э-м-и-г-р-и-р-о-в-а-т-ь! Что скажете? Да поскорее, а то будет поздно. Дело в том, что с моим здоровьем я не вынесу дальневосточного похода. Есть у меня и другой план. Еще более чудовищный. Причем необходима некоторая жертва с Вашей стороны или, что уже труднее, со стороны брата Коли. Не удивляйтесь. А лучше разорвите это письмо, никому о нем не говорите и напишите мне скорее пару слов пусть в самом сухом стиле, чтó Вы предчувствуете, чтó Вы советуете, и согласны ли Вы принести маленькую жертву, которая <так!>. Впрочем, сейчас я об этом не стану писать. Спешу отправить письмо, содержащее деловое. Не осуждайте меня. Есть масса причин физических и моральных, вынуждающих меня относиться отрицательно, быть всем своим существом против своего участия в этой войне. Видел Шмидт, сказал ей о статье, она напишет письмо Сергею Михайловичу С<оловьев>у[1170]. Напишите (от себя), следует ли мне записываться на Весы? До свидания. Разорвите письмо. Анюта кланяется. Приезжайте! Привет Вашей матушке.
Ваш Э. Метнер.РГБ. Ф. 167. Карт. 24. Ед. хр. 3. Приложен конверт с надписью рукой Метнера: «Мои письма Борису Николаевичу Бугаеву и Сергею Алексеевичу <так!> Петровскому, изъятые из архива Бугаева, заключающие в себе мое отношение к войне 1904–1905 г.».Ответ на п. 68.
70. Белый – Метнеру
прочел Ваше письмо. Вы пишете: «что скажете? Да поскорее, а то будет поздно». Знаете ли Вы, что я скажу по личному своему разумению? Это личное разумение я отнюдь не считаю чем-то безапелляционным: Вам изнутри гораздо ближе и лучше судить о себе самих, чем мне извне. Эту оговорку я считаю необходимой… Итак вот что я скажу: я бы на Вашем месте – думается мне – спокойно ждал событий, никаких планов самочинных не строя. Я бы так поступал не от мистической уверенности в том, что останусь в стороне от событий, а от полной покорности событиям. Не нам рассуждать о силах наших. Поручим себя Господу (ведь мы все слишком слабы, а между тем каких сил мы носители?). Вы пишете о шрапнели – шрапнель шрапнелью (я знаю, что такое шрапнель), а грустно-задумчивая радость сама по себе……
Разве мы, если мы верим, что являемся проводниками духа, – разве мы не должны быть дерзновенны и даже жестоки? Быть может, и это письмо мое жестоко по отношению Вас, но ведь эта жестокость из любви к Вам. Мне кажется, что если бы я Вам посоветовал эмигрировать, я совершил бы посягательство на Вас – так бы я думал.
Таково мое мнение.
Но повторяю, Вам самому в себе виднее. И если мысль об эмиграции мелькнула у Вас, как допустимая, то зачем Вы меня спрашиваете, «что Вы советуете… Не осуждайте меня…». Никоим образом я не стану осуждать Вас, раз Вы сами себя осуждаете.
Война – дело стихийное, и пред ней не должно иметь место наше личное отношение к ней. Знаете ли, что в Японии русский епископ, стоящий во главе японской епархии, благословил японцев на войну с Россией[1171]. Я понимаю это и уважаю его.
Дорогой Эмилий Карлович, буду скоро писать – пишите. Остаюсь готовый к услугам любящий и уважающий Вас
Борис Бугаев.
P. S. Христос с Вами. Мой привет и уважение Анне Михайловне[1172]. Думаю быть у Вас в феврале.
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 32. Л. 1 – 2 об. Помета красным карандашом: «XXXIII».Ответ на п. 69.
71. Метнер – Белому
Н. Новгород. 1 февраля 1904.
Спасибо Вам, дорогой Борис Николаевич, за Ваше письмо, полученное мною сегодня. А вчера я отправил письмо Алексею Сергеевичу, в котором я между прочим пишу и о войне уже спокойнее и обстоятельнее; спрашиваю и его сердечного совета[1173]. Прочтите это письмо, т<ак> к<ак> мне не хочется вторично повторять одно и то же. Кстати, в этом письме идет речь о Гоголе, и о взгляде на последнего, мнении о последнем Антония, Петровского, Мережковского, Назария[1174]. Что Вы скажете?? Спросите у Петровского, в чем контроверза… Что касается философского обоснования Вашего совета, то у нас тут с Вами принципиальная контроверза. Повторяю, «философского» апостериорного[1175], т<ак> к<ак> с априорной стороны я очень ценю Ваш совет и пока, сейчас, почти что готов ему, не рассуждая, последовать. Но все-таки в двух словах скажу, что не согласен войну (которая просто – драка оптом, en-gros[1176]) считать таким «стихийным» явлением, которому надо отдаться. Вообще я жду, сложа руки, я квиэтичен только в «нуменальном», почему «начнем же делать» Мережковского принадлежит к наипротивнейшему из всего, чтó я знаю. В области же «феноменальной» как бы стихийно явление, стоящее передо мною, не было, я считаю человеческою обязанностью действовать во-первых, и во-вторых, притом действовать по своему крайнему разумению, хотя и принимая во внимание безотчетное чувство свое, равно как и предчувствия и голоса сердца ближайших людей, в особенности столь тонких, столь толерантных и столь любящих, как Вы… Осудил ли бы я себя, покинув свое «отечество»? Отчасти ответом на это служит мое письмо Петровскому, которое Вы непременно прочтите. Итак, отчасти – нет; как civis[1177] – нет; но пожалуй, нет, даже наверное, осудил бы свой эгоизм, свою немощь, дряблость, бесцеремонное обращение с фамилией, которую ведь ношу не я один. «Есть упоение в бою»[1178], и я солгал бы, что «драка en-gros» – органически мне ненавистна… Однако пора кончать. Хочу непременно, чтобы завтра же Вы прочли это письмо. Еще раз спасибо, милый, дорогой Бор<ис> Ник<олаевич>, за письмо. Передайте мой привет и уважение Вашей матушке. Анюта[1179] кланяется. Приезжайте.
Ваш Э. Метнер.РГБ. Ф. 167. Карт. 24. Ед. хр. 3.Ответ на п. 70.
72. Метнер – Белому
Н. Новгород. 2 февраля 1904 года.
Писал Вам вчера (получили?), пишу и сегодня. Перечитал Ваши письма (два последних)[1180]. Какая странная вещь, что как раз накануне того дня, как Вы узнали о войне, Вы написали мне о возвратившейся радости. «Я уже изнемогал. И вот стало редеть (?)… Это кончалась (?) пелена туч и т. д.»?! «Не я один заметил, что все хорошо…»[1181]; странно, что среди этих заметивших моя Анюта[1182], которая в необычайно радостном настроении; его не в силах согнать никакие мои «феноменальные» опасения: она твердо убеждена, что идет, что приближается нечто радостное и что я приму в этом участие, а не в дальневосточном ужасе. В том же письме Вы предлагаете моему вниманию свое прекрасное стихотворение со словами «Вот ужас»:
Я знаю, конечно, что ужас заключается не в том, что этот военный с деревяшкой, а в том, скорее, что при этой деревяшке «состоит» военный. Но я до такой степени выскочил на периферию, что вижу двоякий ужас в этой вещице. Очень хороши и два других стихотворения… Читаю вторично Ваше последнее письмо. Резюмирую еще раз кое-что. 1) Самочинность не признаю только в деле, превышающем человеческое разумение. 2) Я сам понимаю, что шрапнель сама по себе, а грустнозадумчивая радость сама по себе. Но почему я, грустно задумавшись, должен испортить свою радость тем, что пропустил удобный момент отойти в сторону от вступивших в драку пьяных мужиков? Кстати: на войне обязательно пьют, иначе надо обладать сверхчеловеческим мужеством, а я пить не могу. 3) Моя любовь к Наполеону – эстетическая и даже для Наполеона (а не то, что для Алексеева[1183] или России) я не пожелал бы служить материалом, глиной для статуи, клавишами, пушечным мясом… 4) Русский епископ, благословивший православных японцев на бой со своими согражданами, поступил, по-моему, дурно, но не потому, что благословил чужих против своих, а потому, что одних против других. Это не православие, а огосударствленное христианство, христианствующее язычество. Роль духовенства (истинно христианского) во время войны: молиться о мире (а не о победе своих), напутствовать умирающих, и совершать заупокойные богослужения по убиенным (как своим, так и противной стороны); даже после победы, необходимо облекаться в траур и совершать панихиды, а не благодарственные молебствия. Вот мое глубочайшее неискоренимое убеждение, с которого меня не столкнут ничьи разуверения, ничьи примеры (напр<имер>, Сергий Радонежс<кий>, благослови<вший> Дмитр<ия> Донского)[1184].
Приезжайте. Очень важно нaм свидеться. На днях приедет Коля. Помните, когда соберетесь к нам, то зайдите сначала к моей маме «сказаться» и узнать, не гостит ли случайно кто-н<ибудь> у нас.
Вечером. Сейчас читал статью из официального «Инвалида», рекомендующую беспощадное истребление зазнавшегося врага и перенесение военных действий на японскую территорию[1185]. Ну разве не возмутительно? Разве надо истреблять, а не выводить из строя. И что значит беспощадное? Не брать в плен, что ли? Что за гадость. И рядом с этим вдруг православие. Нет, я с этим не согласен… Kein Pardon Германского Императора по крайней мере не прикрывался христианством[1186].
5 февраля. А вот приехал и Коля![1187] Авось музыка несколько поправит состояние моего духа… Хочу сейчас закончить письмо. Помните: если я останусь и буду ждать событий пассивно, если я убегу от них, одним словом, чтó бы я ни сделал, чтó бы я ни принял во внимание (расчет, предчувствие, сновидение или факты – безразлично) – все это будет совершено мною самочинно. Я не признаю самочинного действия только в «нуменальном». «Объявись» этот соблазн, подчинение ему своей души или даже минутное приближение к такому состоянию, по-моему, куда убийственнее и ужаснее, нежели «не явись» по призыву чуждых тебе людей для того, чтобы, покинув близких своих, идти убивать совсем ни в чем не провинившихся (и в сущности бедных и правых в своем стремлении) людей… Поверьте, я настолько ариец, что все неарийское мне противно; не модное у либералов японофильство говорит во мне, а сознание, что мы (точнее, русские) не совсем правы в своем империализме. К чему нам Манджурия, когда у нас… Впрочем, Вы сами знаете, что я хочу здесь сказать. Единственное наше оправдание – это ссылка на опасность панмонголизма, которую (опасность) мы устраняем, ссылка, основание которой покоится на очевидной абсурдности возгоревшейся войны, абсурдности внешней, заставляющей предполагать (быть может, и действительно существующие) внутренние глубоко скрытые причины столкновения рас. Война, по-видимому, (см. сегодняшнюю статью Прав<ительственного> Вест<ника>) затянется[1188]: следовательно, я должен оставить мысль надолго жить личною жизнью, хотя бы я и был уверен, что лично меня буря не коснется… Нет, я не могу, дорогой мой Борис Николаевич, передать Вам все мое отвращение к этой войне.
Ваш Э. Метнер.
1) Когда соберетесь ехать к нам, напишите мне о дне выезда и зайдите к моей маме, чтобы узнать, не гостит ли кто-нибудь у нас.
2) Отчего не выходит Мир Искусства январь? Вышел ли I № Весов? Напишите, чтобы я знал, следует ли мне записываться на него.
РГБ. Ф. 167. Карт. 24. Ед. хр. 3.
73. Метнер – Белому
Н. Новгород 11 марта 1904 г.
Вопрос о войне я оставляю в стороне пока! Скажу только, что мне необходимо было (такова моя натура) выложить перед моими друзьями все, что я имею Con-Ara <?>, для того, чтобы успокоиться, переварить совершающиеся события и мужественно ждать наступающих… – А теперь вот что. Война (опять война!) выбила меня окончательно из… седла. Я составил было план правильной канонады, но растерялся и ограничился временно отдельными шрапнелями. Сделайте вот что и, притом, как можно скорее… Заключающиеся в присланной мною Вам рукописи три гранаты направлены против музыкальных заметок I номера Мира Искусства[1189]. Покажите их Весам и попросите немедленно решить, удобны ли они или нет. Если удобны все три, то можно озаглавить Музыкальная критика Мира Искусств, если только одна (большая), то Музыкальная гегемония, если две других (маленьких: об Олениной и Корещенке), то их можно поместить без заглавия. Во всяком случае прошу о следующем: 1) Не стесняйтесь со мной; я не обижусь, если не напечатают.
2) Обязательно возвратить мне часть или все, присланное мною, если не годится; я помещу в Придн<епровском> Крае.
3) Не обижусь и на купюры и поправки.
4) Подписывать статьи «Вольфганг» или «Wolfgang» – möglich[1190]; необходимо держать в строжайшем секрете мое участие; пусть об этом знают только Поляков и, пожалуй, Брюсов: это необходимо.
Вот что я прошу Вас, дорогой Борис Николаевич, передать редакции. Прошу на этот раз поскорее решить вопрос о помещении статей, потому, что спешу отправить фельетон в Придн<епровский> Край; в этот фельетон (первоначально предполагались) должны были войти и присланные Вам заметки. Прошу Вас немедленно возвратить мне под заказной бандеролью, если что не будет принято. До сих пор я еще не получил Весов; поторопите их. – Когда же Вы соберетесь к нам в Нижний? Пишите! Пока до свиданья! Жду писем, а лучше всего Вас лично… Еще раз прошу передать Весам, чтобы со мной не церемонились. Не годится одно, пришлю другое. Всего хорошего. Любящий Вас Э. Метнер.
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 35.
74. Метнер – Белому
Н. Новгород 14 марта 1904.
Сожалею, что, не просмотрев статей Весов и не познакомившись с общим характером нового журнала, отправил Вам свои нескладные и широковещательные заметки[1191].
Я имею главным образом в виду заметку о Музыкальной гегемонии. Хотя я все еще не получил Весов, но случайно имел возможность подержать в руках эту изящную книжку с такими сдержанными и сжатыми статьями, вроде Вашей о Спенсере и Ключей тайн Брюсова[1192]. Я убедился, что совсем иначе и кратче нужно было изложить возражение г. А. Смирнову[1193]. Я сейчас попытаюсь это сделать и тогда вышлю Вам другую рукопись, а первую прошу Вас возвратить. Ее я, в случае непомещения Весами и второй, отправлю в Приднепровский Край[1194].
Если я запоздал с этим письмом, то попросите вычеркнуть в статье о Музыкальной гегемонии: «коего весьма и весьма не чужд был и Сезар Франк». Дело в том, что вагнеризм Сезара Франка вовсе уж не так очевиден, чтобы стоило его упрекать в нем. Это скорее не вагнеризм, а разбавленный французскою causerie[1195] Листизм… Впрочем: это я уж так: для очистки совести; можно и оставить «упрек» в вагнеризме. Итак: 1) я сейчас напишу иначе; 2) если Вы рукопись отнесли, то пока ничего не предпринимайте; 3) если не отнесли, то подождите до вторника[1196]; 4) поторопите контору Весов высылкой мне журнала; 5) напишите, как и что и когда приедете[1197].
P. S. До свиданья. Ваш Э. Метнер.РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 36.
75. Метнер – Белому
Христос Воскресе[1198], дорогой мой Борис Николаевич! Передайте мой привет и поздравления с праздником Вашей матушке. Приезд Коли[1199] помешал мне раньше написать Вам. Как-то сразу окунулся в родную стихию музыки. Коля нашел, что, несмотря на ничегонеделание, я сделал успех. Но сериозный успех возможен только при том условии, если бы мы жили вместе. А то возможно и т. д. и т. д… Препровождаю Вам при сем письмо на Ваше имя, которое я чуть-чуть не вскрыл[1200]. Не правда ли, к светлому празднику просветлело? Даже маленький рецидив зимы (на днях у нас имевший место) ничего не мог сделать с решительной тенденцией к просветлению… Ваше пребывание у нас оставило по себе глубокую борозду на поле, которое мне одному было не под силу вспахивать. Спасибо Вам…[1201] Спрашивал Колю о Челищеве[1202]. «Симпатичный, милый, способный человек, между прочим и к музыке, большие, но чисто внешние музыкальные данные, недисциплинированный и неглубокий вкус; в общем приятный, но неисправимый дилетант». Сообщаю это Вам по секрету к сведению. Жду от Вас письма. Будьте здоровы. Помните мои советы. Горячо любящий Вас Эмилий Метнер.
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 37.
76. Белый – Метнеру
Дорогой Эмилий Карлович, Христос Воскресе![1203] Поздравляю Вас и Анну Михайловну[1204]. Желаю всего хорошего. Будьте так добры, перешлите мне письмо, посланное на мое имя, запечатав его в отдельный конверт. Буду очень благодарен. Посылаю марки для сего. На днях пишу Вам. Ваш уважающий и любящий
Борис Бугаев.РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 33. Написано на визитной карточке.
77. Метнер – Белому
Н. Новгород 28 апр. 1904 г.
Спешу уведомить Вас, дорогой Борис Николаевич, что, к сожалению, приезжать Вам теперь в Нижний читать лекцию не стоит[1205]. Даже нижегородский кумир Фриче (полярная противоположность Нитче), читавший вдобавок об Японии, не собрал публики[1206]. Придется отложить до осени. Но летом я Вас буду поджидать. Если Сергей Михайлович[1207] затеет тоже ехать, милости просим. Необходимо Вам будет только условиться с Колей[1208], который собирается ко мне летом дважды: первый раз в мае; второй раз в июле; оба раза надолго. Жду я также и Петровского. Я был бы счастлив видеть всех зараз, но это невозможно. Коля во всяком случае должен гостить один, иначе он будет стесняться работать. Кстати: Коля писал мне об очень интересном вечере у Вас…[1209] Как Вы справились с надоедливым нижегородским антихристом в юпке[1210]? Она спрашивала у меня адрес Хлудова! Сидела у меня до вторых петухов! До свидания! Пишите. Ваш друг.
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 38.
78. Белый – Метнеру
прежде всего простите меня за долгое молчание. Едва я приехал от Вас, как попал в Москве в круговорот самых разнообразных вибраций, в которых вертелся, как пробка, брошенная в воронку Мальстрема[1211]. Какие-то разнородные силы очевидно избрали себе таранами тот круг людей, где мне приходится вращаться. Отдельные люди сшибались друг с другом яро, неустанно, телепатически, психически, умственно и реально (фактически) и совершенно по неизвестным причинам. Когда я был у Вас в Нижнем, дорогой Эмилий Карлович, ах, как я отдохнул! Точно я попал в уютный зимний сад, ароматный и занавешенный от зимних вьюг, ревущих за стенами. Едва я ушел из сада, как был охвачен страшным порывом бури, которому противился, изогнувшись всем корпусом, а впоследствии, и сам увлеченный бурей, стал как бы камнем, летящим по ветру. Был один момент, когда я чувствовал себя совершенно погибшим. Я боялся, не задавил ли я – камень – насмерть кого-нибудь? Тогда меня обуяла страшная и странная веселость; тогда же пришлись концерты Никиша[1212]. Слушая 5-ую и 6-ую симфонию, где фигурирует рок и смерть, я в самом деле полагал, что фактически я убийца. И вдруг, когда мне казалось, что черта перейдена, все как-то сразу улыбнулось – мягко, дружески, любовно. И нежное Христово дуновение точно осыпало меня белым, чуть-чуть розовым, цветом. Не знаю, что будет дальше, но пока я, успокоенный и разбитый, ни о чем не думаю. И вот что выяснилось за это время. Почти у всех членов нашего кружка с аргонавтическим налетом были ужасы – сначала мистические, потом психические и наконец реальные. Точно над лесом деревья, немного выше стоящие остальных; вот теперь стоят деревья, поломанные, ожидая новых порывов бури. Потом уже я узнал, что 1) Блок тоже погибал внутренне за эти дни (началом ужаса у него были стихотворения о карлике с девушкой и тому подобные)[1213]. 2) Что были в Москве магнитные бури (это факт). 3) Что около Москвы в марте был барометрический минимум всей Европы. Таким образом, психические колебания, мистические, барометрические и магнитные шли рука об руку. В результате ряд воплощений на физическом плане – люди сшибались, обстоятельства развивались и т. д. Причем та среда, которая меня в настоящее время окружает, вся насыщена телепатизмом, медиумизмом и т. д., так что при существовании почти что кружка (никем не установленного) получались наиболее крупные мистические отметки событий. При этом выяснилась роль Брюсова, направленная внутренне против аргонавтизма и в частности против меня, как лица, стоящего в самом центре нежелательных для Брюсова вибраций. Мы обменялись друг с другом несколькими сеансами мистических фехтований, при этом я продолжаю любить Брюсова как Валерия Яковлевича, а он меня, как Б. Н., но проявляемое Брюсовым, как медиумом, диаметрально противоположно проявляемому мной[1214]. Теперь, когда острая горячка моровых<?> ужасов прошла, cтали<?>, как сыпь, выступать разведенные Брюсовым вибрации в виде стихотворения «Erlkönig», написанного Брюсовым[1215]. Он, как филолог, нашел, что в народных поверьях лесной царь – это рысь; диалог между ребенком и рысью происходит на городском сквере в Москве при луне. Должно быть, это Цветной бульвар и место действия против цирка Саламонского (тут живет Брюсов[1216] – эта московская рысь, завезенная кем-то в недобрый день в Москву). Теперь я понимаю четверостишие Брюсова:
Это провиденциально. Далее: я понял кое-что из рысиных настроений, обращенных мне. И теперь знаю наверно: Брюсов черномаг и отдушник, из которого, как из печки, в дни ужасов кто-то выбрасывает столбы серных паров. Но извне он только почтенный, вежливый, корректный человек и как таковой заслуживает всяческого внимания. Следует от него загораживаться только в глубинах духа.
Для меня ясно: выяснились две мистических станции. Мы, как служащие на станции, разумеется больше и терпим. Что ж – будь что будет!
Дорогой Эмилий Карлович: тот лейт-мотив, который Вы с Анной Михайловной усмотрели в моем чтении[1218], и который появился у меня только месяца два, и есть лейт-мотив мистических ужасов, которыми бывает насыщена атмосфера, когда враждебные заряды вибраций разрываются здесь и там. (Кстати: в это же время погиб и Макаров. Гибель «Петропавловска», кроме нас с Ал<ексеем> Сергеевичем, еще отметило несколько новых и между ними Блок)[1219].
Здесь в Москве особенно вспоминаю часы, проведенные с Вами и с Анной Михайловной, а также и те незабываемые моменты, которые случались, от времени до времени. Ах, как хотелось бы устроить нечто вроде скита на берегу реки над простором среди густых зеленых сосен, где собирались бы и жили только те, кто соединены друг с другом неизгладимым, грустно-задумчивым…
Дорогой Эмилий Карлович, лекция моя запрещена, так что читать ее мне не придется. В Нижний я не заеду. Христос с Вами. Желаю Вам счастья, покоя – и… счастья, счастья. Вспоминайте иногда обо мне, и помолитесь. Я буду о Вас молиться.
Остаюсь глубокоуважающий и любящий Вас
Борис Бугаев.
P. S. Мой привет, уважение и расположение Анне Михайловне. Напомните Ей от Моего имени, что я помню «лесную тишину», висящую у Вас над роялью, и желание уйти вдоль реки, чтобы наконец увидеть всем нам забытое жилище над рекою, никогда не покидает меня.
Посылаю Вам стихотворение, написанное в один из дней ужасов.
Видел на днях Николая Карловича[1221]. К сожалению, не поговорил с ним в той мере, в какой мне это хотелось, потому что в этот день у меня было много народу и я совсем не принадлежал себе. Познакомился с Буюкли. Он у меня часто бывает. Он – чудак, но очень милый человек. Познакомился с Вячеславом Ивановым[1222]. Очень интересный человек, но не вполне симпатичный. Была Шмидтиха, приставала, но я был с ней мундирно-вежлив и только[1223].
Говорил о Вашей заметке в «Весах»[1224]. Они главным образом имели что-то против тона заметки – что, так я и не понял, ибо, по-моему, Ваша заметка очень хороша. Просят Вас прислать еще что-нибудь.
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 35. Помета красным карандашом: «XXXIV». Фрагмент опубликован: ЛН. Т. 92. Кн. 3. С. 213.
79. Белый – Метнеру
Дорогой Эмилий Карлович. Сегодня уезжаю в деревню[1225]. Пишите мне, если вздумаете (ужасно хочу слышать от Вас весточку) по деревенскому адресу: Тульская губ. Город Ефремов. Сельцо Серебряный-Колодезь. Буду писать из деревни. Христос с Вами. Любящий Вас
Борис Бугаев.
P. S. Мой привет и уважение Анне Михайловне[1226].
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 34. Открытка. Датируется по почтовому штемпелю: Москва. 5. 5. 04. Почтовый штемпель получения: Н. – Новгород. 6. V. 1904. Адрес Метнера: «Угол Телячьей улицы и Вознесенского переулка, дом Абрамовой».
80. Белый – Метнеру
Тульская губерния, г. Ефремов,сельцо Серебряный-Колодезь.
пишу Вам из деревни. Недавно переехал сюда. Захлебнулся тишиной. Не могу прийти в себя от спокойствия. Воспользовался свободой, чтобы Вам написать. Вы не можете себе представить, в каком водовороте людей мне приходится теперь быть в Москве. И всё не просто люди, а люди, в том или другом отношении связанные со мной. Довольно близко сошелся я с Вячеславом Ивановым. Он показался мне очень и очень умным, образованным человеком. Он – действительно знаток всего, что касается дионисизма, и от него зачастую мне приходилось слышать чисто фактические и исторические основания тому, что я в себе считал безумством или мечтой. Но только он человек ужасно холодный и зоркий (может быть, слишком зоркий – «пронырливый»). Но это вытекает из его чисто художественной натуры, которая буквально исчерпывает людей, или вернее «вычерпывает» все, что ему нужно для себя, чтоб потом оставить ненужные остатки. Я все-таки в этом его значительно оправдываю, называя это «орлиностью» в реальном, а не метафорическом смысле. Действительно: что такое орел? Посмотрите, с какой пронырливостью смотрит на вас из-за решетки клетки в зоологическом саду царь птиц? Как неприятно кричит он… Наконец, от его клетки… дурно пахнет. И все-таки он, а не кто-либо иной возносится за облака над снежной вершиной.
Вячеслав Иванов похож на гадкого, не совсем опрятного «орлеца», со своим протяжным, гнусаво-певучим голосом. И все-таки это незаурядный, сильный, большой человек, у которого «видимость» неопрятности (пронырливость, излишняя вкрадчивость) появилась лишь потому, что он – большой художник. В ближайших номерах «Весов» обратите внимание на его великолепную статью о Ницше[1227]. Это – перл.
Дорогой Эмилий Карлович, на днях буду Вам подробно и много писать, а это – только приглашение к переписке. Ужасно сетую, что не мог быть в Нижнем весной. Теперь, вероятно, увидимся осенью, когда Вы и Анна Михайловна[1228] будете в Москве. Я ужасно часто думаю о Вас и особенно здесь, в деревне, где тишина. А в тишине многое видно. Можно подслушать тайный шорох, можно увидеть своих добрых знакомых, несмотря на расстояние. Так вот и я иногда, врезаюсь в волны эфира и потом, попав в течение, которое мне нужно безошибочно, как мне кажется, несусь прямо к Вам. Христос с Вами. Остаюсь любящий и уважающий Вас
Борис Бугаев.
P. S. Мой привет и уважение Анне Михайловне.
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 36. Помета красным карандашом: «XXXV».
81. Метнер – Белому
Н. Новгород (увы! Все еще Н. Новгород!). 28 мая (Es kann nichts besseres geben, als den Mai, als den Mai allein[1229]. На этот раз Ницше ошибся: по-видимому, период дождей переселился с театрa войны, чтобы не мешать последней, сюда к нам в оскудевший центр) 1904 года, сто двадцать первый день войны коекаков с макаками: тридцать пятый день осады Порт-Артура и прочая…[1230] Дорогой и милый Борис Николаевич! Как видите, я все еще полон мыслями о войне. Кроме того музыка, хотя я и занимаюсь ею не особенно много, скорее даже мало и с постоянными перерывами, прибавила к программе моего дня еще один номер; затем за промежуток времени между днем Вашего отъезда[1231] и сегодняшним ничего особенного не произошло внутри меня. Вышло так, что я писал Алексею Сергеевичу больше, нежели Вам[1232], писал по поводу разных пунктиков, относительно которых мы с ним разногласим. После Вас на Святой был Коля[1233], который неделю тому назад приехал опять к нам надолго. Вот целый ряд причин, почему я ограничился тем, что послал Вам кажется два деловых или полуделовых письмеца[1234]. Получили ли Вы письмо, адресованное на Ваше имя сюда в Нижний и полученное два дня спустя после Вашего отъезда отсюда?[1235] Ваши письма (карточку, открытку, большое письмо со стихотворением и небольшое с характеристикой Вячеслава Иванова) – я получил…[1236] Я до сих пор еще не читал Гриф за 1904 г.[1237]; я не покупаю его, потому что Вы сказали, что у Вас есть лишний экземпляр, который Вы можете мне выслать. Если Вы этот экземпляр взяли с собою в деревню, то пришлите мне его, пожалуйста, но только в том случае, если он у Вас, если он не затерялся; если же он остался в городе, то я подожду до осени. Это не важно. Читал в Весах отличную рецензию Брюсова о Вас и о В. Иванове[1238]. Брюсов завидует Вам, не завидует В. Иванову; Брюсов, теперешний Брюсов Urbi et Orbi, – ближе к лысому дионисианскому сократику, нежели к Вам, но все-таки в сущности в главном он почти справедлив в этой рецензии. Я о ней написал статью, которая еще не помещена[1239]. Конечно, я в ней не сказал того, что говорю здесь, а чтó сказал – повторять не стоит: ведь писано для взрослых детей… Вот для кого написана статья Рачинского о Гуго Вольфе – трудно сказать[1240]. Эта статья – блестящий образчик дилетантизма с примесью странной смеси декадентства и косного ретроградства. Кроме того, Рачинский сделал грубую ошибку, приписав германской песне те недостатки, которыми характеризуется отнюдь не она, а итальянская песня, французский и русский романс (до проникновения в него элементов германского Lied’а[1241]). То к чему стремился Гуго Вольф… Впрочем, не стоит: на всякое чихание не наздраствуешься <так!>. Заканчиваю я, по обычаю всех русских немцев от Хемницера до Даля, пословицей. Вы пишете, что Весы главным образом имели нечто против тона моей статьи[1242]. Не думаю! Это так из-за политики сказано! Политика же и заставляет их просить и дальше моих статей. Дело же в том, что Весы чуют (они чутки), до какой степени я далек от Пшибышевского; они же ведут главным образом линию последнего. У меня с Весами гораздо больше разномыслия, нежели согласия. То, в чем мы согласны, – это некоторые общие эстетические и философские положения. Темою для моих статей они служить не могут. Я не думаю, чтобы мне удалось что-нибудь написать для Весов. Посылаю Вам свою фотографическую карточку. Это тот единственный снимок, который Вы одобрили… К сожалению, мой брат (Карл Карлович) напечатал его на этот раз не на матовой бумаге и слишком темно. Кроме того, срезал конец руки с тростью; получилась глупая поза… Я завидую Вашей деревенской тишине. Давно я уже не захлебывался ею… Вы великолепно охарактеризовали Вячеслава Иванова[1243] и сильно заинтересовали меня им. По-видимому, он – не моего поля ягода (опять пословица! Когда я отучусь от этой привычки русских немцев). Да и не Вашего. Это не аргонавт, хотя в журнале «Арго» мог бы участвовать[1244], благодаря пронырливости. Он занимает меня не как художник, а как специалист по дионисианству. И не только занимает меня то, чтó он вынес из своих студий, но и то, чтó его толкнуло к ним. Каких писателей (не эллинских) он считает ближе всех к дионисизму? Простите, дорогой Борис Николаевич, за пустоту этого письма. Я еле-еле собрался Вам откликнуться на Ваше приглашение к летней переписке. Этим и ограничусь пока… Два слова о Золоте в Лазури[1245]. Сколько там грехов против… или нет, лучше так скажу: погружаясь в Вашу книгу, я местами испытываю двойственное ощущение наслаждения и досады. Дело в том, что не все можно покрывать красками и позолотой. Берегитесь врубелевской линии. Брюсов неправ, преувеличивая и число (9/10) и глубину Ваших падений, но они несомненно существуют. В особенности надо оберегать интимное (Христово чувство и т. п.) как от красочного и экстатического налета, так и от загадочности; надо намекать легко[1246]. Даже в Старинном Друге[1247], которого я страшно люблю, не все обстоит благополучно. Безусловно хорош отдел Прежде и Теперь[1248]. Вашу вторую симфонию (драматическую) я ставлю выше всего Вами написанного по цельности и гармоничности. До свиданья. Пишите. Мой привет Вашей матушке. Анюта[1249] кланяется. Горячо любящий Вас Э. Метнер.
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 39.
82. Белый – Метнеру
Сер<ебряный> Кол<одезь>. Июня 14 1904 года.
Горячее спасибо Вам за любимую мою карточку. Буду хранить ее. Простите, что так долго не писал Вам, но у меня теперь большая работа[1250], которая в соединении с большой перепиской заставляет меня писать какие-то случайные, произвольные, часто пустые письма.
Благодарю Вас за ценные замечания о моих стихах. Я их очень принял к сведению и во многом согласен с Вами и даже обвиняю себя гораздо больше Вас. Но против одного «о Христовом» я молчу, и если есть место, где как будто я мешаю это «священное» с пестротой, то это только кажется, ибо там нет о «Христовом чувстве». Право, это так. Очень, очень жаль, что Вы не хотите участвовать в «Весах»; впрочем, понимаю Ваши мотивы: «Весы» прежде всего тенденциозный орган с фанфарами, плакатами, зазываниями в сторону «нового исусства». При грубости нашей публики и при нечистоплотности бульварной газетной критики, наиболее влияющей на массу публики, эти приемы имеют свое относительное оправдание. Грубые эффекты литературных приемов, стилизация отношений к искусству, конечно, не может иметь место в сериозном критическом исследовании об искусстве; но в «Весах» молодая русская литература прокладывает себе путь к официальному признанию. Для этого «Весам» нужно идти нога в ногу с заграничными декадентскими органами – важно завязать в один общеевропейский узел разнородные фракции декадентства, что обязывает «Весы» поддерживать линию Пшибышевского, Д’Энди и др. Я понимаю: «Весы» банальны декадентской банальностью, но для того чтобы стать выше этой банальности, публика должна переболеть ею. И вот рассадники декадентской банальности суть полезные этапы на пути развития.
Дорогой Эмилий Карлович, простите за краткость письма. Но уверяю Вас – ужасно занят. Остаюсь любящий Вас и горячо уважающий
Борис Бугаев.
P. S. Мой привет и уважение Анне Михайловне[1251].
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 37. Помета красным карандашом: «XXXVI».Ответ на п. 81.
83. Метнер – Белому
Июня 20 1904 г. г. Н. – Новгород.
Дорогой милый Борис Николаевич! Ваше письмо от 14 июня получил. 1) Я, должно быть, неосторожно выразился. Я не против принципа красочности в Старинном Друге (да и вообще)[1252], а против некоего неуклюжего (извините другу резкое выражение) выражения этого принципа. Вы вольны смотреть на мир и на вне– или пре-мирное своими очами и можете всякого остановить очами Ницше: (см. XII том, стр. 217–218 (460))[1253]. Вы жалуетесь на то, что я употребляю кричащие краски?.. Может быть, у меня натура, которая кричит, как олень, жаждущий свежей воды. Если бы вы сами были этою свежею водою, то как приятно прозвучал бы для Вас мой голос! Но вы раздосадованы на то, что не можете помочь мне в моей жажде… 2) Статья Вяч. Иванова о Ницше – очень хороша[1254], но мне начинает надоедать его вычурная манера выражаться; это уже не искусство, а искусственность; ради Бога, не заражайтесь этим венцеславизмом; учитесь у Пушкина и… только… у Пушкина; я разумею изучение языка… Очень, очень нравится мне статья Карла Иоэля Ницше и романтизм; прочтите (Новый Путь, июнь) ее[1255]. 3) Я не то что не хочу, а не могу участвовать в Весах: я чувствую, что никогда не впаду в тон Весов, а для того, чтобы притворяться, приспособляться, я слишком бездарен литературно. Это, что касается тона, который им так не понравился в моей статье. Но кроме того я и принципиально расхожусь с Весами. Для меня выше всего искусство и старое и новое, а для Весов – новизна и специфическая новизна на первом плане. Далее, я не люблю французов и поляков, не люблю всю эту судорожную манерную рафинированно-пошловатую и надутую линию Пшибышевского, новейшей музыки; я ненавижу эту черту и в самом Ницше, который очень часто (все чаще) разочаровывает меня своими дрыганиями и беспокойными скачками, своей мазуркою и полькой мысли. Во всяком случае Вы ничего не говорите Весам о моем принципиальном нежелании участвовать. Может быть, я и напишу что-нибудь. 4) Где Алексей Сергеевич? Он написал мне, прося уведомить его, когда удобнее ему приехать в Нижний[1256]. Но я не знаю куда отвечать ему. Он пишет, что едет к Вам. Если он у Вас, скажите ему, что удобнее всего от нынешнего дня до середины июля. Впрочем, я еще напишу ему, лишь только узнаю его адрес. Если ему это время неудобно, то я уговорюсь с Колей и с Сашей Братенши[1257], которые собираются ко мне первый во вторую половину июля, второй (вторично) в августе.
5) Помолитесь за меня, дорогой Борис Николаевич! В Нижегородской губернии (как я конфиденциально и достоверно узнал) делаются приготовления к мобилизации всего нижегородского запаса. Если мобилизация действительно состоится, то я только чудом могу спастись от войны. Я – спокоен. Но внутри протестует против войны вообще, этой войны и т. д. 6) Коля написал несколько изумительных песен на слова Гёте[1258], на те, которые я ему указал, интерпретировал, на те, которые я читал Вам. Он все более влюбляется в Гёте. Скоро сравняется в этом со мною. 7) Если лишний экземпляр Альманах<а> Гриф за 1904 год у Вас в деревне, то вручите его Алексею Сергеевичу; он привезет мне.
8) Будет ли напечатана Ваша лекция в Мире Искусств?[1259]
9) Я нисколько не обижаюсь, что Вы мне не пишете. Я очень рад, что у Вас «большая работа».
21 июня. Новый Путь стал скучен. Прочел Саломею Уальда[1260] <так!>. Совсем не понравилось. Прочел Историю одной любви Гамсуна[1261]. В восторге. Вот, пожалуй, наиболее симпатичный из северных. Заключаю письмо. Работайте. Передайте мой искренний привет Вашей матушке. Анюта[1262] кланяется Вам и благодарит за память. Горячо любящий Вас
Э. Метнер.РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 40.Ответ на п. 82.
84. Белый – Метнеру
нет Солнца. Тянется жемчужная нить времени. Только утра блистают, как розовый бриллиант. Падают дни – матовые жемчужины. Но за то дни обвеяны ветром. Ветерок этот пронесся над Москвой, причинив немало затруднений. Немало стоили денег москвичам эти ветряные игры. Я связываю барометрический и психический минимум, пронесшийся над Москвой в марте, с внешне разразившимся циклоном. Чем они связаны метеорологически – не знаю. Может быть, то и другое суть постцеденты чего-то еще более внутреннего. Может быть, прецеденты монгольских ужасов[1263].
Как бы то ни было, для меня выяснилось одно: теперь в мистическом отношении полоса затишья. «Летописи Мира», закрыв бюро, открытое ежегодно в неизвестные нам сроки, отправились пить чай, чем я и воспользовался: теперь читаю Вундта[1264]. Что за превосходный ученый и остроумный, глубокомысленный философ. Глубокомыслие это, конечно, совершенно иного свойства, нежели кантовское, но я и не предъявляю к Вундту специально гносеологических требований. Все достоинство его труда («Система философии»[1265]) заключается в философской обработке научного материала и в беспристрастных распространениях[1266] в области логической физико-химических, психологических, физиологических и математических данных. Это своего рода «метапозитивизм», т. е. продолжение пунктиром тех линий, которые ведет научно-позитивное миропонимание. И что же: выясняются принципы совершенно идеалистические из последовательного проведения позитивистических тенденций. Вундт метафизик, критицист, идеалист на гигантском фундаменте точных наук. Я не разделяю его веры в возможность научным путем разрешить или только приблизить разрешение вечных вопросов, но мне дорога эта честная объективность. При полном отсутствии внутреннего опыта или религии говорить извне о религиях или внутреннем опыте чрезвычайно трудно в желательном для этих дисциплин направлении. Между тем Вундт, опираясь только на чуждые идеализму методы, в корне все же идеалист. Громадной важности его признание о невозможности считать эквивалентными истолкование психических процессов в физиологических терминах и обратно, а также слова о необходимости разделения между внутренним и внешним опытом. Ведь Вундт – величайший авторитет по физиологии, и слова его, направленные к умалению психофизиологического понимания души, ценны, как бриллианты.
Для меня все более и более выясняется необходимость теургического отношения к религии, ибо это есть единственное отношение, при котором религия возможна независимо от критицизма и науки. В сущности теургия это музыкально-понимаемая религия или культ внутренней музыки – ее законы, выражающиеся в формулах (символах). Здесь переживание мое, которое Кантом и его школой превращалось в призрак указанием на призрачность методов, заставляющих меня рассматривать это переживание, как призрак, – где оно восстановляется в своих правах. Оно – единственная реальность, ибо внутренний опыт, говорящий о нем, опирается на волю, а воля по Шопенгауэру и Вундту (тот и другой утверждают волю как мое «Я» с совершенно разных граней) есть единственно не формальное (а следовательно, субстанциональное) начало. Так то все то, что о воле музыкально, существенно, а выражение этого музыкального в пространственно-временном символично. Система символов, стало быть, есть теория существенности. Такая система непроизвольно религиозна. Религия же, понимаемая <ка>к связь воедину, есть «соопьянение», само– и со-гипноз: переживание Петра + Ивана + и т. д. = одному. Так что религия есть всегда миф (а миф – всегда музыкален), но основания мифотворчества реальны и существенны. Религия – это самогипноз. Но понятие о самогипнозе мы почерпаем из науки о душе: эмпирической психологии. Эмпирическая же психология по Джемсу, Гербарту, Вундту должна свои результаты перенести в область метафизики. Она должна иметь рациональные основания. Но невозможность рациональной психологии доказана Кантом. И поэтому наука о переживаниях должна только констатировать переживания, ни к чему их не сводя; идеально же констатировать переживание я могу, явив его, как оно есть, т. е. заражая им. Отсюда символ, система символов, которые, выражая ступени объективации переживаний, ведут к тому, что образ «мира сего» преходит[1267]. «Мир сей» минус пыль = Миру Божьему. Мирское становится мировым. Сограждане – мирогражданами. Миролюбие становится мiролюбием. Мiролюбие же необходимо связано с мiроустроением, мiротворчеством. Мiролюбие и мiрогражданство есть основание христианства. Христианство же есть по существу Богосыновство («Царствие Божие внутри вас»[1268]). Нет чувства богосыновства, значит мое «Я», которое есть «стекло + пыль», до того наполнено пылью, что пыль есть мое «Я». Тогда исторический конец есть гибель и вечное осуждение (ибо что такое пыль?). Если же во мне больше «стекла», соделанием, сотворением Мира, я протираю стекло и постепенно чувство конца выражается ростом безвременности, ростом сладости (2-ая тема Ник<олая> Карлов<ича>[1269]): «мир сей» минус пыль = мир иной. И смерти нет, ибо ощущение смерти есть ощущение мною стирания с меня (стекла) меня же (пыли). При постепенном протирании пыль понемногу всегда стирается (а я всю жизнь умираю, воскресая) – и я бессмертен: идеал: не заметить физически (ощущением) исторической кончины, перейдя незаметно черту и неразрывно продолжая в «здесь» «там» и «там» «здесь».
«И видел я как бы стеклянное море („мир сей“, претворенный в Мир Божий), смешанное с огнем (с Богом, ибо „Он есть огнь поедающий “…[1270] пыль), и победившие (мировые, а не мирские) зверя (серость) и образ его (пыль) и начертание его (Павел Федорович Смердяков[1271], студент химик-позитивист не до конца) и число имени его (бесконечность дурная, потенциальная, а не актуальная, бесконечная делимость материи, бесконечная протяженность времени и пространства, «777» (т. е. трижды (3 есть символ) 7 (священное число)), только испорченное некоторым приближением к нему: 666[1272]) стоят на этом стеклянном море (мире), держа гусли Божии (т. е. будучи музыкальными творцами мира: миротворцами, чудотворцами, теургами)» (Откровение. Гл. 15, ст. 2).
Мир возможен только в Мiре Божием и во имя Мiра, а не обратно (нравственная проблема, вопрос о ницшеанстве христианства): обратно: мир, худой – лучше уж «добрая ссора»: в ссоре хоть движение, хоть возможность устранением одной из борющихся сторон мира в Мiре. А худой мир: безнадежность без исхода (нравственнизирование христианства: христианство для нравственности). Ведь Христос говорил о мире в Мiре, о мире, который был ниспослан после «доброй ссоры». «Блаженны миротворцы, ибо они Сыновьями Божиими нарекутся»[1273], если только они и мiро-творцы, теурги. Нравственные «миротворики» никуда кроме «гуся с капустой» и «сна после обеда» (см. «Три сестры» Чехова)[1274] не приведут.
«Апокалипсичность» есть и «окончательность», а эта последняя – существеннейшая сторона христианства; для того чтобы она получила всяческую (научную, критическую) санкцию на реальность, она необходимо должна осуществляться на теургических основаниях. Сюда клонится все развитие науки, философии; единственно возможное сосуществование науки и философии с религией без взаимного друг другом уничтожения – есть такое сосуществование, которое религия рассматривает как систему символов, символам же отводит музыкальное и действенное (вытекающее из сущности воли) значение. Теургия – религиозный волюнтаризм, т. е. полная (без изъяна) организация воли. Или религия должна пасть, как предрассудок, или она – теургия (сюда опять-таки вопрос об отношении Ницше к религии).
Простите, Эмилий Карлович, меня за несуразное и угловатое письмо, но при чтении Вундта мой теургический фанатизм получает богатую пищу. Пишите, я очень, очень часто думаю о Вас, и если это время редко писал, то от общей усталости, безглагольности и неизъяснимости.
Остаюсь готовый к услугам горячо любящий Вас
Борис Бугаев.
P. S. Мой привет и уважение Анне Михайловне[1275].
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 38. Помета красным карандашом: «XXXVII».
85. Метнер – Белому
23 июня 1904 г.
Я пережил ужасные минуты. Третьего дня получил призывной лист. То, чего я так боялся, совершилось. Я принял это известие с большим и неожиданным мужеством. Анюта[1276] только в первые минуты была потрясена. Потом оправилась.
Теперь я в безопасности.
Медицинским осмотром установлено (опять-таки совершенно неожиданно для меня), что я страдаю страшным малокровием и совершенно неспособен вынести походной жизни.
Мне дали отсрочку на 1 год. Если война к тому времени не кончится, меня отправят, но уже в качестве нестроевого офицера.
Будем надеяться, что война недолго продлится.
Будем надеяться, что решение местного военно-врачебного персонала не будет опротестовано высшим начальством.
Теперь, когда все окончилось благополучно, я ослаб. Терпеть не могу врачебных осмотров. А меня два дня подряд осматривали выслушивали выстукивали мерили и т. д. четыре врача.
Коля[1277], узнав о моей мобилизации, сломя голову полетел в Нижний. Через час он будет здесь.
Слава Богу! Я могу отныне спокойно и свободно дышать. С самого объявления войны я почти не занимаюсь ничем, как следует.
Полгода прошло; это досадно, если принять в особенности во внимание, что я начал музицировать: я бы сделал несравненно больший успех, если бы не война. Впрочем, перестаю ворчать! Буду весел!.. Уж очень многие не хотели, чтобы меня взяли; это важно; волевое напряжение стольких лиц, может быть, не остается без влияния на ход событий.
Горячо любящий Вас
Э. Метнер.РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 41.
86. Белый – Метнеру
Как я доволен, что роковая опасность Вас миновала. Я ужасно о Вас беспокоился, но не писал, чтобы не растравлять Ваше беспокойство. Будем надеяться, что к тому времени японцы будут разбиты. И все уладится. Посылаю Вам уже написанное письмо[1278]. Эти письма (2) застали меня в городе Ефремове[1279]. Простите лаконизм. Тороплюсь на вокзал.
Еще раз сердечно радуюсь за Вас.
Горячо любящий Вас
Борис Бугаев.
P. S. Мой привет и уважение Анне Михайловне[1280]. Мама просит передать свой поклон.
P. P. S. Ал<ексей> Сер<геевич> уже уехал. Пока он будет жить в Быкове, наезжая часто в Москву[1281].
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 39. Помета красным карандашом: «XXXVIII».Ответ на п. 85.
87. Метнер – Белому
4 августа 1904 г.
Я очень виноват перед Вами. До сих пор не отвечаю на Ваше письмо. Оправданием может служить отвратительное самочувствие, не покидавшее меня с момента моей мобилизации[1282] и по сию пору. Кроме того я занят. Мне хочется до октября, т. е. до двухмесячного перерыва в занятиях (я беру отпуск и еду за границу с Анютой и Колей[1283]), 1) дочитать до конца Ницше; 2) пройти определенную часть первой гармонии и вообще довести свою музыку до некоторого прочного результата, чтобы перерыв в занятиях не слишком отрицательно отразился… – Если принять во внимание, что цензура отнимает у меня ежедневно около 4-х часов, что я на сон трачу 9 часов, на прогулку 2 часа, что я читаю очень медленно, что я скоро утомляюсь и что вообще скверно себя чувствую, – то станет понятно, как мне следует экономизировать время и силы, чтобы достичь хотя бы небольших результатов. Я даже перестал писать в газету[1284], хотя это бьет меня по карману. Вы очень хорошо пишете о Вундте. Я читал его 30 лекций о душе и затем несколько мелких статей. В состоянии ли я при своем невежестве по части естествознания прочесть его Систему?[1285] И за кого сначала взяться из новых, за Оствальда, Вундта или еще кого? Спрашиваю об этом потому, что хочу в Германии приобрести несколько книг. –
Что именно Вундт дал пищу Вашему религиозному волюнтаризму, очень понятно даже мне, мало знакомому с Вундтом… То, что Вы изложили мне в последнем письме, есть зерно Вашей системы, впервые с такою ясностью явившейся перед моим (а, может быть, и перед Вашим) умственным взором. Очень важно то, что «наука о переживаниях должна только констатировать переживания, ни к чему их не сводя». –
Читаю Антихриста. Решительно не понимаю, как цензура пропустила его в русском переводе[1286]. Должно быть, масса пропусков. Это жаль, что Вы читали по-русски. Ницше считает Христа величайшим символистом и как такового высочайшим антиклерикалом. Принципом Христа было, по мнению Ницше, «alles Natuerliche nur als Gelegenheit zu Gleichnissen» – все естественноe как случай, как обстоятельство, как материал для символов, для притч[1287] (сравните с Гётевским alles Vergaengliche ist nur ein Gleichnis – все преходящее есть только символ, только подобие[1288]). Далее Ницше (хотя и ненавидит (???) Христа, но понимает его) схватил правильно центрально идею «Христовой свободы», анархизма.
Далее он говорит очень глубоко, что der Begriff des «Menschen Sohn» ist nicht eine konkrete Person, sondern eine «ewige» Trautsachlichkeit[1289]; Ницше предлагает, для того чтобы очистить евангелие от нехристовых элементов, изъять из него все диалектическое. –
Наконец: Der evangelische Glaube ist gleichsam eine ins Geistige zurückgetretene Kindlichkeit: в самом Христе, говорит он, смешаны утонченная болезненная высота духа с детскостью[1290].
Жаль, говорит Ницше, что Достоевский не жил во время Христа и не мог сделать с него портрета[1291]. –
Что касается проблеммы «Ницше – Вагнер» или «Ницше – немцы», то тут я гораздо более смущен, нежели перед проблеммою «Ницше – Христос». Если только не прибегать к объяснениям медицинским или набрасывающим тень на глубину или чистоту личности Ницше, то я отказываюсь пока от решения этих вопросов. Откуда такая ненависть, вынуждающая говорить гадости, пошлости и ежеминутно противоречить себе (см. Contra Wagner и вообще VIII и XII т.)[1292].
Вы знаете, чтó меня окончательно сделало германофилом и «сверхнемцем»? Сверх-германофобство Ницше и пшибышевская линия русского декадентства вместе с его музыкальной галломанией, которая царит и в двух последних VI и VII книжках Весов. –
Я более нежели когда-либо убежден, что то, что называется «музыкой», есть не одно, а несколько взаимоисключающих понятий: Антон Рубинштейн (русский еврей) назвал музыку «немецким искусством»[1293]. Я подписываюсь под этим. –
С большим наслаждением перечитал Вашу статью в Мире Искусства[1294]. Вспоминал, как Вы ее нам вслух читали. Это очень удачная вещь. Ваша Маска, посвященная Венцеславу Иванову, несмотря на поразительные частности, в общем слишком трудна, клочковата и неровна[1295]. Есть пятна (стр. 13). Аполлиническая сторона искусства так же требует экстаза, но не центробежного, а центростремительного. Есть сдержанность в экстазе, и есть экстаз сдержанности. Мне несколько досадно, что Ваши чарующие Вам одному свойственные Ваши (одним словом) изгибы Вы второпях (и без сдержанности в экстазе) передаете угловато; большинство (даже избранное большинство) поймет Вас иначе и даже, может быть, примет Вас из-за этих угловатостей, а не из-за изгиба, не ради него самого.
Спешу окончить письмо. Накануне рождения Алексея Николаевича Мельникова[1296] вторично видел мой страшный сон. Что это такое?!! – Как поживаете? Думаете ли о своем теле, как я Вам советовал? Дай Бог Вам крепости, здоровья, даже мускулов! Не утомляйтесь. Пишите. В конце октября увидимся[1297]. Поклон Вашей матушке. Анюта[1298] Вам кланяется. Горячо любящий Вас Э. Метнер.
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 42.Ответ на п. 84.
88. Белый – Метнеру
На этот раз письмо мое только деловое. 1) Простите, если я являюсь снова и снова орудием в руках других, – когда пересылаю Вам эту рукопись стихотворений Блока[1299]. С. А. Соколов просит очень Вас разрешить сборник к печатанию, сделав, конечно, соответствующие изменения[1300]. Мотивы его таковы: Вы – культурный цензор и, стало быть, не остановитесь, быть может, перед некоторыми стихами рукописи – стихами, которые могут вызвать сомнения и недоумения, хотя по существу невинны, разве только окрашены «декадентским» налетом, под которым в сознании многих может «Бог весть что прятаться». Я просматривал сборник, и думается мне, – в нем почти нечего вычеркнуть. Еще раз простите, дорогой Эмилий Карлович. Я было думал отбояриться, но С. А. Соколов очень просит меня переслать Вам оный сборник.
Кажется, здесь в Москве налаживается дело о большой газете, в которой, конечно, Вам необходимо участвовать. Но пока это дело секретное (строго между нами: даже А. С. Петр<овский> не должен знать). Дело в том, что несколько сериозных людей предложили Соколову редактировать газетой и при этом сформировать свое направление. Скоро дело придет к окончательному уяснению, быть или не быть газете[1301]. Я уже говорил о Вас, и С. А. Соколов очень рад Вашему участию. Но еще раз: все это пока еще проблематично и строго между нами.
Остаюсь любящий Вас и готовый к услугам
Борис Бугаев.
P. S. Мой привет и уважение Анне Михайловне[1302].
P. P. S. Нельзя ли поскорее ответ о рукописи Блока?
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 40. Помета красным карандашом: «XXХIX». Фрагмент опубликован: ЛН. Т. 92. Кн. 3. С. 218.
89. Метнер – Белому
9 сентября 1904 г. г. Н. – Новгород
В ту же минуту, как получил чарующие стихи о Прекрасной Даме, я начал их читать. В один вечер дочитал до конца. Я их разрешу[1303], но, дорогой Борис Николаевич, имейте в виду следующее. Меня начинают забрасывать работой из разных концов России и все на том же основании, что я, мол, «культурный» цензор и т. д. Даже из Казани присылают, где есть отдельный, но весьма свирепый цензор, которому вовсе немного работы. Отказываться я не имею (по закону) права, но я могу (по закону же) держать рукописи 3 месяца. Конечно, для Вашей рукописи и для рукописи Блока я всегда сделаю исключение, но Койранские[1304], Подпшибышевские[1305] et tutti quanti[1306] будут ждать полных 3 месяца, иначе мне придется отказываться от досуга.
1) Необходимо наклеивать шестидесятикопеечную марку на рукопись. Попросите Соколова выслать мне таковую.
2) Скажите Соколову, что выпускной билет он может получить или до двадцатых чисел октября (не позже, так как в конце октября я уезжаю в двухмесячный отпуск, а заменяющее меня лицо будет цензуровать только газеты), или, следовательно, только в январе.
Дорогой Борис Николаевич! Спешу и потому ограничиваюсь деловым письмом. Что поделывает Алексей Сергеевич? До сих пор не получаю от него ответа на свое «заказное» письмо, отправленное по адресу Вагонного Завода[1307]. Сейчас вспомнил, что до сих пор еще не прочел Гриф от 1904 г.[1308] Вы тогда обещались выслать мне лишний свой экземпляр. –
Если Вы его не затеряли, то вышлите, пожалуйста, теперь.
Как Вы доехали? Очень жаль, что Вы не пробыли дома, и еще более жаль, что мы все трое предстали перед Вами и Вашею матушкою в насморочном и потому скучном виде[1309]. Увидимся с Вами на концерте Коли[1310]; теперь уже приглашаю Вас к нам на другой день после концерта. –
Очень важно Вам познакомиться с песнями Коли на слова Гёте…[1311] Что-то ужасное по нелепости есть статья в Весах Суворóвского[1312] Чайковский и Пшибышевский[1313]. Ваш Чехов[1314] ясно показывает, как далеки Вы от всей этой подозрительно пахнущей модерновости. До свиданья! Пишите, если будет время! Главное же, усердно работайте с философутиками. Привет от нас обоих Вашей матушке. Ваш Э. Метнер.
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 43. Фрагмент опубликован: ЛН. Т. 92. Кн. 3. С. 218.Ответ на п. 88.
90. Белый – Метнеру
Спасибо, спасибо за Блока. О Подпшибишевских не беспокойтесь. Хочется ужасно Вас видеть и говорить с Вами подробнее хотя бы в письме, но круговорот дел и не дел уже успел меня вновь превратить в манекен. Так что нет времени писать подробно. Хочется мне послать крылатый привет – пусть он долетит до Вас, чтобы Вы помнили, что я всегда помню и люблю Вас, и чтобы Вы вспомнили меня.
Буду ждать Вас в Москву. О газете еще ничего не слышал[1315]. Ужасно досадно, что не знаю капиталистов, желающих издавать газету (они скрываются), а то бы я принялся за дело. Просто досадно, что они предложили такой декадентской посредственности, как Соколову, редактировать газету. Черт знает что! Способен скомпроментировать <так!> все дело. Все думаю о том, какой бы идеальный редактор <были> Вы.
Любящий Вас Борис Бугаев.
P. S. Мой привет Анне Михайловне[1316].
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 41. Помета красным карандашом: «XL».Ответ на п. 89.
91. Метнер – Белому
16 сентября 1904 г.
Получил Ваше милое письмо. Пожалуйста, не терзайте себя мыслью, что нет возможности часто писать мне.
Вам – некогда. Вы должны спокойно работать. Не давайте себя трепать. Ходите реже в гости; лучше чаще слушайте музыку… –
Пишу это, скрепя сердце, т<ак> к<ак> (Вы едва ли можете себе представить), до какой степени мне важны Ваши письма. Когда я их читаю, то чувствую себя сильнее, нежели я на самом деле.
Еще в большей степени такое ощущение испытываю я при встречах и разговорах с Вами.
Итак, до скорого свидания.
Теперь о деле. Почему Соколов не посылает мне 60-копеечной гербовой марки?[1317]
Я не могу без нее возвратить рукописи, между тем следовало бы поторопиться ввиду моего скорого отъезда в конце октября.
Иначе он не скоро получит выпускной билет. Ведь я уезжаю на два месяца. А без меня никто не может выдать этого билета[1318].
Еще раз
До свиданья!
Привет Вашей матушке.
Любящий Вас
Э. Метнер.
P. S. NB. Кому я должен возвратить рукопись? Если не Вам, то напишите.
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 44.Ответ на п. 90.
92. Метнер – Белому
Посылаю Вам мой адрес[1319]. Узнайте, пожалуйста, адрес Шика или Пшика (сотр<удника> Весов)[1320].
Как видите, мой патрон Гёте не покидает меня и в Берлине. Передайте мой привет Вашей маме. Пишите. Э. Метнер.
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 45. Датируется по почтовому штемпелю: Charlottenburg. 27. 11. 04.Открытка с фотографией дома и печатным текстом: «Gruss aus Charlottenburg. Goethe – u. Grolmannstr. – Ecke». Приписки рукой Метнера: «(Berlin)»; «№ 12 Goethe-Haus Pension Koeching Emil Medtner»; на фотографии: «Наша квартира».
93. Метнер – Белому
Берлин – Шарлоттенбург. Berlin Charlottenburg Goethe-Strasse Goethe-Haus № 12 Pension-Koeching.
Получили ли Вы мою открытку с изображением нашего логовища (Goethe-Haus)[1321]
Страшно устал. Ошеломлен впечатлениями Weltstadt’а[1322], как немецкие империалисты величают свою столицу. Слышал гениальное исполнение Вагнеровских опер. Слышал Вейнгартнера в симфонических; он дополняет собою Никиша как Аполлон – Диониса. Кроме этих двух Берлин обладает еще третьим гигантом дирижерского искусства: это Мук (Muck), который управляет вагнеровскими спектаклями. Представьте себе Мефистофеля за дирижерским пультом; это какой-то диавол; я думал, он меня убьет во время Goetterdaemmerung (гибель богов)[1323] –
Если к этим впечатлениям Вы присоедините довольно значительные хлопоты по устройству концерта Коли, который состоится здесь 16/3 декабря[1324], – то Вы поймете, что мне невозможно писать подробные письма: я слишком занят и слишком утомлен. Я даже своим домой ничего почти не писал. –
Сообщите обо всем этом при случае Алексею Сергеевичу[1325].
А теперь повторю свою просьбу. 1) Мне бы хотелось познакомиться здесь с каким-нибудь корреспондентом Весов Шиком, Пшиком, Пшикобышевским (безразлично); устройте, пожалуйста, это. 2) Повидайтесь с Брюсовым и возьмите у него библиографическую справку, что стóит здесь приобрести из новейшей немецкой поэзии (NB. Я ничего не знаю; на днях купил Стефана Георге Der Teppich des Lebens und die Lieder von Traum und Tod. Mit einem Vorspiele dritte Auflage[1326]), не все понял, но то, что уразумел, очаровательно и по форме и по мысли. До чего волна религиозного искания охватила всех чутких людей Европы! – Борис Николаевич! учите скорее немецкий язык, чтобы читать Стефана Георге; Вы будете поражены встретить родное… невозможное нежное[1327] и все это сквозь призму гетевски-совершенного поэтического искусства… Однако пора спать! Работайте и не давайте себя закрутить вихрю московской безалаберной жизни! Как в Германии умеют и работать и отдыхать и наслаждаться. Передайте мой искренний привет Вашей матушке.
Горячо любящий Вас Э. Метнер.
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 46.
94. Метнер – Белому
Анюта и я шлем сердечный привет Вашей маме и Вам[1328]; желаем Вам радостно встретить новый год. До скорого свидания! –
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 47. Открытка. Датируется по почтовому штемпелю: Dresden. 8. 1. 05.
1905
95. Метнер – Белому
Дорогой Борис Николаевич! Вчера приехали[1329]. Я простужен. Может быть, только завтра выйду из дому. Жду Вас вечерком: сегодня или завтра. Остаюсь до 15-го с<его> м<есяца>. – Рассчитываю видеться с Вами во всяком случае не однажды. К Вам приеду, если буду здоров. Привет Вашей матушке. Ваш Э. Метнер.
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 48. Открытка. Датируется по почтовому штемпелю: Москва. 11. I. 1905.
96. Метнер – Белому
Н. Новгород 16 февраля 1905 г.
Дорогой Борис Николаевич! С чего начать?.. Не знаю. Так много, что голова болит. Приезжайте скорее, пока не выветрилось. Ведь Вы свободны, бастуете? Жду Вас непременно до пасхи[1330]. Помнится, Вы сами собирались ко мне чуть ли не на страстной, как в прошлом году. Не жалейте, что не свиделись по возвращении из-за границы[1331]: был болен: в противоположность Анюте и Коле[1332], которые заболели за границей (подробности узнаете у Алексея Сергеевича[1333]), я занемог в момент (отвратительный) переезда через границу; русский воздух надул мне огромный флюс, с которым я провел все время моего пребывания в Москве[1334]. Можете себе представить мое самочувствие? – Разумеется, я нисколько не в претензии на Ваше молчание (даже на «деловое» письмо из Берлина[1335]). – Все больше убеждаюсь, до какой степени Вы мне необходимы. Как часто я вспоминал Вас за границей и как важно (и для Вас) было бы вместе со мной пережить некоторые моментики… в Веймаре, в Нюрнберге… Кстати: что Вы думаете о Нюрнберге. Я питал всегда особое предрасположение к этому городу местерзингеров, оловянных солдатиков, Ганса Сакса и Альбрехта Дюрера, сказок Гофмана… Однако я начинаю рассказывать… Молчание… Молчание… – Мой дорогой, мой милый Борис Николаевич! Постарайтесь непременно приехать к нам, пока… существует предварительная цензура для провинциальной повременной печати. Кстати! Куда я денусь по упразднению m-me Censur’ы – не знаю. Ведь я решительно ни на что не пригоден. Впрочем, я достаточно легкомыслен и мало забочусь о будущем. – Мы переехали на новую квартиру, живем на самом «белом» месте Нижнего (Адрес: угол Похвалинского Откоса и Садового Переулка, дом Ческина); приезжайте поставить мистический диагноз нашей обители. – Вашего «Возврата» я еще не читал[1336]. В Москве не успел запастись, а здесь не продают. Купите (я Вам отдам при свидании) экземпляр (если у Вас нет лишнего) и пришлите с Колей, который собирается к нам на масленицу и первую неделю Поста. Вследствие забастовки Вы, быть может, захотите приехать в Нижний раньше страстной или после святой, весною до отъезда в имение. Поступайте по своему усмотрению, только предупредите меня за неделю, чтобы Вам случайно не столкнуться с кем-нибудь. Алексей Сергеевич собирается ко мне летом… Как поживает Сергей Михайлович Соловьев? Передайте ему мой привет. Мне было очень интересно и приятно познакомиться с ним[1337]. По приезде сюда засел за журналы. Оптом прочел Весы, Мир Искусства, Новый Путь за конец 1904 г. Оптом они невтерпеж. Целый ряд невыносимых гримас и ужимок. У Вас есть великолепные страницы (об Олениной-д’Альгейм, о Леониде Андрееве)[1338]. Хорошо, что Вы философию начинаете подписывать Борис Бугаев[1339]. Я соскучился по Вас, мой дорогой друг. Я с удовольствием (глупое слово!) называю Вас своим другом, так как изо всех известных мне русских только в Вас я встречаю какие-то струны, до боли мне родные, какие-то уголки, в которых моей душе уютно, как дома. До свиданья! Передайте мой сердечный привет Вашей матушке. Пишите, если можете. Горячо любящий Вас
Э. Метнер.РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 49.
97. Белый – Метнеру
1905 года. Февраль.
Что за несчастье? Едва выехал из Москвы, как Вы приехали[1340]. Видно, не судьба была нам встретиться. За молчание простите. Последние месяцы «taedium»[1341] писать. Не могу равнодушно видеть пера. С омерзением оно выпадает. Набил себе оскомину писательством. И решил забастовать во всем. Просто не выношу ничего писательского. Вы уж Бога ради извините меня. Будучи в С. – Петербурге, я три недели ничего никому не писал (даже и маме). Вы поймете.
Но никогда не забывал Вас. Вы – один из немногих, почти единственный. Я Вас ужасно как люблю, и всегда о Вас думаю.
Теперь вернулся из Петербурга. Прожил месяц[1342]. Остановился у Мережковских; приехал в роковой день 9 января[1343]. Был всюду; чуть ли не на баррикадах[1344]. Впечатление – оглушающее… Видел Гапона и т. д.[1345] Сначала события поглотили всё. Потом начались бесконечные знакомства писателей. Промелькнула вереница лиц. Розанов, Соллогуб <так!>, Минский, Петров, идеалисты[1346] и т. д. вплоть до студентиков и петербургских «пшиков»[1347]. Меня рвали знакомства 2 недели. Тут у нас возникло одно важное дело: были хлопоты и по его поводу[1348]. Наконец, под этими двумя слоями суеты была уже не суета, а «несказанная» радость. Сонатная тема[1349], «милое, вечное, грустное» приблизилось ко мне почти вплотную. Такая радость, такая радость, наконец окончательно утешили Блоки (Алекс<андр> Алекс<андрович> и Любовь Дмитриевна). Когда я приходил к ним, вырастали такие махровые шапки левкоя, каких я нигде не видел. «Цветочность», присоединяясь к «несказанно-милому», переполняла чашу радости, которую я нашел в Петербурге, до краев. И так подумайте: вовне политика и знакомства без числа, внутри – радость. Приехав в Москву, я просто оцепенел. Но я знаю путь, мне ясно впереди!
Милый, дорогой Эмилий Карлович, еще бы я Вас забыл. Вы почти единственный человек, знающий о радости – Вы, Сережа Соловьев, Блоки, Мережковские. Ужасно хочу Вас видеть. Нет людей. Полгода я изо всей мочи старался натянуться до всех людей. Был свой и с философутиками, и с кантианцами, и с общественниками, и с мистиками, и с декадентами. Но теперь рухнули мои силы, терпение. Нет, не могу – я слишком аристократичен: не хочу пачкаться с хамами, старающимися походить на бар. Этот поворот во мне произошел в Петербурге, где я увидел «вспышки огня и света», и с ужасом понял, как нервное уны<ни>е <?> внутри и схематичность извне поглотили во мне все с той поры, как я стал быть со многими. Сейчас могу только думать о цветах и жить для цветов, а во внешнем готов хоть с анархистами, но середки на половинки, но компромиссы приятно-либеральные мне претят. Нужна новая церковь, где хотя бы Айседора Дёнкан священнодействовала[1350] (после гнусностей синода[1351] не хочу знать ни попов, ни поповства, ни… Поповских…)[1352], нужна радость… и цветы, цветы, цветы без числа…
Милый Эмилий Карлович, высылаю «Возврат»[1353]. Он уж давно (месяца 2½ как предназначается <для> Вас и лежит у меня из пассивности). Кстати: мне очень было бы ценно узнать Ваше мнение о нем. Пожалуйста, черкните хотя бы два слова. Бесконечно любящий и уважающий Вас.
Б. Б.
P. S. Мой привет Анне Михайловне[1354].
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 42. Помета красным карандашом: «XLI». Фрагмент опубликован: ЛН. Т. 92. Кн. 3. С. 220 (с неточной датировкой: «Февраль <между 5 и 16>»).Ответ на п. 96.
98. Метнер – Белому
Н. Новгород 10 марта 1905 г.
Дорогой Борис Николаевич! Ваше февральское письмо и Вашу третью симфонию получил. Большое Вам спасибо и за книжку и за милую надпись. – Читая Ваше письмо, я от души хохотал над тем, что Вы, Андрей Белый, – забастовали, набив себе оскомину писательством. Последнее произошло только от форсированно-пряного и пьяного декадентизма и от сугубо-витиеватого философистерства, среди которых Вы толчетесь, ударяясь головой то об один, то о другой столб (или столп). – Читали Дафнис и Хлою?[1355] Тут оскомины не набьешь… Очень, очень хорошо и предисловие Д. С. Мережковского. Мысленно обнимаю за его золотые слова о Гёте[1356]. – После Веймара, Франкфурта я с особенным опять новым трепетом читаю некоторые вещи Гёте. – Шмидт переехала на зимнюю квартиру… Был сегодня на похоронах рабы Божией девицы Анны[1357]. Все комизмы, нескладности и подозрительности сметены дыханием смерти. Потемневшее слегка лицо покойницы полно было не только спокойствия, но даже радости, полного довольства достигнутым. Черты стали красивее и мудрее. Ей можно было дать и 100 и 10 лет. Я потому так долго остановился на ее внешности, что помню, как нехорош был в гробу ее возлюбленный Владимир Соловьев. Дорогой на кладбище разговаривал с редактором Ниж<егородского> Листка[1358]; он изумлялся, как могут умные люди, как Шмидт, быть мистиками. Спрашивал о Вас и, узнав, что Вы – естественник, беспомощно развел руками, остановился и разинул рот: и он пишет «симфонии»!
–
Да, Вы пишете, а я их читаю и читаю с большим наслаждением, о котором, наконечно, редактор Ниж<егородского> Листка не может иметь никакого понятия… Вы просите меня написать Вам хотя бы пару слов о симфонии… Очень трудно так сжато передать Вам все, что вынес из этой замечательной композиции. Скажу, что она совершеннее, выдержаннее, отчетливее, суше, злее двух первых; в ней больше мастерства, больше обработанной материи, больше юмора, больше «контрапунктов», она отчасти драматическая + героическая, отчасти еще неведомая, «тень несозданных созданий» (выражение из первого декадентского сборника)[1359].
Бездонное в мелочах действительности, бездонное в сказке сочеталось с несказанным космическим. «Прошлое давно забытое вечно<e> как мир окутало даль сырыми пеленами»[1360]; ребенок проснулся – старик исчез; бархатно мягкое пьяное грустное, тихое ясное счастье. – Мне милее вторая симфония, но зрелее и глубже – «Возврат»… – Очень хороши «маститые до последних пределов»[1361]. – Очаровательно, свободно и смело начало – игра ребенка и крабба. У Дюрера есть мадонна с ребенком и… обезьянкою на веревочке, гениальная шалость его юности[1362]; я вспомнил эту обезьянку, читая сцену с краббом.
Персонификация головокружения мне не нравится[1363].
По праздникам бань не бывает (стр. 60–61)[1364].
Потрясающ – змеиный ужас.
Прислали из-за границы последний том биографии Ницше. Автор (его сестра) говорит в предисловии, что Дионис – это псевдоним Ницше…[1365] В Генуе Ницше называли il santo и даже il piccolo santo, т. е. такой святой, которого можно безбоязненно любить, милый «маленький» святой… – В письмах Ницше говорит о своем лунатизме (sui generis) и однажды сравнивает себя с Иоанном Богословом[1366].
Дорогой Борис Николаевич! Вспомните, как мы шли весною 1902 года с репетиции Никиша и говорили о судьбах России[1367]. Оба мы, как обнаружилось, поставили † настоящей России в 1898 году… Помните?!.. – Выражение «настоящая» Россия теперь уже неверно; эта Россия уже прошедшая или проходящая. Ее больше нет и вместо нее хаос, из которого может со временем родиться нечто. Это нечто почти ничего с царской Россией иметь не будет. – Когда говорят теперь о престиже, из-за которого нельзя скорее покончить с «Красным Смехом»[1368], то мне смешно делается: чей престиж? Мертвеца, по меньшей мере умирающего, не нуждающегося ни в чем; престиж России – это румяна на лице Пиковой Дамы[1369]. – Боже мой, сколько открывается ежедневно гнусностей! Как все фальшиво, как все ненужно, бессмысленно; и при этом смердяковская наглость… Как хотите: но все-таки либеральный компромисс по крайней мере комфортабелен и целесообразен… А так, как теперь, жить нельзя… Что это опять за болван Булыгин?[1370] А сам Ника[1371], в круге которого Вы раньше замечали какие-то добрые вибрации! Что ни шаг, то нетактичность и прямо преступное легкомыслие и безволие… Я начинаю сильно страдать от своей обязанности. Но некуда деться. Писать я не могу. Переводами жить нельзя. В адвокатуру я не могу вернуться… Пока до свиданья! Мой искренний привет Вашей матушке. Анюта кланяется[1372]. Хорошо, если бы собрались ко мне погостить. На днях хочу второй раз прочесть Возврат. Ваш горячо любящий
Э. Метнер.РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 50.Ответ на п. 97.
99. Белый – Метнеру
Как я был рад получить от Вас письмо. Оно пришло в момент уныния и порадовало меня. Бедная, бедная Анна Николаевна! А мы в Москве устраивали подписку в пользу нее по просьбе Георгия Чулкова, который (надо отдать ему справедливость) любит ее[1373]. Смеялся, читая Ваше изображение моих «стуканий головою» между столбами или столпами. В настоящую минуту один из «столпов», увлеченный революцией, бросил философию, с грустью проповедуя «бомбных дел мастерство» так, как недавно проповедывал трансцендентальную философию. Недавно он заявил мне за одним ужином, что он «в теории трансценденталист, и то до ужина, а на практике и в особенности после ужина дионисианец и философ мгновений»[1374]. Что же касается до другого столпа, то он все устойчивей и – я бы сказал – гениальнее, превосходя все, что появлялось в русской поэзии после Пушкина, Лермонтова и Фета. Между прочим, у нас должна была с ним состояться дуэль, впоследствии, однако, расстроившаяся, что не помешало нам остаться в добрых отношениях[1375].
Глубокое спасибо за приглашение. Я было уже совсем соблазнился приездом к Вам: так хотелось Вас видеть, говорить с Вами (в прошлый Ваш приезд[1376] мы в сущности почти не виделись), но внезапно я разорился на целый ряд книг, истратив все имевшиеся у меня деньги, и вот принужден сидеть дома, обреченный на 2-месячное (по крайней мере) безденежье. С грустию отложил на неопределенный срок свой приезд в Нижний. Утешаюсь спокойным мастерством, с которым К. Фишер, не мудрствуя лукаво, изображает жизнь Шеллинга и Гегеля[1377].
Дорогой Эмилий Карлович! Знаете ли Вы, что занятия «трансцендентальной» философией есть гнуснейший, наиизвращеннейший порок, разлагающий всякую нравственность по отношению к самому себе. И вот тем не менее я предаюсь этому пороку: все более и более вижу, что философия – это рак, заражающий мое сердце, а декадентство – паралич, разжижающий мой мозг. И не могу отказаться ни от того, ни от другого. Странно: мне все мерещится какая-то будущая точка, к которой должна стремиться моя мысль и мое творчество. Эта точка: мистический критицизм теогнозии, предопределяющий основоположениями чистой мистики теургическую действительность грядущей мистерии, участниками которой должны <быть> мы – знающие в преображенном государственном строе будущего. У меня намечается будущая религиозно-общественная доктрина, которую я хочу называть доктриной женственного панмонизма: на престоле алтаря непрекращающейся мистерии будущей религиозной общины (эта община – церковь) должна восседать Царь-Девица, отражающая народную душу. Вот где должен быть исправлен Достоевский: нужен не Иван Царевич[1378], а Царь Девица; и она будет, будет!!.. А пока еще нет условий, благоприятствующих процессу положительной организации религиозного ордена рыцарей Грядущей, важно внутреннее религиозное общение с Ней и разработка отвлеченных основ ее реальности в приложении к общегосударственным вопросам.
Дорогой Эмилий Карлович, буду в скором времени еще и еще Вам писать. Не забывайте и Вы меня. Христос да хранит Вас.
Глубокоуважающий и горячо любящий Вас
Борис Бугаев.
P. S. Мой привет и уважение Анне Михайловне[1379]. Мама просит передать свой привет Вам и Анне Михайловне.
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 43. Помета красным карандашом: «XLII».Ответ на п. 98.
100. Метнер – Белому
Н. Новгород 23 марта 1905 года.
Недавно мне писал Андрей Братенши и передал от Вас поклон. Он нашел, что у Вас великолепный вид, чему я очень рад[1380]. Заставляйте себя почаще думать и заботиться о внешнем. Вы безбоязненно можете это сделать: Вы застрахованы от пошлости.
Читаю недавно вышедший в свет последний том биографии Ницше[1381]. Я уже писал Вам об этом. Надеюсь, что Вы мое письмо со вложением некролога Анны Николаевны Шмидт получили?[1382] Жизнь (точнее: житие) Ницше производит не менее потрясающее впечатление, нежели его творения. Надо читать его письма к сестре и вообще к близким, чтобы получить представление, до какой степени он страдал от одиночества, до какой степени он по натуре своей не создан был для одиночества: это был человек с необычайно нежной душой и до конца своей жизни «деточка»… Если он не женился, то только случайно, а вовсе не по «уродству» своей натуры, как то думает Мережковский[1383]. Ницше бывал влюблен… Одним словом, как все «здоровые» люди. Вы, конечно, слышали о Frau Lou Andreas Salomé, русской (вероятно: еврейка), с которой Ницше находился будто бы в дружбе[1384]. Она написала книгу, наполненную сплошными нелепостями[1385]; однако эта книга имела успех и очень много повредила правильному пониманию Ницше и его учения. Надо сказать правду, наши декаденты, и ницшеанцы и антиницшеанцы, одни сознательно, другие бессознательно (по духовному сродству с Salomé) судят о Ницше крайне ошибочно, принимая его различные маски за истинное лицо и его болезненные выходки за суть его учения. Разбивая шаг за шагом с документами в руках книгу Саломэ (которая, кстати сказать, порядочная лгунья и вообще дрянная мелкая натура), сестра Ницше вместе с этим как бы разбивает многих наших ницшеанцев и антиницшеанцев. – Отдельные замечания для Вас: Ницше очень высоко ставил Вундта и Гельмгольца. – Peter Gast (один из близких друзей и учеников Ницше) называет Заратустру Heilige Schrift, Fuenftes Evangelium[1386]. – Когда Ницше приступил ко второй части Заратустры, то боялся умереть от напора мыслей и чувств; он написал эту часть в 10 дней[1387]. Все время Ницше ставит в связь продолжение своей жизни с появлением книг Заратустры. Замечательно, что Вагнер умер в час окончания Заратустры[1388]. – В 1884 Ницше познакомился с одним бароном Штейном, молодым философом, которого Ницше назвал самой лучшей встречей во всю жизнь и самой великой своей надеждой. Штейн был необычайно хорош и душой и телом. Ницше видел в нем Сверхчеловека. Штейн умер 30<-ти> лет[1389]. После него остались сочинения, частью напечатанные. – Оказывается, Ницше сжег бóльшую часть своих поэтических произведений; сохранилось то, что спасено сестрой. – Сестра считает, что Vaihinger правильно судит о Ницше. – Ницше одно время собирался в Японию. Он очень высоко ставил национальный характер японцев. Представьте себе: он разумел под «японизмом» то же сложное явление, о котором мы с Вами говорили в последнюю нашу встречу. Помните? Таким образом с трех сторон совершенно независимо один и тот же взгляд. Постарайтесь его формулировать точнее.
29 марта. (Письмо Ваше получил, но о нем – после). Саломэ не поняла Ницше вовсе. Его полифонию она сочла за дисгармонию; его высшую свободу (совпадающую с необходимостью: amor fati[1390]) за обыкновенную польскую анархичность; amor fati – за обыкновенный (неразумный) фатализм.
По поводу Сверхчеловека надо сказать, что недоразумению содействовал отчасти сам Ницше гиперболическим выражением в Заратустре Niemals noch gab es einen Uebermenschen[1391]. Ницше в письмах, разговорах и набросках отрицает связь идеи о связи как с дарвинизмом, с одной стороны, так и с сверхчувственностью, с другой. Сверхчеловек вовсе не особая высшая порода людей (каких никогда не было) и вовсе не ангел или демон, антихрист или богочеловек, а скорее человеко-бог, до божественности удавшийся человек. Таким был, по мнению Ницше, например, Гёте. Надо сделать так, чтобы сверхчеловеки, соединяющие силы с утонченностью, не гибли, как теперь среди массы обыкновенных; чтобы не только гении, но и негениальные сверхчеловеки были на виду.
Как Вы знаете, Ницше обдумывал свои произведения во время прогулок по горам. Хотя он и избегал встреч в это время, но некоторым удавалось случайно видеть его, и они передавали восторженно об его необычайно просветленном виде. Одна старая дама, его знакомая по курорту, наивно (это-то и ценно) заметила, рассказывая о такой встрече с ним: он похож на Жениха, смотрящего на Невесту. – А я похож на сумасброда. До такой степени спешу Вам выложить почерпнутое из биографии Ницше, что не досказываю ничего до конца. – До сих пор (по мнению Ницше) мы могли наблюдать тип сверхчеловека очень редко, да и то большею частью тогда, когда он бывал озарен гением (следовательно: гениальность и сверхчеловечество – два качества, могущие совпадать и не совпадать в одном лице); надо создать такие условия, что<бы> тип сверхчеловека, ныне забиваемый ему противоположным типом, проявился всюду. – Теперь опять о Женихе и Невесте. У Гёте есть стихотворение «Mailied»[1392] (начинается: «Zwischen Weizen und Korn», «Между пшеницей и рожью»). С первого взгляда самая обыкновенная песенка. Но это только с первого взгляда. Коля вынул из этого стихотворения такой изумительный музыкальный образ[1393], что… когда я читал о Вашей Царь-Девице, этот образ не переставал звенеть в ушах моей души (или в душе моих ушей)… Попросите при случае Колю наиграть этот «Mailied». –
Некто С. Протопопов, сотрудник Нижегородского Листка, написал большую статью об А. Шмидт, где рассказал все ее эзотеризмы (например, ее символ веры: И неизменно на небесах пребывающего и вторично на землю сошедшего и воплотившегося в лице Владимира Соловьева – человека от рождения, ставшего Богочеловеком в 1876 году при явлении ему Церкви в пустыне египетской и скоро грядущего со славой судить живых и мертвых. Его же царствию не будет конца); рассказывает подробно, как Анна Николаевна видела Христа в одной церкви во время обедни, как после этой «галлюцинации» она впала в религиозную «манию» и вообразила себя евангельской Марией; как познакомилась с Вл. Соловьевым и т. д.; с позитивною благонамеренностью изумляется, как мог мистицизм в ней мириться со свободомыслием!! Удивляюсь, как могла Анна Николаевна откровенничать с такими ослами. Вот до чего доводит одиночество. Вчуже унизительно было читать эту статью. Конечно, я ее дозволил к печати, но написал privatissime[1394] письмо редактору, где объяснил ему, что статья – неприлична, что нельзя доводить свой «позитивизм» до бесцеремонного обращения с тайнами, доверенными в частной беседе, считая всякие стеснения излишними только потому, что эти тайны не политические, а мистические, следовательно якобы мнимые. Конечно, я писал подробнее и вразумительнее, нежели Вам. Письмо подействовало. Статью не поместили[1395]. – Кто этот философ (до ужина и после ужина)? Фохт? Трубецкой?[1396] А поэт (четвертый после Пушкина, Лермонтова, Фета)? Брюсов? Бальмонт?? – Читал последние стихотворения Бальмонта «а я мексиканец жестокий!»[1397]; он стал не только мексиканцем, но и (в самых своих последних стихотворениях) верным подмастерьем Пушкина; какая-то благородная простота, раньше этого не было! «Хорошо бы всех немцев переселить в Мексику», – сказал где-то Ницше, – «они выработались бы в совершеннейшую расу; им недостает юга»[1398]; шурин Ницше Ферстер устроил немецкую колонию в Парагвае[1399]. Знал обо всем этом вампирная пиголица Бальсонтис, когда собирался в Мексику?[1400] «Вопросы Жизни» – скучны[1401]; «Мир Искусства» не выходит[1402]; «Весы» я не получаю. Выходят ли они? Пишете ли Вы где-нибудь и где именно? Вторично еще не прочел Вашей симфонии[1403]: дал прочесть Мельникову; он еще не возвращал… – Мельников читал как-то историю религий, где в главе о Заратустре сказано[1404], будто представители религии последнего думают, что второго Заратустру будут звать Нитшея; а знаете, что по-польски значит Nietzky? – нигилист. Простите, что я болтаю de coq-à-l’âne[1405]. – Продолжаю о Вашем письме. Что это за дуэль: всамделишняя или символическая? – Очень жаль, очень, очень жаль, что Вы не скоро можете собраться ко мне. Имейте в виду, что в июне будет гостить Коля; 25 июня меня призовут на военную службу.
31 марта. Сейчас еще раз перечитал Ваше письмо. 1) Декадентство есть расколотое ницшеанство. 2) Философистерство есть расколотое кантианство. Конечно, зачатки обоих уродств были в Канте и Ницше; вот почему необходимо как можно полнее детальнее реальнее воссоздать в своем воображении образ того и другого, дабы вылечиться. Я намекаю не на Вас; Вы слишком сильны и оригинальны, хотя и затронуты, задеты с обеих сторон; вот я боюсь за Вашу разработку отвлеченных основ ее (Грядущей Царь-Девицы) реальности в приложении к общегосударственным вопросам. – Вы поймите: я живо ощущаю и сочувствую Вашим переживаниям и прозрениям; меня всегда радует эта неутомимость Вашего всматривания и вслушивания; но я начинаю бояться, когда Вы слишком скоропалительно начинаете сооружать вокруг этого; я пишу Вам отнюдь не для того, чтобы Вы больше ко мне не «заявлялись» с подробностями «теогнозии»; напротив: милости просим; безо всякого стеснения пишите мне все; я уж буду знать, куда что положить; в случае, на мой взгляд, опасности для Вас я немедленно предупрежу Вас. –
А пока могу только сказать: торопитесь не очень. – Очень важно, чтобы Вы были здоровы и долгодолгодолговечны. Старайтесь быть спокойнее. Когда будете писать мне о самых эзотерических своих опытах и надеждах, то пишите так, как будто Вы разговариваете с самим собою. Это, конечно, гораздо труднее, нежели писать так, как будто диалогизируешь с декадентом или философутиком. Но не невозможно для Вас с Вашим дарованием. – Когда Вы разговариваете со мной, то происходит извинительное смешение всех стилей и бесстильностей, извинительное потому, что тут же можно поправить и выяснить. Почти так же Вы и пишете мне, и это почти так же извинительно и неважно. Но с собой Вы говорите иначе, иначе, нежели в своих стихах и статьях. Кое-что из симфоний есть как бы разговор с самим собой. – Пожалуйста, уведомляйте меня о каждой Вашей попавшей в печать литературной работе; я больше не слежу за журналами. До свиданья, дорогой мой! Привет Вашей маме от Анюты[1406] и меня. Горячо любящий Вас Э. Метнер.
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 51.Ответ на п. 99.
101. Белый – Метнеру
Москва 1905 г. Апреля 1.
Дорогой Эмилий Карлович, спасибо, спасибо за Ваше письмо. Оно меня ужасно порадовало – утешило. Я до такой степени вдался в экзотеризм, до такой степени опутался разными «гражданскими» вопросами вплоть до злободневных, что всякая «мистика» звучит мне музыкальным одиночеством: Вы не смотрите, Эмилий Карлович, что я пишу о Царь-Девице в связи с религиозной политикой: ведь Девицей при экзотерическом отношении к явлениям может стать Жена, обличенная в солнечность (= в жизненность, = в плоть, = в мир, = в общественность): тут корень религиозного социализма. И: религиозный социализм, окончательно проведенный, – есть ничто иное как Апокалипсис = Конец, т. е. общая мировая норма отношений, т. е. последняя цель. Телеологическая подкладка критицизма обеспечивает «апокалипсичность» религиозной реформы; «хилиазм»[1407], «солнечный град» с одной стороны – социалистические «грезы» с другой. Я говорю «грезы», потому что социализм, не приведенный к религии, останется вовеки грезами и «грезами пошлыми». Соединение отвлеченного понимания основ общественности с религией – такое соединение может разрядиться коллективным процессом свободной символизации переживаний, т. е. религией. А если это так, если соединение религии с общественностью не механично, а органично, то оно представляет символическую систему. Общественная жизнь – коллективная трагедия. Содержание общественно-трагической жизни – борьба Жены, коей мозаичный, невыявленный образ представляет общество, со Зверем. А содержанием этой борьбы является существеннейшая часть Апокалипсиса. Если вопрос о религиозной общественности поставить на эту точку зрения, единственно правильную, то общественность должна быть возведена к теургии. Различные схемы общественных отношений могут существовать лишь в постоянной внутренней зависимости от абсолютной свободы коллективного творчества (коллективный теургизм). Толпа, движимая морем оргийности, выбрасывает на свою поверхность златотканный ковер аполлинических видений, т. е. религиозных мифов, впаянных в жизнь. Извне эти мифы могут составлять, с одной стороны, ядро религиозно-общественных схем; являясь организующим началом умственных построений, с другой стороны образ их может эстетически воздействовать, являясь организующим началом единоличных, а также и коллективных переживаний. В противном случае у нас будет ряд социологических данных (внешний опыт) и основанных на эти данные построений, с другой стороны наличность наших переживаний, сущность которых может быть явлена как только религиозная сущность (внутренний опыт). Итак, в начале синтетической работы и здесь (в социологии) и там (в мистике) эмпирия. Можно или соединить опыт с опытом (т. е. социологию с религией), или выявить априорные условия опыта здесь и там. Попытка механического соединения социологических теорий и существующих религиозных организаций (в которых опять-таки механически объединены индивидуальные религиозные опыты в догматическую оправу, гнетущую жизнь духа) – такая попытка безрезультатна, случайна, не отвечает потребностям духа. Во втором случае отыскиваются и формальные условия всякой общественности (таковым условием является телеологичность ее) и формальные условия религиозного символизма: в последнем случае отыскивается философская оправа данной религии, открывается метафизичность всякой религиозной философии; далее эта метафизичность вскрывается указанием на то, что она оформливает лишь необходимые постулаты гносеологии и психологии, делая из них наиболее вероятные выводы. Обнаруживается, что религиозный символизм есть непременно символизм гносеологический, т. е. религия ни в одном пункте не может прямо нарушить теорию познания с ее постулатами: между этими постулатами и религией существует сложная зависимость. Метафизика может явиться для нас теперь в совершенно новом освещении, если она – наиболее вероятная дедукция из гносеологических постулатов, продолжая, так сказать, пунктиром теорию познания там, где последняя останавливается: метафизика в этом случае – замаскированная извращенная религия. Так должно рассматривать Фихте, Шеллинга, Гегеля, Шопенгауэра, чтобы названные философы не внушали чувство протеста ненаучностью.
Итак, общие нормы общественности – в вопросе о цели общества и общие условия религиозного символизма в вопросе о критических предпосылках из существующих символов перекрещиваются, ибо: телеология – необходимый постулат критицизма. И тут и там эмпирическое содержание религии и общественности перегоняется сквозь призму теории познания. Но далее: телеология сама по себе есть первоначальное, внешнее определение символизма, так что общественная жизнь, сводящаяся к осуществлению последней цели, которая сама по себе есть форма символичества всеединства – общественная жизнь есть недовыраженная жизнь религиозная. Проведение общественности до конца необходимо подчиняет ее гносеологическим символам религии. Но гносеологические символы религии образуются только в мифотворчеством <так!> процессе: отсюда общественность должна превратиться в свободную теургию. В. Иванов в статье (замечательной) «Дионисово действо» («Весы», 1905, № 2) говорит, что орхестра есть идеальный фокус форм народного голосования[1408]. Стало быть, гражданственность, возведенная к дионисиазму, приближает гражданина к мистерии и во всяком случае способствует мифотворчеству. Цель общества – победить хаотический механизм личных движений в цельный организм и притом индивидуальный. Воплощение этого организма в мир вызывает в нашей личной психике душевной и психике общественной образ <?> Жены в хаосе: тут как бы рождается «Темного Хаоса светлая дочь»[1409]. Нестройный Хаос борется за свои владения, на поверхности его бунтующих волн отражается начертание Зверя. Вот отчего вопрос о религиозной общественности, выход религии из индивидуального мистицизма (протестантские мистические секты) с одной стороны, и из универсального догматизма, с другой (католичество, православие), в общественную теургию есть преимущественно выход к Апокалипсису, ибо тут начинается действенная и окончательная борьба со Зверем, а также образование третьей религии – религии человечества: Человечество чтится как индивидуальное Существо. Прежде были религии Отчества и Материнства (Ветхий Завет, так называемое язычество), была религия Богочеловечества (Новый Завет). Теперь наступает соединение заветов в Завет последний – приближается Дух Утешитель. Образуется полная религия Троицы. Если религия Человечества стоит в связи с явлением Его Женственной Сущности в Лике Жены при посредстве коллективной мистерии, то отдельные начинающиеся вспышки кружкового теургизма должны ставить во главе мистерии Женщину: в этом рыцарский орден Грядущей. Сюда же и Царь-девица.
Теперь: отношение России к Германии. Германская культура рождает златокудрых, лазурнооких, златопанцирных героев, но отнюдь не рождает «Брунгильды», к которой Зигфрид стремится, побеждая Зверя (Фафнера), пробегая огневой пояс[1410]. Русская бледнозеленая сонная действительность от времени до времени озоряется вспышками вечных роз – зорь. Не способна ли явить Россия Царь-Девицу. Ведь Россия – Матушка (Mutterland), а Германия – Батюшка (Vaterland). В Германии золото + лазурь = белизна, в России зелень + розы = белизна. Не тут ли произойдет какое-то обретение сретения. Здесь что-то есть.
Простите, дорогой Эмилий Карлович: неожиданно все это набросал и сейчас же обокраду письмо для «Весов» (можно?), ибо неожиданно выскочившая схемка в уме все развивается, и было бы полезно ее выкрикнуть.
Но возвращаюсь к Вашему письму. Философ, о котором я Вам писал, – Фохт, поэт, четвертый после Пушкина – Брюсов. Бальмонт меня все менее и менее удовлетворяет разгильдяйством своего творчества: он не концентрирует ни мыслей, ни настроений: точно человек, экспромтом заговоривший недурно, но при этом обрызгавший Вас… слюной. «Слюнявые строчки» «Литургии Красоты»[1411] меня бесят. Наоборот Брюсов… Да: у меня с Брюсовым должна была быть эмпирическая, а не символическая дуэль, или, лучше сказать, тут символизм наших отношений хотел «окончательно воплотиться» (как черт в Ивана Карамазова)[1412]. Как-нибудь со временем расскажу, а то пришлось бы рассказывать горы, горы переживаний!!! Вообще слишком много переживаю: каждый миг слишком туго набит – рвется: не успеваю осмысливать переживаемого. На платформу моей души ежечасно приходят товарные поезда; миг за мигом – тюк за тюком, туго набитый, выносится на платформу. Едва отодрал с помощью молотка доску у одного ящика, чтоб посмотреть на содержание его, как тысячи новых тюков громоздят, громоздят. Кругом меня Монбланы неиспользованного товара. Душа моя – платформа – трещит под тяжестью, а десятки свистков, подходящих поездов, угрожают новыми тюками переживаний… Вот теперь хлопочем об открытии в Москве рел<игиозно‐>философского общества[1413], чтобы это общество при случае могло стать органом новой партии (религиозно-общественной), а это было бы важно в виду собора[1414]. Помимо того: есть связь кружков московских с петербургскими. Объединяемся, организуемся. Кроме того: умножаются аргонавты и вырождается аргонавтизм (я уже отхожу от них, хотя обещал для их сборника «В поисках Света»[1415] статейку и рассказ, сборник выйдет после Пасхи)[1416]. Вообще популяризация идет вовсю: один из аргонавтов (правда, нищенский: Астров) будет возвещать принципы религиозной общественности со столбцов «Русских Ведомостей» (??!! ΄ξξΥΛ! <?>[1417]). Делаю вид, что все меня лично касается. «Вопросы Жизни» будут печатать рефераты, читанные в проектируемом нами Обществе, и стенографически записанные прения[1418].
Все, что Вы писали о Ницше, глубоко меня захватило: все это – выявление «милого образа», созданного воображением. Да, Ницше – святой! Пока нигде не пишу, кроме «Весов», да и то только в апрельском № выйдет моя статья «Апокалипсис в русской поэзии»[1419]. Дорогой Эмилий Карлович, всей душой рвусь к Вам, но главное… истратил сразу, глупо все деньги на книги: сижу без гроша в кармане. Вот основная причина.
Как хорошо, что Вы приостановили о Шмидт. Бедная! На днях даем вечер в пользу ее старушки матери в одной частной квартире, думаем собрать около ста рублей[1420]. Дорогой Эмилий Карлович, надеюсь получить от Вас еще, еще письма: ужасно они меня радуют. Христос с Вами.
Остаюсь горячо любящий Вас Б. Бугаев.
P. S. Посылаю стихи.
Посв. А. А. Кублицкой-Пиоттух
С. А. Полякову
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 44. Две пометы красным карандашом: «XLV».Ответ на п. 100.Это письмо не было своевременно отправлено адресату; послано вместе с п. 113.
102. Метнер – Белому
Н. Новгород 8 апреля 1905 года.
Только что дочитал (и дострадал) до конца Житие Фридриха Ницше[1423].
Среди последних десятков страниц попадаются совершенно невыносимые по величию и трогательности места.
Когда, наконец, и кем будет переведена на русский язык эта исключительная по своим достоинствам биография, этот труд, в котором сочеталась нежность и грация любящей женщины (и какой женщины: сестры Ницше, которую он считал своей самой близкой ученицей) с мужественною благородною правдивостью и «не мудрствуя лукаво» летописцев. – ??.. –
Увы! Мне некогда заняться этим, пока я – цензурую. Да и не знаю, сумею ли? Боюсь, что безграмотен.
Ницше любил и уважал искренних христиан. Один из таких сказал как-то, что для современного христианства вечным упреком будет тот факт, что такой человек, как Ницше, не мог быть христианином. Итак – неудовлетворенность христианством как раз вследствие глубочайшей религиозности, которою он отличался с самого раннего детства. – «Двенадцати лет» (пишет он одному другу) «я видел Бога во всем его сиянии»…[1424] Бог это море; человек это озеро, соединенное с морем проливом (я и отец – одно); надо запрудить (временно?) пролив… чтобы подняться выше… – Это богоборство потомка жрецов. (NB. Предки Ницше были пасторами, как со стороны отца, так и матери). Ко Христу Ницше до конца сохранил, по свидетельству сестры, нежную любовь. Он очень не любил апостола Павла…[1425] –
«Когда я был молод» (пишет Ницше в еще не изданном своем Ecce Homo, написанном для сестры и для немногих друзей, но не для печати)[1426], «я встретил одно опасное божество, и я бы никому не хотел поведать о том, что пробежало тогда по моей душе как хорошего, так и дурного. Тогда я своевременно научился молчать, а затем понял, что надо научиться говорить, чтобы надлежащим образом уметь молчать; что человек с задними мыслями нуждается в передних, как для других, так и для себя; ибо последние необходимы ему как для того, чтобы отдохнуть от самого себя, так и для того, чтобы сделать возможным совместную жизнь с другими»[1427]. Ницше, как он сам говорит, надел «маску». Он разгуливал по Европе в качестве отставного профессора, скромного ученого, всегда со всеми любезного, разговорчивого, безукоризненно, хотя и очень небогато, одетого… (Оказывается, он еле-еле сводил концы с концами). В его внешности было что-то военное; это при мягкости и невероятном аристократизме и изяществе; «Незнакомый друг» «старинной осанки», «должно быть, военный в отставке»; «в шинели, отделанной выцветшим мехом»[1428]; он часто походил на созданный Вами образ.
Говорят, перед смертью мгновенно пробегает в воображении вся жизнь… Перед самою болезнью Ницше написал как бы автобиографию Ecce Homo. Она будет издана после смерти всех его сверстников. – Последний год его творческой и сознательной жизни (1888) был преисполнен всяческих неудач и неприятностей. Его начали травить вагнерианцы и философистеры. А друзья, к которым он был, впрочем, даже по словам самой сестры, не совсем справедлив в своем раздражении, за последнее время редко вступали с ним в общение. Не только непонимание со стороны некоторых из них и небрежное невнимательное чтение его произведений со стороны других, но и вполне основательное огорчение по поводу его чрезмерных злобных и часто несправедливых нападок на все немецкое послужило причиной к одному разрыву и отчуждению за другим. Впрочем, я не хочу сейчас здесь касаться этих непонятных и неприятных (слишком человеческих) выходок Ницше. Его страдание искупило бы и не такие грехи и недостатки. Покинутый всеми, вдали от своего единственного друга – сестры, – он яростно защищался от нападавших на него со всех сторон гномов, но один из них нанес ему жестокий удар, который окончательно подорвал его силы. Некто написал ему анонимное письмо, в котором сообщалось о мнимой измене сестры его взглядам и упоминалась какая-то анонимная статейка о Заратустре, будто бы сочиненная с ведома и с согласия сестры ее мужем Ферстером. – Ницше в глубочайшем отчаянии написал Ферстеру письмо, которое заканчивалось словами: «Я беспрестанно принимаю снотворное, дабы заглушить боль, и все-таки не могу спать; сегодня я приму столько, чтобы потерять рассудок»[1431]. Этого письма, вслед за которым Ницше действительно потерял рассудок, Ферстер жене не показал; но он пять месяцев спустя после того как Ницше заболел – скончался[1432], и жена нашла у него это письмо – (Вскоре после того она возвратилась в Европу и посвятила себя уходу за братом). – Ницше последние годы страдал от бессонницы и принимал хлорал и еще какое-то таинственное, медицине не известное, средство, которое ему подарил случайный знакомый голландец (не летучий ли?)[1433] с острова Явы. Средство это, по его собственным словам, было настолько сильно, что одной капли было достаточно, чтобы впасть в глубокий и продолжительный сон, а если принять две капли, то перед сном впадаешь в необычайно радостное пьяное настроение; от такого приема Ницше однажды начал хохотать до упаду и, упав на ковер, корчился в судорогах от смеху; NB средство это отнюдь не опий; после него не остается ни следа слабости и упадка сил. – Так как впоследствии из расспросов первых свидетелей болезни Ницше сестра его узнала, что он очень долго и страшно до безумия хохотал, то совершенно очевидно, что, написав вышеупомянутое письмо к Ферстеру, Ницше просто отравился этим неизвестным средством; это предположение косвенно подтверждается также и тем, что врачи только по аналогии констатировали у него паралич, так как далеко не все симптомы этой болезни были налицо, да и развитие ее было совсем sui generis[1434]; некоторые врачи основательно сомневались, паралич ли это?[1435] Скорее это был результат отравы неизвестным зельем (летучего) голландца??? Странное было здоровье у Ницше (медленное кровообращение, неизменная трезвость и прозрачность рассудка, тонкие и крепкие нервы, безукоризненные зубы и густые волосы), странная и болезнь, не поддающаяся ни лечению, ни определению. Всю жизнь ни болен, ни здоров; падение с лошади, дифтерит, дизентерия, болезнь глаз, желтуха, мигрени, инфлуэнцы, бессонница и при этом неизменно цветущий вид; даже и во время «сумасшествия»; почти до последнего года жизни. – Итак, что он отравился голландским зельем – очевидно. Это произошло в Турине в последние декабрьские дни 1888 года. Вероятно, он несколько раз помногу принимал голландских капель, так как много и долго хохотал. Затем после сна он вышел на улицу, но упал у подъезда и был отнесен в свой номер служителями отеля и положен на диван, где он пролежал молча и без движения двое суток; затем встал и начал страшно громко играть на рояли. Потом, разговаривая сам с собою, опять вышел на улицу и шатался опять очень долго не возвращаясь домой.
Только Ваши чудные стихи, дорогой Борис Николаевич, могут служить поддержкою для воображения, когда оно пытается создать образ гениального Фрица, в безумии блуждающего по туринским улицам… Когда мы с Анютой[1439] дочитали вчера биографию Ницше, я взял Золото в лазури и закончил вечер декламированием Ваших стихов.
Утешившись, вероятно, от ходьбы на улицах, Ницше возвратился в свой номер и сел писать сначала письма всем друзьям; своим безукоризненным почерком с совершенно правильной орфографией, не путая адресов; только он писал иногда умершим: Шопенгауэру, Вагнеру, Бисмарку; а подписывал свои письма «Der Gekreuzigte»[1440] или «Dionysos»; затем он писал различные фантазии; к сожалению, их впоследствии уничтожили, так как думали, что он может выздороветь; но кое-что осталось. Так он пишет, что настал момент синтеза Христа с Дионисом, что он, Ницше, этот воплощенный синтез, разорванный своими врагами, бродит на берегах реки По. Одно из писем, подписанное «Der Gekreuzigte» и адресованное его другу профессору Овербеку, побудило последнего немедленно выехать в Турин. Сначала его поместили в психиатрическую клинику, а затем передали на попечение матери, жившей в Наумбурге. Через год только приехала из Америки сестра. Он встретил ее на вокзале с цветами в руках и назвал ее детским прозвищем «mein liebes Lama»[1441]. Когда умерла мать – переехали в Веймар[1442], в тот дом, который я, к сожалению, видел только снаружи. –
Годы в Веймаре – это счастие. Иногда сестра плакала. Тогда он спокойный радостный величественный говорил ей: почему ты плачешь, сестра моя; ведь мы вполне счастливы… – Больной, он помнил из прежней жизни только хорошее. Когда вспоминал о Вагнере, то повторял: как я любил его! – Он читал и, когда ему подавали новую книгу, он говорил, улыбаясь: а когда-то ведь и я писал недурные книги!.. – Он носил белый талар и своим взором, обращенным вовнутрь, походил на им самим созданный образ Гераклита[1443]. –
Он как новый Христос, просиявший учитель веселья. – И любя и грустя, всех дарил лучезарностью кроткой[1444]. –
Он был необыкновенно кроток и нежен со всеми, кто навещал его. Сестра приводит по этому поводу два отрывка Lichtenberger’a и баронессы Ungern-Sternberg, последняя описывает, как Ницше слушал музыку: «это зрелище для богов, которое мне суждено было видеть», – говорит она[1445].
9 апреля 1905 года. – Как поживаете? Чтó пишете? Дорогой Борис Николаевич! Вы обязательно сообщайте мне №№ тех изданий, где помещены Ваши работы. При ограниченности моего досуга и при медленности темпа моей духовной энергии я нахожу возможным следить только за Вами; остальные «новые» русские меня менее интересуют.
Я очень рад, что чувствую себя все менее и менее русским. Иначе я бы очень, очень страдал от того, что теперь происходит[1446]. Здесь я не мог бы, подобно Вам, так отрешиться от «политики». Ваши общественные инстинкты как-то в стороне от государства. Кстати, Ницше мечтал об основании монастыря на берегу Средиземного моря; не раз при этом он говорил буквально об… аргонавтах. Вообще поразительное совпадение нередко между Вашими (нашими) переживаниями и его. Но… но с брюсовщиной и бальмонтовщиной он имеет общего немногим больше, нежели с горьковщиной. Некоторые его страницы прямо в «морду» бьют Валерия Яковлевича и Константина Авксентьевича[1447], так же как и Алексея Максимовича. –
Habent sua fata… mediocres[1448]. Как будут изумляться через два-три десятка лет, что Максима Горького и Римского-Корсакова считали гениальными, потому… что они пострадали за «правду»[1449].
Послезавтра на страстной приезжает на две недели Коля[1450]. – Это установилось уж как неизменное правило: в праздники он в Нижнем. Жить нам врозь становится все более и более невыносимым. Я не дождусь и в то же время боюсь того момента, когда упразднят цензуру. Боюсь потому, что решительно не знаю, чем «снискивать пропитание». Не дождусь – потому, что мы уедем тогда втроем в Германию. А Борис Николаевич приедет к нам в гости? Надеюсь, впрочем, что Вы и до Германии приедете к нам в Нижний?! Летом? Поклон Вашей маме. Ваш Э. Метнер.
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 52.
103. Метнер – Белому
Н. Новгород. 1905 г. Со светлым праздником поздравляем Вашу маму и Вас[1451]. Метнеры.
Получили мое письмо?[1452]
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 53. Открытка. Датируется по почтовому штемпелю: Н. Новгород 23. IV. 05.
104. Белый – Метнеру
Как мне писать Вам? Я так виноват перед Вами[1453]. Но ужас усугубляется оттого, что я уже Вам ответил длиннейшим письмом, чуть ли не целой статьей, запечатал в огромный конверт, и представьте – в ту пору у меня иссякли деньги, и я должен был ждать их, чтобы послать. Потом грянуло на меня множество дел, хлопоты по устройству разных собраний небольших кружков, хлопоты по учреждаемому обществу в память Вл. Соловьева[1454], наконец устройство лекции Мережковского, которое тяжестью свалилось на меня[1455]. Во дни приезда Мер<ежковских> я был у них чем-то вроде церемонимейстера, приводил к ним, знакомил. Наконец дела с «Х<ристианским> Б<ратством> Б<орьбы>»[1456] и болезнь мамы: воспаление. Все это до такой степени заполонило, что письмо так и осталось неотосланным. И доныне оно лежит в Москве[1457]. Но я так часто мысленно к Вам переселялся, мой дорогой, милый Эмилий Карлович, так хотел бы с Вами беседовать. Зачем пространства смеют разделять людей! Неужели Вы долго еще пробудете в Нижнем, Эмилий Карлович! Кричу это почти с досадой, потому что хочу Вас видеть, и не могу даже писать!
О, мне близко Ваше настроение. Теперь во мне протекает какая-то эволюция, которую не умею оформить, но, кажется, от христианства (не от Христова) к… музыке, Ницше и переживаниям Хандрикова в Орловке…[1458] Я счастлив своей свободой и помышляю теперь теургию свести к антропургии. Я все больше и больше начинаю понимать, что такое человек: всякая религия мне кажется теперь иногда не целью, а средством найти самого себя, т. е. найти в себе человека (не сверхчеловека). Человека забыли и всякие – исты, и мистики равно, и даже Ницше со своим сверхчеловеком.
Человеческое – это вечное Христово чувство без отнесения его к Богу. Культ Христова чувства во имя его самого во мне и для меня. Иногда меня страшит срывом путь человека, ибо из всех путей это наиболее тернистый. Я – средство, но я же и цель. Я как средство – эмпирич<еский> человек, я – как цель – Бог. Дорогой Эмилий Карлович, что, как Ваша повинность?[1459]
Я думаю пробыть у Сережи[1460] в Дедове до 10<-го>. Мой адрес до 10-го июня Моск<овская> Николаевская ж. д., станция Крюково. Сельцо Дедово. Имение А. Г. Коваленской. Мне. После десятого у меня ряд приглашений – всё по Николаевской ж. д. Буду у Блок на Подсолнечной, у Танеева в Клину, у Морозовой в Твери, у Мережковских под Петербургом[1461]. В это время адрес мой московский. С 15-го июля я наверное в Серебряном Колодце: Тульской губ<ернии> г. Ефремов. Сер<ебряный> Кол<одезь>. Мне.
Да хранит Вас сила человечества, дорогой Эмилий Карлович.
Глубоко любящий Вас
Б. Бугаев.
P. S. Мой привет А<нне> М<ихайловне>[1462].
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 45. Помета красным карандашом: «XLIII».
105. Метнер – Белому
Н. Новгород 3 июня 1905 года.
Никогда еще не были Вы, дорогой Борис Николаевич, так близки мне; Вы приблизились вплотную к моей религии, к религии Гёте, к германскому эзотеризму, к гуманизму (в глубочайшем смысле слова), к идее о божественности человека, к единому невыразимому внутреннему мотиву всего германского творчества, который на различных эксотерических плоскостях проявлялся то как пантеизм, всегда с различными своеобразными оттенками, то как «историческая школа» от Гердера до Гегеля, то как индивидуализм, бесконечно расширяющийся и оттого перегибающийся в коллективизм, то в теософию (Шлейермахер), то в не похожий на французский и английский социализм Фихте, то как вагнеризм и ницшеанство. Но все они об одном: от Нибелунгов эпохи переселения до Нибелунгов Вагнера – одно кольцо[1463]. Даже христианство – только окрасило, вошло только элементом, а не заставило свернуть с своего пути эту интимную нескáзанную мистику германцев.
7 июня. Я все больше и больше убеждаюсь в изумительном единстве, цельности всей германской культуры, которая есть контрастирующая в своих частях симфония с главной темой о человеке. Есть нечто, в чем согласны между собою столь разные натуры, как Гёте и Кант, Шопенгауэр и Гегель, Шиллер и Ницше, Бах и Бетховен, Брамс и Вагнер. То, что разделяет их, – второстепенно. Разумеется, я далек от мысли утверждать, что «гуманизм» (беру это слово в новом, эсотерическом религиозном смысле, хотя я думаю, что старые гуманисты про себя и между собою уже разумели под этим нечто большее, нежели обозначение оппозиционного общественно-литературного движения) –
– есть какая-то привилегия германской культуры. Это – общечеловечно, но сильнее всего выразилось в арийстве, в особенности у немцев. Замечательно, что Гейне и Берне (евреи) уже резко отличаются от общего хора. В них «антропургический» мотив надломлен, преодолен, приправлен чем-то негерманским, лишен того возвышенного всепримиряющего широкого оптимизма, денатурализован уродливыми остатками старинного хронического теизма в виде лязганий и киваний на стащенных в реку перунов и других проявлений эмансипированных и эмансипирующих вольноотпущенников.
Подобно тому, как нелепо видеть в лютеранстве застывшую религиозную систему, подобно тому, как лютеранином является не тот, кто слепо и строго в христологии и в религиозной практике следует Лютеру, а тот, кто следует его завету непосредственного и свободного отношения к Священному Писанию, так и нельзя и не должно считать, что одной нации дано было исчерпать известный мотив: если что следует занять у вождей германской культуры, так это Unbefangenheit (непереводимое одним словом понятие, которое означает отношение к предмету человека, не дающего себя словить чему-либо постороннему); это как бы наивность, но сознающая себя наивностью; это «объективность», но не устраняющая «субъективности» и не боющаяся <так!> ее; это беспристрастие, но не только не переходящее в бесстрастие, а, наоборот, сопровождающееся тем большею страстностью, тем сильнейшим и радостнейшим пафосом, чем меньше остается между композитором и темою (между человеком и человеческим) препон, мешающих непосредственному отношению, препон в виде религиозных философских литературных эстетических политических и прочих предрассудков предпосылок привычек… Повторяю: это не значит освободить себя догола, оттолкнуть от себя все влиятельное; нет; принять все, но только как элемент, усложняющий, но не доминирующий… Недосягаемый образец – Гёте. –
Я, кажется, не раз цитировал Вам этот афоризм Гёте, смысл которого: пусть «наплывает»; оставайся человеком, чтобы быть богоподобным. Это единственный догмат нашей религии. Дорогой Борис Николаевич! Вспомните то, что Вы всегда называли пунктом наших разногласий (сюда относится: Кант – Шопенгауэр; пророк или гений и т. д.); вспомните мои предостережения, когда я замечал в Вас родственную Мережковскому тенденцию к мистическому «деланию»… То, что Вам, быть может, казалось во мне квиэтизмом, схоластичностью, преклонением перед авторитетами и гениями, германофильством, – это была как раз свобода, адогматизм вследствие внутренней дисциплины: принимаю к сведению и продолжаю жить и делать свое человеческое дело… Я все ждал, когда Ваша богатейшая изо всех русских натур преодолеет (присвоит) жизне– и человеко-враждебные течения; подчеркиваю: нaдо справиться с врагом и затем помирить его с собою; только побежденный, а не примиренный противник не перестал быть врагом; не надо перестать быть мистиком и превратиться в «мыслящего реалиста» или просвещенного позитивиста и либерала; не следует только быть одержимым мистическими воззрениями; то же можно сказать приблизительно о декадентизме; последний в чистом академическом своем виде, раз только он владеет кем-либо (а не кто-либо владеет им), есть искажение высокого гуманизма, есть антигетевского par excellence[1465]. Вот почему я всегда был настороже; даже их (Брюсова, Бальмонта etc.) простота – хуже воровства: их уравновешенность, естественность, реальность: timeo danaos et dona ferentes[1466].
8 июня. Вспомните необычайно сгущенную и нередко зловещую мистическую атмосферу 1902–1903 гг.! Все мы чувствовали, что многие признаки сулят беду… И она пришла. Но… были и утешительные симптомы. Надо только уметь (а если не умеешь, то научиться) все свои несчастия (и даже свои недостатки) преобразовывать в элементы положительные… Это слабость и узость – бояться желтой опасности, думать, что надо уничтожить японцев, вместо того, чтобы принять их, признать их и конкурировать с ними; это слабость и узость – бояться демократической опасности (для культуры России, еще не имеющей предпосылок культурных, нажитых до революции, – эта опасность страшнее желтой); думать, что надо подавить возникшее движение (даже если бы существующий режим и проявлял сильные положительные стороны – чего нет); надо додумать демократию до конца, до Соединенных Штатов[1467], тогда явится (если только Россия действительно жизнеспособна в культурном отношении) перегиб к новой аристократичности. Итак, дорогой Борис Николаевич! Смело и решительно на борьбу! Не делайте только безрассудств: Вы очень нужны; если бы не было Вас, я был бы близок к тому, чтобы бесповоротно поставить крест над Россией; слишком много пассивности; активна главным образом подлость, пошлость, смердяковщина… Полное отсутствие ритма, формы; даже воли к ритму и форме… Никто не умеет ни повелевать, ни повиноваться ни вверху, ни внизу terra marique[1468].
Из Вашего письма вижу, что Вы вступили на путь истины (с моей точки зрения). Льщу себя мыслью, что Ваша встреча со мною, постоянно тащившим Вас за фалды студенческого мундира, когда Вы слишком отдавали себя в распоряжение мистицизма и декадентства, содействовала тому, что Вы вовремя обратились к «человеку». Думаю также, что некоторую роль в этой, как Вы говорите, «эволюции» сыграли… японцы… Нет, решительно надо поставить памятник в России – японцам; в Германии – Наполеону…[1469] Дело в том, что… за несколько дней до получения Вашего письма я собрался было написать Вам приблизительно нижеследующее: дорогой Борис Николаевич! Хотя вообще избранные натуры должны держаться в стороне ото всякой политики, должны брезгливо относиться к революции, но есть моменты в жизни народа, когда даже аристократичнейшее существо, если оно в то же время чувствует себя детищем этого народа, обязано, презрев всякую чистоплотность, преодолев отвращение, принять то или иное участие хотя бы в революции; даже Гёте благословил немецкое оружие на борьбу с обожаемым им Наполеоном, когда вспыхнула война за освобождение[1470]. Вот что я хотел Вам написать незадолго до получения Вашего письма; но не писал, т<ак> к<ак> не знал, в какой форме, в каких выражениях обратиться к Вам с таким воззванием… Ваше письмо, в котором Вы говорите об «антропургической» эволюции и о «Х. Б. Б.»[1471] (подробностей об этом союзе не знаю), – облегчило мне задачу: оказывается и взывать не надо, а только откликнуться.
1) Пожалуйста, пришлите мне Ваше письмо, которое Вы написали и не отправили за отсутствием презренного металла. Узнайте, собирается ли к нам в июле Алексей Сергеевич и если да, то при встрече с ним передайте это письмо ему, дабы избежать расходов[1472]. Может быть, и сами соберетесь??
2) Если не трудно и безопасно, напишите кое-что о «Х. Б. Б.» Впрочем, не настаиваю.
3) Вы пишете: «человека забыли и всякие – исты и мистики равно, и даже Ницше со своим сверхчеловеком». Разумеется, отчасти это так: Ницше несколько пересолил; некоторая disgregatio[1473] в его инстинктах, его кровях, воспринятых им элементах, привела его к надрыву и сверх-человеку; вот где сказался его полонизм (если только верно, что некоторые отдаленные предки его были поляки); но все же Ницше настолько германец, что не мог не внести поправок (хотя и не успел их оформить для печати) в свое учение о сверхчеловеке, и этими поправками он сблизил свою доктрину с гуманизмом. Я пишу об этом – несколько изумленный; – ведь Вы получили от меня, кажется, два (если не три) письма, где я подробно касаюсь тех мест биографии (недавно вышел последний том), где сестра-автор опровергает лжетолкования разных напыщенных ницшеанцев, доведших до карикатурности учение о сверхчеловеке[1474].
4) Меня призовут на службу 25 июня. Возможны четыре случая: 1) полное освобождение; 2) новая отсрочка; 3) признание годным, для выполнения нестроевых должностей; 4) признание безусловно годным. Последнее едва ли, но sub[1475] 3 – возможно, и меня могут услать в качестве начальника эшелона или поезда и т. п. Это будет ужасно!!! Я просто не хочу!
5) Надеюсь, что здоровье Вашей мамы восстановилось. Пожалуйста, передайте ей привет от Анюты, меня и Коли…[1476] А еще поклонитесь от меня (как пишут в деревенских письмах) Маргарите Кирилловне[1477]: скажите ей, что только внезапный переезд мой в Нижний-Новгород не дал мне воспользоваться ее любезным приглашением бывать у нее… А еще поклонитесь Сергею Михайловичу…[1478] А еще поклонитесь Сергею Ивановичу Танееву от Коли. Кстати, как могло случиться, что Вы подействовали живительно, гальванизировали эту «сухую материю»? Вы совершили чудо? Ведь это не человек, а контрапунктическая машинка! Впрочем, он заслуживает всяческого уважения.
В-шестых – до свиданья! Будьте здоровы и шествуйте благополучно и энергично по пути гуманизма… На досуге обязательно займитесь немецким языком, без него для Вас будет только наполовину понятен как Гёте, так и Ницше, так и немецкая музыка (т. е. вся музыка) и многое другое. Крепко жму Вашу руку. Горячо любящий Вас Emil.
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 54.Ответ на п. 104.
106. Метнер – Белому
А прапорщик запаса полевой пешей артиллерии Э. К. М. освобождается от военной службы по болезни[1479].
Получили ли Вы мое письмо (заказное)?[1480]
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 55. Открытка; на обороте портрет: «Временно-Командующий Манчжурской Армией Генерал-Лейтенант Н. П. Линевич». Датируется по почтовому штемпелю: Н. Новгород. 24. VI. 1905.
107. Метнер – Белому
Н. – Новгород 27 июня 1905 г.
Дорогой Борис Николаевич, бесконечно рад Вашему приезду[1481]. – Приезжайте поскорее и как можно на бóльший срок. Ждем оба. Ваш Э. М.
Советую выехать в четверг скорым (стоимость билета одинакова) или в среду с почтовым…[1482] Тогда, может быть, Вы еще застанете здесь Колю…[1483] Только не с товаро-пассажирским.
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 56. Открытка. Почтовый штемпель отправления: Н. Новгород. 28. VI. 1905.
108. Метнер – Белому
Письмо получил и сейчас же ответил открыткой, приглашающей Вас выехать в среду или четверг[1484]. Опасаясь, что она не дошла, повторяю приглашение. Коля сегодня уезжает. До свиданья. Ждем Вас с нетерпением.
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 57. Открытка. Датируется по почтовому штемпелю: Н. Новгород. 1. VII. 1905.
109. Метнер – Белому
В ответ на Вашу радостную для меня открытку ответил немедленно открыткой, приглашающей Вас к нам сейчас же; два дня спустя опять написал открытку с таким же приглашением; обе были отправлены по Вашему московскому адресу[1485]. Еще раз выждав время, достаточное для Вашего сюда приезда, пишу третью в имение[1486]. Ждем Вас с нетерпением каждый день; просим приехать надолго. Если не можете сейчас или вовсе, напишите на случай, что кто-н<ибудь> еще затеет сюда собраться.
Ваш Э. М.
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 58. Открытка. Датируется по почтовому штемпелю: Н. Новгород. 6. VII. 1905.
110. Белый – Метнеру
Только что вернулся от М. К. Морозовой[1487], куда совершенно неожиданно попал вместо Вас: моя судьба вечно все путать. С глубоким прискорбием должен отложить мое желание и глубокое удовольствие видеть Вас, дорогой Эмилий Карлович, но принужден ехать в деревню уже потому, что… денег осталось только до деревни. Если позволите, осенью надеюсь непременно быть у Вас в Нижнем, c каждой неделей у меня растет потребность Вас видеть, с Вами говорить, а пока… сердито ругаешь бумагу за то, что она не способна передать хотя бы тысячную долю того, что рвется из души к Вам навстречу. Из всех, кого я знаю, Вы для меня едва ли не самый близкий друг, кроме… одного, двух… Вот почему теперь, когда я весь разделился на 1) манекена, способного валять разговоры с кем угодно и на какую угодно тему, 2) на человека, который может говорить молчанием с близкими, – вот почему теперь мне особенно трудно писать, ибо эпистолярный стиль совершенно не допускает откровенной интимности, какая вспыхивает в разговоре. Я пишу Вам, я сержусь, что не могу Вам написать горы бумаги, и с… грустью обрываю письмо. Дорогой Эмилий Карлович, Христос с Вами. Вы мне – совсем родной. Не забывайте меня. Я всегда о Вас помню. Спасибо за любезное приглашение. Радуюсь еще и еще Вашему освобождению от солдатчины[1488]. Я до 15-го августа в деревне[1489].
Остаюсь глубоко любящий Вас
Борис Бугаев.
P. S. Анне Михайловне[1490] мой глубокий поклон и привет. Открытки и письмо получил[1491].
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 46. Помета красным карандашом: «XLIV».
111. Метнер – Белому
Н. Новгород. 12 июля 1905 г.
Пишу Вам наскоро. Не уверен, что получите письмо. После Вашего поздравления и извещения о сборах сюда, в Нижний[1492], я немедленно отправил одну за другой с приличествующими промежутками три открытки (две по московскому и одну по тульскому адресу) с приглашением Вас немедленно приехать[1493]. Я не знаю, чтó за причины Вашего молчания и откладывания (или отставления) нижегородского визита, но сим торжественно объявляю Вам, что мое (точнее: наше) желание видеть Вас здесь нисколько не уменьшилось. Если Вам почему-нибудь нельзя приехать (теперь или вовсе), что очень, очень жаль, во всяком случае напишите, как и что. Получили ли Вы мое письмо, в котором я пишу о «гуманизме»?[1494] Еще раз повторяю: пожалуйста не церемоньтесь и скажите прямо: что вследствие того-то и того-то Вы приехать не можете. Дело в том, что я беспокоюсь, не арестовали ли Вас; ведь теперь немудрено ни за что ни про что попасть не только в кутузку, но и на кладбище или, выражаясь латинскими терминами, быть отправленным не только ad matres[1495], но и ad patres[1496]. – Народ выделяет черную сотню, правители – опричников: и то и другое обнаглело до неприличных степеней, о чем, между прочим, свидетельствуют события в Н. Новгороде 9–10 июля[1497].
Дорогой Борис Николаевич! Я очень удручен, и мне хотелось бы бросить службу; да не знаю, чем (в материальном отношении) ее заменить.
Пишите! Привет Вашей маме. Анюта[1498] кланяется. Крепко жму Вашу руку! До скорого (?) свидания. Горячо любящий Вас
Э. Метнер.РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 59.
112. Метнер – Белому
Н. Новгород 10 августа 1905 года.
Передо мною лежит листик с дюжиной имен лиц, которым я по тем или другим основаниям обязан написать письма. Среди последних есть срочные, но я останавливаюсь на Вашем имени не только потому, что Вам мне всегда хочется писать, но и по другой причине: я простудился (насморк и проч.); в «неглиже»; а таким можно являться только перед друзьями. Накопились у меня письменные долги, во-первых, потому, что я с самого моего освобождения от солдатчины, следовательно 1½ месяца тому назад и до сих пор вместо того, чтобы чувствовать себя все лучше, как раз наоборот: впрочем, упадок после полуторагодичного неестественного болезненного напряжения. Я очень серьезно болен нервно. Устал, устал до идиотизма. А во-вторых, отчасти, у меня есть несколько полуделовых писем; дело в том, что я твердо решил в скором времени оставить ту разбойничью среду, в которой я очутился, поступив на государственную службу; лучше быть приказчиком у Мюр и Мерилиза[1499], нежели у Н. А. Романова и Ко; государство, принадлежащее Мерилизу и им управляемое, несмотря на явно меркантильные цели, им преследуемые, гораздо нравственнее, нежели романовское; Мерилиз (мой отец его хорошо знает) работает без устали, во все входит сам и не отдает своих подданных на съедение разного рода Треповым[1500]. –
Кроме того я чувствую, что мне надо серьезно отдохнуть где-нибудь на курорте. И притом не менее месяцев четырех. Вообще хотя и не без трепета, но все же решительно я намереваюсь приступить к крутому перевороту в своей жизни. – Пока Вы об этом молчите. Я не стану Вас утомлять подробностями; отчасти Вам мой план переселения на несколько лет в Германию с Колей[1501] – известен. Я не премину уведомить Вас в сентябре, следует ли приезжать сюда гостить или мы вскоре должны встретиться в Москве. Так вот, собираясь сделать важный шаг, я счел необходимым посоветоваться кое с кем из близких и старших; отсюда эти полуделовые письма, о которых я упомянул и к которым отчасти принадлежит и это письмо к Вам. Именно от Вас я хотел бы узнать, каково состояние журналистического рынка? Что это за саблинские «Отголоски»?[1502] Не затевается ли у Вас и ваших с Маргаритой Кирилловной какое-нибудь издательское предприятие? Как поживают Весы? Вопросы жизни? Северные Цветы?[1503] Гриф???! Я ничего не знаю, т<ак> к<ак> не следил в 1905 году за журналистикой. Я даже не знаю, где и что Вы написали за это время? Поставьте меня в курс дела и сообщите при случае, если знаете, сколько приблизительно платят за лист перевода с немецкого непоэтического произведения? Как Вы думаете, если не считать газетной работы, мог ли бы я переводами с немецкого зарабатывать круглым счетом в месяц рублей 50–75? Не подумайте, пожалуйста, что я даю Вам какое-нибудь обязательное поручение: пожалуйста, не хлопочите специально и не тратьте времени на какие-нибудь письма и визиты; только при случае наведите справки и имейте в виду предложение моего труда. – Вот и все дело, дорогой Борис Николаевич, которое я имел к Вам. Прибавлю, что я надеюсь, вырвавшись из петли, в которую попал, и впервые обратив серьезное внимание на восстановление своего уже 10 лет тому назад пошатнувшегося здоровья, оказаться более или менее деятельным корреспондентом. Как Вы думаете?
Я, кажется, писал Вам кое-что о нижегородском побоище; об июльской контр-революции на Острожной площади и Волжских пристанях. Впрочем, Вы из газет знаете подробности, которые на деле гораздо ужаснее и возмутительнее, чем в описаниях бесцензурных органов печати. Об официальном сообщении я, конечно, не говорю, так как это сплошная ложь…[1504] Я имею неопровержимые доказательства, что бойня была организована администрацией при помощи нанятой «черной сотни» и что, имея все средства предотвратить не только столкновения, но даже и самую демонстрацию путем, напр<имер>, разведения моста (плашкоутного) администрация умышленно бездействовала, дабы не упустить случая создать террористическое настроение. Губернатор слишком неуклюж для такой комбинации, и очевидно, что он действовал по плану, по трафарету, раз навсегда выработанному Треповым. Но вот что подло: он не постыдился упрекнуть меня в том, что своею снисходительностью к печати я содействовал брожению умов, которое и явилось причиной (?) ужасных событий 9–12 июля!!!!! Разумеется, я разругался с ним[1505]. Но толку от этого мало, и удовлетворить меня мое только сравнительно независимое от Его Превосходительства положение не может, раз никто не защищает меня от его возмутительно-несправедливых и прямо наглых нареканий. С больной головы на здоровую… Теперь я уже несколько успокоился… но первое время думал, что лопну от бессильной злобы. Надо быть, подобно мне, бедным и больным человеком, чтобы оставаться после подобного бесстыдства; неужели он думает, что я не знаю, кто виноват!?. Я живу в каком-то кошмаре. До того, как меня освободили от военной службы, я в течение 1½ лет по ночам командовал во сне батареей; а теперь каждую ночь ругаюсь с губернатором или заступаюсь за избиваемых… И вот я решил уйти; но уйти совсем, несмотря на то, что мне предлагают место в Московском Цензурном комитете; вон из этого «желтошафранного» болота; или лучше просто: подальше от этой коричневой рвани… – Кстати: на днях предложили… взятку и были поражены совсем наивно, что я решительно отклонил; явился уполномоченный от одной петербургской фирмы с рукописями и положил мне на стол конверт со сторублевою бумажкою. – 11 августа. Хотя насморк у меня еще не прошел и общее самочувствие как психическое, так и физическое – отвратительное, но я хочу себя настроить на жизнерадостный лад и расскажу Вам факт, свидетельствующий о Вашей популярности совсем в неподобающих местах и в крайне далекой от Вас среде. Нижегородский цирк на ярмарке. Выход музыкальных клоунов. Трое шутов гороховых пиликают на скрипках, пищат на дудках, проделывая в то же время всевозможные гимнастические выкрутасы. Одним словом, выполняют обычную давно всем приевшуюся программу. Вдруг один из них предлагает: «давайте играть по Андрею Белому». – А как это? – Да симфонию Андрея Белого; разве вы ее не знаете; пойдемте за мной; я вам объясню. – (Убегают). – Через некоторое время на арене появляется один из них, одетый весь в черном; становится на четвереньки и мяукает; засим прибегает второй, весь в белом, также становится на все четыре и оба начинают выть фыркать и угощать друг друга оплеухами; наконец появляется третий, весь в сером, бросается на черного и белого и побивает обоих. Публика в восторге аплодирует симфонии Андрея Белого[1506]. – Вот как у нас поощряют отечественные таланты.
Ваше письмо, дорогой Борис Николаевич, я получил[1507]; что Вы не попали ко мне, конечно весьма обидно; но я утешаюсь тем, что визит к Маргарите Кирилловне[1508] имел важное значение для какогонибудь важного дела; осенью буду ждать Вас, если, как уже говорил, сам не попаду в Москву; о чем мы еще спишемся; впрочем, если у Вас, кроме желания видеться со мною, существуют еще какие-либо основания для того чтобы приехать погостить в Нижнем; например, se exmoscovitare (измосковлить себя; NB Москва – это не только город, а целое состояние, способ жизни, есть даже болезнь – московская неврастения – я теперь вылечился от нее), se exmoscovitare in letteris versandi gratia[1509]; тогда милости просим, приезжайте, когда хотите и насколько хотите, начиная с десятых чисел сентября. До первых чисел сентября у меня пробудет Коля… Мне бы хотелось, конечно, видеть Вас во всяком случае в Нижнем, но я считаю своим долгом предупредить Вас, т<ак> к<ак> знаю, что Ваш кошелек не из особенно толстых… Я совсем отвык говорить; ослаб; поглупел; ничего не читаю; музыкой продолжаю заниматься, но лениво; недавно тут гостил Андрей Михайлович (брат Анюты)[1510]; он очень развился и начинает приближаться к Гёте и Ницше; он измучил меня желанием во что бы то ни стало дать точное определение дионисизма и аполлинизма; он поглощен Платоном; но… одним словом, это натура сократическая; мы прочли с ним вместе Συμποσιον в гениальном переводе Шлейермахера[1511]; помимо всего, что обычно поражает в Платоне, мое внимание на этот раз остановила единственная в своем роде и, вероятно, нигде и никогда не осуществлявшаяся в такой степени аристократичность общественных и светских отношений, исполненная наивности, лишенная всякой церемонности; даже педерастия, этот античный каприз, эллинская идиосинкразия – невинная шалость и только… До свиданья! Если приедете, то привезите то большое письмо, которое не отослали мне тогда (помните?)… Читать Шлейермахеровского Платона – лишний раз должно заставить Вас заняться немецким языком. Затем напоминаю Вам, что Вы должны написать Вечного Жида[1512]. До скорого свиданья! Анюта и Коля кланяются. Привет Вашей маме! Глубоко любящий Вас Э. Метнер.
P. S. Если увидите Петровского, скажите ему, что я не пишу, не зная адреса. –
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 60.
113. Белый – Метнеру
Серебряный Колодезь. 16 августа 05 года.
Многоуважаемый, дорогой и горячо любимый Эмилий Карлович! Спасибо за письмо. Я так много о Вас думаю за последнее время. Вас ужасно как не хватает всегда. Всеми силами души радуюсь за Вас, если решение Ваше бросить «пёсью» службу окрепло. О, эти опричники с метлами и собачьими головами, до какой степени я ненавижу их. Жалкую подачку русскому народу презираю от всей души[1513]. Конституции только те хороши, которые берутся с бою. «Будет ужо»… Простите за тон, но сейчас я не на шутку обозлен. Верите ли, становлюсь просто-напросто радикалом во всей «прелести» и всеми «тупостями» и «угловатостями» русского радикала. Но если нет выбора между наивной узостью и мерзостью, то тысячу раз хочу отказаться от всех утонченнейших способов воспринимать действительность, если эти способы хотя бы в одном пункте не содействуют русскому радикалу. Готов отказаться от искусства, может быть… религии за право отвалять нагайкой кого следует из опричников.
Наведу всяческие справки относительно журналов. С мая месяца – (нет, даже с апреля) – отрешился от всяких связей, когда бежал из Москвы, мучимый усталостью и переутомлением. Мельком читал из газет про саблиновские «Отголоски» – не знаю. Есть некоторая новость, дорогой Эмилий Карлович, и даже именно поручение просить Вас в сотрудники одного журнала. Этот журнал – «Искусство», журнал, до сих пор выходивший под редакцией мальчишек, а теперь перешедший к целому… «малому»[1514]. Журнал возник с января, функция его – заменять покойный «Мир Искусства». До сих пор он относился к «Миру Искусства» как Пшибышевский к Ницше. Теперь же издатель Тароватый обратился к С. А. Соколову (малому доброму, но вздорному) с просьбой редактировать. Соколов просил меня о сотрудниках. Я сказал ему, что Вы могли бы писать прекрасные статьи по музыке, литературе и вообще по всем культурным вопросам. Он согласился с радостью на всякие темы. Если я до сих пор не извещал Вас, дорогой Эмилий Карлович, то только потому, что думал, согласитесь ли Вы сотрудничать в «Искусстве»; да и относительно денежного вознаграждения этот журнал очень слаб, как и все декадентские, за исключением «Вопросов Жизни», где хорошо платят. Там литературной частью заведует Чулков и Волжский (Глинка), и было бы хорошо, если бы Вы переводили или писали туда. Хотите, я напишу Чулкову относительно условий и Вас? С Маргаритой Кирилловной[1515] у нас не было никаких деловых сношений, а исключительно отношения дружеские: она удивительно культурная и непосредственно правдивая, мягкая и недоуменно ищущая путей… Одно время она помогала «Х<ристианскому> Б<ратству> Б<орьбы>», пока основные члены этого бр<атства> не разошлись с ней во многом. Приезжайте к нам в Москву: у нас налаживается новый кружок – «Общество памяти Владимира Соловьева»[1516], задача которого – разработка религиозно-философских и религиозно-общественных вопросов, а также некоторая пропаганда (неявная) взглядов «Х<ристианского> Б<ратства>». Сам я критически отношусь к «Х<ристианскому> Б<ратству>», но глубоко уважаю их и все-таки с ними. Во всяком случае они даже не «предтечи предтеч», но и не не предтечи вообще.
Это время надо мной разражался, помимо политического возбуждения, ряд истинных мистерий, после одной из которых я был с месяц как громом оглушенный, и не я один, а еще были участники, которые до сих пор (хотя прошло 2 месяца) не могут опомниться[1517]. Но зато я «знаю», я «видел», я «мог быть». Я – «буду»! Тема Ник<олая> Карловича разразилась[1518], но ко всей нежности ее присоединился разрушающий гром и опустошающее землетрясение. Еле мог отдышаться у Марг<ариты> Кирилловны и собраться с силами, для боев. Бои веду на всех планах и всех плоскостях. 1) С христианами, 2) с нехристианами, 3) с Богом, 4) с людьми, силой диавола противящимися тому, чтобы «несказанное» не в урочный час «было». Пишу сейчас богоборческую поэму, в которой выведен Ницше (он мелькает)[1519]. Во-вторых: пишу целую книгу «Основы символизма»; хочу, чтобы она была «кирпичем»[1520]. Со временем хочу стать Пыпиным «теории символизма»[1521], хочу, чтоб моя теория со временем попала в учебники теории поэзии. Знаете, в кого я из философов влюбился? В Генриха Риккерта, прочел два его сочинения. 1) «Граница образования естественно-научных понятий», 2) «Введение в трансцендентальную философию»[1522]. Последняя книга – крайнее звено титанических гносеологических построек и, быть может, единственное преодоление Канта кантианством. Кладу это сочинение в основание своей работы по теории символизма. Оцените пикантность моей базы для символизма, который у меня выводится 1) из необходимости уничтожить психологическую точку зрения (ибо научная психология мыслима только как психофизиология), 2) из исследования категорий сознания, 3) из подведения бытия под категорию (бытие после суждения, суждение построяет бытие; истина не в бытие, а в долженствовании суждения). Моя теория должна начаться со смертельного гносеологического холода, и кончиться безумием. Символизм есть творчество должного, обоснованное ценностью этого должного; эта же последняя утверждается императивами кантовского практического разума. Истины нет, но и меня нет. Истина будет вместе со мной, ибо я – буду. Всякая религия есть путь к самому себе – путь от бытия к Истине. Кажется, направление символизма в таком освещении неуязвимо ни для каких нападок, ибо всякие научные и психологические возражения разобьются о теорию познания (напр<имер>, чтоб оспаривать понимание истины как творческого эффекта, нужно сперва побороть гносеол<огический> взгляд о предпосылках действительности). Всякого же желающего бороться с этими положениями отсылаю к Канту, Рилю, Зиммелю, Фолькельту, Зигварту, Риккерту, Файгингеру. Ну а этот ряд имен сумеет за меня ответить. Дорогой Эмилий Карлович, жду Вас осенью с нетерпением. Мой привет и уважение Анне Михайловне[1523] и Николаю Карловичу. С 1-го сент<ября> в Москве. С 20 августа еду к Сереже Сол<овьеву>, потом к Танеевым, потом к Марг<арите> Кир<илловне>[1524]. Христос с Вами. Будьте здоровы.
Глубоко Вас любящий Б. Бугаев.
Случайно неотосланное письмо мое к Вам оказалось в бюваре[1525]. Отсылаю его кстати несмотря на то, что прошло уже 4 месяца[1526].
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 47. Три пометы красным карандашом: «XLVI».Ответ на п. 112.
114. Метнер – Белому
Н. Новгород 26 августа 1905 года.
Ваши письма получил. Благодарю Вас за радость, которую Вы мне доставили, отослав и прежнее письмо, содержащее много ценных «схемок», характеризующих Ваш путь от индивидуальной мистики к мистическому коллективизму; этот путь свидетельствует не только о жизненности, о высоком оптимизме Вашей психической организации, но и о жизненности подлинности реализме Ваших мистических переживаний и познаваний (в чем, впрочем, я инстинктивно никогда не сомневался); созданный (или дознанный – не правда ли: это все равно?) Вами миропорядок Вы вплетаете вдвигаете в современную и притом главным образом русскую действительность; при этом не рвется ни уток, ни основа, и ткань не дает той безвкусной пестроты насильственности мертвенности сочетаний, которыми отличаются все проявления политической мистики или мистической политики (напр<имер>, славянофильство). К этому вопросу я, может быть, еще вернусь в этом письме, но теперь я считаю необходимым скорее сказать несколько слов о моих делах по поводу того, что Вы мне писали в последнем письме.
Я Вам очень благодарен за Ваши хлопоты и сообщения, но Вы должны иметь в виду, что теперь, сейчас я бы не был в состоянии выполнять какой-нибудь обязательной журналистической работы за исключением разве только переводов. Я страшно слаб, и мне необходимо долго и прочно отдохнуть. Но переводить я бы мог начать сейчас же, как только покину службу, что произойдет, вероятно, в самом конце теперешнего года. Мог бы, пожалуй, даже начать такую работу и здесь в Нижнем, если бы получил, так сказать, определенный заказ; например: в настоящий момент крайне уместно и своевременно дать в русском переводе несколько статей Вагнера об искусстве, которые он писал, еще не остыв от революционной горячки 1848 года. К сожалению, у меня есть только Kunst der Zukunft[1527]; в случае хотя бы и не безусловного, но все-таки надежного предложения я бы мог выписать из Германии Kunst und Revolution[1528]; хотя я и не знаю этой вещи, но думаю, что при настоящих цензурных условиях она бы могла пройти: разумеется, я бы взял на себя в случае чего уломать Цензурный Комитет разрешить эту брошюрку. Kunst der Zukunft знаменитее и солиднее, чем Kunst der Revolution; первая работа состоит из ряда небольших глав, каждая из которых могла бы составить фельетон в газете или статью в журнале; каждая глава представляет нечто законченное, так что «продолжение следует» не застает читателя врасплох. Книги Вагнера написаны с большою страстью. Не нужно забывать, что Ницше во многом ученик и последователь Вагнера-философа. – Пока я не ушел со службы, я бы не хотел вступать в переговоры с Чулковым, который, пожалуй, заподозрит, что я ухожу из цензуры, и сообщит Нижегородскому Листку; между тем пока что – моя отставка – строжайший секрет. – 28 августа. Сейчас заметил в Вашем письме, что Вы будете в Москве не раньше первого сентября. Поэтому я подожду отправлять это письмо… NB. Чтобы не забыть, пишу Вам сейчас, что вчера Мельников просил меня напомнить Вам о книге, которую Вы у него взяли в прошлом году. Так как я раньше декабря не буду в Москве, то, может быть, Вы все-таки соберетесь к нам сюда в сентябре или октябре?? Это было бы великолепно; у нас чудные закаты; вероятно, нынешний год будет золотая осень; мы бы нагулялись и наговорились с Вами так, как нам в Москве наверное не удастся это сделать! Вот тогда Вы привезли бы и книгу с собою. Но если финансовые и иные соображения не позволяют Вам посетить Нижний, то все-таки подождите высылать сюда книгу: моя жена, может быть, будет в начале октября в Москве, тогда Вы с нею увидитесь и вручите ей книгу… Мельников после своей неудачной (чтобы не сказать больше!) женитьбы постарел, опустился и все более и более впадает в буддийский пессимизм в Нирвану в безразличие. –
31 августа. Получил письмо от Петровского, уведомляющего меня о своем наклоне к «гуманизму»…[1529] Я, отнюдь не желая иронизировать над очень милым и очень умным Алексеем Сергеевичем, не могу однако не заметить, что пока его «гуманизм» (в упомянутом письме) выразился в пророчестве (которым согрешил и Ницше) о наступлении классического периода войн, и для первоначала Петровский с истинно-ангельским сладострастием Алексея Божия человека (или Алексея Карамазова[1530]; помните о мучениях и компоте[1531]) – швыряет друг на друга англичан и германцев…[1532] Простите за пересол о Петровском; я его очень люблю и вовсе не собирался на него злиться: это нечаянно; однако что же это? Qui s’excuse, s’accuse…[1533] умолкаю. Скажу только, что странное последствие перехода в гуманизм это воинственно-пессимистическое настроение… Далее. Петровский рекомендует мне Вашу статью «Химеры», за которую дает Вам орден Ницше первой степени (он выражается несколько иначе, но я щажу Вашу скромность)[1534]; та ли это самая статья, которую Вы «выкрали» из своего письма, чтобы своевременно «выкрикнуть» новые «схемки»?[1535] Если да, то я с своей стороны поздравляю Вас с орденом, так как (я уже говорил Вам в начале этого письма) Вы (независимо от принадлежности высказываемых взглядов) – совершили в моих глазах некий кунстштюк: Вы создали образчик мистического политизирования, от которого не отдает никаким назойливым запахом. Наконец, Петровский говорит о статье господина Иванова (Тантал) и называет оную «поистине сверхчеловеческой (по месту, времени, лицам, образу действия и образу написания)»…[1536] Я в полнейшем недоумении, ибо, простите, я раскусил Вячеслава и нашел что это просто обезьяна: очень умная хитрая искусная, тщательно скрывающая свой хвост, хотя при случае и цапающая и этою пятою конечностью; обезьяна очень витиеватая и притом витиеватостью, так сказать, многогранною: с одной стороны – нечто византийское; с другой – нечто шопеновское, с третьей – нечто парижское; с четвертой – ницшевское (последнее взято в тех своих элементах, которые я бы назвал несколько дерзко: ухарскими); с пятой – нечто калиостровское; с шестой – нечто… одним словом, очень много ужимок и прыжков[1537] и очень часто таких, которые свидетельствуют о томительном романтическом желании прыгнуть выше своего зада. – Впрочем, Тантала я не читал, но глубоко убежден, что по прочтении буду страдать жаждою по истинному дионисизму и голодом по истинному аполлинизму… – Мессеру Иванову надлежит изжить множество веков, множество раз умереть и вновь родиться для того, чтобы путь от Дарвина к Ницше, от обезьяны до сверхчеловека оказался у него за спиной. К счастью для читателей этого и следующих поколений – все люди смертны, а Иванов – человек (хотя и обезьяна). –
Возвращаюсь к Вашему письму (или статье). Я не вижу contradictionem in adjecto[1538] в выражении «религиозный социализм», «мистичная политика» и т. п.; я не отрицаю того, что когда-то словесное и музыкальное выражения сливались воедино, но я протестую против оперы, но опять-таки я признаю музыкальную драму. Необходима окончательная и беспощадная ланцизация[1539] политики (комб-изм?[1540]) для того, чтобы «оперное» соединение церкви и государства, сменившись полным разделением, очистило место для «вагнеристического» соединения социальных и религиозных форм.
4 сентября. Ведь вот: поставил было 1 сентября; потом прибавил ; все эти дни омерзительно чувствовал себя. И тяжко и пусто. Вспоминал великолепную и остроумную картину, набросанную Вами в том месте Вашего апрельского письма[1541], где Вы говорите о массе переживаний. Вспоминал и сравнивал наши «платформы»… Говорю, конечно, не о продуктивности, на которую я никогда не претендовал, но о восприятии, о восприимчивости. Я страшно обессилел… – Стихи Ваши мне очень понравились, в особенности Поповна; это отличная вариация на тему Прежде и Теперь[1542]; бравурность + мистериозность «Пира», несмотря на всю силу этого стихотворения, мне меньше улыбаются. – Пока до свиданья! Если соберетесь сюда, то напишите, чтобы Вам не разъехаться с Анютой[1543], которая собирается в Москву, вероятно, в 10-х числах октября. – Скажите пожалуйста, доколе умные и даровитые молодые люди будут писать о том, что лебединый пращур вместе с резвой радостью задумались об Ewigweibliche[1544]??? – И это в рецензии о… Жуковском[1545]. Еще раз до свиданья! Простите за клочковатое и бессодержательное письмо. Передайте наш сердечный привет Вашей маме… Анюта благодарит за память. Горячо любящий Вас Э. Метнер.
РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 61.Ответ на п. 113 и 101.
1906
115. Метнер – Белому
Мы оба нездоровы: у Коли[1546] болит ухо, а у меня «живудок» или «жилот» – не знаю, что именно… Маргариту Кирилловну[1547] мы известили, что быть у нее сегодня, к сожалению, не можем.
Хорошо, если бы Вы пришли к нам сегодня с Алексеем Сергеевичем[1548]. Мы могли бы с Вами поговорить и отдельно. Моего московского жития осталось шесть дней[1549], а мы все еще не удовлетворены. Впрочем, если Вам необходимо работать, то… работайте. – Выдумайте мне псевдоним[1550]. Привет многоуважаемой Александре Дмитриевне[1551].
Ваш Э. Метнер.
P. S. Принесите, пожалуйста, «Весы», если оный журнал у Вас.
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 8. Л. 5–6.Датируется по соотнесению с п. 116 и по сообщению в примеч. 4.
116. Метнер – Белому
Н. Новгород 26 января 1906.
Пишу о деловом.
1) Тетрадь с моими статьями[1552] Вы можете держать у себя, можете взять с собой в Петербург (куда Вы, кажется, на днях собираетесь)[1553]; – если она мне понадобится, то очень не скоро. Помните только, что это единственный экземпляр. –
2) Если удостоите меня цитировать и на меня ссылаться, то прошу обязательно указать, по крайней мере, год, в котором написаны мои статьи; – над каждой статьей, помнится, надписана дата.
3) На досуге прочтите Романтизм и Ницше[1554] и скажите мне в письме, согласны ли Вы с моей постановкой вопроса о сущности романтизма.
4) Скажите Золотому Руну, что при помощи моего брата Коли можно уломать Льва Эдуардовича Конюса писать о музыке. В крайнем случае можно обратиться к Корещенке (Арсению Николаевичу); адрес можно узнать у Коли[1555]. Если с Конюсом решительно ничего не выйдет, то пусть меня уведомят; я напишу Корещенке и притом дам ему целый ряд инструкций, как именно писать для Золотого Руна.
Сейчас страшно занят.
Обнимаю Вас.
Привет Вашей маме.
Омовик-Змеевик кланяется[1556].
Горячо любящий Вас
Э. Метнер.
Н. – Новгород. Дворец. Квартира А. П. Мельникова.
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 2.
117. Метнер – Белому
Москва 19 марта 1906 года.
Сижу дома, ибо сильнейший насморк. Если Лев Львович[1557] интересуется музыкой и если он не явится в каком-либо отношении диссонансом в предстоящей во вторник музыкальной беседе, то передайте ему пожалуйста, когда завтра (в понедельник) будете у него, чтобы он тоже пришел часам к семи вечера. Я его совсем не знаю, поэтому и не решаюсь пригласить его именно на этот вечер.
У Астрова он выразил желание познакомиться ближе. Поступите, как найдете лучшим. Пожалуйста, возьмите с собой 1) Весы февраль и 2) мои письма к Вам. Я сегодня занимался Теургией[1558] и почувствовал необходимость освежить в памяти кое-какие детали наших тогдашних переживаний[1559]. До свиданья. Жду Вас, Сергея М<ихайловича>[1560] и (может быть) Кобылинского к 7 часам.
Привет Вашей маме.
Ваш Э. Метнер.РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 2.
118. Метнер – Белому
Если Вы не простужены, то, пожалуйста, не стесняйтесь и приезжайте.
Во-первых, у брата[1561] быть Вам все равно, что у меня; во-вторых, никаких разговоров Вам вести не придется, так как будет музыка; в-третьих, сидеть мы будем очень недолго; в-четвертых, Вы готовите страшное разочарование злополучным Гульшиным[1562] (точнее, Гульшину, т<ак> к<ак> один из них очень болен). В-пятых, теперь 7½ часов (я Вас ждал к 7 ч.), и потому предупредить брата, чтобы он предупредил Гульшина, уже нельзя.
Итак, если есть какая-либо возможность приехать, приезжайте сейчас же по получении сего, пожалуйста… Я буду Вас ждать до девяти часов и даже дольше. От нас две минуты ходьбы до брата[1563].
Ваш Э. Метнер.РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 8. Л. 3–4.Датируется по соотнесению с п. 119.
119. Метнер – Белому
Москва 29 марта 1906 г.
В воскресенье[1564] заходил проведать Вас. А затем опять заболел инфлуэнцой. До сих пор не выхожу из дому. Узнав вчера (от Кобылинского через Колю, встретившего его на собрании нового общества[1565]), что Вы все еще страдаете головною болью и упадком сил, очень пожалел, что написал Вам в субботу настойчивое письмо с просьбой прийти, несмотря на недомогание[1566]. Я написал это письмо, так как, во-первых, мне было крайне досадно, что Вы пропускаете случай еще раз услышать Goethe Lieder[1567], а во-вторых, я думал, что Вам, может быть, даже было бы полезно пройтись и развлечься. Кроме того, я опасался, не стесняетесь ли Вы явиться в первый раз в дом моего брата в упадочном состоянии и не потому ли Вы придали такое значение своему недомоганию. Теперь мне стыдно, что я, наверно, доставил Вам неприятную минуту! прошу извинить меня… Так как Вы уезжаете на Святой, то заходите теперь, не считаясь с тем обстоятельством, что на Страстной не ходят в гости[1568]. Вероятнее всего я до воскресенья[1569] не выйду из дому, боясь нового рецидива болезни. Только было наладил корректирование и композицию своего письма о теургии[1570] и принужден бросить, вот какой я слабый. До свидания, мой дорогой, крепко обнимаю Вас. Горячо любящий Вас
Э. Метнер.
Привет Вашей матушке от меня и Анюты[1571]. Э. К.
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 2.
120. Метнер – Белому
Москва 4 апреля 1906 года.
Вы застали меня сегодня в отвратительном самочувствии, и потому я не был в состоянии ни pro, ни contra Вашей статьи сказать что-либо как следует[1572]. Сейчас спохватился. Если редакция будет что-либо иметь против полемической части, то Вы уступите и зачеркните, так как редакционная оговорка может быть составлена в таких выражениях, что ослабит действие положительной части Вашей статьи[1573]. Во-вторых, мне пришло в голову, что раз Вы сопоставляете Колю и Скрябина, то очень хорошо было бы подчеркнуть, что Скрябин представитель славянского в музыке[1574]: он примыкает, более чем кто-либо из русских композиторов, к Шопену, величайшему славянскому композитору, а Коля, будучи немецкого происхождения, проникнут исключительно германскими музыкальными элементами. Ваша статья очень хороша.
Ваш Э. Метнер.РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 2.
121. Метнер – Белому
Москва 23 апреля 1906 года.
Пишу деловое. Будьте милы и наведите справку – нащупайте почву в учреждении, именующем себя Вечерами современной музыки[1575].
Если этот кружок не обладает средствами и потому не платит участникам вечеров, то не выдает ли он по крайней мере прогонных? Осенью в сентябре или октябре (не позже!) Коля приехал бы в Петербург и сыграл бы на вечере свои сочинения[1576], если бы ему выдали взад-вперед прогонные. –
24 апреля. Я говорил с Колей относительно этой поездки. Он согласен так: целый вечер должен быть посвящен исключительно его композициям; он будет играть сам; может быть, найдется, кто споет его Goethe Lieder[1577]; м<ожет> б<ыть>, он к осени напишет сонату для рояли и скрипки… Прогонные – minimum 50 рублей.
Третьего дня был у Эллиса. Зашел поговорить о Свободной Совести[1578] в 5 ч. дня и просидел до 10 ч. вечера. Много говорили. Было очень интересно.
Я себя отвратительно чувствую. . Коля так же… Что это?! Куда бежать? И от кого бежать!
Будьте благоразумны и не утомляйтесь, не сгорайте. Разные внешние обстоятельства мешают нам до сих пор выехать на дачу, где по крайней мере физическое состояние стало бы сноснее.
Был в Руне. Соколов[1579] на мой вопрос, во сколько строк дать заметку о трех больших лекциях Суворовского (заметку, имейте в виду, он просил дать не голословную, с изложением хода мыслей лектора), – ответил: от ста до ста пятидесяти строк!!!???!!! Стоило губить три вечера на лекции!.. Между тем по поводу этой лекции (как симптома) я бы мог написать огромную статью[1580].
Переговорили ли Вы с Пирожковым о Вашей книге статей?[1581]
Всего хорошего. Моя жена и моя мама на днях навестили Александру Дмитриевну[1582].
Кланяйтесь Гюнтеру, если он Вам не очень надоел[1583].
Горячо любящий Вас
Э. Метнер.
Если будете писать, то в Немчиновку до востребования Брестской жел<езной> дор<оги>.
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 2.Письмо направлено в Петербург, где Белый находился с 15 апреля по начало мая 1906 г.
122. Метнер – Белому
25/12 August 1906.
Meinen Herzlichen Gruss aus Radegund[1584],[1585]. Только теперь чувствую я себя в состоянии писать Вам, мой дорогой Борис Николаевич. Я перевалил через такой кряж… Однако об этом лучше в письме, которое направлю в Дедово, не зная, где Вы. Мой адрес: Австровенгрия Steiermark Radegund Villa Bella-Vista Emil Medtner. Привет Вашей маме. Обнимаю. Ваш Э. Метнер.
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 2. Открытка. Почтовый штемпель отправления: Radegund. 25. 8. 06. Отправлено в Серебряный Колодезь.
123. Метнер – Белому
Дорогой Борис Николаевич! Передайте сие Льву Львовичу в знак, что я думал о нем во время моего лечения. Ваш М.
<Метнер – Эллису:>
Австровенгрия Steiermark, Radegund Villa Bella-Vista Emil Medtner – таков мой адрес, дорогой Лев Львович! Только начав лечиться – увидел, до какой степени я был болен. Могу теперь пока только отчасти сказать «был». Духовно очень поправился. Телесно еще далеко нет. Ни о каких работах раньше октября не стану и помышлять. Часто вспоминаю Вас и нашу бесконечную беседу в Вашей комнате. Ваш Э. Метнер.
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 2. Открытка с почтовой справкой. Датируется по почтовому штемпелю отправления: Radegund. 25. 8. 06.Приписка на почтовой справке, приклеенной к открытке: «Не доставлено за выб<ытием> адресата».Адресованная Л. Л. Кобылинскому открытка была отправлена по адресу: «Москва, Новинский бульвар, дом Котлярова, Russland»; возвращена отправителю в Радегунд.
124. Метнер – Белому
Radegund 28/15 August 1906.
Radegund 5 September/23 August 1906!
Не удалось написать ничего, кроме обращения, т<ак> к<ак> надо было съездить на несколько дней в Maria-Grün[1586]. Впрочем, для Вас это пока – китайская грамота. Я Вам отправил открытку в Серебряный Колодезь[1587]. Письмо направляю в Дедово[1588]. Мой дорогой, мой милый друг! Никогда мы с Вами не были еще так близки друг к другу; Вы об этом и не подозреваете, а я не вправе дальше объяснять касающееся меня; достаточно намека? Обязываю Вас вперед честным словом не расспрашивать меня и о том, откуда я знаю касающееся Вас[1589]. Скажу только, что знаю я это три месяца, подозревал раньше… Но раньше объясню Вам, как и почему я уехал. Семья Гульшиных, о которой Вы уже осведомлены, очень одинока; почти полустолетие, как Гульшины близко знакомы с Гедике (фамилия моей мамы); Сергей Гульшин (помните «Борю», просящего спасти его «великого брата»?) – действительно очень даровитый, очень тонкий и очень больной 23-летний человек; я знавал его только мальчиком и последние годы не видался с ним; с его матерью, которая старше его всего на 18–19 лет, я очень хорошо знаком; она очень милая женщина и в свое время была обаятельна; с мужем она в разводе и вообще семейная жизнь ужасно сложилась; поддерживать знакомство с такой семьей было очень тягостно, и мы понемногу разошлись. Теперь, когда врачи предписали Сергею продолжительное пребывание в немецкой санатории, Гульшины через брата моего Александра Карловича стали искать возобновления знакомства; дело в том, что Сергея одного отправить нельзя, а его мама, да и он сам вбили себе в голову, что единственным спутником могу быть только я; в этом мнении их укрепило сообщение моего брата Александра о том, что я подумываю о лечении. Начали понемногу подготовлять почву, Сергей был у меня, затем просил меня его отец, его мать; я долго не решался, наконец дал свое согласие, указав, разумеется, на то, что я располагаю такою-то суммою денег и таким-то количеством времени. Дорогой Борис Николаевич! Я очень рад, что принял это предложение. Один я бы мог прожить всего один месяц, а этого недостаточно; услуга, мною оказываемая действительно очень выдающемуся молодому человеку, вполне покрывается услугой, оказываемой мне, тем более, что старик Гульшин страшно богат[1590]. В настоящее время Сергей поправляется, и я могу вскоре оставить его на попечении одного молодого врача, его дальнего родственника, который на днях должен выехать сюда из России[1591]. Сергей страдает неврастенией мозга; если он выздоровеет окончательно, Вы услышите о нем: он заставит говорить о себе… – Итак, 22 мая ровно три месяца тому назад я выехал за границу. Ваша судьба, Ваше страдание сопоставлялись в моей голове с моими горестями; я находился в страшно напряженном опасном настроении; было в этом нечто поистине оргийное, т<ак> к<ак> за месячное пребывание без работы в Немчиновке[1592] я накопил сил, не поправив при этом своей нервной системы. Во время дороги я чуял ясно, что приближается нечто грозное или, вернее, грозовое: или буду убит молнией, или все во мне прояснится. В Вене мне показалось, что я скоро умру. Я не мог ничего есть и старался только скрыть свое состояние от моего еще более страдающего спутника. Я бодрился, крепился и даже отправился в театр смотреть и слушать мою несравненную «Кармэн»[1593], которую, кстати сказать, я слышал в 20-й и все-таки в I раз, т<ак> к<ак> только немцы могли мне открыть все необычайные прелести этой партитуры. Я сидел в театре, как во сне, и часто чувствовал себя близким к обмороку; то я прощался с жизнью, то мне казалось, что музыка вещает мне преодоление всех опасностей болезней бедствий и долгую плодотворную жизнь… По дороге из Вены в Грац, среди роскошной и уютной природы Штирии, я окончательно потерял всякое сознание своего существа и приехал в санаторию Maria-Grün очень серьезно больным человеком. У меня открылась нервная горячка; температура доходила до 41°; 10 дней я лежал в постеле; встал исхудавшим, но уже действительно выздоравливающим человеком; эта горячка была кризисом моей долголетней болезни, и я благословляю небо, что этот кризис застал меня в санатории, где главным врачом состоит Dr. Stichl, считающийся талантливейшим учеником Крафта-Эбинга, основателя этой санатории[1594]. Лечили меня удивительно энергично и совсем по новому для меня способу. Вы знаете мое предубеждение к медицине; но я так ослаб, что решил не сопротивляться и отдал себя в распоряжение врачей; должен сказать, что Dr. Stichl прямо художник; что-то артистическое лежит в его манере изучать больного; говорят, что в диагнозе он никогда не ошибается; мне он сказал, что мое страдание чисто функциональное и периферическое, что горячку можно рассматривать как последнюю острую вспышку хронической болезни, которую мой организм, очень стойкий и одновременно очень нежный, уже преодолел почти сам. Когда я встал с постели, началось систематичное лечение водой, электричеством; запрещено читать, вести серьезную беседу, утомляться; приказано забыть временно о прошлом, отдаться лени. Я все беспрекословно выполнял. Когда я сидел в поезде, несшем меня за границу, я в голове составлял горячие страницы моего письма к Вам, которое собирался написать немедленно по приезде в санаторию; это письмо я считал своею святейшею обязанностью, обязанностью друга, старшего брата, но судьбе было угодно избавить Вас, быть может, от неприятных минут; теперь я поправился (конечно, не окончательно) и могу коснуться того, о чем тогда хотел писать; но сделаю я это совсем иначе; ибо иной человек беседует с Вами сейчас, дорогой мой; за эти три месяца я более изменился, нежели за 15 предшествовавших лет моей жизни; так, по крайней мере, кажется мне самому; могу ли я сказать, что победил? Пока ничего не решаю; быть может, я не поздоровел, а погрубел; не спокойнее стал, а просто глупее; не жизнерадостнее, а просто поверхностнее; возможно, что я временно поправился, что только залечил на скорую руку неисцелимую свою хворь; но временами я испытываю такое внутреннее светлое чистое юношеское веселие, в особенности когда одиноко брожу по очаровательным холмам Радегунда под германско-итальянским южным темно-темно-синим небом Штирии, этой немецкой «Малороссии», где еще не до конца все окультурилось и где католическое население имеет своих лесных полевых мадонн и христов и своих ведьм, леших, горных великанов и эльфов. Стал я еще западнее, еще более онемечился, нижегородское пленение, московская толчея и вообще российская безалаберность отходят в моей памяти и воображении все более и более на задний план; равнодушно я читаю об ужасах, которые творятся ежедневно на родине, жалею о времени, потраченном на пустяки вроде цензорства, с удовольствием отмечаю, что меня более не волнует и не беспокоит то, что раньше как русского возмущало и обессиливало. Не знаю, хуже ли, лучше ли стал. Сам я более собою доволен (плохой признак?!), хотя боюсь это высказывать до тех пор, пока не начну опять работать; возможно, что мое выздоровление, успокоение – духовная смерть. – Пока до свиданья! Звонят к обеду.
Сейчас чудесные сумерки; что-то благодатное, нежное, слегка печальное; читаю русские газеты; не строки, а между строк; как все изменилось и дважды: во-первых, вулкан, на котором, быть может, именно под влиянием внутреннего близкого огня совершались события Ваших симфоний, столь важные и опасные в мистическом и столь незаметные и безобидные в эмпирическом отношении, этот вулкан открыл свои действия и сделал невозможным в России «умственные цветники подмигивающих»[1595]; во-вторых, я сам, как выше сказал, изменился; отсюда что-то сумеречное вычитываю я из газетных сообщений, даже объявлений; моментами просто смотрю на русские буквы, и вдруг что-то всколыхнется у сердца; сумерки родины сливаются с сумерками милого Радегунда… – Я так давно не говорил по-русски; с Гульшиным нельзя много говорить; ему запрещено. Домой я пишу самые обыкновенные вещи, и вот, взявшись писать Вам, испытываю неловкость больного, пролежавшего долго в постели… Дорогой друг! Не правда ли, при последнем нашем свидании Вы были несколько смущены, когда я заговорил о совместном пребывании зимою в Мюнхене?[1596] Вы раздумали ехать. Вы не в силах покинуть Россию на несколько месяцев. Не так ли?.. Поверьте, что Ваше спасение в отъезде! Клянусь Вам… Вы очень много знаете и можете, но Вы не подозреваете того, в какой мере всякий человек зависит от обстановки, именно зависит, т. е. не только она отражается в его мыслях и поведении, но и просто видоизменяет его самого; поверьте, что Германия, даже современная Германия со всеми ее недостатками, с ее кризисом культурным, уже наступившим, кризисом социальным и политическим, уже надвигающимся, – все-таки космос в сравнении с русским хаосом, царящим всюду в нашей родине, начиная с государственной и общественной и кончая семейной жизнью. –
8 сентября / 26 августа. Мне положительно не везет с моим письмом Вам. Вчера приехал сюда двоюродный брат Гульшина, долженствующий сменить меня с моего поста. Я ожидал его приезда с нетерпением, но гораздо позже. Итак, я завтра выезжаю из Радегунда и уже обретаюсь в лихорадке (Reisefieber[1597]). Еду я назад тихим ходом, т. е. останавливаясь в германских городах. Буду, вероятно, через 10 дней только в Москве. Наш новый адрес (мы опять переехали!): Малый Гнездниковский переулок (Тверская), дом Пегова, кв. № 8. – Пробую продолжить мою вялую лекцию. Я глубоко убежден, что со мною, с Колею[1598] Вы могли бы прожить сезон за границей; один – Вы не выдержите и одного месяца. Мы едем непременно, но легко может быть, что более одного сезона нам не позволят пробыть там наши финансы; поэтому, если Вы теперь отложите свое намерение, то потом оно будет труднее выполнимо, т<ак> к<ак> Вы не знаете языка и лишены всякой практичности. Повторяю. То обстоятельство, что Вы овладеете немецким языком, познакомитесь с ходом занятий в немецком университете и т. д., при всей своей важности бледнеет перед моральными последствиями, какие будет несомненно иметь Ваше пребывание вне дома, вне родины, вне того дорогого тесного, но заставляющего Вас столько страдать круга близких слишком близких, страдающих не менее Вас людей. Взгляните на Ваши настоящие переживания, как на метод закалки, но для овладения этою точкою надо уехать. Быть может, я уже запоздал со своим бессильным словом. Если все разрешилось благополучно – слава Богу; если же Вы пребываете в том состоянии, в котором я Вас покинул, то… будьте мужем. То слишком реальное отчаяние, до которого Вы доходите, говорит не столько о силе, высоте, утонченности Вашего чувства (в которых я, конечно, не сомневаюсь), сколько об его, правда вполне естественной, но специфической страстности. Будьте мужем и преодолейте себя. Простите, что я в непривычных несколько жестоких и чересчур простых словах твердо высказываю Вам мое мнение. То положение, в котором Вы очутились, в общих чертах и жестоко и просто. Только в подробностях оно может носить отпечаток усложненности натур Вашей и Ваших со-страдальцев. – Но в великих происшествиях надлежит раньше всего принять во внимание именно общие черты. Тут часто приходится резать по живому. Быть может, под влиянием последних обстоятельств Вашей жизни Вы и охладели ко всему и ко всем. Быть может, Вам кажется иной раз, что и к Вам охладели. Я просто и мужественно скажу Вам, что никогда еще не были Вы мне так близки, никогда я еще так не любил Вас, как в настоящий миг. Может быть, эти мои слова вознаградят Вас за беззвучную сухую бездарную речь мою. Обнимаю Вас крепко. Поклонитесь Вашей маме и всем дорогим москвичам. Ваш Эмилий М.
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 2. Копия: РГБ. Ф. 167. Карт. 5. Ед. хр. 1.
125. Белый – Метнеру
Жду Вас сюда, скорей приезжайте[1600]: все, что Вы написали мне в письме[1601], близко мне говорит: все это совпадает с тем, что и я пережил этим летом. Со мной был страшный кризис, и я стоял на краю бездны. Я мог стать преступником. Наконец, после ужасного месяца (августа) перелом со мной произошел, и теперь я отдыхаю в Мюнхене и душой, и нервами. Безгласен, нем, и потому ни о чем не хочу писать на расстоянии: жду Вас с жадностью и нетерпением.
Я лишился слова. И потому о как хотел бы я без слов показать Вам, как я Вас жду сюда, какая у меня потребность Вас видеть и говорить с Вами! Мюнхен совсем по мне. Точно я здесь родился, все мне родное и близкое, начиная с внешности: сейчас стоят летние дни: симфония из лазури такого чистого неба, белизны тротуаров и яркой зелени пирамидальных тополей и Золота каштанов. Буду здесь много, много работать и пробуду по крайней мере до лета.
О, скорей, скорей приезжайте. Чувствую, что здесь так уютно будет видеться и говорить: ужасно хочу видеть Николая Карловича[1602]. Я все более и более в самом интимном начинаю его любить, и все более и более он мне близок.
Но ничего не могу писать, да и не хочу: хочу Вас и Николая Карловича видеть и говорить. Напишите, когда приедете: буду встречать Вас на вокзале. Поклон Ник<олаю> Карловичу и Анне Михайловне. Приезжайте, горячо любимый и дорогой мне Эмилий Карлович.
Ваш Борис Бугаев.
P. S. У меня к Вам просьба: ради Бога, узнайте адрес редакции журнала «Перевал»[1603] (он в середине Пречистенского бульвара, но ни дома, ни переулка не знаю, а есть с редакцией спешные дела). Редактор С. А. Соколов: он откололся от «Золотого Руна»[1604].
P. P. S. В. В. Владимиров просит передать Вам привет[1605]. «Kaim-Konzert» начинаются с 22 октября[1606]. Абонемент цена 1) 48 мар<ок>, 2) 42 м<арки>, 3) 36 мар<ок>, 4) 30 мар<ок>. Дирижирует ими не Mottl, a G. Schneevoigt. Из интересных номеров – несколько симфоний Брюкнера, 4 симф<онии> Шумана, «Манфред» Чайковского, Баха, Брамса. Мало Бетховена.
Mottl дирижирует концертами в «Odeon’e»[1607], которые начинаются 16 ноября; цена на них 1) 17 мар<ок>, 2) 14 мар<ок>, 3) 11 мар<ок>, 4) 8 марок; генеральная репетиция 1 марка.
Вейнгартнер же концертами не дирижирует ни здесь, ни там. Он ушел.
Напишите скорей, на какую серию абонироваться за какую цену.
До скорого свидания.
Б. Бугаев.РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 48. Три пометы красным карандашом: «XLVII».
126. Метнер – Белому
Москва 4/17 X 906.
Спешу ответить на Ваше письмо (без даты) и потому буду очень краток.
1) Вследствие того, что из-за певицы (очень хорошей, г-жи Философовой, артистки совершенно германской музыкальной культуры, концертировавшей в Германии в качестве Liedersängerin[1608]) Колин концерт откладывается до 4 ноября ст. стиля[1609], мы будем в Мюнхене позднее, нежели предполагали, и абонироваться, пожалуй, не стоит, тем более, что можно ходить на генеральные репетиции.
2) Адрес Сергея Алексеевича Соколова: Большой Николопесковский переулок, дом кн. Голицына, кв. № 28; адрес редакции «Перевал»: Угол Пречистенского бульвара и Сивцева Вражка, дом Тарасовой, кв. № 1.
3) Если будет время, напишите мне[1610], взяли ли Вы с собою русских классиков, а если не взяли, то имеются ли они у Владимирова или в библиотеке русского клуба (кажется, таковой существует).
4) Передайте мой привет Василий Васильевичу[1611]. На днях у нас была Анна Васильевна[1612] и пела Goethe Lieder. Коля нашел, что она многое хорошо передает.
5) Очень жаль, что Вы не будете на концерте Коли в Москве. Даст ли он концерт в Мюнхене – большой вопрос.
Ваша мама была у нас, а я вчера был у нее, чтобы узнать Ваш адрес, о котором Вы, конечно, забыли упомянуть. Я не могу дождаться нашей встречи в Мюнхене. Ведь это будет впервые, что мы долгое время будем вместе в одном городе, и не странно ли, что это произойдет в Германии. Предстоящий год – решительный в моей жизни; или я найду свое маленькое «я», свою маленькую миссию, или устранюсь и уеду акцизным чиновником в Царевококшайск. Обнимаю Вас крепко; горячо любящий Вас
Э. Метнер.РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 2.Ответ на п. 125.
127. Белый – Метнеру
Опять не судьба нам встретиться: я 30-го выехал в Париж[1613]. Судьба гонит меня. Внутренне мне нужно было уехать из Мюнхена, и не хотелось еще возвращаться в Россию. Пользуясь случаем, что в Париже Мережковские, я и направился туда.
Может быть, через месяц буду здесь опять[1614]. В. В. Владимиров переменил адрес. Я нарочно оставил Вам записку, чтобы Вы могли найти В. В. Адрес В. В.: Neureutherstrasse № 8 II Mittel.
Дорогой Эмилий Карлович, напишу Вам из Парижа. Надеюсь, увидимся за границей.
Глубоколюбящий Вас
Борис Бугаев.
P. S. Николаю Карловичу и Анне Михайловне[1615] мой привет!
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 49. Помета красным карандашом: «XLVII».Записка, оставленная на имя Метнера в Мюнхене по месту жительства. Датируется по дню выезда Белого в Париж.
128. Метнер – Белому
Москва 26/X–8/XI 906.
Дорогой Борис Николаевич. Получил Вашу открытку[1616]. Завидую Вам. Москва окончательно стала мне невыносимою. Работать и жить по-человечески здесь немыслимо. Мы будем в конце ноября в Мюнхене[1617]. Привет Владимирову и другим Вашим знакомым. Э. М.
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 2. Открытка, отправленная по адресу: München, Barrerstrasse 53II L; к рисунку на обороте подпись рукой Метнера: «Твоя рука имеет вид ноги (из стихотв<орения> Бальмонта)» (цитата из стихотворения «Химеры», входящего в цикл «Художник-Дьявол»; см.: Бальмонт К. Д. Будем как Солнце: Книга Символов. М.: Скорпион, 1903. С. 257).
129. Белый – Метнеру
Опять не «судьба»! Опять мы не встретились. Но нервы мои разыгрались так, что принужден был сменить впечатления. На обратном пути приеду в Мюнхен (через 1½ – 2 месяца)[1618]. Надеюсь Вас застать там и еще пожить недельки две. Спасибо за карточку. Как увидел все милые подписи мне, так и потянуло, потянуло к Вам[1619]. Но теперь вопрос в том, что финансы не позволяют мне совершить эту поездку (из Парижа в Мюнхен и обратно). А на возвратном пути непременно устроюсь в Мюнхене.
В Париже мне уютно и хорошо в чисто внешнем отношении. Глубоко счастлив, что рядом со мной такие близкие мне люди, как Мережковские и Философов. А внутри – в себе самом – неважно: странно и страшно. И эта тягота (бремя) еще оттого так изнурительна, что все виды опрощения и поверхностности мне доступны в любую минуту, но из этого ничего не вытекает. Во внешнем бытии я буквально в открытом море. Не знаю, куда завтра бросит судьба. Не знаю и не предрешаю. Пусть все идет своим чередом.
Но только я уверен, что ни у кого внешние и внутренние дела, вопросы идеи и вопросы реальной завтрашней жизни не встретились так мучительно и остро, как у меня. Если переживу тот кризис, который со мной вот уже 2 года и который не только не подвинулся, а лишь осложнился, – если переживу, буду во все прочее время живота моего – молодец с закалом твердым. Не переживу, видно, так Богу угодно. Сейчас себя спасаю: когда себя спасу, предстоит одержать ряд завоеваний в стране гордой и суровой; чтобы или уж безвозвратно потонуть, или почить на лаврах успокоения вечного.
Голубчик, не забывайте меня. Помните, что мы всегда внутренне связаны чем-то: это что-то так мне ценно и дорого! Сейчас совершенно не могу писать длинных писем (2 года уж не могу). Простите за краткость и поверхностность. Пишите мне.
Любящий Вас
Борис Бугаев.
P. S. Мой привет и уважение Анне Михайловне и Николаю Карловичу. Поклонитесь от меня В. В.[1620], Вулиху и Дидерихсу, привет Kathy Kobus, «Simplicissimus’у»[1621].
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 50. Приписки красным карандашом (рукой Метнера): «Париж Х / 906» (датировка ошибочна); «XLVIII».
130. Метнер – Белому
Familien-Abend Sylvester-Feier im Café Luitpold[1622].
Сейчас выслушал повесть о Ваших мюнхенских проказах. Оказывается, Вы не превозмогли нуменальную сущность того, чье изображение на обороте этой карточки. Prosit Neujahr![1623] Emil Medtner[1624]. Анна Метнер. Н. Метнер. А. Дидерихс. С. Вулих.
Сердечный привет и простите, что не писал. В. Владимиров.
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 2. Открытка, отправленная по адресу: Paris, Passy, Rue de la Ranelagh, 99. На открытке – рисунок: посыльный с надписью «Express», несущий два горшка цветов.
1907
131. Метнер – Белому
Мюнхен 22/I 907.
Оба Ваши письма, то, что Вы оставили у своей мюнхенской квартирной хозяйки и парижское[1625], конечно, получил; не писал по причинам и внешним и внутренним, и такая их тьма, в особенности, внутренних, что излагать их Вам, ввиду Вашей теперешней болезни[1626], я не стану; это раздражило бы Вас. Ради Бога, не подумайте только, что я имею что-либо лично против Вас. За многое мне хотелось бы пожурить Вас, но это опять совсем другое дело. Что Вы уехали из Мюнхена, меня страшно огорчило!.. – Представьте! Я только на днях был в Симплициссимусе![1627] Все время ушло на акклиматизирование; нам во время пути и венского пребывания[1628] так надоели рестораны, что мы тут скорее устроились по-домашнему. Я стал ходить в библиотеку (читаю Thayer’s Beethoven-Biographie[1629]), Коля сразу набросился на композицию; стали ходить в концерты, в оперу, в галереи и только[1630]. – Вы страшно близки мне потому, что и я «уверен» (цитирую Ваше парижское письмо), «что ни у кого» (быть может, даже и у Вас, мой милый) «внешние и внутренние дела, вопросы идеи и вопросы реальной завтрашней жизни не встретились так мучительно и остро, как у меня». Только мой «кризис» тянется не 2 года, как у Вас, а 12 лет; одно время (первый год в Нижнем) казалось, что я уже готов стать «молодцом с закалом твердым», но затем изнутри и снаружи все опять завертелось вихрем; весною 1906 года я был на краю гибели; клянусь Вам, что не преувеличиваю; летом и осенью в санаториях, как будто, отошел и стал справляться с собою; но по возвращении убедился, что все по-старому, что искусственным образом нажитые силы не только не содействуют разрешению кризиса, но, наоборот, живее дают чувствовать внутренний конфликт (осложненный внешними обстоятельствами) – увеличивают силу, с которой я ударяюсь о стену того тупика, куда меня загнала фортуна. Когда-нибудь, может быть, я скажу Вам нечто, меня касающееся; но и помимо этого «нечто» Вы знаете (и только недостаточно вдумывались, хотя меня и любите), как мне тяжело от моего «неудачничества»; в этом я – русский, испорченный немец; я вовсе не заношусь; мне надо было бы немногого: работать свою маленькую работу в музыке… –
Попробуйте поговорить со мною о своих делах, но называя вещи своими обыденными именами; поговорите со мною, идя от простоты к сложности, а не обратно. Предлагаю это не оттого, что не могу понять Вас (хотя надо признать, что, при умалчивании о внешних фактах, одно только сложное философствование по их поводу просто недостаточно); я советую Вам, если Вы можете, поступить так ради Вас самих; Вам самим многое станет ясно, если Вы с кем-нибудь другим станете ясно говорить о неясном. – Пришел Перевал № II; Ваши стихи – это то, к чему стремился и чего не достиг Некрасов[1631]; когда я читаю нечто подобное, я люблю Россию ноющею, жалостливою любовью; ужасная по манере письма рецензия Сергея Михайловича о каких-то «образованных батюшках»[1632]; что за кривляние простоты в стиле Дорошевича; ужасное продолжение статьи Минского, начало которой в I № мне тоже не особенно понравилось[1633]; это совсем по-русски: начал с крайнего оплевания, кончил крайним восхвалением; ни в чем меры; то, что он говорит об европейской культуре, есть просто хулиганство напрасно образованного по-европейски русского жидка; ужасная по своей нелепости и тоже хулиганству рецензия Бориса Попова о Николае Метнере[1634]; бедный брат; так гениально и культурно не начинал ни один композитор, родившийся в России; не виноват же он в самом деле, что он, во-первых, – не русский, а во-вторых – не Ребиков, не Регер, не Штраус; что именно его оригинальность заключается во врожденности в нем тех форм, которые выработались прежней немецкой музыкой и которые он один в настоящее время во всей Европе способен и призван постепенно реформаторски продолжить, в то время как остальные или тщетно стараются их усвоить, или, бросив эти старания, идут отрицательно-революционным путем, уничтожая их… Статья Бориса Попова дышит ненавистью, сдерживаемою только инстинктивным уважением, которое не может не внушить каждому личность брата. – Хулиганство заключается главным образом в том, что он лжет злобно: 1) Коля действительно молод и 11 opus для 26 лет вполне естественен[1635]; Бетховен I opus дал 24 л<ет>. 2) Профессиональные музыканты (по крайней мере, лучшие из них) знают и высоко ценят Колю. 3) Антон Рубинштейн предчувствовал музыкальный декадентизм, но вовсе не с радостью, а с печалью[1636], своих же «богов» считал не умершими, а, наоборот, только их, от Баха до Вагнера, и считал живыми, говорил, что музыка – искусство преимущественно немецкое[1637] и что finita est musica…[1638] Все это Борис Попов злостно перетасовал в свою пользу. – На неприличие этой рецензии не мешало бы Вам при случае указать Соколову. – Если Вы поправились и в состоянии ответить мне хотя бы кратким письмом, то сообщите, собираетесь ли Вы издавать отдельною книгой свои статьи, как скоро и у кого; затем, могу ли я рассчитывать на помещение моего письма по поводу теургии[1639], которое я привел в приблизительный порядок; оно оказалось очень, очень большим, должно быть вдвое превышающим размер самой статьи; кое-что я, разумеется, мог бы сократить; но мне важно знать принципиально, не оставили ли Вы своего плана в ближайшем будущем (хотя бы через ½ года) издать свою книгу; если нет, то я приведу письмо в окончательный порядок и пошлю его Вам; или приготовлю его к Вашему приезду в Мюнхен, и мы, сообща, проредактируем его. – Пожалуйста, не откладывая, уведомьте меня об этом обстоятельстве. Теперь о другом. Из Мюнхена в Москве я получил от Вас за 2½ месяца 1 деловое письмо и 1 открытку из Симплициссимуса[1640]; в письме и из открытки я видел, что Вы довольны Мюнхеном; от Вашей мамы слышал, что Вы даже баварский костюм носите и баварскую трубку курите[1641]; потом, когда Вам стало хуже на душе и Германия разочаровала Вас, Вы не уведомили меня об этом; и узнавал я о Ваших переживаниях от Льва Львовича и Маргариты Кирилловны[1642] (с обоими я, кстати сказать, за последнее мое пребывание в Москве очень сблизился); Вы, дорогой мой, простите меня, но раньше надо знать, что рейнвейн, о котором Вы упоминаете в своей открытке[1643], пишется Rheinwein, а не Reinwein (а Метнер – Medtner, а не Metner), надо твердо это знать, а потом уже произносить суд над культурой народа, очень оригинального, страшно сложного, только общеевропейской своею стороною понимаемого другими народами; понимают схему сонаты, а не зерно, из которого она выросла; грандиозность и роскошь вагнеровской затеи, а не то, куда он указывает иными своими темами. – Олимпийство и законченность Гёте, а не то,
Наверное то же самое и с Кантом и т. д.
Представьте себе, что кто-либо стал судить о русской душе по тому, как построены драмы Пушкина или как разрешает Вл. Соловьев вопрос об отношении церкви к государству; с германской культурою делают часто то же, что какой-то английский критик с Преступлением и Наказанием Достоевского; этот критик рассматривал трагедию Раскольникова как криминальный роман с новою окраскою темы о сыщике и преступнике[1645]. – Итак, с одной стороны, будьте глубже, да, еще глубже, нежели Вы, глубокий человек, это до сих пор проявляли; тогда только Вы поймете душу Германии; а, с другой стороны, будьте менее идеалистичны, менее предвзяты, менее заранее заряжены увидеть нечто необычайное там, где его нет, но где Вы желаете, чтобы оно было. –
23/I 907. – Вагнер подошел вплотную к мистерии (Парсифаль)[1646]; надо брать его за то, что он есть: это один из самых великих художников, один из тех немногих, деятельность которых, при всей ее фантастически-индивидуальной затейности, национальна и культуропроизводительна; Ницше кругом виноват: он сначала идеализировал Вагнера, а затем, разозлившись, деградировал его; сверхидеализм Ницше в этом случае – отличный предостерегающий пример. Мне кажется, что Вы склонны к тому же, к чему Ницше. Постарайтесь избегнуть этого жизневраждебного уклона. Мужественный человек должен или умереть окончательно, или жить окончательно; можно в душе носить свой нигде не осуществленный идеал и в то же время радоваться на частичную его реализацию в явлениях жизни и культуры, которые построены отчасти на иных, нежели этот свой идеал, началах. И, наконец, неужели та высота, на которой стоит хотя бы исполнение вечных образов нем<ецкого> музык<ального> творчества, то сочетание серьезности, веселости, мужества, детскости, которое всюду замечается в Германии, неужели все это не признаки высокой и своеобразной культуры, т. е. власти известных идеальных типов над жизнью. Ведь в России всего этого нет даже в зачаточном состоянии: одни??? – и больше ничего. То же, что Вам представляется буржуйностью, – это неизбежное в челов<еческих> делах manco[1647]; с этим надо мириться, если хочешь жить; в России меньше буржуазности только потому, что меньше культуры. Обнимаю Вас крепко. Коля и Анюта[1648] кланяются. Ваш Миля.
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 3. Копия: РГБ. Ф. 167. Карт. 5. Ед. хр. 2.
132. Белый – Метнеру
Пишу Вам в странной обстановке. Сейчас бродил по одинокому больничному коридору, прислушиваясь к бреду соседки, страдающей менингитом. Серый халат беззвучно и мягко ластится, и такая отчаянная грусть, такое вопиющее недоразумение пред жизнью и необходимостью влачиться через ночи и дни! Вынута из меня душа: последний сустав мизинца кричит надрывом. И в таком состоянии я уже два года, и чем дальше, тем хуже.
Недели две с половиной тому назад заболел: у меня сделался какой-то особенный нарыв (внутренний) – «phlegmona», в самом неудобном месте: между толщей ножных мускулов, прямой кишкой и седалищным нервом. Неделю корчился от боли. Потом отправили под операцию. Хлороформировали, продержали 10 дней в малюсенькой больничной комнате неподвижно на постели[1649]. Сегодня 3-ий день как встал с постели[1650]. Каждый день перевязки (перевязки будут «minimum» 6 недель – видите, опять отсрочка: не могу скоро приехать в Мюнхен). Я думал, что болезнь обновит душу – нет: сейчас хочется кричать и плакать, потому что нет больше мочи терпеть бесконечно сосущей боли. Хоть ложись и помирай!
Милый, милый Эмилий Карлович, с каким бы восторгом я сказал Вам конкретно и во всей простоте о том, что со мною, но разве можно на бумаге? Нет, тут в простых фактах запутана вся моя жизнь, и реальная и идейная. При личном свидании, если Вы захотите меня выслушать, с каким облегчением я хотел бы поговорить с Вами, но письменно как приступать к тому, что мне сейчас кажется больше мира, больше солнца и чернее ночи? Знайте одно: тут мне и капут, пришел в тупик, пора помирать, потому что всяческое отступление и забвение я не могу не считать предательством в силу данной клятвы перед Богом или победить, или изойти кровавым потом до смерти – именно изойти кровавым потом, потому что ко всем видам гибели я подходил вплотную, реально (самоубийство, сложное убийство, наконец просто убийство). И если суждено мне было от всего этого быть на волосок и не стать ни убийцей, ни самоубийцей, то остается изойти кровавым потом, погибнуть на кресте: к тому и иду. И сейчас не вижу себе спасения.
А мне хотелось поработать. Какие были планы, и вот все рухнуло. Сейчас в больнице еще тихий уют, потому что нормальная атмосфера окружает, а среди нормальных людей в условиях «здоровой» жизни с душой больной и безумной – какая мука!
Видите, все ною. Пора бросить это занятие. Отвечаю Вам на письмо.
Как был рад получить его! Проглотил жадно: кой с чем не согласился: 1) Вы обвиняете меня, что я не оценил немцев, но я и не собирался производить глубокий экспериментальный анализ над немецкой душой (теперь я уж больше не в состоянии к таким идейным экспериментам). Приехал просто: пожить, отдохнуть. Впечатления были все не глубоки, но ведь поверхности я и искал. Видался я с очень многими молодыми немцами (художниками, политиками), на ломаном языке даже спорил и во всяком случае много говорил – впечатление от них: вымуштрованные культурные манекены. Может быть, глубины свои они скрывали (а я, наоборот, бегал от глубин – сбежал с Вагнера[1651] и сумел задремать во время Шумана (горжусь этим)), или где-нибудь есть иные глубокие, я не знаю. Но ведь и суждение мое не окончательное и не серьезное. А вот что всериоз – это моя любовь к России и русскому народу, единственно что во мне не разбито, единственная цельная нота моей души. И вера в будущность России особенно выросла здесь, за границей. Нет, не видел я ни в Париже, ни в Мюнхене рыдающего страдания, глубоко затаенного под улыбкой мягкой грусти, не видел я лиц, у которых бы пробегала дрожь от умственных антиномий. Fein, tief, interessant[1652], – единственные определения достоинств литературных произведений, которые я слышал. Но, повторяю, я не судил Мюнхен (наоборот, люблю Мюнхен очень) и Германию, а высказывал свои поверхностные необязательные суждения. Не до анализа мне было.
Рецензия Попова – гнусность, я достаточно злился, когда читал ее. Только такие ограниченные люди, как Соколов, ничего ни за что не поймут, потому что им важно иметь журнал (для дешевой популярности), а не понимать. При встрече все же постараюсь его изругать за то, что он напечатал такую мерзость.
Дорогой Эмилий Карлович, сейчас издателя нет для моей книги статей. «Скорпион» скоро печатает мои 4 симфонии[1653] и потом, может быть, сборник «Тоску по воле»[1654]. Из статей он соглашается печатать лишь те, которые по чину «Химер»[1655], а разрознивать статьи не хотелось бы: предложу или Пирожкову[1656], или в книгоиздательство «Оры»[1657]. Но для этого надо быть в Петербурге. Ранее 1½ года вряд ли сборник выйдет. С восторгом хотелось бы включить Ваше письмо[1658] туда, потому что хотелось бы приписать и ответ, если найдется повод (а повод, конечно, будет).
Милый, милый Эмилий Карлович, простите за это вялое письмо. Но оно только отражает мое постоянное настроение: безнадежность, вялость и упор в долг (при этом под долгом понимаю свое «изойти кровавым потом»). Повторяю, мне капут, и я уже твердо примирился с этим.
Кончаю письмо. Вечер. Сквозь отворенную дверь вижу больничный коридор, тихонько проходят сестры-монашки в белокрылых чепцах, да раздаются возгласы менингитной больной. Вот какая жизнь! Вот что мне суждено вместо всех радостных ожиданий и несказанного.
Любящий Вас
Борис Бугаев.
P. S. Александре Михайловне и Николаю Карловичу[1659] мой глубокий поклон и самые искренние пожелания.
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 51. Помета красным карандашом: «XLIХ».Датируется по связи с письмом к матери (см. примеч. 2).Ответ на п. 131.
133. Метнер – Белому
27/I 907 Мюнхен (Türkenstrasse 61/IIIAufgang III).
Дорогой Борис Николаевич! Не успело отойти мое письмо к Вам, как пришла тетрадь Золотого Руна с Вашими изумительными стихотворениями (железнодорожная платформа в дождливый осенний день среди поля или вблизи небольшого поселка – это я так до слез понимаю… – ), сногсшибательной статьей по эстетике (Вы мне ее читали по черновику) и описанием Мюнхена[1660]. Чуть-чуть Вы переборщили; кое в чем неуловимом, несказанном, но в глубине моей души совершенно ясном, Вы задали промаху, подобно всем даже образованнейшим русским (напр<имер>, Тургеневу в Асе или в Двор<янском> Гнезде, где он говорит о Лемме… помните?)[1661]. – Но все-таки, отметая маленькую дозу славянско-галльского артистично-аристократического «свысока» к якобы нуменально-буржуазному немчуре (общий, в особенности франко-русский грешок, коему у некоторых заядлых пангерманцев соответствует убеждение в глубине, как привилегии немецкого духа), так отметая это, надо признать, что правильно и симпатично дали Мюнхен, и мне немножко стыдно, что я Вас журил[1662]. Впрочем, Вы теперь, м<ожет> б<ыть>, и не подписались бы под этою корреспонденцией. –
28/I. Сегодня слышал Поссарта в симфоническом. Как сценический исполнитель – (я его два года назад видел в роли Юлия Цезаря) – он уже далеко не тот великий художник, каким был во дни моего отрочества и юности (его Мефистофель – одно из сильнейших впечатлений, какое я имел в свою жизнь); но как декламатор он все еще несравним ни с кем[1663]; я подозревал в нем большую музыкальность; сегодня на репетиции Kaim-Konzert’а[1664] я понял, что он потому и не имеет соперников в декламации, что обладает прямо великим музыкальным дарованием; изо всех присутствовавших на эстраде музыкантов, не исключая и дирижера, Поссарт был наиболее музыкант; т<ак> к<ак> это была единственная репетиция, то он, не обращая внимание на публику, произносил стихи с очевидно намеренною (в целях срепетовки) подчеркнутостью ритма и напева; он почти все время дирижировал короткими острыми движениями кисти руки; стоя вполоборота к публике, он глазами обращался в сторону различных инструментов ровно за ¼ секунды до их вступления: очевидно, всю партитуру он знает наизусть; во всех ансамблях и в своем «дуэте» со скрипкой он ритмически побеждал своих партнеров. – Иногда он очень удачно делает то, к чему Вы так неудачно стремитесь в своем чтении. Надеюсь, дорогой мой, Вы поправились окончательно и судьба наконец в близком будущем сведет нас вместе хотя бы недели на две. – Коля занят теургической фантазией (вероятно: Eine theurgische Tondichtung für Pianoforte, zwei Geigen, Alt, Cello[1665] или еще больше инструментов; по-русски будет называться просто фортепианный квинтет или секстет или септет)[1666]; эта вещь послужит естественным переходом от доведенного им до последних пределов тонкости и звучности фортепианного стиля к стилю оркестральному, который он намерен развить совершенно от себя и независимо от «модной» вагнерианствующей инструментовки; темы Теургической необычайно прозрачны, отчетливы, радостны и оригинальны. – Да! Он да Вы – вот все, что мне дает силу нести мое убожество. – Об Анюте я, конечно, не говорю; это совсем другое дело; другое же дело[1667]. –
Вечером. – 30/I. – Не удалось дописать. Т<ак> к<ак> II том биографии Бетховена (Theuyer <так!>)[1668] занят, я читал в библиотеке Moebius Ueber das Pathologische bei Nietzsche[1669] и так углубился, что не оставалось времени. Когда дочитаю, то сообщу Вам свое мнение. А теперь скажу то, что хотел третьего дня. – Лев Львович написал мне, когда я был в Москве, письмо[1670], очевидно желая прочнее формулировать свое мнение обо мне, что в устной беседе затруднительно; в двух словах его мнение сводится к тому, что моя культурность стала второй природой и что в такой степени не высоту культурности, а именно проникновенность ею он не встречал почти ни у кого. Ей-Богу, я о себе очень невеликого мнения и потому-то так бесстыдно рассказываю Вам о мнении других; я, как обиженный ребенок, радуюсь на игрушки и показываю их другим. Еще одну игрушечку подарила мне Маргарита Кирилловна[1671]. Как-то раз я во время одного посещения у нее был особенно в духе и говорил сравнительно интереснее обычного; сначала она слушала очень внимательно, но затем я даже не без некоторой досады приметил, что она полуслушает меня и очевидно обдумывает какую-то свою мысль; я запнулся; она воспользовалась этим и сказала мне: «Эм<илий> Карл<ович>, Вы просто удивительный человек; поверьте, я знаю всю Россию, но таких, как Вы, не встречала; все – специалисты, музыканты, ученые, философы, художники, поэты». А я, прервал я ее, а я – дилетант, и притом страдающий от своего дилетантизма, от своей поверхностности. – Что вы страдаете, это я понимаю, – ответила она; вы – глубокий человек, и вас мучает недостаток ваших знаний и умений; но вот это-то и ценно, что дилетантом является человек глубокий; это Ваш крест, зато другим Вашим близким, Вашему брату например[1672], полезнее, что Вы – дилетант.
До свиданья, дорогой мой, поправляйтесь и приезжайте в Мюнхен. Не забудьте написать мне о том, что делать с моим письмом о теургии[1673].
Ваш E. Medtner.РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 3. Копия: РГБ. Ф. 167. Карт. 5. Ед. хр. 3.
134. Белый – Метнеру
Спасибо за Ваше милое письмо. Давно уже Вам ответил на первое[1674], но почта далеко, а мне теперь надо экономить каждый шаг (я только что переехал из больницы[1675]). Операцию мне сделали основательную: у меня сделался нарыв между седалищным нервом и прямой кишкою. Пришлось разрезать мускулы ноги и задний проход. Теперь только через месяц я могу мечтать о выезде. Каждый день мне делают перевязку вот уже скоро 3 недели и еще 4 недели впереди. Но мучился страшно. Но странно на операционном столе себя чувствовал, как в раю, пока хлороформировали, все время наблюдал за процессом усыпления (очень приятно). Приятно закружиться колесом в хаосе каких-то барабанных ударов (должно быть, удары сердца) среди кучи людей, о которых знаешь, что все они будут кромсать и резать, и очнуться на постели, перевязанному, окруженному уходом. За мной ухаживали монашки. У меня нет слов описать, до какой степени они утешительны и милы. Теперь медленно влачу свои дни, а влачусь согбенный и с палкой по улицам, ковыляя. Раньше месяца или 1½ не могу сесть в поезд. Рана может открыться. Рана неудобная и требующая ухода. Нарыв называется «phlegmona».
Но простите, что я в самом деле разболтался о своей болезни. Дорогой Эмилий Карлович, Вы один из самых дорогих мне людей: не пишу Вам, потому что накопилось столько Вам сказать, что боюсь: когда начну говорить, разорвет. Долго ли Вы пробудете в Мюнхене? Вообще в будущем году будем ли мы видаться? Ведь нельзя же так, как теперь: едва Вы приезжаете, я уезжаю, и обратно.
Смею Вам напомнить, что у Вас Ваши письма ко мне: они мне очень дороги. Вы мне их вернете – неправда ли?[1676]
Остаюсь глубоколюбящий Вас
Борис Бугаев.
P. S. Анне Михайловне глубокое уважение и привет. Николаю Карловичу тоже[1677].
Не задержали ли какие-нибудь причины. Но после Вашего ответа.
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 52. Помета красным карандашом: «XLVIII».Ответ на п. 133.
135. Метнер – Белому
Мюнхен 16/II 907.
Дорогой Борис Николаевич! Ваши два письма в одном конверте получил. Большое спасибо Вам. Хотел сейчас же ответить, да не удалось[1678]. И сейчас слишком обременен разными добровольно возложенными на себя тяготами. Рачинский вышел в отставку[1679], написал мне мистическое письмо[1680], собирается идти в священники; шлет Вам привет и просит меня сообщить Вам, что полгода он непрестанно молится за Вас. Я не молюсь, но за то (?) укрепляюсь в том убеждении, что Вы победите. Обнимаю Вас крепко. Горячо любящий Вас Вольфинг.
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 3. Открытка.Ответ на п. 132 и 134.
136. Метнер – Белому
9. III. 907.
Дорогой Борис Николаевич! Обратите внимание на «дрожь от умственных антиномий» (выражение из Вашего письма)[1681] на левой стороне лба… Обнимаю Вас крепко за Ваш «манифест» (Весы)[1682]. Простите, что не пишу. Ежечасно думаю о Вас. Absender (Expedié) Emil Medtner. München Türkenstr. 61/III Aufgang III.
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 3. Открытка с портретом Франка Ведекинда. Отправлена в Париж по адресу Д. В. Философова (19 bis rue Theophile Gautier).
137. Метнер – Белому
München 15/IV 907.
Надеюсь, Вы получили мою открытку с изображением Франка Ведекинда, отправленную в Париж[1683]. В ней я говорю о Вашем сумасбродно-пленительном Манифесте[1684], Seitenstück[1685] к которому дан Вами в январском Руне[1686]; эта последняя статья в особенности порадовала меня своим финалом; пусть этот абзац о литературе и проповедничестве – лишь отпечаток сейчасного Вашего настроения[1687]; меня удовлетворяет то, что Вы это высказали; между мною и Вами отношение аналогичное тому, какое было между Мерком и Гёте[1688]; все мы нуждаемся в Мерке; и мне он был необходим, да не пришел; да и самому Мерку, конечно, тоже был нужен свой другой «Мерк», оттого, быть может, он и сварился в собственном соку. Наша переписка свидетельствует, что я все время неустанно тянул Вас в сторону гуманизма от гипергуманизма. В этом, как Вы помните, и весь смысл первой половины моего неотправленного и год тому назад прочитанного письма – статьи в ответ на Вашу Теургию…[1689] С тех пор я его оставил, несколько исправив стилистически, и не теряю надежды увидеть его напечатанным рядом с Теургией. Как только у Вас наладится издание Ваших статей, черкните мне, и я вышлю Вам и это «письмо», и все другие мои письма, которые я взял тогда у Вас для того, чтобы, работая над «письмом», войти в тогдашнее настроение. –
–
Перечитывая Ваши последние письма, я еще раз убедился, что нам необходимо говорить. Как жаль, что Вы не заехали в Мюнхен. – Замечательно, что и Вы произнесли слово «тупик» («пришел в тупик, пора помирать»[1690]); мне не раз приходилось произносить его за последние годы; вынужденность произносить его и теперь не исчезла; еще несколько дней тому назад я находился в течение двух недель в довольно остром припадке отчаяния… – Но я боюсь этого слова Тупик; это стало для меня не только метафорой, но символом; тупик – это диавольские сети; знаете картину Саши Шнейдера «Das Gefühl der Abhängigkeit»[1691] (чудовище, расставившее лапы, и обнаженный человек, обращенный к нему лицом)? «Нет выхода из тупика». Это эмпирически – неверно; надо повернуться и пойти назад, вот и все. Дело в том, что стена тупика, конечно, крепче любого лба; унизительно разбивать себе голову; одно из двух, если Ваша «клятва перед Богом или победить, или изойти кровавым потом до смерти»[1692] не фраза, а реально-мистический акт, то Вы не смеете думать, что Ваш тупик что-либо иное, кроме диавольского наваждения, из-за которого унизительно «изойти кровавым потом»; вот если бы Вы пробили тупик или, вернувшись назад, не нашли выхода, тогда другое дело… Знаете, в Москве на Б. Никитской есть Хлыновский Тупик; с детства я питал к нему непреодолимое отвращение, еще когда 8-летним мальчиком ежедневно ходил мимо него в милую мамонтовскую детскую школу, что в Леонтьевском переулке. Там 26 октября 1906 г. погиб Андрей Братенши, брат Анюты[1693], ставший мне как раз в последние годы очень дорогим. В этом тупике он жил с любимой женщиной, разводившейся супругой одного из его товарищей. Андрей был чугунный, а не стальной; такие легче ломаются от сильного удара о каменный мешок. Вы помните его: он был социалист и эстетик; очень умный, а главное, страшно сильный демонический человек. По отношению к женщине он был, во-первых, целомудрен[1694], а, во-вторых, то, что я называю монотеист[1695], т. е. полюбить мог только раз и только одну. Он стремился к мудрости, а ее звали Софией; без нее он чувствовал, что не может дальше идти; она полюбила его (или, вернее, кажется мне, подчинилась ему, как демону), и они пошли вместе; но муж ее, давно разлюбивший ее, из-за мести Андрею стал звать ее назад, не выдавая ребенка, отказывая в паспорте за границу (почему Андрей вынужден был бросить лекции в Марбурге); у нее начались колебания; она в них призналась Андрею, сама решив, что лучше, чем колебаться, умереть; тогда Андрей убил из револьвера сначала ее, а затем себя там в комнате в Хлыновском Тупике. Весь этот ужасный день он руководил событиями с поразительным мужеством и непонятною таинственною властностью (дело в том, что подозревали их замысел и мешали им); а накануне ночью он изошел кровавым потом. Все устроил он необыкновенно просто и красиво; и оба они в гробах были, как боги. Я никогда не видел таких прекрасных покойников (оба умерли мгновенно); несмотря на горе, мы с женой не могли не сказать: «да», «так, стало быть, быть надо было», и Коля закрепил это, посвятив «Памяти Андрея Братенши» свою Sonaten-Triade[1696], над которой тогда как раз работал и которая написана как бы на текст Trilogie der Leidenschaft Гёте[1697], одного из самых интимных и человечных стихотворений его, где к нему снова вернулось (I) вертеровское настроение, (II) затем вертеровское переживание, и наконец (III) он нашел примирение всему… – Победил ли Андрей или был побежден? Как будто победил![1698] Во всяком случае пал с честью, загнанный в Хлыновский Тупик… конечно, «тем же», «кто» загнал и Вас… Вы остались жить, так покажите, докажите, что это произошло не из слабости, а от избытка сил, и живите мужественно дальше, как Андрей мужественно убил себя; и самоубийство, и преодоление самоубийственного позыва есть Questio facti[1699]; т. е. может иметь место и от трусости, и от мужества, от пессимизма и от оптимизма; убивают же себя жизнерадостные и смелые японцы… – Простите, дорогой мой друг, если я причинил досаду и боль Вам своим рассуждением, которое могло показаться Вам поверхностным. – У меня, конечно, нет дара ярко освещать глубины своих мыслей, но поверьте, если я бываю очевидно поверхностен, то только потому, что лечусь таким образом от своих страдающих глубин. –
–
А в Амстердаме в зоологическом саду показывают Кентавра, пойманного среди табуна диких мустангов в Техасе; я видел фотографический снимок в иллюстрированном голландском журнале: Кентавр – бородатый мужчина и похож очень на Бёклинского Кентавра, пришедшего в кузницу и показывающего, как следует его подковать…[1700] К сожалению, я не мог разобрать текста к этой иллюстрации. А в Америке какой-то химик открыл, что мужское семя может быть заменено для зачатия какими-то «солями» и что семя многих животных реагирует отлично на человеческое женское яичко. Этак нас, пожалуй, в отставку… – Вышла книга, доказывающая, что Христос был индус, а на Neuhäuserstrasse в «католическом» магазине в окне я видел «единственно верный портрет Господа нашего Иисуса Христа», где изображено не особенно умное и не особенно красивое, но совершенно эллинское лицо. –
20/IV. Несколько дней не нудил к перу своих рук, ибо был занят взасос: взял себе для занятий отдельную пустую комнату, поставил там стол, стул и рояль и решил снова продолжить свои музыкальные занятия, прерванные волею судеб на целый год. Читали мою статью о Регере? (NB Две опечатки: отрицаю (а не порицаю) значение… и они (мысли) взывают к оркестру, а не он (?) взывает)…[1701] – Спрашиваю Вас не из пустого любопытства и не из авторского самолюбия, а ради самого дела: если то, чтó я пишу о музыке, малоубедительно и неинтересно, то я брошу писать об этом, тем более, что эта работа отнимает время и раздражает меня: пиша о музыке, я страдаю, что я – не музыкант и что не могу говорить авторитетно и до конца сознательно-убежденно. В последнем номере (апрель) лейпцигского журнала Musik очень симпатичный отрывок о композициях Коли[1702]; песни (Goethe Lieder) названы – одним из крупнейших явлений всей современной музыки; в музыкальном приложении журнала перепечатан с разрешения Юргенсона один номер из этих песен («Sieh mich Heiliges, wie ich bin»[1703]). – Стихотворением Соловьева в февр<альском> № Руна я крайне недоволен[1704]; не берусь судить о его технических достоинствах, но убежден в его варварстве и ненужности. В страшном восторге от Огненного Ангела Брюсова[1705]: вообще я начинаю понимать его и понимать свое прежнее непонимание его и вижу в этом «непонимании» и пшеницу и плевелы; интеллигибельный (или просто гибельный) характер Брюсова остается мне антипатичным, но как художника я уважаю его больше, нежели всех современных русских художников всех специальностей. – Прозаика такого не было со времен Пушкина. – Мой новый адрес: Schellingstrasse I/1, Pension Berg… Жаль, что Вы не слышали ораторий Баха и Генделя; это гениально и напоминает греческую трагедию… Все мы трое[1706] приветствуем горячо Вашу маму и Вас… До свиданья! Обнимаю Вас крепко! Отвечайте только, если потянет к этому. Ваш Э. М. –
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 3. Копия: РГБ. Ф. 167. Карт. 5. Ед. хр. 4.
138. Метнер – Белому
Мюнхен 5/VI 907.
Дорогой Борис Николаевич! Только что Ваше стихотворение (последнее из группы Эпитафий) успело меня тронуть своею правдою, глубиною и простотою (а Колю впервые побудило писать на Ваш текст)[1707] – как пришла книжка Весов с перевальною статьею против музыки[1708]. – Теоретически я не только понимаю Вас, но, отчасти, даже и предчувствовал Ваше апостатство[1709], предчувствовал, когда еще читал в конце 1903 г. Вашу статью о Теургии и писал Вам письмо-возражение на нее[1710]. – Практически как Э. К. М., как Ваш друг я не могу помириться с этим, принять это; очень ужь далеко Вы теперь ушли от меня. Все наше сближение, вся наша дружба недаром сопровождалась непременно одним фатальным элементом: мы постоянно разъезжались; теперь я стал писать в Руне (и вынужден писать, чтобы зарабатывать что-н<ибудь>), а Вы ушли из Руна от плюхающегося в кресло первого ряда и совершающего автомобильные путешествия буржуя Рябушинского[1711]. – Я окончательно и бесповоротно влюбился в музыку и, в частности, в Вагнера, подлинность которого (как художника) для меня после всего слышанного в Мюнхене не подлежит сомнению. Вы прокляли все это. – Скажу Вам только одно: почему Вы не опустили лота в свое нутро и не удостоверились, чтó это у Вас, настроение или состояние, каприз или догма? Мне почему-то кажется, что Вы этого не сделали… Если это настроение, то Вы совершили литературный грех, ибо надо было отвязаться от этого настроения стихотворением, а не статьей. Если же это – Ваше новое убеждение, то тогда Вы правы были, написав эту статью. Но тогда поспорим с Вами[1712]. Только где и как? Как жаль, что Вы еще не напечатали (и даже не решили вопроса о печатании) Вашего сборника статей с моим письмом в виде приложения. Ссылаясь на эту книгу, мы могли бы избегнуть в споре само собою разумеющегося для нас, но непонятного другим, могли бы быть кратче и потому приемлемее для таких Весов. А теперь я уж не знаю, как поступить? Если Вас не ужасает теперь, сейчас говорить о музыке (это вполне мыслимая вещь, и Вы будьте откровенны), то напишите мне кратко, как и где нам поговорить. Следует ли мне прислать Вам мое тогдашнее письмо (ответ на Теургию), и как Вы поступите дальше? Можно поступить двояким образом (третью возможность, т. е. что я просто помещу в Руне возражение на «Против музыки», я пока отставляю, как наименее мне приятную, хотя и наиболее удобную); 1) Вы пишете как бы комментарий к моему письму (по поводу Теургии), в котором рассказываете процесс Вашего перелома от теургизации музыки до ее… «прострации»; я же пишу свое возражение на Вашу перевальную статью в «Весах» опять в виде письма, посылаю его Вам, Вы пишете возражение, я, может быть, опять отвечу и т. д., и весь этот материал вместе с обеими демаркационными статьями 1903 и 1907 г. помещается в будущем Вашем сборнике. Конечно, я согласен на такой способ лишь в том случае, если Вы уверены в том, что печатание сборника Ваших статей состоится именно так, как Вы этого желаете. 2) Другой образ действий таков: Вы прочитываете мое письмо в ответ на Вашу Теургию с тем, чтобы по возможности привести его в удобопечатаемый в каком-нибудь журнале вид, снабжаете это письмо своим комментарием (сообщая положения статьи о Теургии) и критикою, помещаете его в журнале в № X; а в № Y или Z помещаете мое новое письмо по поводу Вашей противо-музыкальной статьи, также со своим ответом. – Если Вам тяжело и не хочется сейчас заниматься этим, то не стесняясь напишите мне об этом: тогда я напишу ответ на Вашу статью в Руне; жду скорейшего Вашего ответа; мне необходимо знать (на случай, если придется писать в Руне) 1) могу ли я считать Андрея Белого и Бориса Бугаева одним лицом[1713]; 2) могу ли я в своей статье упоминать о моем письме в ответ на Вашу Теургию как письме, которое Вы решили поместить после своей статьи в предполагаемом сборнике??? Пожалуйста, ответьте что-н<ибудь> и скорее. Получили ли Вы мое письмо и открытку с портр<етом> Ведекинда?[1714] Привет Вашей маме. Обнимаю Вас. Ваш М.
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 3. Копия: РГБ. Ф. 167. Карт. 5. Ед. хр. 5.
139. МЕТНЕР – ЭЛЛИСУ И БЕЛОМУ
Дорогой Лев Львович! На Ваше письмо вскоре отвечу[1715], а пока прошу немедленно доставить сие Борису Николаевичу.
Дорогой Борис Николаевич. Писал Вам на Арбат; не получил ответа[1716]. А письмо было деловое. Теперь прошу Вас немедленно уведомить Арс<ения> Ник<олаевича> Корещенко в редакции Руна, что Вы ничего не имеете против раскрытия Вашего псевдонима в статье Вольфинга[1717]. Сделайте это скорее, а то будет поздно и я подумаю, что Вы или в самом деле считаете Ваш псевдоним – тайной, или хотите лишить Вольфинга идеального и материального удовлетворения от его статьи.
Обнимаю Вас. Ваш М.
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 3. Открытка. Датируется по почтовому штемпелю: München. 23 Jun. 1907. Адресовано: Москва. Плющиха. Меблированные комнаты «Дон» № 16. Его Высокородию Льву Львовичу Кобылинскому для передачи Борису Николаевичу Бугаеву, от Э. К. Метнера из Мюнхена (Германия).
140. Белый – Метнеру
целую Вас много раз. Обнимаю. Страшная потребность Вас видеть. Буду отвечать Вам на Вашу статью из «Весов»[1718]. Бесконечно интересны и глубоки Ваши статьи о музыке[1719]. Ничего подобного у нас еще не появлялось. Буквально проглатывал их при чтении.
Простите, дорогой Эмилий Карлович, что не могу писать. Но это сериозно: вот уж год, как написание письма исторгает из меня чуть ли не крик отчаяния. И чем ближе мне Вы, тем труднее писать.
P. S. Мой глубокий привет Ан<не> Мих<айловне> и Ник<олаю> Карловичу[1720].
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 53. Открытка. Датируется по почтовому штемпелю: Москва. 30. 6. 07. Почтовый штемпель получения: München. 16 Jul. 07.
141. Метнер – Белому
Weimar 30/VIII 907 (Lisztstrasse 23)[1721].
Дорогой Борис Николаевич! Только что возвратился из Мюнхена с первых трех фестшпилей с намерением заняться их описанием здесь на покое; через 9 дней надо опять в Мюнхен на Кольцо[1722]. Теперь жалею, что вернулся: очень ужь огорчили меня вырезки из газеты, присланные мне Руном с предложением написать свое мнение о конфликте. Анюта[1723] благоразумно не переправила мне в Мюнхен этих документов, не желая расстраивать меня. Но теперь… они произвели свое подавляющее действие на меня! [1724]. – Конечно, я ответил редакции Руна уклончиво. Но все-таки нельзя же в самом деле остаться мне безгласным. Чтó Вы наделали? – Раньше всего Вы сами виноваты, что моя статья напечатана. Я писал Вам, спрашивая Вас, как поступить[1725]; обещал прислать Вам свое возражение на статью и письмо-возражение на Теургию для просмотра; предлагал, если можно, поместить в Весах, чтобы наша не только «идейная», но и идеальная в благороднейшем смысле полемика не смешивалась с грязью слишком человеческих отношений между конкурирующими литературными журналами. Вы молчали; время шло; Руно ожидало моей статьи; я решился отправить ее помимо Вашей личной редакции или, вернее, цензуры ее. Я надеялся, что Вы вполне поймете беспристрастность моего отзыва. Я знаю, что многое в моей статье было бы убийственным для ничтожной величины, но на то Вы и Бугаев, чтобы мочь вынести и не такие удары. Я ударил, но я и назвал того, кого ударил, назвал так, как его никто еще не называл. – Конечно, я бы не напечатал этой статьи, если бы знал, что Вам негде поместить своего возражения. Вы же писали мне, что будете отвечать в Весах[1726]. Почему этот орган не помещает Вашего возражения? Ничего не понимаю. – Я так расстроен, что не соберусь с мыслями. – Судьею между нами может быть только тот, кто не знает лично ни меня, ни Вас, но кто знает Ваши статьи от Теургии до Против Музыки хотя бы так, как знаю их я. Нет ни одного слова, ни одной мысли в моей статье, которая бы не могла быть иллюстрирована выдержками из Ваших работ. Ведь в то время как я писал возражение, у меня не было Ваших статей, кроме той, которую я оспаривал, и выдержек из Теургии, сделанных мною в моем старинном письме Вам, которое я взял с собою за границу для корректуры и переписки начисто[1727]. Я пишу: «Мыслимы два объяснения»[1728]. Я даю гипотезы. Я делаю предположение об отсутствии конгруэнтности между Вашим психическим строем и тем, который явился фактором создания музыки германского типа. Я нигде не говорю об отсутствии у Вас музыкального образования, но делаю только предположение, что Ницше, который был почти специалистом в музыке и сочинял фантазии для хора и оркестра, наверное ближе знал музыку и глубже проник в нее, нежели Вы. Чтó Вы переживаете некий кризис, несомненно для любого читателя Ваших последних статей. Ваша экстравагантная читка известна всей Москве; ведь Вы выступали лектором[1729]; я не хулю этой читки, а называю ее так, как она этого пока заслуживает[1730]; молодой Шиллер выл свои стихотворения на одну-две ноты; но мало-помалу его экстравагантная патетическая монотонность выработалась в нечто интересное и художественное. Я даже не хулю Вашего музыкального цыганизма, а только ссылаюсь на него, как на полюс, противоположный музыкальному германизму[1731]. Сейчас я перечитал свою статью и смело утверждаю, что в ней нет ничего, как Вы пишете, «основывающегося исключительно (?!) на данных, почерпнутых из личного знакомства». Я «заглянул в Вашу душу»; но мой психологический анализ покоится только на данных Ваших работ. Возможно, что мне это удалось сделать так, как я сделал, благодаря личному знакомству, но ведь и обратно – наши личные отношения сложились так, а не иначе, благодаря тому, что Вы писали именно так, как Вы писали, а не иначе, что Вы в своих произведениях были большею частью самим собою, таким, каким я Вас полюбил. Теперь посмотрите, чтó Вы со мною сделали! Всякий обыватель, прочтя письма, помещенные в газетах, скажет себе: «Хотя я и не понимаю ничего из того, чтó пишет этот декадент Андрей Белый, но все же он – знаменитость; ну понятно, что маленький декадентик какой-то Вольфинг втерся в доверие и дружбу к Белому, соблазнил его к переписке, а затем, когда началась из-за каких-то мистических анархистов и соборных индивидуалистов[1732] никому не понятная полемика между двумя символистскими журналами, этот Вольфинг взял да и воспользовался данными, почерпнутыми из личного знакомства, в своей полемической статье; и журналу своему услугу оказал, отхлестав знаменитость, и пятачки ни за что ни про что нажил». Вот вердикт присяжных читателей газет, который мне будет вынесен благодаря Вашей опрометчивости. Ваше письмо, помещенное в № 58 Столичного Утра, выставляет меня как литературного паразита и Ваше второе письмо мало поправляет сказанное в первом[1733]. – Вы должны были бы быть особенно осторожны ввиду своей знаменитости и моей неизвестности. Будь за мною несколько книг, достаточно нашумевших, Ваши заявления не могли бы в такой мере бросить на меня тень. А теперь Вольфинг пристукнут. Я учинил над Вами «сыск». «Да кто же это такое этот Вольфинг? Да, говорят, бывший сотрудник Московских Ведомостей[1734] и цензор! А, ну конечно: перенес полицейско-сыскные приемы и в свою художественную критику!» – Конечно, опубликованием этого ужасного термина «сыск» я обязан недогадливости Золотого Руна[1735]; но Вами-то о «сыске» было упомянуто в статье, которую Вы рассчитывали увидеть напечатанной![1736] И кто это подсказал Вам это ужасное слово! Не тот ли, кто гонит Вас, надежду русской литературы, по наклонной плоскости; так гонит, что Вы думаете, что летите ввысь! – Я не хочу всматриваться: быть может, этот «кто» – «некто», быть может, «нечто»… – Ради Бога! Успокойтесь! Найдите опять себя. Имейте побольше истинной гордости. –
Сейчас вспомнил, что Василий Васильевич Владимиров, которому я прочел свою статью[1737], вполне согласился со всем, мною сказанным в ней, и на мой вопрос, могли ли бы Вы обидеться на меня за нее или найти ее неприлично-личной, ответил полным отрицанием такой возможности.
Но… к делу. Я прошу Вас во имя нашей прошлой (или, если Вам угодно, и настоящей: я по-прежнему люблю Вас) – дружбы (так Вы сами первый назвали наше отношение), прошу Вас, как старшего собрата по оружию, немедленно в Весах, в Руне, в Утре, где угодно как-нибудь исправить неосторожно нанесенный мне вред. Что касается Вашего ответа на мою статью, то Вы бы могли в измененной (надеюсь!) редакции поместить его прямо в сборнике своих статей, или пока в том же Утре, хотя бы в сокращенном виде. Во всяком случае прошу Вас немедленно известить меня, как Вы намереваетесь поступить. Если Вы ничего не ответите мне или ответите отказом как-нибудь сгладить резкость Ваших обвинений, я вынужден буду напечатать свою защиту против обвинений меня в сыске и паразитизме и в этой защите вести себя не как ищущий идейного примирения, а просто как отстаивающий с оружием в руках свою честь… – Если Вы исправите свою ошибку, я обещаю Вам прислать на просмотр то, что, может быть, сочту необходимым написать по поводу нашего конфликта. А пока расстаюсь с Вами, быть может, в последний раз как друг; Вы и не подозреваете, как я мучился, когда писал против Вас, который был до сих пор в моменты моих отчаяний одним из соблазнов к продолжению здешней жизни. Обнимаю Вас. Ваш Э. Метнер.
P. S. В том, как Вы теперь пишете против Блока[1738], сквозит много, слишком много интимного; бросьте все это. –
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 3. Копия: РГБ. Ф. 167. Карт. 5. Ед. хр. 6.
142. Метнер – Белому
Веймар 2/IX–20/VIII–1907.
Дорогой Борис Николаевич! Написав Вам письмо[1739], которое Вы, надеюсь, теперь уже получили, я засел за статью о фестшпилях[1740], но в голове только «сыск», «заглядывания», «интимность» и т. д. – Решил освободиться от этого и написал: 1) письмо в Столичное Утро; 2) заметку в Золотое Руно[1741]. И то и другое пересылаю Вам на просмотр уже теперь, потому что, придя в себя, я понял, что необходимо или ответить на Ваши обвинения немедленно, или оставить вовсе мысль об ответе; последнее невозможно: обвинения довольно унизительного свойства. Не знаю, кто Вы мне сейчас, друг или враг (безразличия между нами быть не может), я взываю к Вашей внутренней и внешней корректности и прошу Вас по чистой совести прочесть мои оба письма, чтобы видеть, о чем я, и, прочтя, немедленно отнести их моему отцу или брату Карлу, либо в Контору (Лубянско-Ильинские помещения Конторы Товарищества Московской Кружевной Фабрики), либо на квартиру (Малый Гнездниковский переулок, дом Пегова, кв. № 8), так как отправлять Вам эти рукописи в Золотое Руно, конечно, неудобно… Читая рукописи, Вы можете зачеркнуть то или другое слово, которое почему-либо покажется Вам особенно обидным, но так, чтобы не испортить смысла фразы.
Кажется, я ничего особенно неприятного для Вас не написал. Приятного, конечно, мало во всем этом, но что же делать? Надо довести наш конфликт или до примирения (личного), или до разрыва (личного же); у нас были с Вами всегда разногласия, и никто не виноват, что они обострились; но лично мы можем быть, независимо от этого, и друзьями и врагами. Но все-таки наши личные отношения в дальнейшем зависят от судьбы и заключительного аккорда нашей полемики, ввиду того, что эта полемика перенесена Вами на личную почву. Советую Вам перечитать Вашу Теургию и вспомнить о цыганственности Пушкина, о сфинксах и т. д…[1742] – Убежден, что если Вы захотите, Вы сумеете загладить сделанное. – Еще раз прошу Вас немедленно прочесть и передать по назначению прилагаемые рукописи. А затем в ожидании решения судьбы наших личных отношений я буду надеяться на все лучшее и светлое. Ваш Э. Метнер.
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 3. Копия: РГБ. Ф. 167. Карт. 5. Ед. хр. 7.
143. Белый – Метнеру
Глубокоуважаемый, дорогой, неизменно любимый, близкий, ради Бога не думайте, что в этом ужасе я действительно сознанием виноват; такой гнусности я не ожидал от Рябушинского. Как все ужасно! Как горестно!
Но чтобы не расплыться в восклицательных знаках, я нарочно обуздываю себя и начинаю все сначала.
Прежде всего о наших разъездах. Меня судьба гоняла из города в город. И когда я хотел Вам писать, я чувствовал, что нужно или написать до 60 страниц (minimum), чтобы сказаться с достаточной понятностью; писать же о более внешнем и при том Вам, которого я считал одним из самых необходимых мне людей, как можно? Вы, Сережа, Лева, Ал<ексей> Сергеевич[1743] – вот единственные мои близкие; ни Вам, ни Сереже, ни Леве, ни Ал<ексею> Сергеевичу я не могу писать: написать длинное послание в 25 страниц при все усложняющемся для меня ритме жизни невозможно без затраты громадной энергии: писать меньше, значит быть внешним, поймите – я так на хочу, я так не могу: Вы же мне близкий, нужный, необходимый. Вот как сложилось мое извне странное молчание. Вот почему я не писал Вам так давно: но мысленно, ах как часто я веду с Вами речь, но с Левой и Ал<ексеем> Сергеевичем мы редкую встречу о Вас не говорим. Глубоколюбимый Эмилий Карлович, неужели Вы можете думать, что наши встречи были ни о чем, и что нужно разойтись из-за этого ужасного, проклятого недоразумения?
Да, все, что я писал, начиная с «Манифеста»[1744], неряшливо, истерично, грубо, непонятно при кажущейся упрощенности большинству даже читателей «Весов». И сознаю, что, как писатель, я вел себя невозможно. Но все это, верьте, вызвано громадным опытом личных сношений моих с петербургскими литераторами, порой очень коротких (Иванов, Блок, Ремизов, Аничков, Куприн, Городецкий, Аннибал[1745] и пр.). Я все приглядывался, искал, хотел верить (ах уж эти словесные совпадения путей!), а недоумение, изумление, гнев все росли, росли. И я закрывал глаза: у меня полная терпимость, мягкость и широта до nec plus ultra[1746]. Я обыкновенно никому не выдаю своих разочарований, и даже таю месяцами разочарование от себя самого. Я смотрел, глотал душную муть атмосферы «делателей культуры», не позволял себе глядеть в «их подполье», а песок и муть, процеживаясь в бессознательное, образовали целый холм грязи: плотина росла: потом мою искренность она запрудила: вода вышла из берегов, и неожиданно для себя самого водопад негодования вырвался наружу в истерическом манифесте, который свалился на голову, как дикость, причуда: но шлюзы терпения открылись, и я уже ничего не мог писать, кроме воплей. Никто не понял, я и сам не понимал, сколь это оказалось педагогически нужным (вот уж был далек от педагогии): дело в том, что я первый открыто сказал о многом, что доселе считалось непогрешимым: «А ведь дело дрянь! Надо спасать новое искусство от фальсификации!» Двое-трое поняли, повторили: «Дело дрянь». Группа лиц прислушалась, и сомнение взяло многих: «уж не царское ли платье мы хвалили» (сказка Андерсена)[1747]. Наконец задумался и Брюсов: и понял, что еще немного, и провокация зальет все, и «Весы», и любителей «нового»: и то, что с болью созидалось, рухнет с грохотом. И вот Брюсов примкнул к нам: и мы стали бить петербуржцев[1748]: но верьте – мы попадали в действительное, хотя, если взять немного пошире, то и выходило как будто: «Много шуму из ничего». Теперь петербуржцы испугались, подсылали в Москву узнать: все открещиваются от мистич<еского> анархизма. Блок хочет писать в «Весах» покаяние[1749]. Завтра едет ко мне говорить, объясняться[1750]. Видите: мой сначала одинокий вопль (дикий по форме) оказался началом тактики: теперь мы уже не дадим ход рекламе и шарлатанству, покрывающему мистическую мерзость многого, что происходит в литературе. К нам склонился «Перевал», «Весы», несколько газет и ряд рядовых, могущих дать отпор хулиганству: в организации контр-провокаторской оппозиции моя истерика уже оказала реальные услуги, хотя если смотреть на поверхность литературной арены, то как будто и ничего еще пока не изменилось: но это только кажется: брешь пробита. Даже В. Иванов подумывает удрать за границу[1751]. Итак, я виноват, как писатель, но не виноват в нечестности, и неожиданно тактически сделал верный ход, чего уже совсем не ожидал.
Как надо смотреть на мое «Против Музыки». 1) Как на истерику. 2) Как на тактический ход (непроизвольный). 3) Как на рассуждение с самим собой, – рассуждение, стояще<e> вне плоскости искусства, и потому не нарушающее моих прежних взглядов (уже после появления заметки я читал лекцию «Искусство будущего» (2 раза)[1752], где буквально повторил свои прежние мысли о великом значении музыки, о значении ее, как формы, и о значении формы в музыке: этим я дал понять, что заметка «против музыки», так сказать, в иной методологической плоскости. Моя вина, что рельеф отношения методов не выяснен: но, Эмилий Карлович, мне негде писать, а в «Весах» с введением литературного отдела[1753] я забит на 5–6 страничек (maximum). Итак, я опустил много промежуточных взглядов, долженствующих показать, что я могу писать и «против музыки», оставаясь ее горячим поклонником. Как до заметки, так и после я умирал на Вагнере, Шумане, Бетховене. Чем я виноват, что мне нет места ни в одном журнале, как скоро я хочу говорить обстоятельно: меня загоняют в афоризм, и получаются «ананасы»[1754].
Тактика моя в этой заметке такова: «вы, шарлатаны, кричите, что музыка – все, и выводите из этого педерастию и порнографические общества. Вы иногда повторяете меня: врете, подлецы, я не с Вами, и если Вы хвалите музыку, я ее ругаю»[1755].
Наконец, после кощунств с музыкой, мистерией, соборностью и мистикой, я считаю необходимым на время провокации опустить завесу на многое в себе и явиться с опущенным шлемом. Отсюда тактика: «Назад к индивидуализму» в одном направлении, и «лучше соц<иал->демократия, чем соборный разврат» – в другом.
Теперь подхожу к ужасу, который гнетет и давит меня; о невольной боли, которую я причинил Вам, и о двойной боли, которую испытываю я: Вашей болью болею; и болью тем, что негодный купчина[1756] провоцировал наши отношения. Вот как это произошло. Когда Вы писали мне, что будете отвечать, я очень порадовался в двояком отношении: 1) я хотел с Вами говорить в печати: я думал, что наша полемика будет мне глубоко полезной, и что мы могли бы показать пример, как надо полемизировать, 2) я радовался случаю выяснить свою истерическую по форме заметку, снабдить ее комментариями в том свете, что не так «дик зверь, каким я его представил», что моя заметка, если она и истерична по форме, то все-таки она не «ананас», каким не могла не показаться. Первоначально я хотел отвечать в «Весах», посвятив ответу один из «На перевале» (которому «Весы» уделяют 4–5 страничек). Но когда оказалось, что Вы выступили тяжеловооруженным, мобилизировав на мою заметку полки из ратей, которых я сам высоко чту, я увидел, что мог бы ответить Вам большой статьей, в которой должен бы предварительно высказать 1) вводные взгляды к заметке, которых печатно не высказывал, и 2) на Ваше возражение ответить пояснением вдвое большим. Этого ни в «Весах», ни в «Перевале» (который отказался напечатать мою лекцию (имевшую успех)[1757] и который, конечно, отказался бы поместить ответ на возражение в размере, превышающем размер 5 печ<атных> страниц). «Весы», кроме того, были битком набиты материалом, который нужно напечатать в текущие два месяца, иначе этот материал потеряет свой смысл (всё полемика и тактика). В «Руне» я мог бы написать статью, но я вышел из сотрудников, а письмо в Редакцию меня заставили написать в один день.
Но буду говорить по порядку.
Приехав в Москву, я встретился на бульваре с Тастевеном, который сообщил мне о размере Вашей статьи, о том, что № вышел[1758], говорил о том, что журнал меняется, что в журнале будут сериозные статьи, посвященные гносеологическому взгляду на искусство. Я, имея в виду, помимо спешного ответа, написать статью, в которой собирался разобрать нашу полемику, имел неосторожность сказать, что в сериозно обставленном журнале я мог бы работать, если бы Ряб<ушинский> не врывался со своим «хамством»[1759]. Оба мы смеялись над Рябушинским (ведь ушел я 1) из-за оскорбления Рябушинского, нанесенного Курсинскому[1760], 2) из<-за> того, что нам, сотрудникам, объявили с высоты престола об изменении направления журнала[1761], 3) из-за того, что Рябушинский так и не сумел объяснить программы журнала). Так мы поговорили, не предрешая формального моего возвращения в журнал. Пришел домой, получаю «Руно»: в восторге от Вашей статьи, но вижу настоятельную необходимость ответить Вам на страницах «Руна», имея в виду, что статья, написанная столь блестяще, намекает на многое, о чем мы лично говорили, говорит о моем кризисе, касается моей личности (эстетической) – но личности: и я хочу внести своим объяснением ряд поправок. Телефонирую в «Руно», отвечают: «Статья нужна послезавтра: журнал выходит». Пишу моментально. Потом читаю «Руно». Вижу – Ваша статья единственное, что ценно: журнал наполнен вздором; выходки «Эмпирика» против «Весов», которые теперь составляют Брюсов, я, Эллис, т. е. выходка против нас, вздор Блока о «реалистах», «меледа» Иванова о «гы-гы-гы» русского мужичка в греческом хитоне, соборно предающегося педерастии[1762]; вижу – нет, не могу сотрудничать во враждебном лагере: лечу говорить с Брюсовым и Эллисом. Вырабатываем ультиматум «Руну»: 1) устранение Рябушинского и «конституция» Руна, 2) права «veto» на статьи о литературе (мера против Петербурга). Пишу письмо Тастевену, посылаю письмо в Редакцию. Тастевен прилетает; говорит уклончиво, не сдается (письмо, вероятно, мое он уже читал); Тастевен соглашается со многим, о чем я говорил. Я думаю, что говорит он как уполномоченный Рябушинского. Извещаю Брюсова, что «Руно» сдается. Но Рябушинский все отвергает (о письме молчат). И вдруг получаю ответ, что если вернусь в «Руно», напечатают, не вернусь – отвергнут. А напечатать ответ мой Вам мне необходимо: напечатать негде. Злюсь, ссылаюсь на формальное свое право, уклоняются, советуются – и отвергают. Мне говорит Брюсов, что если я напечатаю протест в газетах, это послужит формальным поводом к его выходу: уйдут Мережковские, Кузмин, Балтрушайтис и др.[1763]
Теперь о форме письма в газеты. Составляю наскоро ответ[1764], показываю одному лицу (ни Эллису, ни Брюсову, ни Соловьеву, ни Петровскому – кому, не скажу), говорят: не мотивировано, а мне некогда думать о форме, потому что измучен, денег нет, в Москве жара, чуть ли не есть нечего (мамы не было), масса срочной работы, непрочитанные книги, письма от петербуржцев, что я – клеветник (за полемику), оскорбление, полученное от одного лица, которое мне дороже всего на свете[1765], и в довершение невозможные отношения со стороны одного близкого когда-то друга (кончившиеся вызовом меня на дуэль: потом разъяснилось)[1766] – и всё вместе, сразу, единовременно: естественно, что моя брань с «Руном» переполнила чашу нервности, и думать о форме письма не мог: его составил один человек (Вы его не знаете и не узнаете, ибо он только хотел мне помочь и в наивности написал злосчастную фразу о Вашей статье: «Имели место заглядывания в душу»)[1767], я не обратил внимание на форму от усталости, а он хотел только сказать, что ввиду того, что Вы ищете мотивов появления заметки против музыки и указываете на них, то я должен ответить Вам в том же органе, имея в виду читателей «Руна». Так появилось письмо в «Столичном Утре». Появился ответ Рябушинского[1768], где он придрался к словам 1) провокация, 2) сыск. На провокацию я ответил, что разумел провокацию соборного индивидуализма относительно форм современного искусства[1769]. О сыске я даже не понял. Этим воспользовался Рябушинский и уже во втором письме совершил явную подлость и передержку: он, не имея уже моего письма в Редакцию Руна под руками и основываясь на впечатлении, приписал мне то, чего у меня нет в письме, т. е. будто я считаю сыском Вашу статью против меня (??)[1770]. У меня отвалились руки, точно меня окатили грязью: оставалось или привлечь его за клевету, или молчать. Я тут же хотел Вам писать, приложить мое письмо в Редакцию «Руна» Вам и умолять Вас лично в «Столичном Утре» опровергнуть негодную клевету, но все ждал, когда у меня будут корректурные гранки (я отдал в «Перевал»[1771], и по сю пору корректуры нет – пришлось съездить в типографию и выбрать самые сомнительные места, чтобы привести их Вам, как доказательство моей невинности в той гнусности, которую допустил Рябушинский. Мог ли я думать, что тень ложится на Вас, когда после 2-го письма Рябушинского я был очернен в моем представлении так, что мог или молчать, или требовать суда над Рябушинским. (А в это время меня еще и вызвали на дуэль за мое негодующее письмо на один поступок одного литератора, показавшийся мне подлостью[1772].) Морально я успокоился после опубликования писем о выходе из «Руна» Брюсова, Мережковского, Гиппиус, Кузмина, Балтрушайтиса и Ликиардопуло. Вдруг приходит Ваше письмо – и, о ужас, я вижу, что и на Вас упала тень. Боже мой, что же это такое?? Тут явно «некто третий». Но к делу, к делу (не хочу давать волю чувству, а то ничего не напишу: так обидно, так горько, – больно за себя и еще больнее, что невольную боль причинил Вам.)
Вот выдержка из письма (1-го) Рябушинского в редакцию «Столичного Утра» (2-го письма искал, не нашел). «Анализ взглядов Белого Вольфингом уподобляется сыску». А между тем – ничего подобного.
Вот выдержки из моего ответа (ответ появится в ближайшем № «Перевала»: он набирается, и оттого я его не могу привести сполна.
Во-первых, я начинаю поклоном Вам:
«В статье „Борис Бугаев против музыки“ г. Вольфинг подвергает меня неумолимому преследованию. Со свойственной ему проницательностью этот единственный в своем роде критик преследует меня в утаенных мною мотивах появления „Заметки против музыки“. Это заставляет меня сообразно выбранному г. Вольфингом пути нападения на мои взгляды дать ответ в одной плоскости с нападением.
Спешу заявить, что я с благодарностью поднимаю перчатку, когда она брошена критиком, статьи которого глубоко ценю; музыкальные взгляды г. Вольфинга дороже и ближе мне взглядов всех прочих музыкальных критиков [и в особенности критиков модерн[1773] ]».
Похоже ли это начало на то, чем желает представить мою статью Рябушинский?
А вот самые сомнительные места из всего ответа, которые подлые люди могли бы и по-подлому истолковать, но все же вывода о сыске нельзя сделать, ибо это уже клевета, за которую преследует закон.
«И хотя г. Вольфинг дифирамбист здоровой музыки, а я больной писатель, я говорю г. Вольфингу о том, что мы знаем оба: нечего утаивать, становиться в полуоборот к буржуазной публике с официальными тостами за искусство (где нужно, все мы провозглашаем эти тосты). Ну вот: я подхожу к последнему. Я спрашиваю г. Вольфинга через голову окружающих (среди них, вероятно, найдутся люди, которые повеселятся нашей полемикой: я готов им доставить это веселье[1774] и унижаться до заботы о писательском «престиже» не стану) – я спрашиваю моего тонкого судебного следователя, знает ли он, для чего искусство? И если он мне ответит каскадом определений и слов (во время тостов проливается пена шампанского), тогда уже [1775] превращаю нашу полемику в сыск, обращаясь к нему тихим часом Заратустры: „Ты это знаешь, но ты этого не говоришь“»[1776]. Итак, кто же сыщик? [1777] сыщик, а не Вы. И сыскное отделение мое – «Тихий Час» Заратустры. Эмилий Карлович, за что меня оклеветали? Судите, кто больше имеет прав на обиду? Моя вина нервность тона, не на Вас (поймите же) направленная и вызванная афористическим тоном (отвели только «3» печ<атных> страницы «Руна»), быстротой письма, всей громадной усталостью, и рядом параллельных тяжелых условий (ссора, окончившаяся вызовом на дуэль, оскорбление, истерика и пр.). Но клянусь, это единственные места, которые подлец мог бы использовать. Везде я Вас называю «культуртрэгером», своим «добросовестным оппонентом» (не в насмешку же, Бог мой). А полемическая живость прочих мест не превышает Вашей полемической живости – да в ней ли дело, когда пущена в ход между нами клевета и провокация.
Я предлагаю такой выход: пришлите в «Столичное Утро» письмо (хотите, я перешлю? нужно лучше прислать мне: я знаком с редактором; в случае затруднения пущу в ход Соколова (он дружит с Явинским – редактор[1778])), где на основании напечатанного в «Перевале» ответа моего Вам («Перевал» скоро выйдет) или на основании доверия Вашего ко мне (веры в то, что я не стану нагло лгать Вам в письме) укажите, что Вы не считаете моего ответа укором в сыске (письмо в Редакцию, возможно, должно быть короче, и приложите в «postscriptum’e» прилагаемое официальное письмо мое к Вам[1779]). Подадим друг другу дружески руку в печати через голову клеветников. Я думаю, что это – единственный способ изгладить и мою, и Вашу боль, которую я, быть может, неосторожно (но в совершенном неведении) причинил Вам. И простите меня, Христа ради, за причиненное огорчение: верьте, я очень страдаю: гораздо больше, чем могу это выразить в словах, потому что мне Вас лишиться невозможно, ужасно; наша дружба не должна поддаваться провокации, и, верю, провокация рассеется.
Люблю Вас, обнимаю и остаюсь Вашим верным, преданным другом всегда, всегда, как бы Вы на меня ни смотрели.
Б. Бугаев.[1780]
Мне приписали заведомо ложное мнение по поводу Вашей блестящей статьи против меня, помещенной в № 5 «Золотого Руна». Я прислал Вам ответ в Редакцию «Золотого Руна». Г. Рябушинский печатно заявил, что в этом ответе я называю Ваш сериозный разбор моих взглядов о музыке «сыском»[1781]. Я Вам привел точные выдержки из моего «Письма в Редакцию Золотого Руна»; предоставляю Вас сказать заключительное слово. Я прошу предать гласности и это письмо к Вам, как знак того, что заведомая неправда не может нарушить наших дружеских отношений.
Примите уверение в моем глубоком уважении к Вашему критическому дарованию.
Остаюсь неизменно преданный
Андрей Белый.РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 54. Помета красным карандашом: «LI». Фрагмент опубликован: ЛН. Т. 92. Кн. 3. С. 295–297. Обоснование датировки см. в примеч. 7.Ответ на п. 141.
144. Метнер – Белому
München 11/IX 907.
Дорогой друг! Я Вас так люблю, что мне в конце концов наплевать на все формы, приличья, реномэ, литературные point d’honneur’ы[1782] своих и не своих псевдонимов и проч. и проч. Главное это то, что по существу Вы остались со мною. – Это было первым и последним чувством, когда я пробежал Ваше письмо, переправленное мне сюда Анютой из Веймара[1783]. Зная мое отношение к Вам, Анюта от себя отправила уже Вам телеграмму, чтобы Вы остановили печатание моих возражений[1784]. Конечно, бóльшая часть их не может быть напечатана, да и тон не тот. – Ваше письмо пришло как раз перед Валькирией[1785], и я его только бегло пробежал. Прочел же только сегодня. Мне хотелось бы многое Вам написать по поводу Ваших сообщений о литературных делах и скандалах с моим участием и без оного, еще более мне хотелось бы сказать Вам много-много милых слов и угомонить Вас, – но тогда пришлось бы или сидеть сегодня ночь, что я разучился в Германии, или же явиться завтра на Зигфрида[1786] неподготовленным ни литературно, ни музыкально, не говоря уже о том, что мне необходимо дать отзыв[1787] о фестшпилях, так как Руно затратило на мою поездку и на билеты около 240 марок[1788]. С последнего обстоятельства я и начинаю свое деловое письмо. Немедленный разрыв и выход из Руна невозможен для меня; я могу оставить сотрудничество в Руне, если это оказалось бы необходимым, не раньше, как по исполнении принятого на себя обязательства, закрепленного моим словом и редакционным расходом. Пока я занят спектаклями и потом писанием статьи, я всегда могу отвечать на запросы Редакции по поводу конфликта: «мне сейчас пока заниматься этим некогда и не следует». Повторяю, я дал слово написать о фестшпилях, и если бы не оно, я достал бы где-нибудь 240 марок и уплатил бы за сделанные расходы, чтобы чистым выйти из Руна. – В то же время полное молчание Вольфинга немыслимо: вокруг этого имени гудит скандал; Вольфинг является каким-то застрельщиком Руна, после его статьи (так это со стороны, для газетных обывателей) Вотан Мережковский, Фрикка Гиппиус, Логе Брюсов, Доннер Балтрушайтис, одним словом, dii majores et minores[1789] покидают золоторунную Валгаллу[1790]. Итак, я не могу ни говорить, ни молчать, а потому иду спать. Спокойной ночи. –
12/IX. Я не могу говорить потому, что, если я, как Вы этого желаете, произнесу сейчас «заключительное слово», то, конечно, выйдет скандал с Руном, которое перед лицом публики вправе будет обвинить меня в легкомысленной поспешности моих заключений (ведь нельзя же публике передать все то, чтó Вы писали мне теперь): строго же говоря, математически, я мог бы только указать на ошибочное приписывание Рябушинским слова сыск к моей статье; все остальное из «заключительного слова» было бы голословно и дало бы Руну оружие против меня. – Я (или, точнее, Вольфинг) не могу молчать, так как не только «сыск», но и «заглядывания в душу», «выводы на основании данных, почерпнутых исключительно из личного знакомства» представляются очень тяжелыми обвинениями. Поймите, я готов не только простить, но и извинить, счесть Вас невиновным, зная Ваш характер и все смягчающие обстоятельства, но со стороны-то глядеть: ведь Вы подписались под обвинением Вольфинга в литературном паразитизме; чужим трудно предположить такую степень неосторожности и такую степень растерянности писателя с именем Андрея Белого; письмо составляли не Вы, Вы подписывали его вне себя – все это нельзя же выносить на улицу. Вольфинг или должен выступить и смыть обвинения, или исчезнуть с литературной арены. Я не подпишу ни одной статьи (и о фестшпилях также), пока Вольфинг не будет реабилитирован. Я страшно спешу и оттого болтаю без толку. Ведь вот Вы пишете уже в своем письме, что моя статья «намекает на многое, о чем мы лично говорили, говорит о кризисе, касается эстетической личности». Неужели Вы думаете, что если бы я захотел использовать, даже осторожно использовать, наши беседы и переписку, то ограничился бы сказанным; я все время, когда писал о Вас и против Вас, держался данных вплоть до терминологии (см. Вашу Теургию[1791]) опубликованного Вами; и нет у меня ни одного намека, все выражено с решительностью «формулы», хотя и смягчено гипотетичностью. Надо быть полным идиотом, чтобы не видеть в Ваших последних работах «кризиса», для этого вовсе не понадобилось мне быть Вашим знакомым и, напр<имер>, знать, что Вы пережили одну из жизненных трагедий как раз за последний год; под кризисом я разумел только философско-литературный и не намекал ни на какие интимные причины кризиса; почему не вставлено было в письме эстетическая личность? для того, чтобы создать мнимое «формальное право». – Получилось то, чего я боялся: и я и Вы, оба превратились в орудия двух враждующих литературных фирм. Все участие в этом деле Брюсова, его советы мне крайне антипатично; тут чувствуется такой эгоизм, такое равнодушие к интересам лиц и близких и далеких, ему надо похерить Руно, и он пользуется всем для этого; он страшно умен и с большой выдержкой человек; он пользуется этим не для добрых советов своим сотрудникам, а для сохранения среди них своего господствующего положения; под предлогом свободы печатает в Весах Ваши «истерики», как Вы их сами называете, и массу кривляний ломаний других скорпионщиков, а сам, помещая свои фундаментальные вещи, смотрит на все другие страницы Весов с улыбкою превосходства, говоря про себя: катитесь, голубчики, вниз, создавайте мне выгодную раму из ваших писаний для моего Огненного ангела…[1792] Дай Бог, чтобы я был не прав, думая так о Брюсове! Чем-то слишком литераторским веет ото всей «идейной» борьбы; и сколько во всем этом замешано «личного»; Вы ушли из-за Курсинского, а я слышал (не от сотрудников Руна), что Курсинский – человек, поступки которого квалифицируются статьями Уголовного Уложения. Я не знаю до конца Рябушинского; конечно, он дуропляс и самодур; но… будьте же справедливы: такие господа необходимы, они презренны, как презренный металл; я не думаю, чтобы он сознательно совершил передержку с сыском; Вы отхлестали его страшно жестоко (во втором письме[1793], перешли границу литературности), но… почему Вы не опротестовали тут же его передержки с сыском, но, наоборот, еще неосторожно подтвердили ее туманным словом «интимность». Вы могли бы это сделать голословно с обещанием доказать статьей, имеющей появиться в Перевале. Дорогой Борис Николаевич! Возьмите себя в руки! Я не удивляюсь, что Вас вызывают на дуэль! Неужели пример Пушкина и Лермонтова не страшит Вас? И неужели Вы не знаете, что в обоих случаях поэты были не совсем невиноваты, немножко по-литераторски озорничали. Если бы Рябушинский вызвал Вас на дуэль за Ваше второе письмо, я бы не удивился; Рябушинский совершил передержку, он неосторожно оклеветал Вас, приписав Вам слово «сыск»; но Вы совершили диффамацию, издеваясь над Рябушинским во втором письме; диффамация же отличается от клеветы тем только, что диффамация – правда, а не ложь, но правда оскорбительная и опубликованная с ясною целью обиды; Вы в письме сообщаете о личной беседе с Рябушинским, в которой Вы ему с глазу на глаз высказали свое мнение об его редакторской и литературной негодности и смехотворности. Одним словом, Вы разнервничались, потеряли голову, попали в сети Брюсова и других таинственных незнакомцев и были, как в своих статьях, рефлекторно оказавших какую-то там пользу, так и в полемике, орудием посторонних Вам целей и вожделений. – Однако я так никогда не кончу. Чтобы сдержать себя, представлю себе, что я Андрей Белый, а Вы – Вольфинг. Вот – чтó бы я сделал тогда. – (NB. Я беру, конечно, настоящий фазис этой истории; конечно, я бы с самого начала поступил иначе, но не об этом речь). – Нисколько не втягивая в полемику Вольфинга, живущего за границей и вовсе не посвященного ни в мистерии соборной педерастии, ни в дворцовые тайны держав Золотого Руна и Скорпиона, я бы поместил в Столичном Утре письмо приблизительно следующего содержания: «Г. Вольфинг предпочел, раньше, нежели принять участие в полемике, возникшей из-за его статьи[1794], списаться со мною лично. Эта переписка выяснила мне, что г. Вольфинг, вопреки моим первоначальным подозрениям, всюду в своей статье опирался на опубликованные мною работы и не намеревался лично задевать меня. Считаю необходимым сообщить об этом также и потому, что выражения моего письма вроде „заглядывания в душу“ не могли не получить неприятного и враждебного отпечатка благодаря тому, что г. Рябушинский, не поняв и исказив смысл моего не принятого им и плохо, очевидно, прочитанного возражения, в своем письме утверждал, будто я называю метод исследования г. Вольфинга „сыском“».
–
Вот какое письмо я бы написал, прибавив к нему, конечно, несколько милых слов вроде тех, чтó Вы написали в своем «официальном» письме мне[1795]. – Я же сейчас не могу поместить письма в Столичном Утре, не становясь в ту или иную позицию по отношению к Руну.
На всякий случай переписываю Вам дословно Ваше официальное письмо ко мне, которым Вы, может быть, отчасти воспользуетесь. «Глубокоуважаемый и неизменно мне близкий г. Вольфинг! Мне приписали ложное мнение по поводу Вашей блестящей статьи против меня, помещенной в № 5 Золотого Руна. Я прислал Вам ответ в Редакцию Золотого Руна. Г. Рябушинский печатно заявил, что в этом ответе я называю Ваш серьезный разбор моих взглядов о музыке „сыском“. Я Вам привел точные выдержки из моего „Письма в Редакцию Золотого Руна“; [предоставляю Вам сказать заключительное слово.] Я прошу предать гласности и это письмо к Вам, как знак того, что неправда не может нарушить наших дружеских отношений. Примите уверение в моем глубоком уважении к Вашему критическому дарованию. Остаюсь неизменно преданный Андрей Белый». –
13/IX. Никак не могу дописать письма. – Итак, дорогой Борис Николаевич, вот Вам мой ультиматум: одно из трех: или Вольфинг прекращает литературную деятельность, Э. К. Метнер будет заниматься переводами с немецкого и года через два выступит под другим псевдонимом; или, во-вторых, Вы помещаете в Столичном Утре письмо указанного приблизительно содержания, снимающее с меня обвинение в том, что я называю «паразитизмом», и объясняющее недоразумение с «сыском» передержкой Рябушинского, или же Вы соглашаетесь[1796] на то, чтобы напечатаны были мое письмо в Столичное Утро и заметка в Руно, и относите обе рукописи, как я Вас об этом просил, моему отцу. Одно из трех решений Вами должно быть принято немедленно, и прошу Вас сейчас же меня об этом известить в Weimar Lisztstrasse 23[1797]. – Кроме того: если Вы примете второе решение, то наша полемика (которую, конечно, даже в самом идеальном тоне, особенно растягивать не следует) примет спокойное течение, и я предлагаю Вам облегчить ее мне тем, что разрешить напечатать в Руне мою статью – письмо о Теургии[1798], да и Вам удобнее будет ссылаться на мои воззрения, которые ведь до сих пор почти не были опубликованы; разумеется, я тщательно исключу из письма все «интимное» и оставлю только суть дела. – Печатание моего отчета о фестшпилях, письма о Теургии и ответов на Ваши статьи продлится достаточно долго и в это время установится, быть может, какой-нибудь modus vivendi[1799] в Руне и произойдет его реорганизация. Прошу и о помещении письма о Теургии ответить немедленно. Будьте здоровы! Радуюсь, что не лишился Вас; это было бы ужасно... – Привет Вашей маме и нашим друзьям. Горячо любящий Вас Э. Метнер.
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 3. Копия: РГБ. Ф. 167. Карт. 5. Ед. хр. 8.Ответ на п. 143.
145. Белый – Метнеру
я удивляюсь только одному: как можете Вы и в статье в «Руно», и в письме в Редакцию «Столичного Утра» строить свой ответ мне на «сыске»[1800], не потрудившись осведомиться у меня, правда или нет то, что приписывает мне Рябушинский[1801]. Вы разве не знаете, что Рябушинский 1) когда писал в газетах о характере моего ответа, то писал, руководствуясь исключительно впечатлением от прочитанного, а не имел письма под руками. 2) Он вообще никогда ничего не читает, так что все дело очевидно подстроил Тастевен, который держит себя откровенным хамом. 3) Слова о «сыске» поняты в обратном смысле, ибо они относятся ко мне, а не к Вам: [1802] превращаю полемику с Вами в «сыск». Рукопись свою сохраню, дабы не думали, что я занимаюсь подлогами, а письмо появится очень скоро в «Перевале»[1803].
Получаю Ваше письмо. Недоумеваю. Да, действительно, если бы я немедленно отправил письмо в Редакцию газеты «Стол<ичное> Утро», отношения наши, вероятно, испортились бы: Вы уже, вероятно, получили мое письмо с подробным объяснением на 12 страницах крупного формата[1804]. Телеграфируйте немедленно, что мне делать с полученными письмами. Задерживаю их исключительно из-за наших отношений, которыми дорожу, вероятно, больше, чем Вы. Когда впервые прочел в газетах о том, что писал Рябушинский, я даже не понял гадости: почувствовал, что воняет. Но вонь била в меня: о Вас я даже не подозревал, что Вы затенены. Думал, письмо в «Перевале» откроет глаза Вам.
Еще раз удивляюсь Вам, Эмилий Карлович. Я, кажется, не заслужил того, чтобы мое отношение к Вам и Ваше ко мне зависело от лганья несознательного дурака, инспирированного «подлецом» (я не ручаюсь за инспирацию, но достаточно присмотрелся к Тастевену). Отчего Вы не подождали ответа на Ваше письмо мне? Вы теперь вдвое запутали инцидент обидным для меня доверием к лганью Рябушинского. Ответом на это лганье является выход многих имен. Итак на одной стороне Рябушинский, на другой – я, Брюсов, Мер<ежковский>, Гиппиус, Кузмин и др. (Соловьев выходит тоже[1805]). И Вы верите Рябушинскому.
Мне это грустно.
Остаюсь искренне уважающий Вас
Борис Бугаев.
P. S. Завтра отправлю телеграмму Вам. Жду ответа.
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 55. Помета красным карандашом: «LII». Датируется по соотнесению с п. 143 и 146 (Приложение).Ответ на п. 142.
146. Метнер – Белому
München 15/IX 907.
Дорогой Борис Николаевич! В дополнение к моему письму[1806] прошу Вас в случае, если Вы еще не поместили реабилитирующего письма в Столичном Утре, упомянуть о том, что я живу за границей, и поэтому Ваше объяснение как результат нашей переписки появляется так поздно. –
Что же касается двух присланных Вам рукописей[1807], то, в случае помещения Вами реабилитирующего письма, они, разумеется, не могут быть помещены, и я Вас прошу их отнести моему отцу. Не забудьте при этом сделать приписку: прошу возвратить Э<милию> К<арлович>у, ибо в противном случае отец отошлет рукописи в редакцию Руна. Если, паче чаяния, Вы в самом деле решили лучше видеть эти рукописи напечатанными, нежели самому писать оправдательное письмо, то во избежание недоразумения, припишите: прошу отправить в Руно. Во всяком случае жду ответа, хотя бы открытки. Weimar Lisztstrasse 23[1808]. До свиданья. Привет Вашей маме. Ваш Вольфинг.
München 16/IX 907.
Бесконечно дорогой Лев Львович! За что Вы и Бугаев на меня сердитесь? Сейчас мне из Веймара переслали Ваше письмо и письмо Бугаева, которые опять причинили мне боль[1809]. Надеюсь, что Бор<ис> Ник<олаевич> получил уже и Анютину телеграмму[1810], и мое письмо в ответ на его большое письмо и мою открытку[1811]. Сейчас буду писать Вам: как Бор<ис> Ник<олаевич>, вероятно, показывал Вам (или цитировал) мои письма, так и Вы можете это письмо показать Бор<ису> Н<иколаевич>у. – Если бы я поверил «сыску», то начал бы с тех писем (в Столичное Утро и в Руно), которые я направил к Бор<ису> Н<иколаевич>у на просмотр и усмотрение[1812]; между тем я сначала написал письмо Бугаеву; через два дня сообразил, что в случае, если совершилось невероятное, то необходимо скорее опровергнуть; поэтому, не дожидаясь ответа от Бугаева, составил две отповеди; если бы я вдруг поверил, я не отослал бы их Бугаеву, а прямо в Руно; если бы я поверил «сыску»[1813], я написал бы эти отповеди гораздо резче и больше распространился бы о «сыске», тогда как я о «сыске» упомянул в них между прочим и притом так, чтобы Бугаев мог зачеркнуть удобно эти пункты. Главное, на что я возражаю, не «сыск», а «заглядывания в душу, носящие чисто личный характер», «выводы на основании данных, почерпнутых исключительно из личного знакомства»[1814], «интимность»[1815]; все же это написано не Рябушинским, а Бугаевым; главная вина падает не на глупого Рябушинского, а на неизвестного мне Нибелунга[1816], дававшего советы потерявшему голову Бугаеву и продиктовавшего ему вышеприведенные неудачные и обидные для меня выражения; в самом деле: представьте себе, что их не было бы; кроме улыбки, сообщение Рябушинского о «сыске» ничего не могло бы вызвать; я спокойно подождал бы статьи Бугаева; но эти выражения, которыми я обвиняюсь в литературном паразитизме sui generis[1817], пока я не знал, что они попали в письмо благодаря невменяемому состоянию автора письма, эти выражения разве не являлись ступенью к «сыску»? Станьте на мое место и Вы увидите, что моментами меня не могло не охватывать сомнение, не прав ли Рябушинский? Невероятное благодаря документальному, несколько приближающемуся к нему, становилось моментами вероятным. – Теперь, представьте себе наоборот: Рябушинский ничего не говорил о «сыске» и вообще в своих письмах не квалифицировал возражения Бугаева по моему адресу; я все равно был бы глубоко огорчен письмом Бугаева, которое начинается с обвинения меня в злоупотреблении его дружескою откровенностью; к этой горечи слово «сыск» только кое-что прибавило, да и то, повторяю, прибавляло только моментами, когда я сомневался. – И вот, несмотря на то, что Бугаев странным образом не ответил Рябушинскому печатно на «сыск» и не пытался как-нибудь сгладить резкость одиозных выражений своего первого письма в Столичное Утро, я все-таки начал с частного письма Бугаеву, весь тон которого обнаруживает, что я не хочу верить даже очевидности. Затем, как уже упоминал, я отправил на всякий случай два своих возражения «для цензуры» Бугаеву; затем пришел его ответ[1818], мне переслали его сюда в Мюнхен; затем на другой же день его телеграмма с запросом о моих рукописях[1819]; Анюта немедленно ответила о приостановке опубликования их, даже не списываясь со мною, ибо она-то знает, как я отношусь к Бугаеву и как я был огорчен; затем я ответил подробно на его письмо, где формулировал ультиматум, который Вы можете прочесть[1820]; три выхода, четвертого я не знаю; быть может, Вы знаете? Наконец вчера я отправил чисто деловую открытку Бугаеву о том, чтобы он упомянул, что я живу за границей, и о том, как поступить с рукописями. – Вот все документы. Предоставляю Вам судить. Одобрить поведения Бугаева за это последнее время – нельзя; я, по крайней мере, с годами делаюсь все строже к выдающимся людям и все снисходительнее к будничным. Рябушинский мне раньше всего антипатичен и как тип, и как индивидуум; дальше он глуп и груб; но я не думаю, чтобы он сознательно написал о «сыске»; далее, если быть справедливым и судить только по опубликованным письмам (как это имело место здесь в Мюнхене, где мои русские знакомые не знают лично ни Рябушинского, ни Бугаева и не знали, что я – Вольфинг), то правоты скорее на стороне Рябушинского; а это – отчаянно досадно; зачем Борис Николаевич в своем втором письме так «интимно» отделал Рябушинского и почему вообще Вы, Сергей Михайлович, Алексей Сергеевич[1821] не руководили им, раз видели, что он совсем расстроен и вне себя. Он и теперь в своем последнем письме не хочет понять, что ради меня нельзя было молчать на письмо Рябушинского, где он говорит о «сыске», и надо было воспользоваться этим «сыском», чтобы исправить свою неосторожность, выразившуюся в обвинении в «заглядываниях» и проч.
Чтó мне в коллективном выходе из Руна писателей?[1822] Если бы я мог выйти вместе с ними, то и тогда это не реабилитировало бы меня. Здесь живет (в Мюнхене) один русский, очень образованный, милый, справедливый человек, он читает все «новые» журналы; когда он познакомился с этой полемикой по письмам, то вынес неприятное впечатление ото всех троих: и от Вольфинга, и от Бугаева, и от Рябушинского, но наименее невыгодное от Рябушинского, с которого взятки – гладки. Я должен был открыть свой псевдоним, чтобы защитить Вольфинга, и сказал ему, чтобы он прочел мою статью (он читал только Бугаева Против Музыки); тогда он совершенно остолбенел, услышав, что я не хочу помещать возражения даже на «заглядывания» без предварительной частной переписки с Бугаевым. Понадобилось все мое красноречие, чтобы объяснить ему (не входя в интимные подробности), что Бугаев не виноват. Вот Вам голос из публики, и притом избранной хорошей и сравнительно понимающей публики. – А те, что не читали ни моей статьи, ни бугаевской Против Музыки, просто сочтут меня за паразита, Бугаева за буяна, а Рябушинского за торгаша, чем он и является; обидность невелика для него, но тяжела для Бугаева, еще тяжелее для меня. – Дорогой Лев Львович! Прошу Вас вникнуть в положение дел и помочь Бугаеву, если он еще ни на что не решился. Я прислал ему проект письма, которое могло бы спасти Вольфинга. Я твердо решил, что Вольфинг перестанет существовать или будет оправдан. Пусть Бугаев докажет, где то слово, то место, то мнение, тот вывод, чтó почерпнут «исключительно» из личного знакомства. Если он сумеет доказать это, то я печатно извинюсь перед ним и, выразив свой взгляд на фактор личного знакомства критика с критикуемым, заявлю, что отныне не буду о Бугаеве ничего писать ни положительного, ни отрицательного. Я так мало ценю свое литераторство, что готов принести его в жертву (это не фраза) моей дружбе с Бугаевым и просто, если Бугаев не оправдает меня, сойду со сцены, т. е. не я, а Вольфинг; я же буду заниматься для заработка переводами, а для собственного удовлетворения каким-нибудь бесконечным исследованием, никому не нужным и не подлежащим напечатанию. – Если же Вольфинг продолжает существовать, то пока он не может выйти из Руна по многим причинам. Я писал об этом Бугаеву. Но кроме того: Руно – единственное место, где я могу полемизировать с Бугаевым и прийти вообще к какому-нибудь с ним соглашению; ведь Весы не примут; они отказали даже Бугаеву, чего я от Брюсова никак не мог ждать; ведь я и писал свое возражение против Против Музыки только в уверенности, что Бугаев будет отвечать из Весов; Перевал тоже не примет, к тому же я считаю неудобным навязываться в Перевал, который не пригласил меня в число сотрудников; значит, я должен или молчать, или отвечать Бугаеву в Руне; я думаю, что все писатели, ушедшие из Руна, поймут физическую невозможность для меня немедленного выхода из Руна, зная, что, помимо личности остались невыясненным между мною и Бугаевым и принципиальная сторона наших статей, и что нелегко найти место, где можно сложить полемические грузы. – Борису Николаевичу (на его последнее письмо) мне хочется возразить еще вот что. Он напрасно пишет, что я строю свой ответ (в письме в Столичное Утро и в заметке для Руна) на «сыске»: если Вы, Лев Львович, читали эти рукописи, то увидите, что о «сыске» между прочим и так, чтобы Бор<ис> Н<иколаевич> мог удобно зачеркнуть; главное – относительно «интимности», «личного знакомства», «заглядывания в душу»; а это пока остается правомерным, ибо это цитата из письма Бугаева в Столичное Утро. – Кроме того, посылая ему обе рукописи, я доказал достаточно, как дорожу его отношением, и я не понимаю, чем я «запутал инцидент»: рукописи у него в руках, и он властен ими распорядиться; «лганью» же Рябушинского я нисколько не оказал большего доверия, чем до составления этих рукописей; повторяю: «заглядывания» заставляли меня моментами верить в «сыск», а это – более чем простительно, в особенности после годовой разлуки на таком расстоянии и после того, как Бугаев стал сжигать, чему поклонялся[1823] и что любил. – Прочтите спокойно первые два абзаца первого письма Бугаева в Столичное Утро и скажите, положа руку на сердце, как я должен был принять все это и много ли к этому добавил «сыск» и не наоборот ли: не стал ли «сыск» – вероятнее от этих абзацев. – Теперь мне все понятно, и я надеюсь, что, выйдя из этих испытаний, наша дружба с Бугаевым закалилась и стала несокрушимой. – Прошу Вас еще раз принять участие в разрешении этого конфликта и руководствоваться при этом благополучием Андрея Белого, а не Вольфинга. – Обнимаю Вас обоих, друзья мои. Ваш Э. М.
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 3. Открытка.Приложение (письмо к Эллису) – там же. Копия: РГБ. Ф. 167. Карт. 6. Ед. хр. 9.
147. Белый – Метнеру
Я получил Ваше письмо. Я, конечно, выбираю второй путь и печатаю письмо в «Столичное Утро». Вырезку Вам тотчас же пошлю. Поступайте с Вашим письмом о «Теургии» как хотите: если где-нибудь будет возможно, я Вам буду отвечать. Если письмо мое в «Столичное Утро» Вас не удовлетворит, не знаю, что и делать. Тогда я снесу Ваши письма Карлу Петровичу[1824]. Повторяю, мне бесконечно горько все, что произошло: но если бы Вы знали всю низменную подкладку со стороны «Руна», которое, быть может, по таким-то и таким-то §§ юридически право (а я виноват в диффамации), Вы во многом бы со мной согласились. Ну да на расстоянии всего не расскажешь. А что я хулиган, так это – правда: в позорном своем поведении особого благородства ищу. Может быть, последние мои произведения – не литература: и не надо. Какой я литератор: я устал от фальши. Мне хотелось бы только закрыть глаза и умереть. Я так устал жить, так устал, что на все происходящее смотрю из бесконечных далей.
Если Вы сочтете себя неудовлетворенным характером моего письма в «Столичное Утро», значит надо, чтобы Вы напечатали присланные письма. Они очень хорошо написаны, особенно то, которое адресовано в «Золотое Руно». В них нет ничего, на что бы я мог обидеться. И однако: тогда внешние обстоятельства так сложатся, что мы должны будем разойтись.
Это грустно, горько, но что не грустно и не горько под солнцем?
Я на все смотрю из-под гробовой фаты спокойным, остановившимся взглядом, пока на поверхности жизни корчится паяц Андрей Белый.
Остаюсь искренне любящий Вас
Борис Бугаев.
P. S. Мой привет и уважение Анне Михайловне[1825]. Письма ее получил. Не отвечаю, потому что эту неделю бесконечное количество дел, а сил… так мало!
РГБ. Ф. 25. Карт. 30. Ед. хр. 10.Ответ на п. 144. Не было отправлено адресату.
148. Белый – Метнеру
письмо напечатано: посылаю вырезку[1826]. Не мог поместить в «Столичном Утре» (там в редакции революция: борются с издателем, ужасная суматоха; письмо пролежало бы несколько дней). Поместил в «Часе» (газета распространенная; бывший «Новый Путь», потом «Парус»[1827]). Не знаю, останетесь ли довольны. Напишите. Дорогой, глубоколюбимый Эмилий Карлович, как все это грустно! Пишу только несколько слов, потому что спешу: дела.
Остаюсь глубоколюбящий Вас
Борис Бугаев.
P. S. Перевал № 10 вышел. Вы ведь его получаете, кажется? Если нет, пришлю гранки[1828].
РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 56. Помета синим карандашом: «LIII».
149. Метнер – Белому
25/IX. Weimar 1907.
Дорогой Борис Николаевич. Поздравляю Андрея Белого и Вольфинга с благополучным разрешением… конфликта, к которому ни Бугаев, ни Метнер не были причастны[1829]. Страшно занят фестшпилями[1830] и потому ничего не пишу. Будьте здоровы! Если бы Вы знали, как здесь хорошо!.. – Любящий М. –
Здесь он жил и скончался: с веранды смотрел на закат[1831].
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 3. Открытка; на обороте фотоснимок: «Weimar. Nietzsche-Archiv».Ответ на п. 148.
150. Метнер – Белому
Веймар 10/X 907.
Вследствие болезни Анюты (которая теперь поправилась) мы все еще в Веймаре, и мне только теперь переслали всю направленную в Дрезден корреспонденцию[1832]. Получил и письмо Эллиса (очень меня порадовавшее)[1833] и Ваш ответ в Перевале[1834]; Вы страшно милы и гениальны. Но Вы уже сейчас опять на новой плоскости, и за Вами не угоняешься. Постараюсь ответить Вам кратко ясно и так, чтобы Вам не нужно было теперь же продолжать эту полемику. Анюта получила открытку Вашей мамы и очень благодарит ее за память; она ей уже ответила (или, кажется, открытки скрестились). Коля написал песню на Ваши слова Золотому блеску верил; разрешаете ли Вы ее печатать?[1835] Крепко обнимаю Вас. Ваш Э. Метнер. Сердечный привет Вашей маме.
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 3. Открытка с групповой фотографией: А. М., Н. К. и Э. К. Метнеры.
151. Метнер – Белому
Weimar 22/X 907.
Дорогой Борис Николаевич! Получили ли Вы мои открытки[1836] и, между прочим, ту, где я Вас спрашиваю о разрешении издать Ваше стихотворение Золотому блеску верил, на которое Коля написал романс[1837]. – Я не знаю, быть может, Вы продали это стихотворение с тем, что оно может быть перепечатано только в Вашем сборнике, и Золотое Руно устроит Вам неприятность, когда выйдет Колин романс? – Ответьте! А теперь к Вашему ответу в Перевале[1838]. Куда Вы несетесь! И куда Вы несетесь? Разве можно отвечать Вам; скорее задохнешься! – Вы знаете; я раз десять принимался за ответную статью; ничего не выходит! Вместо того, чтобы хоть несколько демонстрировать мысли, выраженные в статье Против музыки, объяснить как-нибудь, смягчить резкость своего выпада против целого искусства, Вы ограничиваетесь ссылкою на то, что Вы напали не на «красоту форм», а на «ценность»[1839], а затем, опустив все недоумения (вроде брани, которою Вы угостили Вагнера и т. п.), Вы припираете своего противника к стене вопросом «для чего искусство», на который, как Вы знаете, я не отвечу «каскадом определений»[1840] и не могу ответить центрально и за литературною слабостью (неумением говорить символами), и вследствие нежелания формулировать преждевременно то, что зреет (я плохой подмастерье словесного ремесла, но я не романтик, не романтик по тенденции, хотя, быть может, романтик по эпохе, в которой живу, по среде, по темам, которыми поневоле интересуюсь, и т. д.); ведь спрашивать, для чего искусство, то же самое, что спрашивать, для чего культура, для чего жизнь, во что вы веруете и т. д. Дорогой мой друг! Чтó Вы хотите, чтобы «через голову окружающих»[1841] я крикнул Вам слова проклятия на все неудачничество европейской (и русской в том числе) жизни? Или, чтобы я при всей честной публике заговорил с Вами о неудачничестве не только человеческой породы, но и человеческой и иной природы? Да, наконец, я просто не могу выскакивать с такими формулами «современное искусство настоящего и прошлого только о смерти»[1842]; если бы я даже был уверен в том, что все обман, «диаволов водевиль»[1843], то я бы ради высших соображений о победе над диаволом, ради святой тактики, гигиены, сказал бы: нет, не водевиль, а музыкальная драма, мистерия; и не диаволов, а человеческая, человечная, человекобожеская. Потом Вы меня не поняли или не хотели понять: я нахожу, что Вы дедуцируете «музыку вообще» из смутного понимания той или другой «реальной музыки»; это «смутное понимание» вовсе не зависит от Вашего незнания теоретического и неумения технического, а от различности Ваших тенденций и тенденций той музыки, которая исторически оказалась пока первенствующей, т. е. германской. – Если бы Вы попытались построить понятие о музыке совершенно независимо от эмпирической музыкальной реальности (ens realissimum[1844] вроде Бетховена или Вагнера), если бы Вы тогда a priori пришли бы к выводу, что «музыка – вершина искусств», то не случилось бы и никакого недоразумения, т<ак> к<ак> против теоретического гипотетичного построения не станет же воевать сам творец его; он возьмет и перестроит, внесет поправки, вплетет те ценности, какие считает необходимым для «вершины искусств». Если бы Вы, наоборот, вывели свою «музыку вообще» из эмпирической музыки, но не смутно понятой, а с бóльшею приближенностью, то Вы никогда не повторили бы ошибки Шопенгауэра, которая ему простительна ввиду «медового месяца» музыкальной эстетики, когда курносый нос супруги кажется античнее, нежели нос Венеры; кроме того, Вы поняли бы, что «самоценность» музыки не есть «купэ первого класса», не «самогипноз», не «жалкая увертка»[1845], а просто полемическое кристаллизированное выражение; его назначение раз навсегда запереть в искусство вход внехудожественным критериям; эти критерии почти больше не вторгаются в поэзию и в изобразительное искусство, и потому нечего там говорить о «самоценности», необходимо предшествующей просто «ценности» в Вашем и Риккертовом смысле[1846]; в музыке, ввиду программной, вообще прикладной, церковной, танцевальной, народно-патриотической и других музык, одним словом, ввиду разнообразного «сентиментального» (в шиллеровском смысле)[1847] отношения к музыке, все еще надо говорить о самоценности, т. е. о специфически-художественной артистичной технической ценности; ведь, говоря о самоценности и самоцели культуры, говоря о «бесцельной целесообразности» в смысле Кантовой Kritik der Urteilskraft[1848], всегда имеешь в виду именно предпосылку внутренней специфической ценности, фундамент, на котором стóит строить высшую ценность; в чем видеть последнюю, в прекрасной смерти, в преодолении смерти, в нас возвышающем обмане[1849], в «бесцельном» самосовершенствовании, в теургии, это другой вопрос, но всякая такая высшая ценность только тогда и мыслима в связи с искусством, в связи с культурою, если раньше выполнено условие самоценности, если в самый генезис творчества не затесался микроб относительной сентиментально-тенденциозной ценности. – О, насколько мне легче писать Вам письмо, как это, бывало, я делал из Нижнего! Вот почему я так люблю мое большое неотосланное и только прочтенное Вам письмо, – которое мне так хотелось бы увидеть напечатанным[1850]. – То, что Вы пишете об аполлинизме и дионисизме, – Ваша фантазия, а не термин Ницше[1851]. – Но довольно об этом; приехал сюда брат мой Карл и рассказывал о Вас, как Вы были огорчены «инцидентом»; слушая об этом, я видел Вас, и страшно захотелось мне Вас обнять: это вздор, что «magis amica veritas»[1852], [1853]; это надо для других; на самом деле ничего нет ценнее самого человека; я Вам вот что скажу: наши умственные пути, очевидно, во многом начинают расходиться; быть может, мы опять, как в начале нашей дружбы, совпадем когда-нибудь, но ничто не изменит моей веры в Ваш гений и ничто не поколеблет моей любви к Вашей личности. Об одном прошу Вас: не распускайтесь; пишите, чтó хотите, только «здóрово» хотя бы и больное. – Спросите у Эллиса мое последнее письмо[1854] и почитайте, как я побывал у Ферстер-Ницше. Эти неожиданные «успехи» у отдельных личностей, которых я люблю и уважаю, – единственное утешение мое в моем убожестве[1855]; но, конечно, я делюсь с Вами и с близкими этими впечатлениями строго келейно, т<ак> к<ак> вовсе не хочу слыть среди москвичей каким-то посвященным в рыцари ницшеанства. К сказанному в письме Льву Львовичу добавлю, что сестра Ницше очень моложава; ей можно дать лет 45–50, тогда как ей уже 60; маленького роста; очень изящна; в молодости, вероятно, была очаровательна, много сходства с братом, в особенности в глазах; так же близорука, при этом несколько косит; говорит на необыкновенно чистом в смысле стиля и произношения языке, чтó большая редкость среди немцев, т<ак> к<ак> все они влюблены в свой диалект; сам Ницше тоже говорил совсем чисто. –
24/X. Вчера был в первый раз у Peter Gast’а, ближайшего друга и ученика Ницше, одного из редакторов полного собрания сочинений Ницше[1856]; как Вам известно, он музыкант и естественник, его композиции не признаны, ибо, во-первых, он антимодернист, во-вторых, антирекламист; мы с Колей никак и нигде не могли достать их; Ницше очень высоко ставил талант Гаста; когда мы вернемся после концертов в Веймар, то возьмем у него его сочинения и просмотрим. Гаст живет очень скромно и безалаберно не по-немецки, принял меня очень любезно, усадил, и мы начали говорить до сипоты, как с Вами или с Петровским или Кобылинским, одним словом, по-русски (хотя и на немецком языке). Говорили часа три. На прощание он подарил мне оттиск своего введения в Menschliches Allzumenschliches[1857]. – Помните симпатичного тапера у Кати Кобус? С печатью непризнанного гения на челе? Так вот Гаст похож на него, но, конечно, черты лица благообразнее и значительные. – Ницше он очень любит, считает его одним из гениальнейших смертных, но не слеп к его недостаткам. До свиданья. Обнимаю Вас крепко. Привет Вашей маме.
Ваш Э. М.РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 3.
152. Метнер – Белому
24/XII 907.
Я и брат[1858] несколько простудились и потому не делаем визитов. Передайте, пожалуйста, наши сердечные поздравления Вашей маме[1859]. Надеюсь, что мы скоро увидимся.
Оба раза мы не имели возможности говорить с глазу на глаз[1860].
Помимо того, что Вы посетите нас с Вашей мамой, приходите когда будет охота и один к обеду к 2 ч. или к ужину к 8.
Обнимаю Вас.
Ваш Э. Метнер.РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 3.
1908
153. Метнер – Белому
Дорогой Борис Николаевич! Завтра в среду 30<-го> с<его> м<есяца> у меня вечером будет Шпет. Если Вы не заняты и это Вас интересует, приходите в 8 ч.
29/IV.
Ваш Э. М.РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 3.
154. Метнер – Белому
Дорогой Борис Николаевич! Елена Михайловна Метнер просит Вас быть у нее завтра в воскресенье 11<-го> с<его> м<есяца> в 4 ч. дня к чаю. Если хотите, можете предварительно зайти ко мне. – Будет Петровский, Эллис, Шпет.
Ваш Э. Метнер.РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 4. Открытка; почтовый штемпель: Москва. 10. 5. 08.
155. Метнер – Белому
Изумрудный Поселок[1861] 24/VI 908.
Дорогой Борис Николаевич! Вдруг решил писать Вам; но Коля[1862] сейчас садится в пролетку ехать на станцию, поэтому только два слова. – За все это время лил почти не переставая проливной дождь; за две слишком недели – два-три раза солнце на пять минут. Соответственно этому было и мое настроение; что-то ужасное! Оттого и не писал. –
К нам Вы можете приехать на несколько дней; место для ночевки найдется[1863].
Привет Вашим.
Горячо любящий Э. Метнер.
Приезжайте.
Пребывание у Вас было очень центрально важно[1864]; мое настроение испортилось по причинам, совершенно в стороне находящимся от этого пребывания.
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 4.
156. Метнер – Белому
Берлин[1865] 8/I 909.
Дорогой Борис Николаевич! Ограничиваюсь поздравлением с новым годом. Передайте мой привет и пожелания всего лучшего Вашей маме. Не пишу ничего принципиально. Предпочитаю в свободное время болтать глупости на нем<ецком> языке. – Анюта, конечно, сообщает Вам важнейшее из моей жизни[1866]. До скорого свидания! Любящий Вас Э. Метнер.
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 5. Открытка.
1909
157. Белый – Метнеру
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 1. Помета синим карандашом: «LV».Список – в письме Метнера к М. К. Морозовой из Малаховки от 19 марта 1909 г., с пояснением: «Переписываю Вам письмо Бугаева, отправленное мне в Берлин в январе нынешнего года» (РГБ. Ф. 171. Карт. 1. Ед. хр. 52 б).Опубликовано: Андрей Белый. Урна. Стихотворения. М.: Гриф, 1909. С. 128–129 (под заглавием: «Э. К. Метнеру (Письмо)»; с дополнительной строкой между ст. 27 и 28: «Будя в душе напев родной,»; помета под текстом: «1909. Москва»). В той же редакции вошло в макет Собрания стихотворений (1914) Белого, в раздел «1909 год»; помета под текстом: «1909. Январь. Москва» (Андрей Белый. Собрание стихотворений 1914 / Изд. подгот. А. В. Лавров. М.: Наука, 1997. С. 282–283 («Литературные памятники»)). См.: СП – 1. С. 355–356.
158. Метнер – Белому
Берлин 7/II 909.
Дорогой мой Борис Николаевич; мой милый старинный друг! Что это с Вами? Отчего Вы так падаете духом? Право, у Вас к тому меньше причин, нежели у меня. Приехав в Берлин[1870] совершенно здоровым, я внезапно (и, клянусь безо всякой явной для меня причины…) стал худеть, хиреть, слабеть ежечасно; и притом никакой тоски, никаких лишений; ел, спал хорошо (теперь сплю скверно); вселилось какое-то холодное отчаяние с оттенком задора: «пусть еще хуже, пусть». Сразу почувствовал все расстояние между моими силами, моим возрастом и тою массою науки, которая должна была бы стать моим инструментом, если бы я обратился к ней 16 лет тому назад. Чувство бессилия, бесконечной вдруг нагрянувшей усталости и беспомощности охватило меня, и я никогда не был так близок к самоубийству. Один, умышленно избегая общества, по целым неделям не произнося почти ни слова, я самоуглублялся и старался в одной только своей душе (независимо от всех внешних стимулов к жизни) найти жизнерадостные элементы, говорящие «да»; я решил, что, если их не найду, то вправе буду пустить себе пулю в лоб; т<ак> к<ак> цепляние за жизнь, мысль о горе близких и другие соображения недостаточны, чтобы нести дальше бремя жизни, раз это бремя признано не только тяжким, но и унизительным; да, я испытывал ни с чем не сравнимое унижение, что я трусливо продолжаю жить; пусть это самопревознесение, но я чувствовал, что судьба моя и моя личность так же не подходят друг к другу, как лохмотья – принцу; но в сказке лохмотья могут обратиться в порфиру, а в действительности их надо сбросить, прежде чем броситься с моста жизни в объятия волн смерти. Дорогой друг, два месяца тянулась ожесточенная борьба; я старался, махнув на все рукой, опьянять себя трудовым бездельем, мнимою занятостью, слушал массу лекций, ходил в концерты, на заседания научных обществ, но светского общества избегал, т<ак> к<ак> решительно не был бы способен вести беседу и притворяться уравновешенным. Сначала я было решил уехать из ненавистного Берлина, бывшего мне всегда антипатичным; но потом сказал себе, что это слабость, уступка духу немощи, что ужь если сражаться, то нечего выбирать уютных мест… и я остался… Я боюсь сказать, что уже победил, но думаю, что позиция моя укреплена; сражение продолжается, но я имею уже возможность и радость иногда снимать оружие и отдыхать с мирными, ведущими т<ак> н<азываемую> борьбу за существование гражданами и гражданками, им в этом деле помогающими или мешающими; когда после удачной стычки с своим «врагом» (вот уж где можно сказать «внутренним врагом») я беседовал, отдыхая, с каким-н<ибудь> умником или с какою-н<ибудь> красавицею, то с полным правом рассматривал их, как свои игрушки… Да, я, кажется, нашел в своей душе какие-то зачатки жизнеутверждения, несмотря ни на что. Поэтому я хочу и буду жить и притом долго, потому что я – медленный, и мне в сущности не 36, а 26 лет и, м<ожет> б<ыть>, меньше. Да и Вы – великий юноша земли русской! Совсем не «еще немного помелькает перед нами жизнь»… понимаете: было бы неэкономно, если бы Вы вдруг родились (сколько надо было, чтобы родился Андрей Белый) и, почти еще ничего не сделав, ушли в другой мир. Нет, мой милый! Мы оба будем старенькие, а с нами и Коля и Анюта и Петровский и Марго[1871] и кое-кто еще. Я вижу, что нам, быть может, с Вами предстоит еще и еще раз разлучаться; будут даже очень продолжительные разлуки, но и встречи опять, тем значительнее, знаменательнее, еще глубже и теснее нас связывающие… Мы будем как два закаленных борца, закаленных самою страшною, самою жуткою, самою отчаянною борьбою, именно со стихиями своего существа… Я не спрашиваю Вас, что за одно… тяжелое… воспоминанье. Я знаю…[1872] Но я говорю Вам, как человек, невыразимо страдавший, полюбите себя самого, полюбите себя нежною любовью, смешанною с почитанием себя, как кого-то другого. Из этого чувства к самому себе родится у Вас заботливость о себе, о своем здоровье, о своем телесном и душевном самочувствии, Вы найдете свою гигиену; это займет Вас, и Вы поймете, когда так полюбите себя, что в Вашем волнующем и пьянящем воспоминании смешиваются элементы важные вечные с случайными и Вас недостойными, что это вечное нерушимо и давно стремится назад к Вам в душу, а Вы его оставляете в том vehiculum’е[1873], чтó был необходим тогда в свое время, чтобы выявить это вечное. Я понимаю рыцарей, идущих на смерть за своих дам, я понимаю даже сознательную отдачу себя в распоряжение женщины сфинкса, страсть к которой неминуема, гибельна, но смерть среди страсти, среди реального ощущения уничтожающего бесконечного удовлетворения сластолюбия, а не смерть от… воспоминания… пьянящего… но… впрочем, простите; и Гёте писал:
Но все-таки: истинный муж не должен гибнуть от женщины, с которой фактически расстался; или идите, ищите ее и умрите в ее объятиях… Мне бы хотелось, чтобы Вы заимствовали у Скрябина его уверенности: этот очень замечательный, но не очень гениальный и не очень сильный человек думает, что может вызвать своим искусством «катаклизм». Никогда! Даже Коля и Вы этого не можете; да это и рано пока. – Приезжайте в Берлин на несколько времени, а затем отправляйтесь solo путешествовать по Франции, Италии; обяжитесь писать фельетоны с дороги «от руки» в какуюн<ибудь> газету. Если бы я умел так легко писать, как Вы умеете теперь, я бы не побрезговал фельетонничать. Спасибо, дорогой, за Пепел[1875] (не могу его здесь читать, грустно!) и за стих<отворение> вместо письма[1876]. Я буду в Москве в первых числах русского марта[1877], а пока обнимаю Вас и приветствую Вашу маму. Ваш Э. М.
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 5. Копия: РГБ. Ф. 167. Карт. 5. Ед. хр. 10.Ответ на п. 157.
159. Белый – Метнеру
Пишу Вам: что же решилось? черкните открытку[1878]. Жду ответа. Почему-то кажется мне, что и с журналом, и с книгоиздательством ничего не выйдет: может быть, ошибаюсь. Объясните; до 2-го долго ждать. Были ли Вы у Маргариты Кирилловны?[1879] Что было с рукописями? Как приняла письмо А. П.[1880] она?
Пишу Вам неизвестно почему: до второго, чувствую, нужно, чтобы хотя бы два слова Вы мне написали: так надо.
Остаюсь любящий Вас
Борис Бугаев.РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 2. Помета синим карандашом: «LVI». Открытка. Датируется по почтовому штемпелю: Москва. 31. 5. 09. Та же дата на штемпеле получения. Отправлено по адресу (рукой не Белого): Москва. Тверская. Малый Гнездниковский переулок, д. Пегова.
160. Метнер – Белому
Дорогой Борис Николаевич! Не зная точно адреса, пишу два слова, раз это – «так надо»! – М. К. хорошо смеялась, когда я читал письмо А. П – а[1881]. – Наше предприятие скорее осуществится, нежели нет. Подробности у Эллиса. Жду к себе на дачу. Ваш Э. М.
Привет автору «Улыбки Прошлого» и «Ифигении в Тавриде»[1882].
Э. М.РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 5. Открытка. Почтовый штемпель получения: Крюково. 2. 6. 09. Отправлено по адресу: Николаевской жел. дор. Станция Крюково, село Дедово, имение Коваленской. Отправитель Э. К. Метнер. Изумрудный Поселок Брянской ж. д. Очаковская платформа.Ответ на п. 159.
161. Метнер – Белому
Адрес: Pillnitz / Elbe (Sachsen). Villa 56[1883]. – Дорогой Борис Николаевич! Биарриц расстроился[1884]. Получил милое письмо от Марго[1885]. Получили Вы открытку от Верочки?[1886] Здесь две недели стоит такая духота, что ничего нельзя делать. – Пишу Вам только, чтобы приветствовать Вас… Мы живем здесь роскошно в большом доме с башней, откуда вид на долину, где Эльба шумит…[1887] Коля сочинил гениальные песни (Ницше и Гёте)[1888]. В Пилльнице Вагнер концепировал Лоэнгрина[1889]. – Нельзя ли Ваш № или № Эллиса (Весов) передавать отцу моему, чтобы он пересылал мне. Абонировывать не стоит. Обнимаю Вас. Э. М.
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 5. Открытка. Датируется по почтовому штемпелю: München. 18. 7. 09. Отправлено в Москву «Борису Николаевичу Бугаеву по адресу Льва Львовича Кобылинского. Москва. Плющиха. Меблированные комнаты „Дон“».
162. Белый – Метнеру
Пишу Вам два слова. Больше не могу – нет слов: невралгия, зубы, бог знает что.
Вы слышали о Леве?[1890] Это не воровство, но и не несчастная случайность: это – чудовищное хулиганство, за которое сечь мало; теперь это – всемосковский скандал[1891].
(Мое мнение между нами).
Слышал два слова об издательстве не с К<усевицк>им[1892]: но это было в дни таких ужасных потрясений, что скользнуло как-то мимо; мы теперь – уже не литераторы, а просто убоина какая-то; мы – вне черты законности, справедливости и пр.
Помню свет, помню, что наше трио (Вы, Ник<олай> Карл<ович>[1893], я) должно существовать.
Леву исключаю из всего; сейчас недалеко от Нюренберга происходит нечто важное 1) для России, 2) для нас, если Вы помните наши разговоры перед отъездом[1894].
Простите стиль письма: едва не кричу от невралгической боли, перо вываливается. Как только выздоравлю, будет все страшно интересно и об издательстве, и о другом.
Милый, дорогой, известите меня о том, где Вы и куда едете.
Христос с Вами.
Борис Бугаев.
P. S. Н. К. и А. М.[1895] мой привет.
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 3. Помета синим карандашом: «LVII».
163. Метнер – Белому
Пилльниц 31/VIII 909.
Дорогой Борис Николаевич! Надеюсь, что Эллис прочел уже Вам письма относительно книгоиздательства и журнала[1896]. Считаю, что первое уже начало функционировать вчера в Пилльнице, где более полустолетия назад у Вагнера зародилась мысль о Лоэнгрине[1897]. Мы начинаем из Германии стрелять в Россию голубыми стрелами из серебряного лука. – Источник средств – самый чистый. – Хотя и не столь богатый, как контрабасист[1898]. – Деньги высланы. Ступайте к моему папе и возьмите под расписку. Напишите мне, чтó Вы намереваетесь делать; кланяйтесь Сереже[1899]. Любящий Вас Э. Метнер.
Пилльниц 18/VIII 909.
Дорогой Лев Львович! Я аннексировал одно лицо для книгоиздательства (непременно) и для журнала (может быть)[1900]. Книгоиздательство может начать функционировать через две-три недели. Напишите об этом Бугаеву. Это лицо мне более симпатично, нежели К<усевиц>кий, даже несравненно более, но его средства не столь велики, так что журнал должен через два года или прекратить существование, или приносить убытка. Сообщите мне, возможно ли, без опасения быть предупрежденным и создать себе конкурентов, отложить журнал до 1911 г.? Ибо в крайнем случае я могу настоять на издании журнала уже с 1910 г. – Мне хочется открыть имя издателя лишь в момент начала действия. Спасибо Вам за милое письмо. Боюсь, что Вы преувеличиваете чересчур мое значение. Обнимаю Вас. Э. М.
Пилльниц 26/VIII 909.
Дорогой Лев Львович! Оба Ваши письма от 7/VIII и 10/VIII получил. Последнее Ваше письмо определило мое решение настоять на журнале[1901]. Журнал будет и теперь, кажется, «безвозвратно»[1902]. – Но имейте в виду, что жертва в данном случае большая; лицо, дающее деньги, далеко не столь богато, как Куссевицкий. Имени этого лица я пока не назову; необходима строжайшая тайна, ибо иначе все распадется; почему – расскажу при свидании; мне лично несравненно приятнее иметь дело с этим лицом; кроме того, мы свободно можем начать поход против юдаизма, против чего и кого угодно, т<ак> к<ак> это лицо во всем со мною согласно и по основным чертам своего мировоззрения – дитя вагнерианской культуры. Я сейчас устал и потому пишу кое-как. Направление журнала (по желанию издателя) должно быть германофильское (в широком неполитическом нефанатическом культурном смысле слова) и отнюдь не враждебное Вагнеру; вот и все; в остальном мы свободны, свободны в бóльшей степени, нежели с Кусcевицким; так, мы не обязаны сразу давать 1⁄5 места музык<альному> отделу[1903], чтó было бы вначале затруднительным, т<ак> к<ак> надо еще образовать и воспитать кадры музык<альных> сотрудников. – [Сообщите Бугаеву, но не рассказывайте пока всем о журнале]. Разузнайте в Комитете по делам печати подробнее (у секретаря) о формальностях и о том, требуется ли залог от издателя. Мне придется выступить официально не только редактором, но и издателем. Надеюсь, что Весы будут прикончены[1904]. Это необходимо, чтобы наследовать их подписчиков. Необходимо поставить журнал солидно, но безо всякой роскоши. Вообще надо быть экономнее, чтобы журнал не стоил дороже Весов, а был бы все-таки полнее и шире по содержанию. – Один год мало, необходимо выдержать по крайней мере два года. – Если бы Вы знали, как мне не хочется возвращаться в Москву, как мне невыгодно оставить «себя», ту линию, на кот<орую> я попал; я опять запутался и потому умственно совсем серый и выдохшийся; мне надо остаться у «себя» еще с год. Но я готов ради дела, ради Вас и Бугаева приехать и работать, как смогу. Обещайте мне только не устраивать из редакции «говорильного помещения»; иначе я замотаюсь и разнервничаюсь; должен быть строжайший порядок и деловитость; я ни с кем ни в какие долгие разговоры пускаться не намерен и буду сух и лаконичен. Поменьше обещаний и программности и побольше устойчивости, внутреннего тайного знания, куда надо вести, неуклонности, бесстрашия, поменьше честного собачьего лая и побольше неслышной кошачьей неуловимости, и все-таки неожиданной определенности… –
28/VIII. Два дня был не в духе и потому не писал. Казалось, что надо отказаться от журнала, т<ак> к<ак> я ни на что не годен; а на журнал дают деньги под непременным условием моего фактического и юридического редакторства… – Вчера ночью виделся и беседовал во сне с Кантом; ничего… старичок одобрил меня относительно культуры; вполне согласился с моим мировоззрением, только ворчал на неточность выражений; ворчал, лаская меня при этом своим голубым взглядом; был он без парика в бархатном халате и угостил меня очень вкусным и обильным обедом. Помню до мельчайших подробностей его квартиру; отдельная комнатка (где я мыл руки), с ванной и тут же шкаф со стеклянными дверцами, а в шкафу его платья, очень красивые. Штанов по крайней мере 8 пар. Этот сон очень приблизил меня к личности (к неуловимому) Канта и успокоил меня, будто я в самом деле у него был… Пишу Вам дальше то, что приходит в голову относительно дела. 1) Надо заказать кому-нибудь из художников (Владимирову, т<ак> к<ак> он умеет гравировать, или кому-н<ибудь> еще) марку издательства (она же может быть и маркой-гербом журнала). Если окончательно решено книгоиздательство, – Символ, журнал Музагет, то маркой могла бы быть камея Аполлона-Музагета, т. е. Аполлона в венке и в одеянии; надо привлечь к этому делу и Соловьева, чтобы он указал, где достать репродукции, кот<орые> должны служить образцом для художника. Можно так: ; понимаете? – или без надписи; или с надписью только для журнала. Поговорите об этом с Бугаевым и с Соловьевым.
2) В конце текущей недели на имя моего отца будет выслана сумма, достаточная для начала издательства; пусть Бугаев зайдет к отцу в контору (предварительно протелефонировав) и возьмет 300 р. (часть гонорара за Арабески[1905]) и 300 р. (на предварительные расходы по печатанию); а Вы возьмите 200 руб. на расходы по печатанию Бодлэра Поэмы в прозе[1906]; если Вы или Бугаев вместо этих книг хотите печатать сначала что-н<ибудь> другое, то все равно; надо только отцу моему дать расписку в получении таких-то сумм на такой-то предмет; прошу быть здесь очень педантичным; если
Вы очень нуждаетесь, то возьмите себе 100 р. (например, как часть гонорара за Ист<орию> рус<ского> симв<олизма>[1907]). – 3) Прошу Вас и Бугаева (начать можете Вы, т<ак> к<ак> Вы ходите в Музей читать) внимательно прочесть все мои статьи в Золотом Руне, начиная с I года издания (подписанные Вольфинг; те, чтó подписаны В., – незначительны), и, читая, отмечать на особом листе все недостатки стиля, неясности, анаколуфы, недоразвитости, голословности etc. III-ей книгой пойдет Вольфинг, если Вы и Бугаев одобрите[1908]. – 4) Надо скрывать источник средств на издания; пусть хоть думают, что это идет от розенкрейцеров[1909]; еще не решен даже вопрос о том, смею ли я сказать об этом Вам и Бугаеву. Но необходимо уже теперь говорить о новом журнале, чтобы устранить попытки Брюсова и других. Бугаев может пригласить Мережковских и Вячеслава Иванова; Вы можете пригласить Брюсова, Садовского; Соловьев само собою разумеется; пусть Бугаев напишет также Бенуа, если он знаком с ним. Вообще надо, чтобы в литер<атурных> кружках знали про журнал и знали, что Вы и Бугаев всецело будете работать в нем и что литературные тузы не отказываются сотрудничать. – Мне хочется поскорее отослать Вам это письмо, поэтому я не стану ломать голову, чтобы предусмотреть все. – Начинайте действовать и пишите мне, если что Вам придет в голову относительно названия журнала или каких-то других подробностей. – Штейнера я слушал в Берлине зимой. Он мне очень очень не понравился, и гетеанство его хотя и «страстное», но поверхностное и еретическое[1910]. Человек он сильный, но философски наивный с уклоном в популярный некритический монизм. Это какой-то теософский пастор, выкрикивающий «глубокие» пошлости. Гёте наверное не захотел бы знакомиться с ним, раз он в зрелые годы свои отвернулся от Лафатера. – Я не получаю здесь ни Весов, ни Руна. Не читал и статьи Бугаева обо мне (в исправленном виде)[1911]. – Мы остаемся еще minimum две недели в Пилльнице. Затем я еду в Веймар. Очень прошу Вас устроить так, чтобы мне не надо было слишком рано возвращаться в Москву. Вы сообща с Бугаевым можете предпринимать уже шаги к осуществлению журнала: ведь мы обо многом уже сговорились. Конечно, Шестова или Городецкого (вообще жидов) не приглашайте. От участия в петербургских журналах можете не отказываться, но от Шиповника необходимо отказаться, т<ак> к<ак> это наш главный враг[1912]. Простите безалаберность письма.
Жму Вашу руку. Ваш Э. М.[1913]
Резюме этого письма.
1) Принцип издателя: не жертвовать книгоиздательством для журнала. 10 тысяч на книги; 10 тысяч (на первый год 12 тысяч) на журнал и дальше никакого риска на себя; если невозможно, то отказаться от журнала и увеличить книгоиздательство. –
2) Принцип редактора: работать только для себя и на себя, не сообразуясь ни с какими специфически-литераторскими цеховыми тенденциями, интригами, страхами, подвохами и т. п. Под «собою» разумеются: Вы, Эллис, я (на первом плане) и затем близкие нам и действительно высокоталантливые и нуждающиеся молодые писатели.
3) Спешить некуда; первый номер можно выпустить из Вашей или нашей квартиры, вовсе еще не устраиваясь в редакционном помещении.
4) Если лучшим признаете отказаться от журнала, то попросите лиц, потративших на хлопоты время и деньги, представить счет, по которому отец уплатит.
5) Если условия приемлемы (все равно, берет ли дальнейший риск кто-нибудь на себя или журнал превращается в скромный журнальчик), то действуйте, берите деньги, но каждую сделку представляйте отцу моему на утверждение.
6) Надежду на увеличение журнального бюджета я не имею никакой <так!>, хотя и переговорю с издателем.
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 5. Открытка.Приложение 1 (открытка) и Приложение 2 – там же.
164. Метнер – Белому
Pillnitz 3/IX 909.
Что же это! Мой милый, милый друг? Вы – больны, обессилены. Эллис набедокурил. Он писал мне недавно: вскользь упомянул о своей неосторожности, вызвавшей неприятность[1914], и сообщил, что Вы здоровы и работаете с подъемом. Он писал также о необходимости начать журнал уже с 1910 г.[1915], и вот я, переговорив с Лоэнгрином[1916], устроил и журнал, о чем уведомил Эллиса большим письмом, где ставлю ему (и Вам, конечно) целый ряд вопросов и прошу выполнить несколько необходимых первых действий[1917]. Вам же я написал о журнале кратко на открытке[1918]. Получили?.. Кстати, я Вам отправил из Пилльница всего три открытки: одну по адресу Эллиса[1919], другую по адресу Соловьева[1920], третью по Вашему адресу. – Не писал писем, т<ак> к<ак> не знал наверное, где Вы; да и вообще я переписывался с Эллисом по деловым поводам, зная, что он в Москве, и рассчитывая, что он немедля все важное Вам сообщит. – Чтó именно сделал Эллис, я не знаю, т<ак> к<ак> никаких газет не читаю. Убежден, что нечестно он поступить не может, а остальное простительно декадентскому пролетарию. Я считаю Эллиса крайне нужным и ценным человеком; я видел, что он за последнее время начинал остепеняться; Эллис все-таки сила, которую надо уметь только направлять; кроме того мы с ним спелись и я его полюбил; дать ему погибнуть было бы непростительною жестокостью, а он погибнет непременно, если увидит, что друзья его покинули. Надо, чтобы он реабилитировал себя обязательно. Без него трудно будет начать журнал. Мы вдвоем не справимся, а я никаких английских греков или русских французов в секретари не хочу[1921]. Сережа занят в университете[1922]. Рачинский меня уморит в одну неделю. Петровский –…скептик. М<ожет> б<ыть>, отложить журнал на 1 год?? Напишите скорее, как поступить! Ведь для меня лично – все равно; мне даже приятнее было бы начать журнал с 1911 г. Я хлопочу о Вас, об Эллисе, наконец о нашей идее. Если Весы и Руно будут издаваться в 1910 г., то стоит ли издавать наш журнал? Возьмите мое письмо у Эллиса и прочтите его и ответьте мне всё толком, если Эллис не в состоянии.
Я во всяком случае возвращусь в Москву как можно позднее: если будет журнал (а это теперь зависит от Вас, от Эллиса, от обстоятельств московских, а не германских), то в ноябре, а если не будет журнала, то только в марте, и тогда я уеду в Париж. Наш издатель – Лоэнгрин в двух отношениях: 1) по чистоте и голубизне природы и 2) потому, что говорит nie sollst du mich befragen[1923]; его нельзя спрашивать, кто он и откуда, иначе все погибнет. Если Вы почему-либо догадываетесь, то смотрите не проговоритесь никому… Хорошо бы пустить в ход какую-нибудь таинственную легенду об источнике наших материальных средств; пусть это будут средства… ну… например: розенкрейцеров (мой Лоэнгрин бессознательно – розенкрейцер). – Я провел эти два месяца очень тихо[1924]; но работой своей недоволен. Тут ужасный климат; или холодно и дожди, или невыносимая духота; страдал долго бессонницей и вовсе не мог писать. Читал порядочно, хотя страшно медленно. Между прочим, впервые Готтфрида Келлера, кот<орого> так любил Ницше и Вагнер. Тонкий поэт вроде Тютчева и прямо гениальный повествователь; его Ромео и Юлия из деревни[1925] может быть поставлена рядом с Кармен Меримэ, Annerl und Kasperl Брентано[1926]; даже, пожалуй, совершеннее. При этом сочетание: гоголевского схематического юмора в описании, вообще русского беспощадного реализма с античной мерою и совершенством формы. В натуре есть общее с Бёклином. – Оперный сезон в Дрездене уже начался. Мы были три раза: Валькирия, Лоэнгрин и Мейстерзингеры[1927]. Полюбили Вагнера еще более… Одна мысль, что он мог бы с голоду умереть до Лоэнгрина и т. д., приводит меня в трепет[1928]. В этом человеке (после Гёте) более, нежели чем в ком-либо (гораздо более, чем в Ницше) сосредоточились все возможности человеческих страданий и исканий; его темы прямо невыносимы по точности передачи того, что за ними крылось в его душе… Коля и Анюта[1929] кланяются Вам. Привет Вашей маме. Пишите сюда скорей. Обнимаю Вас… Спасите Эллиса!! Ваш Э. Метнер.
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 5. Копия: РГБ. Ф. 167. Карт. 5. Ед. хр. 11.
165. Белый – Метнеру
Слышал о Журнале?[1930] Будь так недавно еще, то-то была бы радость!..
А теперь?
Левин инцидент стал мне ясен. Лева абсолютно не виноват; обнаружена злая интрига[1931].
Но столько было пережито за эти дни, что… – в результате: я – как труп; мы ославлены на всю Россию, как шарлатаны, как воры; нужен по крайней мере ряд судебных процессов, чтобы реабилитация была; нужен по крайней мере год, чтоб оправиться[1932].
А тут – но это между нами: меня посетило громадное, душу мутящее горе: я потерял самого близкого человека: Сережу[1933]. Христа ради, ни слова никому – даже Николаю Карловичу, даже Анне Михайловне[1934], ни тем более Леве; все останется между нами двоими – Сережей и мной: но все провалилось – навсегда. Внешне мы останемся для всех друзей в тех же отношениях, внутренно – никогда. Христа ради об этом никому, никогда, ни более всего Сереже; сердце обливается кровью; хочется пожаловаться, и это – сейчас, после Левы.
А!..
В довершение обязан дни и ночи писать «Голубя» до середины октября…[1935]
Ну какой там журнал! Закрыть бы глаза, да умереть…
Если через год, то… А книгоиздательство нужно: родной, как Вас благодарить, что Вы думаете о нас; издательство можно.
Ради Бога, дайте адрес Ваш веймарский[1936].
Мой адрес – Москва. Арбат. Никольский пер., д<ом> Новикова. Кв. 5 (мы переехали этажом ниже).
Остаюсь нежно любящий Вас
Борис Бугаев.РГБ. Ф. 25. Карт. 30. Ед. хр. 10. Письмо не было отправлено адресату.
166. Белый – Метнеру
бесценное навеки спасибо за все, все, все: за журнал[1937], за память, за самопожертвование. Письма Ваши застали меня совершенно разбитым: 1) Левин скандал[1938], 2) истощение от работы над «Голубем»[1939], 3)[1940] разочарование в одном лице (когда увидимся, скажу, в ком)[1941]. Я был болен, истомлен и прочее. Мне казалось, что если Вы остаетесь до ноября за границей, если Лева словлен историей, а я связан «Голубем», то… двое калек и один отсутствующий не составят Журнала. Да и все еще я не представлял себе, что Левин инцидент так ничтожен; судя по газетной травле, я полагал Бог знает что. Теперь: 1) Левин инцидент весь – есть гнусная клевета, в которую не верят даже газетчики; ревизия Музея показала, что вырезаны лишь две страницы, а прочее он вырезывал из своих книг. 2) Нашлись добрые люди, берущиеся горячо за совместные хлопоты о журнале. 3) «Весы» кончаются, «Руно» кончается, в Петербурге усиливается «Аполлон»[1942], так что если мы год просрочим, будет поздно.
Спасибо, спасибо, милый: журнал – да будет. Уже не отступайте, Эмилий Карлович. В несколько дней мы уже многое сделали.
Докладываю, к чему привело дело (пишу сухо, отчетно, формально).
Вчера было деловое совещание (главным образом технического характера); безусловно выяснено вот что: важно определенно знать сумму, на которую можем рассчитывать в течение года; «Весы» можно вести на 15–16 тысяч в год, не считая подписчиков; подписчики растут в течение первого полугодия; человек на 800 мы можем рассчитывать в течение первого полугодия; к концу года наверное перевалим за тысячу (это взгляд пессимиста, а не оптимиста); поэтому указывают на то, что первый № (январский) должен выйти в декабре (время подписки), как пробный №; во-вторых, часть экземпляров нужно пустить в розничную продажу; можно печатать 3000 тысячи <так!> экземпляров[1943].
1) Завтра Мих<аил> Анатолиевич Мамонтов (типография) по знакомству приготовит смету на журнал с бюджетом в 15 тысяч в год с размером 160 страниц (минимум); все же очень, очень прошу, чтобы точно знать сумму, на которую согласен издатель (15 тысяч в случае в 1000 подписчиков сведется к 10 000 тысячам <так!> дефицита, а может быть, к 9000, к 8000). В совещании с Мамонтовым я устранен, как мало понимающий; вместо меня будет А. С. Петровский (с удивительной трогательностью и деловитостью хлопочущий о нашем деле) с Кожебаткиным, который прекрасно знает подробности бюджета «Весов».
Итак первое, что надо знать: точность суммы, в случае неточности суммы (предположим, и Вы не знаете), может ли сумма определиться путем сравнения с «Весами» и путем нашего приспособления к этой сумме, принимая во внимание, что желательно количество страниц 160–175 (т. е., чтобы журнал, выгадывая на бумаге, рисунках, расширил объем? В случае существования журнала (он уже существует) то обстоятельство, что Книгоиздательство и журнал могут быть в одном помещении, сократит нам расходы на помещение редакции. Итак, жду немедленного ответа по этому пункту.
2) Как только выяснится смета, завтра вечером у меня состоится техническое совещание о шрифте и бумаге; у нас есть три специалиста по этому вопросу, горячо взявшихся за дело: Киселев (шрифт и бумага), Кожебаткин (дело о заказе и наблюдения за исполнением заказа), Ахрамович (типография и прочая техника), у меня будут завтра по этому делу вечером: Петровский, Киселев, Кожебаткин, Ахрамович и только (это как бы наша техническая секция + Мамонтов, в типографии которого желательно печатание, ибо это – хороший наш знакомый, могущий отнестись не формально, а с усердием); образцы имеющихся шрифтов мы отошлем к Вам на утверждение; Киселев и Кожебаткин говорят, что следует отлить специальный шрифт (очень недоро<го> стоит), взяв за образец шрифты двадцатых, тридцатых годов[1944]; это было бы большим изяществом журнала, в общем очень простого, – иметь свой шрифт[1945].
3) По вопросу о выработке скромной, но изящной внешности взял на себя Крахт (выбрать художника для марки, обложки); Крахт эсотерически наш (наиболее, быть может, близкий, даже почти ⊕)[1946].
4) Самое последнее дело хлопоты о разрешении (в несколько дней явочным порядком).
5) А. С. Петровский берется в издательстве и журнале, буде понадобится сверка переводов, справки, сличения с подлинниками; словом, наблюдение за книгоиздательством.
6) Эллис наш секретарь (не так ли?); но А. С. указывает, что ведение хозяйства вряд ли Эллис сумеет; итак, по вопросам хозяйственным ждем либо указаний немедленных; или «carte blanche»: медлить нельзя («быстрота и натиск»). Видите ли, что в три дня дело уже налаживается; комиссия «хозяйственно-техническая» самая деятельная: слов мало, дела много.
Теперь предложения иного сорта: 1) требуется выработка эксотерической программы; эсотерически мы ее (трое – Вы, Эллис, я) знаем. Для этого несколько человек обсуждали мои кроки, как иные тезисы будущей программы (импрессионистические наброски); вот они на Ваше усмотрение:
1) Не старое и новое, а высокое и низкое
2) Этика и эстетика
3) Переоценка символизма (связь с прошлым)
а) Примат творчества над познанием
b) Символизм – формирующее начало истории и культуры
c) Символизм, как творчество ценностей
d) Границы символизма:
α) символизм и реализм
β) символизм и философия
γ) символизм и сокровенное начало бытия (оккультизм, религия)
4) Культура и раса
(Критикуйте эти наброски)
Быстро (по возможности через 6 дней) требуется от Вас подобного же наброска для выработки программы экзотерической, для соединения материалов; на дружеском совещании все выдвигали, что символизм надо зарыть и покрыть словом культура. Меня просили очень для ориентиров и меня просят к воскресенью составить один из проектов программы; политика такова, что Вы – полновластный редактор-издатель, если хотите нас спасти от тысячей давлений со стороны (Шпетт, Рачинский, без которого нельзя было обойтись, ибо он нужен как родственник Мамонтова[1947]), накладывайте «veto»; а посему скорей высылайте директивы для составления программы, для оформливания ее. Пока знают о существовании журнала Эллис, Соловьев, Шпетт, Рачинский (пока нужен в технике), Киселев, Петровский, Ахрамович, Крахт, Кожебаткин, Борис Садовской (очень полезен для доставления материала), Ходасевич (для распоряжений и хлопот). За Рачинского не беспокойтесь; завтра он уезжает и не будет мешать (до октября), а между тем он оказал реальную услугу привлечением Мамонтова.
2) В портфеле редакции уже имеются: 1) 2 ненапечатанных стихотворения Тютчева, 2) 4 ненапечат<анных> стихотворений Вл. Соловьева, 3) выбор из орфических гимнов[1948], 4) прозой переведенные образцы провансальских поэтов с комментариями (Киселев пишет работу о провансальской поэзии)[1949], 5) «Повесть о Графе Ригеле» (на 2 № журнала) Сергея Соловьева[1950], 6) повесть в византийском стиле (à la «Подвиги Александра») его же (на один №)[1951], 7) «Петербургская ворожея (эпизод из жизни Пушкина)» Б. Садовского[1952], 8) ненапечатанные письма Фета к Страхову (где есть отзывы о поэтах, писателях) (обещается дать Черногубов – первый знаток Фета и всяческий коллекционер редкостей), 9) Киселев обещает свое близкое сотрудничество (у него есть работы; какие, еще не знаю), 10) имеются в готовом виде статьи Садовского: а) о Денисе Давыдове (исследование), b) Державин, Пушкин, Брюсов (готовая статья)[1953], 11) у Ходасевича есть работа (статья) о поэтессе Ростопчиной[1954]. Почти наверное можно рассчитывать: 12) Розанов (Магические страницы в произведениях Гоголя (статья лежит в «Весах», но за размером не будет напечатана))[1955]. 13) Соловьев наверное обещает к концу года статью о Жуковском. 14) Я наверное обещаю: а) статья о Баратынском[1956], b) теоретическая статья. 15) Если понадобится журналу, я могу отдать 2-ую часть «Трилогии Голубь»[1957]. 16) Ваша большая статья, конечно, будет – да?
3) Желательны: 1) Мережковский работает о Тургеневе (буду умолять его дать нам)[1958]. 2) Пр<офессор> Зелинский – статья (большая). 3) Вяч. Иванов (статья). 4) Брюсов работает над Тютчевым (может дать статью)[1959] (он – за границей до октября)[1960]. 5) Флоренский (не как богослов, а как специалист) «Эмпедокл в связи с фольклором». 6) Шик о «Стефан Георге» (может написать). 6) <так!> В. Иванов непременно даст (до октября не в Петербурге)[1961]. 7) Петер Гаст или вообще кто-либо из «Ницше архива», из «Гёте Gesellschaft»[1962] (это – Ваша работа по привлечению: мы рассчитываем, что Вы уже абсолютно возьметесь за организацию «Немецкой культуры»: мы тут – пас. Слышите ли, Эмилий Карлович? Желателен Дессуар (пригласите!)[1963].
Вот что набралось в несколько дней – да: Эллис обещает использовать следующие темы: 1) Жерар де-Нерваль. 2) Эстетика Католицизма. 3) Бодлеристы. 4) Лермонтов и романтизм.
Желательны: I циклы стихов 1) Брюсов, 2) Иванов, 3) Блок, 4) Гиппиус, 5) Белый, 6) Эллис, 7) Соловьев, 8) Сологуб, 9) Кузмин и стихи ряда поэтов. II Рассказы Садовского, Кузмина, Кондратьева, Гиппиус, Брюсова (у него имеется драма (еще не написана) «Женщина с бичом»[1964]), Ауслендера, Сологуба: порнография не допускается.
Теперь Ваш черед: на материал предложенный накладывайте «veto», критикуйте, вносите предложения, et cetera – ждем, ждем, ждем!
Случайно набросанный список сотрудников (ждем Вашего списка).
Сотрудник Цель приглашения Место для Ваших набросков.
Критических набросков
Ученые
Ф. Е. Корш (Народный эпос, античная элегия и пр.)
Зелинский (Греция, мифология, Ницше)
Дессуар (Эстетика, психология)
Пр<офессор> Шамбинаго (Древнерусская литература)
В. Джонстон и ее муж (Литература Упанишад, Востока, восточной поэзии)
Пр<офессор> Ольденбург[1965] (Литература Востока)
Пр<офессор> Новосадский (Мистерии)
Каллаш (Историко-библиогр<афические> заметки)
Лернер (Пушкин и история литературы)
Пр<офессор> Лосский (философия культуры; знание, как «интуитивизм»)
Шпетт (Фихте, польская литература, культура)
Степпун (Философия, культура, Риккерт)
(он сейчас в Москве)
Боричевский (Эстетика, Риккерт (рецензии))
Топорков (?) (Рецензии, отчеты о течениях Германии по философии культуры)
А. Смирнов (История литературы, специалист по кельтической литер<атуре>)
А. Марков (былины)
Вышеславцев (Фихте, Риккерт, культура)
Самсонов (Липс, Эстетика)
С. Л. Кобылинский (Шопенгауэр, Лотце, философия)
Флоренский (Платон, Гераклит, Эмпед<окл> – «Греция»)
Иванов Вяч. (Греция)
А. Ф. Лютер (нем<ецкая> литература)
Публицисты
(полемика)
Метнер
А. Крайний[1966]
Философов
Эттингер
Чуковский (???)
Волынский? (занят «Аполлоном»)[1967]
Эттингер <так!>
Писатели
Мережковский
Метнер
Иванов
Гиппиус
Розанов
Брюсов
Белый
Кузмин
Сологуб без порнографии
Ауслендер
Веселовская (по привлечению французов и бельгийцев)
Эллис
Гершенсон (не жид, а еврей[1968], знаток эпохи 30-х годов, честный, часто интересный, благородный – очень полезен)
Унковская (теософия – эстетика)
Ликиардопуло (справка по Уайлду, Суинбёрну, театральной технике)
С. Соловьев
Театр
Мейерхольд (режиссер) пишут
Евреинов (режиссер)
Не знаю, кого дальше.
Ин<остранные> писатели
Поэты, рецензенты, справочное бюро, нужные люди
Ходасевич Стихи, разборы, полемика, статьи
Эртель (знание языков, восток)
Рубанович
Ариэлли (Виноградов)[1969], кажется, пишет 1-го сорта роман
Герцык
Герцык[1970]
Мешков
Кондратьев
Печковский
Шик
Диэсперов
Ахрамович
Черногубов
Кожебаткин
А. С. Петровский
Рачинский
Мар Иолен[1971]
Н. Я. Брюсова
Блок
Одинокий[1972]
Худ<ожественный> отдел
Бенуа
Грабарь
Крахт
Рэрих
Муратов (интересен)
Н. Г. Тарасов (история живописи)
Рачинский
Владимиров
Музыкальный отдел
Диктуйте!
Н<иколай> Карлович[1973]
Говорили про
3) Померанцев (?)[1974]
Всегда и везде Николай Карлович.
Опыт показал, что эзотерически близок Крахт и очень горят усердием Петровский, Киселев, Кожебаткин, Садовской, Ахрамович.
Дальше Рачинский.
Далек Шпетт.
Видите: вот уже целая серия дел – Вам 1) выяснение финансовой стороны. 2) Выяснение Вашей индивидуальной программы. 3) Критика наших дел. 4) Критика предлагаемого списка сотрудников. 5) Организация связи с Западом (Дессуар, Гаст и пр.). 6) Свои списки. 7) Пишите на листах ход мыслей о журнале и всё присылайте. 8) Не стесняйтесь с «veto»: интимная связь трех[1975] да не будет перенесена в Редакцию, где Вы неограниченный, суровый, жестокий Редактор-Издатель, Эллис Вам подчиненный секретарь, а я – очень активный сотрудник, не причастный вн<утренним> делам Редакции.
Перехожу к отношению журнала к книгоиздательству; неоднократно спрашивали: есть ли 1) книгоиздательство при журнале, 2) журнал при издательстве, 3) или параллельны журнал и книгоиздательство. В связи с этим ряд технических соображений; мне думается, лучше формальной связи между журналом и книгоиздательством не учреждать. Ответьте на это точно.
Перехожу к названию: не советуют «Мусагет» 1) потому, что «Аполлон»[1976], 2) потому что скажут: «Одним декадентским журналом больше». 3) Желательно, чтобы состав сотрудников был бы значительно (с «Вес<ами>» и «Руном») видоизменен; а в декадентский журнал профессора не пойдут. Далее: «декадентские сотрудники» (петербуржцы), если поймут, что «я» и «Эллис» с самого начала в центре, устроют чего доброго бойкот[1977], и мы останемся без многих; мы должны сначала несколько хитрить: быть едиными внутри и двуликими извне. Стараться собрать сперва мед, а потом уже его сортировать.
Значит, остаются названия: «Мусагет», предлагались и забракованы Гермес, Урна, Амфора, Орфей, Эмблема; есть еще: «Плеяда», «Галатея», «Мнемозина», «Полигимния» («Мнемозина» уже была прежде (связь с прошлым)).
Предлагались еще «Москвитянин» (????), «Московский Вестник» (??), предлагались «Вопросы культуры», «Искусство и культура». На днях будут многие названия еще. Желательны Ваше «veto», предположение и прочее по этому вопросу.
До установления точных названий «журнала» и «Издательства» нельзя заказывать 1) клише, 2) конверты, 3) обложку, 4) штемпель.
Скорей ответьте.
Последнее: Невозможно обсуждать детали на расстоянии, в противном случае выступит Ваша деятельность рядом «veto», или рядом «cartes blanches»[1978]. И то, и другое во многом ненужно тормозит ход дела; ради Бога, приезжайте уже в октябре (15-го); мы даем слово, что Вас освобождаем в случае надобности вскоре по выходе пробной книжки; техника ведения журнала известна; техника организации в 10 раз сложнее; в вопросе о средствах почти невозможно переписываться.
Я поеду а Петербург в сентябре, когда 1) соберутся писатели, 2) когда техника будет налажена[1979].
Пишу кратко и формально, завтра пишу еще. Бесконечно любящий Вас Б. Бугаев.
40 Имеется в виду том сочинений Жан-Поля, подготовленный Стефаном Георге и опубликованный с его предисловием: Deutsche Dichtung / Herausgegeben und eingeleitet von Stefan George und Karl Wolfskehl. Bd. 1. Jean Paul. Ein Stundenbuch für seine Verehrer. Berlin: Bondi, 1900; 2 Ausgabe: 1910.
Итого:
2 + 2 + 3 + 8 = 13[1980]
III. Проза 20, 30, 40 страниц
13 + 30 (среднее) = 43.
IV. 2, 3 страницы – кроки, афоризмы, притчи, спорады, летучие мысли
3. (одного или 2-х авторов)
2. Теорет<ический> отдел (белый лист с[1981]
43 + 5 = 48–50 стр.
Остается 110 страниц.
30 V. 30 стр. статья (или 2 по 15).
15 стр. VI. Полемика, внутренняя полемика, На перевале, обзор журналов
На всё 20 VII. Статья о книге, специальный разбор, материалы, извещения (сюда бы материалы о Ницше, об Ницше-Архиве
(для примера) [сюда бы письма Фета к Страхову])
25–30 стр. Музыка
10 VIII. Живопись (интер<есная> теор<етическая> статья)
Итого:
50 + 30 + 15 + 20 + 30 + 10 = 155 страниц.
А если можно журнал на 165–170 стр., то: остающиеся страницы специально отдел для статьи иностранца, или на перевод классически интересной статьи о писателе, книге, явлении, культуре с немецкого, фр<анцузского> и др<угих> языков.
Теоретический отдел: Если условная норма в год 6 статей по 30 стр., и 12 по 15-ти стр., то нужны 18 статей.
Конспект плана. а) Желательны статьи в 30 страниц, 1) Мережковский о Тургеневе (скажем), 2) Розанов о Гоголе (почти есть), 3) Метнер (должен дать), 4) Эллис (должен дать), 5) Иванов (должен дать), 6) Брюсов (скажем, о Тютчеве), 7) я (дам), 8) Зелинский (жел<ательно>), 9) Дессуар или Гаст (желательны), 10) Соловьев (о Жуковском) даст, 11) Садовской (о Денисе Давыдове – есть). Итого на выбор 11; если 5 не дадут, то все же 6 есть; из них 4 уже имеются (Вы, Эллис, я, Соловьев) и того искомые «2». Если же дадут кроме нас еще «6», то выбор.
b) В статьях по 15 страниц тоже предположения 1) проф<ессор> Ольденбург, 2) Лосский, 3) Метнер (2), 4) Эллис (2), 5) Белый (2), 6) Шпетт? 7) Рачинский, 8) Топорков, 9) Флоренский, 10) Мер<ежковский>, 11) Гиппиус, 12) Философов, 13) Волошин, 14) Франк, 15) Гершенсон, 16) Унковская, 17) Штейнер, 18) Мокель, 19) Гурмон, 20) Ход<асевич>, 21) Степпун. Итого 24; если 12 не дадут, то все же полный год; если вы сможете дать 2 статьи, я – две, Эллис – две; итого – 6. Остальные шесть – будут, конечно.
Организация Теор<етического> отдела.
Не старое и новое, а высокое и низкое – (культура).
Темы: 1) Культура и общество (государство) 1
2) Культура и раса (1)
3) Культура востока (1)
4) Культура Греции (1)
5) Культура и раса <так!> (1)
6) Германия. Культура и Гёте
Вагнер
Ницше
Дейссен
Бургхарт.
Нем<ецкие> поэты (Жан Поль, Платен, Брентано, Георге, Гельдерлин, Романтики).
7) Культура России. Поэты
Общество
1) Культура и общество (Что есть культура: проект: Мережковский, Розанов, или класс<ическая> переводная статья с нашими ответами в соответствующем отделе. № 1 журнала. 1 статья.
2) Культура и раса (ради Бога, обдумайте это Вы). 1.
3) Культура востока (Дейссен или статья о нем; статьи Ольденбурга, Штейнера, В. Джонстон; нет ли немца, могущего написать?). 2 статьи.
4) Культура Греции: 2 статьи Зелинский, Иванов, Флоренский («Эмпедокл и фольклор»); вспомогательны: Топорков, Соловьев, Новосадский; не знаете ли кого?
5) Культура Германии, желательны статьи 4.
Темы (первые попавшиеся) 1) Гёте и культура – (кто? Вы?), 2) Вагнер (Вы?), Ницше (Зелинский, Вы, Гаст, Овербек – кто? постарайтесь) и одна статья о поэтах: Жан Поль, Романтики, Гельдерлин, Платен, Брентано, Георге (Шик?) – это по Вашей части.
6) Россия – желательно 4, 5 статьи. Тургенев (Мер<ежковский>), Гоголь (Розанов), Барат<ынский> (я), Жук<овский> (Соловьев), Тютчев (Брюсов), имеются Лермонтов (Эллис)[1982], Ростопчина (Ходасевич), Ден<ис> Давыдов (Садовского), Державин, Пушкин, Брюсов (Садовской). Отдел набит.
Этика и эстетика. Темы: Смысл искусства, долг в искусстве, самоценность творчества, как нравствен<ный> догмат служения (авторы Дессуар, Эллис, Гиппиус, Философов). 1 статья.
Культура, искусство, философия; связь между ними (авторы: Лосский, Дессуар, Степпун, Лосский, Франк, я? Боричевский, Топорков). 2 статьи.
Сокровенное культуры, искусства. 2 статьи (авторы: Иванов, Мережковский, Дессуар, Вы, Розанов, Штейнер – кто?).
Итого уже готовых тем на 20 статей.
Понимаете Вы, дорогой, мою мысль?
№ 1. Посвящен: Что есть культура, что есть искусство.
1) Статья о культуре (15 стр.). 2) Статья о культуре искусства (15); авторы а) Мережковский или Иванов, Вы, немец? Дессуар? – с?) b) (могу я). В отделах. I[1983] – редакционный манифест, IV Афоризмы о культуре, VI отдел – маленькая статья (4 стр.) «Культура и современ<ное> русское искусство», в отделе VI разбор книг о культуре. VII Материалы по истории культуры. VIII Культура и живопись (А. Бенуа).
№ 2-ой. 1) Культура Германии (Гёте и культура) – Вы? или гётист? (15 стр.). 2) Пушкин, Державин, Брюсов (Борис Садовской). Статья по живописи: старые русские мастера XVIII в. (Грабарь).
№ 3-ий. Статья большая о Гоголе (Розанова).
№ 4-ый. Культура Греции (Иванов, Зелинский) (15 стран<иц>). Брюсов о Тютчеве; в стихотворном отделе два ненапечатанных стих<отворения> Тютчева. (Сюда орфические гимны).
№ 5. Статья большая о Ницше и культуре (Вы, Гаст, Овербек, Зелинский?); материалы о Ницше, библиография, важно бы ненапечатанные документы (Бёклин, Штук, Клингер – Владимиров (это по живописи).
№ 6-ой. Теория символизма (я).
№ 7-ой. Мережковский о Тургеневе, Эллис о Лермонтове.
№ 8. По востоку (15) (о Дейссене, – Ольденбург, Штейнер, Джонстон). «Эмпедокл и фольклор».
№ 9. О Вагнере – Вы (30 стр.).
№ 10. К теории символизма. Эллис (30 <стр.>).
№ 11. О Баратынском (15 стр.), о Жуковском Соловьев.
№ 12. Культура и раса (15 стр.). Этика и эстетика (Гиппиус).
Соответственно можно организовать дирижерские манифесты редакции, отделы рецензий, печатать материалы и т. д.; в № «Культура востока» возможна по живописи статья Рериха (живопись востока, восточный орнамент); в № с Вагнером (в музыкальном отделе исполнение Вагнера) и т<ак> далее (тут же пристегнуть «Культуру и расу»); то же и к Ницше. В № «Культура Греции» статья по живописи о греческом искусстве (скажем, исторически занимавшемся живописью и скульптурой Тарасовым).
Видите: составить можно.
Ну, за дело!
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 4. Помета синим карандашом: «LVIII».Ответ на п. 163 и Приложения к нему.
167. Белый – Метнеру
Представляю три приблизительных сметы, расчисленных нами для 2000 экземпляров журнала. Исчислено приблизительно, но в реальном масштабе сообща Петровским, Киселевым, Кожебаткиным, Ахрамовичем и мной, принимая во внимание, что расход по печатанию, бумаге (своей заказной, так выгоднее) на № журнала в 200 стр. при количестве 2000 экземпляров 550 рублей, т. е. 550 × 12 = 6600 рублей в год (эти данные выяснились из разговора с Мамонтовым, который представил приблизительный пока счет).
Вот несколько смет, и несколько гонораров на № в 200 стр., в 175, в 160.
1) Такса за стихи: 50 коп. строка} на № 100 рублей: 100 × 12 = 1200 р. 2) Такса за худож<ественную> прозу: 60 рублей лист, 60 стран<иц> – 250. 250 × 12 = 3000 рублей. 3) Такса за прочее: 50 рублей лист; 122 стр. номера = 400 рублей: 400 × 12 = 4800.
Итого каждый № гонорара = 750 рублей + 550 (типография) = 1300 рублей. 1300 × 12 = 15 600 рублей. К этому присоедините а) реклама (извещения в газетах после выхода каждого №, как это обычно делается, печатание анонсов, программы и прочее) 1000 рублей. b) Секретарская работа (счета, переписка, хозяйство, рукописи, сношение с типографией, принятие подписки, сношения с магазинами – неужели Эллис, думаете Вы, справится со всем этим?) 100 рублей в месяц жалованья, или 2 человека по 50 рублей при разделении труда; итого 1200 рублей. с) Помещение (редакция + склад журнала и книгоиздательства), омеблировка и прочее. 1000 рублей. d) Служащий при редакции (25 рублей в месяц, 25 × 12) = 300 рублей. e) Обложка, штемпель, конверты, блок-ноты, письменная принадлежность и прочее – 400 рублей. f) Жалованье редактору 200 рублей в месяц (это – Ваше дело с издателем: мы прикидываем только для круглого счета); итого – 2400.
Итого 15 600 + 1000 + 1200 + 1000 + 300 + 400 + 2400 = 21 900 рублей.
NB: Так как везде принимался «maximum» расхода, то «minimum» будет таков: стихи можно таксировать 30 коп. за строчку, хотя это и очень дешево; итого стихи могут стоить 48 рублей за №, 48 × 12 = 576 рублей; можно сэкономить, помещая в отделе прозы переводные рассказы; если в каждом № по рассказу в 10 страниц (оставляя 50 стр. на оригинальное), то 7½ печатных листов в год вместо 60 рублей будут стоить 30 рублей; итого 3000 – 210 = 2790 рублей художественная проза; плата за рецензии может быть меньше; принимая в № 15 страниц рецензий = 180 страниц в год по 40 рублей за печ<атный> лист, т. е. статьи будут стоить дешевле на 110 рублей; 4800 – 110 = 4790 р.
Принимая во внимание, что при рассчете печатных листов (40 000 букв) брались круглые суммы и можно с № скинуть по 30 рублей: 12 × 30, т. е. на 360 рублей меньше.
Итого цена на типографию, печатание, бумагу и гонорар: 576 + 2790 + 4790 = 8156 – 300 = 7856 рублей + 6600 (типография, бумага, печатание) = 14 456 рублей, т. е. можно сэкономить в год 1144 рубля.
Далее: если на рекламу положить не 1000, а 800 рублей (очень мало); если «я», «Вы» будем вести часть письменных сношений, корректур и прочее, то можно сэкономить секретарски<х> 80 рублей, т. е. 960 рублей в год; если помещение с меблировкой (помещение 60 рублей в месяц = 720; меблировка 200 рублей) 920 рублей. Почтовые расходы и прочее если 300 рублей в год, а служителю платить 20 рублей в месяц, т. е. 240 рублей в год; если редактору 150 р. в месяц (это для круглоты цифры), т. е. 1800 в год, то 14 456 + 800 + 960 + 920 + 300 + 240 + 1800 = 19 476 общая смета затрат.
При 1000 подписчиках 19 476 – 7000 = 12 476 дефицит.
При 1500 – 10 976 дефицит.
Мало вероятия на 2-ой исход, но можно №№ пустить в розничную продажу; тогда предположим дефицит 11 500 рублей.
Стихи 576 рублей в год; проза (40 стр. на №) – 1800 рублей; если 5 переводных рассказов в 10 страниц, то 1800 – 105 рублей = 1695 рублей; 119 страниц, т. е. 7½ печ<атных> листов по 50 рублей (за лист) 375 × 12 = 4500; принимая в № 15 страниц рецензий, разборов и пр., то 4500 – 110 = 4390.
Бумага, печатание, типография 438 × 12 = 5256.
Итого 5256 + 576 + 1695 + 4390 = 11 887.
Все прочее 800 + 960 + 920 + 300 + 240 + 1800 = 5020.
11 887 + 5020 = 16 907 общая смета расходов.
Цена 7 рублей (1000 подп<исчиков>) – 7000: 16 907
7000-9907 дефицит
Стихи (30 коп. строка) 6 стихотворений = 28 р. 80 к. №. Общая сумма: 345 рублей; проза 40 страниц с переводными – 1695; статьи 108 стр. – 4056 рублей в год; рецензии 10 страниц 70 рублей; 4056 – 70 = 3986.
Итого: 345 + 1695 + 3986 = 3986
1695345-6026 общий расход.
Типография (бумага и пр.) 440 × 12 = 5280.
6026
5280
–
11 306 рублей; Все прочее 5020} 11 306
5020-16 326 рублей.
1000 × 6 (цена) = 6000
16 326 – 6000 = 10 326 рублей.
Розничная продажа 9500 рублей.
Видите: удобнее всего, пожалуй, 175 страниц при цене в 7 рублей; 160 страниц 7 рублей дорого, 6 р. 50 к. как-то странно.
Повторяю, смета очень приблизительна, но 1) может ли издатель идти на а) 15 000 дефицита, b) на 10 000 дефицита, в первом случае имели бы сериозный, прекрасный журнал, который через два года наверное бы побил все журналы основательностью; во втором случае журнал был бы лучше «Весов» (конечно), но мы были бы ужас как стеснены; конечно, пойти на это было бы можно нам. Повторяю: «Весы» кончаются, «Руно» кончается; «Аполлон» нам враждебен, и… «прощай наша линия»…
Уверен, что на второй год журнала первого типа (дефицит 15 000), на второй год был бы дефицит только 10 000 тысяч <так!>: может ли издатель пожертвовать 25 000 дефицита на два года? Во втором случае (оба года дефицит 10 000) – может ли издатель пожертвовать 20 000 тысяч <так!> дефицита? Еще повторяю: смета приблизительна; она может быть немного менее, немного более; думаю, что колебания в 1000 рублей вверх или вниз – не более.
Считаю нужным заметить, при расценке мы руководились форматом «Путей и Перепутий»[1984], бумаги (белая глянцевитая) «верже», и шрифтом, кажется, «альзевир»[1985]. Из шрифтов остановились между «альзевиром» и «антиквой»; была речь о «елизаветинском» шрифте, мысль оставлена.
Немедленно снеситесь 1) с издателем, 2) с нами; в последнем случае: дайте нам «carte blanche» на техническую организацию; дел столько, каждое состоит из мелочей, что сноситься с Вами о каждой мелочи это значит ежедневно писать рапорты по 10 страниц: ведь невозможно; или приезжайте сами.
Но прежде всего: нужно Ваше и издателя официальное «да» на журнал; в случае «да» немедленный кредит; уже через две, три недели нужно заказать бумагу на год, а для этого задаток в размере 300–400 рублей; канцелярскую часть расходов можно будет вести вполне отчетливо; не знаю, как с Львом Львовичем[1986]; секретарем в журнале, технически обставленном, он быть может, но участвовать в технике организации ему нельзя; вчера 5 часов шла речь только о шрифтах, форматах и смете; пока что 3 человека разъезжают по типографиям; может быть, если журнал будет, можно бы выбрать одно лицо, ведающее счеты, проверку и контроль; ни «я», ни Эллис этим лицом (Вы сами знаете) быть не можем; если так, может быть, ему можно было бы дать хотя небольшое вознаграждение; если журнал проблематичен, сейчас же телеграфируйте, а то мы действуем вовсю; пройдет полторы недели и могут обнаружиться уже и невольные затраты (хотя бы одни каталоги типографий стоят денег). Пока что, я еще не был у Карла Петровича[1987] (его не было в Москве). Теперь же я болен, третий день не выхожу; но уже четыре дня с утра до вечера занят всячески журналом. Смета, техника, программа, сотрудники; Лев Львович много говорит, но реально от него мало помощи; если бы не Петровский, Киселев и Кожебаткин, то ничего бы не вышло; они действуют сериозно и быстро.
Для рекламы журнала можно бы использовать книгоиздательство; если появятся книги в этом полугодии, то при них можно приложить объявления о журнале, платформу и список сотрудников; у Кожебаткина небольшое, нам дружественное издательство[1988]; мы могли бы печатать там объявления о наших книгах и журнале в обмен за то, что печатали бы о его книгах: подумайте!
Еще важный пункт: если издательство связано с журналом, то выпуск книг до журнала как бы программен: «Арабески» (они почти готовы)[1989] были бы отчасти программны; Ваши статьи – тоже[1990]; но перевод Бодлера (?!) – причем? Уже имеются без Эллиса два перевода «Petites poèmes» (один очень недурен); Эллис выйдет 1) с третьим уже по счету переводом![1991] 2) с «Бодлером»! Ведь Бодлера печатают всякие «Саблины», «Скирмунты»[1992]: ведь Бодлер – товар, а не программа; новое, идейное издательство «начинает» с уже дважды печатавшегося на русском языке Бодлера!!! Все это выставляют на вид: ведь мы можем осрамиться! Между тем: имеется проверенный и прекрасный перевод Рюисбрёка (ни разу не переведенного, глубокого мыслителя, тонкого); как бы было изящно начать с Рюисбрёка[1993]: это – культура; начать с Бодлера – не культура. Вчера долго мы говорили об этом. Выход из этого: а) Отложить перевод (ведь гонорар за него Эллис уже получил!)[1994]. b) Печатать (принимая во внимание положение Эллиса), но без марки издательства. Вообще, если издательство и журнал близки, первые книги издательства ведь уже для общества программа журнала: сериозно подумайте об этом. Вообще Ваше отсутствие – невыносимо; столько стоит вопросов организационных, идейных и др., что сноситься ужасно трудно.
Вчера полдня составлял письмо к Вам, а ведь делового высказал 1⁄10; сегодня уже полдня расчисляю смету; ведь придется каждый день писать деловые письма; далее программа на мне; «Голубь» на мне (писать надо бы с утра до вечера)[1995]; злюсь на Соловьева – хоть бы палец о палец! Злюсь на Эллиса: он все только произносит речи да тосты – мне, Рачинскому, Петровскому о журнале; Шпетт пока что упражнялся в диалектике, критикуя программу, черт с ним!
Милый, дорогой, простите сухость тона: времени нет. Бесконечно чувствую нашу связь. Б. Бугаев.
P. S. Николаю Карловичу, Анне Мих<айловне> привет[1996].
P. S. Письма сохраните; вдруг что-нибудь понадобится.
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 5. Помета синим карандашом: «LIX».Продолжение п. 166.
168. Метнер – Белому
Пилльниц 17/IX 909.
Получили ли Вы мое письмо и письмо к Эллису, пересланное им Вам?[1997]
Необходимо узнать в Моск<овском> Комитете по делам печати официальности (форма прошения, залог и т. д.). Необходимо узнать, сколько времени будет длиться дело разрешения на издание журнала?
Я все равно сам бы не отправился в Комитет, т<ак> к<ак> мне неудобно и неприятно войти в учреждение, где я когда-то служил, где меня уважали и где теперь нет ни малейшего… ну да Вы понимаете! Неужели Вы или Эллис или Сережа[1998] не можете разузнать обо всех формальностях у секретаря! Пишите мне в Пилльниц; я уезжаю на днях в Веймар, но письма перешлют.
Затем надо узнать у Мережковского, Розанова и других (Вячеслава Иванова NB), будут ли они писать. Все это можно сделать без меня.
Действуйте!
Странно: сию секунду мне подали Ваше письмо[1999]. – Читаю!
Отвечаю пока на наиглавнейшее: дают 10 тысяч на издательство, 10 тысяч на журнал. Можно взять из суммы, предназначенной для книг на нужды журнальные. В крайнем случае можно рассчитывать на 2–3 тысячи сверх 20 тысяч, но только на первый год. Поблагодарите Петровского и Рачинского и всем привет. Э. Метнер. (Обнимаю Вас).
Спешу отправить это письмо и сажусь писать другое!
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 5. Копия: РГБ. Ф. 167. Карт. 5. Ед. хр. 12.
169. Метнер – Белому
Пилльниц 17/IX 909.
Дорогой мой! Ваше большущее и весьма странное письмо получил и сейчас же приписал Вам в уже раньше написанном послании краткий ответ на вопрос о средствах (денежных)[2000]. Надеюсь, что «смета в 15 тысяч в год» есть проект, а не условие (sine qua non)[2001], которое ставит Мамонтов. Так как и это письмо первоначальное, а не окончательное, то я пишу наугад и без плана свои реагирования на Ваши тезисы.
1) Ревизором и заведующим денежными делами является мой отец (он – «профессор коммерции», и без его совета и наблюдения я не начал бы ни одного денежного дела); если смета написана, то покажите ему ее (или пусть это сделает Кожебаткин или Петровский).
2) Кстати: лицо, знающее технику типографского дела, желательно, но надо остановиться на одном (Кожебаткин или Охрамович??). Вообще не надо «приручать» к нашему учреждению много хотя бы и милых и дельных лиц. Будут интриги.
3) Лицо, дающее деньги, делает это для меня лично в еще гораздо большей степени, нежели Куссевицкий, кот<орый> все-таки главным образом имел или заявлял об интересе объективном. Этим я (между нами) хочу сказать, что как бы я (совсем искренно) ни скромничал в качестве литератора, скромность эта очень скоромная в отношении к вопросу материальному; я не могу жить в Москве очень дешево (как я живу за границей и жил бы в провинции); далее, моя работоспособность невелика, и я скоро утомляюсь; я даже боюсь, что редакторство помешает моей и без того небольшой продуктивности; уступить же редакторство другому лицу я нравственно не имею права; итак, возникающему журналу придется иметь очень дорогого, мало работающего и часто отсутствующего редактора. Вам я могу это сказать, т<ак> к<ак> Вы, конечно, не обвините меня в желании создать себе синекуру; но как поступить в отношении к составляющему смету Мамонтову, Рачинскому и т. д. и т. д.??? Я обязан отчетностью перед лицом, дающим деньги, и только это лицо одно должно знать, сколько я получаю за редакторство. Вообще надо устроить так, чтобы не вмешивались в денежные дела. Maximum – 12 тысяч на журнал (остальное придется доплачивать из капитала книгоиздательства), считая редакторское жалованье по смете Мамонтова. –
4) Выход январского № в декабре очень одобряю.
5) Книгоиздательство при журнале и в одном помещении. – Помещение редакции не следует брать до приезда (через 8 дней) Анюты, которая примет участие в этом «искании»[2002].
6) Особый шрифт (20-х, 30-х годов XIX века) было бы очень хорошо иметь; разницу между пользованием имеющимся шрифтом и своим, если ее можно высчитать, сообщите мне. Сообщите также, сколько лет держится шрифт, сколько стоит он и за сколько приблизительно его можно будет продать через два года в случае банкрота.
7) Эллис – секретарь; но так как он ничего не смыслит в хозяйственности, то надо кого-н<ибудь> еще; мне этот пункт неясен; не обременительно ли будет иметь двух секретарей: литературного и технического? Во всяком случае пока примите советы Кожебаткина и других, кого Вы хорошо знаете и уважаете. Я не протестую. Только ничего не обещайте (что касается штата редакционных служащих).
8) Вы говорите, что «важно установить таксу гонорара»; но ведь это не только важно, но, полагаю, уже установлено Вами, раз Вы говорите уже о мамонтовской смете! Таксу установить я не могу, т<ак> к<ак> это в связи с общей сметой; сначала надо установить все расходы (помещение, жалованье, бумага и т. д.), а затем уже гонорар; конечно, он не должен быть ниже, чем у других; может ли он быть выше – покажет смета. Важны, по-моему, принципы: I) хорошо, если бы можно было платить построчно, а не за лист; II) четыре рода: а) за стихотворную строку; b) за строку худож<ественной> прозы; c) за строку философской и критической статьи; d) за строку фактических известий и мелких рецензий. III) Все работают на равных условиях. За эти три принципа я стою, но, конечно, готов уступить, если мне дельно возразят.
9) Никакого абсолютизма (ни в чем) я не признаю; я – консул, а не диктатор; но сенат – Вы и Эллис; будь я сейчас – известный литератор почтенных лет, я, пожалуй, согласился бы на диктатуру (временно на 1 год); но теперь – ни за что; наоборот: все должны знать, что Вы и Эллис очень даже «причастны внутренним делам редакции»; тогда в случае, если кто обидится за ненапечатание статьи (хотя бы это и произошло только вследствие моего «veto» или Вашего отсоветования), – пусть обижается на «Редакцию» и ломает голову, кто из нас троих был за, кто – против статьи. Все равно я ничего не напечатаю без Вашего совета и без выслушания мнения Эллиса. Если же Вы почему-либо настаиваете на диктатуре (и Эллис тоже), то я согласен, но в такой формулировке, которая официально должна быть известна главным сотрудникам: Э. К. Метнер – неограниченный редактор-издатель, но считающий своею нравственною обязанностью в каждом данном случае советоваться о напечатании той или другой статьи с соответственным специалистом, имя которого он во избежание нареканий всегда сохраняет в тайне. Вот Вам альтернатива относительно будущей моей власти. –
10) Относительно названия, я сам (как Вы помните) колебался: Мусагет и Символ, мною предложенные уже года два тому назад[2003], пожалуй устарели… Идея, связанная с Мусагетом (протест против царящего ныне одностороннего (псевдо)дионисизма и утверждение единства искусств и наук, обособленное упражнение которых ведет к различного рода варварству), эта идея (основная во мне) едва ли может быть символизирована более точно, нежели наименованием Мусагет. Для меня Мусагет не звучит декадентно, а скорее ужь филологично и академично… Но… мне все равно. Если ничего не придумают, то придется книгоиздательство назвать Искусство и Мировоззрение, а журнал – Культура, и считать, что ни журнал при к<нигоиздательс>тве, ни к<нигоиздательс>тво при журнале, а и то и другое работают сообща параллельно; одно может обанкротиться, другое продолжать существование. Назвать и к<нигоиздательс>тво и журнал Культурой – нельзя, т<ак> к<ак> существует к<нигоиздательс>тво в Москве (см. справочную книжку), кот<орое> называется Культурой[2004]. Москвитянин – ерунда, тогда скорее (я шучу) Арбатский Вестник. – Искусство и культура – отчасти тавтология.
11) Я приеду в середине русского октября, если это будет необходимо.
12) «Мы должны сначала несколько хитрить», пишете Вы. Но неужели Вы думаете, что мы проведем продувных «шиповников»[2005] или заматерелых старомодных журналистов, чуящих «декадента» за 10 верст, или пронырливых Лурье и т. п.?? Нечего хитрить! Все равно: с одной стороны, мгновенно поймут, кто в центре дела, с другой же стороны, по прошествии некоторого времени наступит ряд недоумений, недоразумений и разочарований: так как никто, кроме Вас (и отчасти Эллиса), даже не подозревает, к чему мы ведем… Впрочем, если у Вас есть план, как «хитрить», и уверенность, что это удастся, то «хитрите»… –
13) Что «символизм надо зарыть и покрыть словом культура», с этим никто более меня не согласен! Но я иду дальше: я сомневаюсь вообще в необходимости (и даже в возможности) формулировать от редакции (без подписи), так сказать, платформу издания. – Кроки[2006], импрессионистические наброски, афоризмы могут быть помещаемы как за подписью отдельного лица, так и за псевдонимом (за которым может скрываться несколько лиц). – Если мы сейчас же станем формулировать, чтó мы разумеем под культурой и куда мы хотим ее видеть направленной, то получится или общее место, или туманность. И кто может это сделать? Я – недостаточно ярок и малоталантлив, а Вы слишком ярки и многоцветны. Эллис еще не до конца понимает нашу мысль (он слишком во всех отношениях католичен). Но допустим, что нам удалось бы удовлетворительно в сжатой форме изложить нашу программу; неужели Вы думаете, что мы этим не оттолкнем от себя и большинство, и сплоченное декадентское меньшинство?.. Мало того: мы сразу же примемся за утопление нового Schlagwort’а[2007], нового жупела, нового идола, сменившего старый – «символизм»; слово «культура» станет через три месяца вызывать тошноту, а глубокий смысл его затемнится и для нас самих; придется искать опять нового Попанца…[2008] Что такое культура? Материально культура заключает и объединяет в себе искусство и мировоззрение[2009]; формально культура есть власть гениального художественного и религиозного творчества над жизнью народа. Если мы называем наш журнал Культура, а связанное с ним книгоиздательство – Искусство и Мировоззрение (или еще лучше: Творчество и Мировоззрение), то мы этим уже внешне отграничиваем область, над которой станем работать: знание, как таковое, и все то, чтó, в отличие от культуры, называется цивилизацией, нас прямо не касается (как не касается нас вовсе всяческая политика, в том числе и церковная); но косвенно мы будем (исходя из постулатов культуры) касаться и знания и общественности и государства. – Объяснять же: власть какого именно творчества (какого типа, какого устремления –) мы желаем для жизни вообще и для жизни русской в частности – этого сразу объяснять и невозможно, да и было бы непедагогично… Если это все надо еще объяснять, если самое название (раз Вы и Эллис с ним согласны) Культура и Творчество и Мировоззрение недостаточно на первых порах говорят ленивому уму русского читателя, то это можно сделать, но не в тексте (где само собою придется не раз говорить об этом), а перед текстом. Правда, если даже среди наших сотрудников находятся лица, предлагающие название Культура и Искусство, то понятие о культуре довольно смутно даже для избранных; Культура и Искусство то же самое, что – Музыка и Опера или Фортепиано и Музыка. – Внутренно моя линия: это медленное и упорное искание и проповедование арийского мировоззрения и беспощадное безжалостное, но осмотрительное удаление и вытравливание из моей, из Вашей, из нашей общей души всего чужого, что так или иначе в виде пережитка, вследствие мыслительной лености, косности, нелепой сентиментальности, суеверия и т. п. – застряло и срослось с этой душой; под чужим я разумею юдаизм, как нечто вполне самодовлеющее и отчетливое, и, чуть ли еще не больше, ту туманность, пошлость космополитическую, с которой одинаково связано и христианство и антихристианство; всяческий фетишизм (liberalismus vulgaris, социалистический хилиазм и ползание на брюхе перед последним словом науки = гвоздям и костям, сохраняемым в кремлевских соборах, – помните мое мефистофелевское сопровождение Вас по соборам –; = иным воплям Мережковского = Самодержавию и Православию и т. д. и т. д. ad infinitum[2010]); так вот этот фетишизм надо с корнем вон!! Но начать это надо исподволь и осторожно (по-кошачьи, а не по-собачьи, как я писал, помните, в прошлом письме[2011])… Пусть Рачинский – безнадежен, но его можно заставить перевести с немецкого то, чтó нам нужно; Эллис будет незаметно для себя очищаться, работая; от Мережковского воплей не принимать; а вот если он напишет статью о Шестове, где этого путаника и обезьяну (не говорите об этом Шпету) изничтожит, то я с восторгом напечатаю; если Розанов даст тенденциозную статью за юдаизм, я ее не приму[2012], если он будет писать против системы современного обучения или об эпохе Возрождения, которое есть не возрождение, а просто Рождение (помню его прекрасную статью на эту тему и в этом смысле)[2013], то я ее приму… Печатать же что-н<ибудь> только потому, что это Розанов или Мережковский, я не стану… Но я отвлекся; я хотел только показать Вам, что мы не должны давать программу нашего вкуса, а только указать, если уж это необходимо, на нашу область.
14) Ваш список сотрудников, а отчасти и статей, произвел на меня вот какое впечатление. Я нащупываю три мотива: 1) тактический; 2) меркантильный и 3) традиционно-партийный. Вы хотите «хитрить», привлечь и профессоров и предупредить петербуржцев и не дать повода к нападкам печати; для этого соединяете Лурье с Брюсовым. Вы приглашаете Ликиардопуло, Полякова (тогда уж и Милиоти[2014] и Тастевена и Рябушинского) и вообще проводите связь с прошлым, с Весами; хотите перенести декадентскую штаб-квартиру из одной редакции в другую и «переоцениваете символизм»… Наконец Вы мобилизируете целую разношерстную армию сотрудников, очевидно с намерением привлечь читателей. Все это хорошо, хотя и трудно контрапунктируемо. Но вот что сомнительно уже совсем: можно ли сочетать три упомянутых мотива с теми двумя, без которых мне просто неинтересно и нечего делать в журнале; именно: все дело затевается по двум основаниям: 1) хочется сделать попытку провести в жизнь наше заветное; 2) хочется дать возможность нам троим (и только нам троим), Вам, Эллису и мне, улучшить наше материальное положение; Сережа Соловьев и Алеша Петровский (кстати, как мы их соединим!) – не нуждаются; а об остальных нам нечего заботиться; остальных мы должны рассматривать как орудие; из этого конечно не следует, чтобы только печатались стих Эллиса или бледные статьи Вольфинга, но во всяком случае надлежит с самого начала дать понять всем Ходасевичам, Ахрамовичам, Кожебаткиным и вообще тем, которые «горят очень усердием» и «усердие» коих, вполне искреннее, базируется, однако, на расчете пристроиться к редакции, – что «своих» людей, т<ак> н<азываемой> «редакционной семьи» (члены которой непрестанно таскают друг друга за волосы), в новом журнале не будет; будет редакция, состоящая из трех лиц, и затем более или менее уважаемые более или менее желательные сотрудники… Всякая платформа есть компромисс; партийная платформа есть определение (definitio) того, с чем все приблизительно согласны, следовательно, приблизительно несогласны; omnis definitio periculosa est[2015], definitio есть конец развития, а не начало; определение есть уничтожение индивидуальности; на компромисс стоило бы идти, если бы была уже сильная культурная партия; тогда члены ее поступились бы своими личными вкусами и оттенками своего мировоззрения, дабы прийти к соглашению во имя борьбы; но партии не существует, т. е. нет партии культуры, членом которой я бы сознавал себя, а есть обломки партии декадентски-весовских преторианцев, к которым я никогда себя не причислял и связь с которыми принесла Вам лично столько труднопоправимого вреда; эту партию культуры надо еще образовать и дисциплинировать, а тогда уже объявлять и формулировать платформу… Итак, или весь Ваш огромный список надо еще увеличить (чтобы не обидеть еще какого-нибудь Петра Ивановича Добчинского[2016]), или же его надо сократить до десятка наиболее выдающихся имен, к которым присоединить имена нас троих и наших приятелей Соловьева, Петровского, Рачинского. – Топорков – очень хаотичен. А. Смирнов писал невероятные глупости о музыке в Мире Искусства[2017] и, кроме того, старается поставить кельтов выше других (я так слышал, не помню от кого). Самсонов – просто неинтересен. Лютер – также. – Чуковский????? – Волынский??? – Ауслендер??? Франк и Лурье невозможно, так далеко идти в оппортунизме я не могу. Теософских дам совершенно не нужно. Если Полякова и Ликиардопуло, то и Тастевена и Милиоти. – Если пригласите Штейнера, то не рады будете; навяжете себе болтуна вроде Ренэ Гиля, только теософского; Штейнер, конечно, будет писать (ему нужны деньги и ему нужно вербовать теософскую армию), будет писать грубо-популярно скучно крикливо и на манер деревенского протестантского пастора без следа дэндизма. – То же самое может произойти, если пригласить Д’Альгейма: он, конечно, будет писать, а это прямо невыносимо. – Подобными приглашениями мы лишь равнодушных превратим во врагов или же вынуждены будем из-за деликатности и тактических соображений печатать ненужное. Хорошо Ваше сопоставление: справочное бюро и… Эртель; кто же будет проверять справки Эртеля???? – Что такое Герцыки и к чему они (оне)??? – Cтруве слишком дилетантичен и бесцветен (это – адвокат?); вообще музыкантов пока не надо приглашать. Итак, или список нас ни к чему не обязывает, тогда его можно увеличить еще и еще; или он обязывает и определяет нашу позицию, тогда он чересчур эклектичен и беспринципен; мы не отыщем среди одиноких и нам неизвестных культурных людей, согласных с нами, если устроим такую гурьевскую кашу. – Очень многие из списка мне совсем неизвестны даже по имени. Прибавить кого-нибудь еще к списку я затрудняюсь. – То, что Вы называете «экзотерической программой» (не старое и новое, а высокое и низкое; этика и эстетика и т. д.) в общих чертах, конечно, вполне согласуется с моими взглядами; но ведь это оглавление огромной книги, а не программа журнала. Сомневаюсь, чтобы можно было понятным языком, языком партийных платформ вкратце изложить все пункты Вашего проекта. – Да и явится ли она привлекательной для большинства? Не лучше ли еще экзотеричнее. –
Итак, дорогой мой друг, резюмирую сказанное:
1) Во всех денежных делах и по поводу всех сделок и обязательств надлежит обращаться к моему отцу; ему же и показать мамонтовскую смету. Покажите ему также образцы бумаги; он знает толк в этом деле. –
2) Надо действовать так, чтобы не создалось учреждение, которое стало бы над нами и которое с самого начала впитало бы в себя чуждый или просто чужой дух. Основателями являемся только мы трое. – Мы же и эксплоататоры. –
3) Читая мое письмо, подчеркивайте синим карандашом то, что Вы считаете в нем директивами, письмо можете дать прочесть Эллису, да и Петровскому тоже… если находите нужным. Кажется, Эллис не может обидеться на то, что я там говорю где-то об его католичестве и очищении… Я получил сейчас письмо Эллиса. Отвечать не буду сейчас. Он просит еще 100 рублей на Бодлэра[2018]; но разве все деньги взяты у отца? Если нет, то пусть он отправится к отцу и возьмет 100 рублей. Если же денег больше нет, то напишите; я вышлю еще.
4) То, чтó я писал о Шестове вчера, сегодня подтверждается письмом Эллиса, указывающим на триаду Шестов – Лурье – Шпет[2019]; теперь понимаю до конца мое подозрительное отношение к Шпету. –
5) Отдельные места этого письма можете прочесть, если надо, и другим, извинившись за небрежность и спешность стиля. Вынужден прекратить писание, чтобы письмо отправить немедленно (а то поздно) заказным. Обнимаю Вас, Эллиса, Петровского, Соловьева. До свиданья, мой милый.
Ваш Э. М.РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 5. Копия: РГБ. Ф. 167. Карт. 5. Ед. хр. 12.Ответ на п. 166.
170. Метнер – Белому
Пильниц 19/IX.
Дорогой Борис Николаевич! Только что отправил Вам огромное письмо[2020], как получил Ваше второе об издательстве. Я нахожу, что и за 175 страниц дорого 7 рублей. – Кроме того, делаю общее замечание: можно ли рассчитывать на 1000 подписчиков как на достоверность; больше чем на 12 тысяч + три тысячи, которые в крайнем случае можно перенести из капитала книжного, т. е. больше чем на 15 тысяч рассчитывать нельзя, и я не желаю оказаться несостоятельным должником. – Я не имею возможности сейчас говорить с издателем; поэтому не могу Вам сейчас же и дать ответа решительного на вопрос о журнале. Но думаю, что издатель ни за что не согласится на то, чтобы все 20–22 тысячи ушли на журнал, а к этому идет дело, т<ак> к<ак> на подписку особенно рассчитывать нельзя и всякая смета всегда оказывается слишком узко взятой. – Я начал отвечать Вам по мере чтения письма; теперь я дочитал его до конца и говорю Вам: затевается нечто совсем другое, чем то, что мы хотели. Вместо скромного журнала и книгоиздательства, не желающих ни с кем конкурировать и преследующих (как я писал в прошлом письме) две интимных цели (осторожная проповедь нашего мировоззрения, как цель идеальная, и благосостояние трех лиц, как цель житейски-материальная), незаметно для Вас Ходасевич, Мамонтов, Кожебаткин затевают «общее дело» c риском (падающим всецело на меня) в 20 тысяч. Когда я говорил с Вами до отъезда, Вы сказали, что журнал можно вести на 10 тысяч в год, т<ак> к<ак> книжка обходится 600–700 в год (считая все расходы): 700 × 12 = 8400; оказывается, что надо иметь minimum 1000 подписчиков, чтобы в лучшем случае потерять на журнале около 10.000 р., если издавать на скромных началах, и 15.000 р., если издавать так, чтобы «побить в два года все (!!?) журналы основательностью…» Итак, расходы вместо 10.000 minimum 20.000; будем ли мы иметь подписчиков и сколько, я не знаю и не имею права уверять издателя, что мы будем иметь 1000 подписчиков; выйдет так, что в середине года уже обнаружится, что издатель (пока: в ожидании проблематичных подписчиков) должен выдать на журнал сумму minimum 15 тысяч или же придется брать из сумм книжных, чтó нежелательно и на что издатель тоже не согласится: я сказал издателю, что истраченное на книги возвратится через два-три года, когда издание будет понемногу раскуплено; истраченное же на журнал – невозвратимо; следовательно, я не имею права выдавать на журнал из сумм книжных; ну, две-три тысячи в крайнем случае на первый год можно еще взять из книжных сумм в расчете на доход от какой-либо удачной книги, но больше уже нельзя. И то, это только на первый год. Считаю нужным заметить, что издатель ни за что не согласится на то, чтобы еще кто-нибудь участвовал в предприятии денежно; или годовая сумма в 22 тысячи (10.000 на книги; 12.000 на журнал) должно хватить (при всяких самых несчастных обстоятельствах), или журнал не может существовать; если Мамонтов берет на себя дальнейший риск и делает это по уговору с Вами и для Вас, то это ни до меня, ни до издателя не должно касаться. Я этого риска ни на себя, ни на издателя переложить не смею; но этот риск я стану рассматривать как чисто коммерческую хватку хозяина типографии, который уверен, что журнал пойдет и находит возможным (чтобы дать работу типографии) несколько рисковать; но всякое вмешательство (идейное) в дела журнала со стороны хозяина типографии я не допускаю и не стану слушать речей вроде: «я хотел рисковать, полагая, что Вы поведете журнал в таком-то направлении, а не в таком и т. п.». Итак, Вы сами можете теперь ответить на вопрос, существует ли журнал. Когда же я буду иметь возможность говорить с издателем, я сообщу ему положение дел, но не надеюсь на то, чтобы он взял на себя риск в 20.000 для одного только журнала. Ведь риском до конца (особенно в таком деле, как журнал) является вся сумма необходимых расходов, без надежды на какой-либо доход… –
Пока (если при указанных мною условиях (внешних, денежных) журнал вестись может) имею сказать следующее.
1) Не слишком ли много будет печатать 2000 экземпляров; не достаточно ли на первый год 1200–1500.
2) Непременно покажите «приблизительный пока счет» Мамонтова – моему отцу.
3) Не слишком ли много Вы уделяете художественной прозе? Я бы взял меньше для нее. Журнал должен быть отчасти художественным, отчасти философским, а не беллетристическим. Я лично считаю, что подлинно художественная проза (в отличие от беллетристики) не легче, если не труднее стихов; трафаретных ауслендеровских стилизаций я терпеть не могу и считаю это дешевым жидовским товаром, развращающим вкус, – не более!
4) За построчную плату не стою, если это неудобно. Но как быть с мелкими рецензиями и фактическими известиями. Они окажутся или слишком выгодным делом, или слишком невыгодным.
5) Необходимо два секретаря; Эллис для внутренних дел и кто-нибудь другой для внешних.
6) Переводные рассказы очень желательны (Рачинский). – И притом не 1⁄6, а 1⁄3 может быть переводной. –
7) Вы забыли при смете выписку иностранных книг и журналов.
8) Я нахожу совершенно излишним приезжать сейчас: тем более, что мне, вероятно, придется еще и еще раз говорить с издателем; переписываться с ним было бы более затруднительным, нежели с Вами. – Огромных рапортов мне писать вовсе не надо. Вы знаете, что я контрасигную все, на что Вы сами решитесь относительно шрифта, бумаги (которую предварительно надо показать моему отцу) и прочих деталей; далее, если Вы находите выгодным иметь вторым секретарем Кожебаткина, знающего технику дела, я и на это согласен; возьмите пока у отца 100 рублей на мелкие расходы (каталоги, извозчики, я не знаю что).
9) Не слишком ли дорогую бумагу Вы берете и действительно ли выгодно иметь свою собственную по особому заказу (по этому поводу переговорите с моим отцом).
10) За немедленным кредитом дело не станет, но «да», о кот<ором> Вы пишете, следует ждать не вам от нас, а нам от вас, т<ак> к<ак>, повторяю, больше 12 тысяч на журнал не будет выдано (брать из книжных сумм мне бы очень не хотелось, т<ак> к<ак> согласия от издателя я на это не получу, а надежда возместить этот ущерб бойкой продажей ходкой книги – невелика).
11) Напишите, брали ли Вы деньги у отца и сколько. – Бодлэра Эллиса необходимо издать, я дал слово ему… Вообще на этом деле я уже вижу, что нас начинают давить какие-то страхи перед толками конкурентов, какие-то унаследованные от Весов цели и тактические соображения. Я о Рюисбреке, например, ничего не знаю (кажется, оптимист-мистик, может быть вру…), почему этот Рюисбрек – культура, я не знаю, хотя и верю Вам; для чего начинать с него, уже совсем не понимаю; если начинать с переводного, то я найду что-нибудь, чтó более (наверное более) покажет нашу программу; кто переводил Рюисбрека и как это переведено? И зачем мы сразу дадим нажить не близким, а чужим! Отложить перевод Бодлэра можно, но он должен быть напечатан, и притом в книгоиздательстве. Нам не должно быть никакого дела до других и до толков. Мы имеем возможность несколько лет вести наше маленькое дело, в высокой степени плюя на внешний успех. Не мы должны идти к этому внешнему успеху, а он к нам. А если не придет, то черт с ним. Надо печатать Вас, еще раз Вас и еще еще раз Вас, потом Эллиса, Эллиса, Вольфинга, потом опять Вас, пока Вы не выскажетесь до конца… и вдруг Рюисбрэк; да у меня есть малоизвестные писатели (например, Георг Христоф Лихтенберг, гениальный физик, юморист, эстетик, астроном и дэнди XVIII века, или Гердер Идеи[2021], или Гаманн), которых я знаю немного и ценю, которых переводить можно поручить Рачинскому; это будет наверное поценнее Рюисбрека. –
Простите, дорогой мой, и мою сухость тона! Но, право, я очень рад, что меня нет в Москве, иначе эта сухость превратилась бы в озлобленность: совершенно очевидно нас желают эксплуатировать; если журнал будет (а это зависит от Вас!), то он будет наш и только наш, хотя бы у нас не было на первый год ни одного подписчика; я совершенно спокоен; в крайнем случае можно начать небольшой журнал (только стихи, теоретические статьи и рецензии) в 100–125 страниц. Обнимаю Вас. Ваш М.
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 5. Копия: РГБ. Ф. 167. Карт. 5. Ед. хр. 13.Ответ на п. 167.
171. Белый – Метнеру
Милый, грустно, что мне приходится писать, но необходимо; Вы знаете, как я люблю Эллиса, но… есть границы моей терпимости; я вижу, что на него нужна просто грубая узда, или с места в карьер он посадит в лужу.
Помните первое мое письмо, где я Вам пишу о том, что нравственная интимность с Эллисом у меня лично прервана из-за музейской истории, хотя лично все так же его люблю[2022].
Верьте, что это неспроста; конечно, история в Музее есть извращенное, «мерзостное» толкование факта рассеянности и хулиганства, но… в связи с Музеем, в связи с ложью его и спутанностью аргументов, в связи с рядом мною обнаруженных мелочей (ради его я просто на время стал «суд<ебным> следователем») я понял: у него неряшество, граничащее с преступностью, неряшество, корни которого уже не только в забитости, а в нравствен<ной> расшатанности: и вместе с тем мне совершенно ясно: у него инстинктивная, бессознательная, чисто звериная хитрость, жадность, могущие выразиться вплоть до… интриганства.
Что и обнаружилось немедленно в нашем деле. С первых дней он буквально, сев верхом на журнале и книгоиздательстве[2023], не зная средств еще, не считаясь с «общей пользой», с «общей идеей», стал зажаривать «Эллиса», испугав за участь и того и другого меня, А<лексея> С<ергееви>ча[2024] и Киселева, который ради «нас» покинул многолетнюю свою замкнутость и, будучи обременен «госуд<арственным> экзаменом»[2025], взялся нам помогать. Я просил обоих помочь мне в деле обуздания Эллиса, так что инициатор инцидента – я: (считаю, что поступал правильно, не желая подвести Вас под «сюрпризы» и помня «неизвестного издателя», благородно пожертвовавшего нам на журнал).
С первых дней Эллис всем объявлял, что мы (?) печатаем полное собр<ание> сочинений его Бодлера, его «Сад Великана» (пьеса для детей!)[2026], еще какую-то книгу; все эти дни он палец о палец не двинул, зная, что я, Киселев, Кожебаткин и Петровский по 5 часов в день занимаемся очень скучными мелочами; если я горячо отношусь к делу техники, то только потому, что у нас нашлись «бескорыстные» помощники, вовсе не мечтающие писать, сотрудничать, а вызвавшиеся помочь в трудном деле организации.
Кроме того, Эллис написал уже «Манифест»[2027], тон которого меня ужасает, с самого начала дела чего-то забеспокоился и стал прямо чуть не требовать моментального печатания Бодлера в первую очередь[2028]. Взял у Карла Петровича[2029] не «200 рубл<ей>», как значится, а «триста», просит еще (а гонорар Кусeвицкого[2030] –?). Ведь он же на нас лежит.
Но самое главное; зная переводы Эллиса, я испугался и просил «Петровского + Киселева» проредактировать. (Ведь если нужно поощрить Эллиса, то все же не резон садиться в лужу и угощать публику с «места в карьер» плохим переводом и третьим по счету, не ознакомившись детально). Обнаружилось, что это не перевод, а «Бог знает что» (сейчас перевод у меня в столе). Для образца характерно, что заглавие предисловия переведено: «Арсению (?!) Гуссэ» (вместо Арсену), а первая фраза предисловия носит оборот: «шлю небольшое произведение, о к<ото>ром было бы несправедливо говорить, что оно без хвоста и головы (?), ибо напротив все в нем попеременно и взаимно и хвост и голова (??!!)»[2031] Бог знает что! И далее…
Очевидно, перевод надо проредактировать от строки до строки: я просил А. С. взять право, как редактору перевода, самому подписать к печати листы, ибо в прошлых переводах он изменял «редактор<ские> поправки» в корректурах. Взамен этого он начал осыпать Киселева и Петровского (заочно) оскорблениями, называет их мне «Ликиардопулами», говорит, что никто не имеет права указывать ему на знание Бодлера (французского языка он не знает), что он отказывается от редактирования и, ссылаясь на Ваше право самодержавия, хочет нахрапом печатать даже грамматически неверный перевод во имя того, что Вы пишете: «Печатайте»; вместе с тем присылает мне оскорбительные для «Кис<елева> и Петровского» замечания; присылает вот какую заметку[2032]. Это – бесстыдство.
Вы просили просмотреть Ваши статьи, указать на недоразвитости[2033] (хотя Ваши статьи в десять, в сто миллионов выше перевода Эллиса); я при печатании «Арабесок»[2034] считался с указаниями «друзей», ибо в выборе статей не доверял всецело себе; Эллис считает свой «черт знает какой перевод» за совершенство и вдается в амбицию, вносит формализм и интриганство туда, где только все – желание помочь; до Вашего приезда я не могу действовать от себя, а советуюсь во всем, но Эллис, опираясь на Ваше отсутствие, прямо скажу… «спекулирует» нашим трио, не для нашего интимного, а для себя.
Грубо и цинично, что он оскорбляет Петровского, который столько делал для него в «Музее», которого вчера он не знал, как благодарить, и о котором сегодня мне пишет: «После этого», т. е. моего желания, чтобы А. С. редактировал перевод, «для меня все наше дело идейно = 0»; «я считаю себя свободным от всех обязательств их, строго резюмируя монархизм Метнера». Это – цинично.
Знайте, Эм<илий> Карлович, что я, не желая компрометировать Вас, помня издателя, не желая еще и марать «дела», решил безжалостно: «Не печатать перевода без редактирования». Эллис имеет право тем не менее печатать, но если он это сделает, это – цинизм, и я уже окончательно рву с ним: пока что я отношу инцидент к истерике.
Но извещаю Вас: до Вашей резолюции я лично буду не давать санкции моральной на печатание явной безграмотности, и если он тем не менее отдаст в типографию (запретить это я не могу, не нарушая Ваших прав), то я пойму, что его дружба ко мне – не дружба, а собачья жадность, хитрость, т. е. нечто звериное; потому что, право, я начинаю думать, что ему наплевать на все, кроме себя самого.
Я не придаю значения инциденту; знаю, истерика слетит; собачий нюх заставит его понять; все остается по-прежнему, но… я убедился: с ним невозможно равноправно иметь дела; его надо обуздывать.
Говорю это на основании опыта.
Милый, милый Эмилий Карлович!
Все это формальные письма; сколько хотелось бы Вам сказать еще «интимного»; нет времени.
Только что получил Ваше длинное письмо[2035]; все будет принято к сведению; ответ на него могу написать только через три дня.
Остаюсь искренне любящий Вас и преданный всегда
Борис Бугаев.РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 7. Датировка (рукой Метнера?): «23/IX [10]» (исправлена рукой Н. П. Киселева: «1909»), видимо, сделана на основании неверно прочитанной датировки почтового штемпеля (на конверте: Москва. 23. 8. 10).В п. 189 (27 сентября (10 октября) 1910 г.) Белый пояснил, что по ошибке отослал Метнеру настоящее прошлогоднее письмо, в свое время по забывчивости оставшееся неотправленным.К письму прилагается архивоведческая записка Н. П. Киселева (на бланке объявления о подписке на журнал «Труды и Дни» на 1912 год). См. п. 189.Датируется по связи с п. 169 и 171.
172. Белый – Метнеру
Ждем немедленного ответа о журнале; журнал после двухнедельного размышления, балансируя между «декадентством» и солидностью, мы пока что назвали «Плеяды»[2036]: Ваше слово? Ваше «veto»? Ждем: почему остановились на «Плеядах», излагаю ниже; предполагается на желтой, костяного цвета (пергаментного) обложке изображен сверху орел со змеей (архаически): <рисунок> это проект Крахта; к следующему воскресенью он представит этот проект в разработанном виде; весь вид обложки имеет в себе что-то архаическое (чуть готическое); марка в проекте Крахта: <рисунок> (в венке орел с обвившейся змеей); обложка, по-моему, к «Плеядам» подходит; высказались так, что книгоиздательство могло бы быть тоже «Плеяды»; издание Кожебаткина, который ставит себя в подчиненное положение к нам, названо «Гальциона» (звезда в «Плеядах»)[2037]. На днях приступаю к изданию «Арабесок»[2038]. Книгу Ваших статей нужно бы выпустить до января[2039]. Ввиду спешности действия: мы пока что выделили комиссию с распределением функций. В нее вошли 1) Эллис, 2) Петровский, 3) Киселев, 4) Кожебаткин. Последние три незаменимы; Эллис же все только путает; он будет великолепен в самом журнале; в ведении же дел организационных на него нужна узда; я обуздать его не могу; после совещания решили: Кожебаткин соглашается его сдерживать, Петровский тоже (вообще Петровский и руками, и ногами, и носом в пенснэ с нами – голубчик: вышло так, что с Эллисом я не могу иметь ни малейших деловых отношений; он – путаник; я воззвал к помощи[2040]). Теперь о переводе Бодлера[2041]; Петровский взялся от строки до строки вновь пересмотреть перевод, сверить с текстом; я не знаю, правы ли мы, но я просил А. С. быть диктаторски точным в сверке перевода и чтобы Эллис слушался в поправках, чтобы издательство с второй книгой не село в лужу (в сущности у нас имеется великолепный Рюисбрёк[2042]; и им бы следовало дебютировать, а мы дебютируем пока что, 3-ьим в России уже переводом «Petites poèmes»… Надо, чтобы перевод был хорош. Если что не так, то приезжайте сами; но реальное дело уже показало: только при строгом контроле Эллис хорош. А контроль я не могу взять на себя; технику печатания обеих книг («Араб<ески>» и Бодлера) берет на себя Кожебаткин, который педантично как бы делает мне доклады.
Если журнал будет, то нужно помещение «Редакции». Сейчас свободно помещение «Руна»; знаете ли, что оно баснословно дешево (60 р. в месяц), а оно – целый особняк; 60 × 12 = 720 рублей в год; если поселить туда (в одну из комнат Эллиса, он хочет) и заставить его платить 20 рублей в месяц (вместо 30, которые он плотит), то 20 × 12 = 240; 720 – 240 = 480 рублей (за 480 рублей мы обладаем особняком, т. е. 3 комнатами (четвертая комната Эллису) – выгодно? Если бы не упустить помещения «Руна». Если секретарские деньги – 100 рублей, то 100 р. берутся делить между собой Кожебаткин с Эллисом (по уговору): у нас два человека: один практик, друг Эллиса, могущий вести счетную часть; пока что все секретарские дела ведет Кожебаткин; Эллис же только говорит; говорили мы и об технике устройства К<нигоиздатель>ства: вот какой намечается проект; Вы в журнале и в К<нигоиздатель>стве – полновластный ред<актор->издатель: для облегчения Вашего у Вас комитет по разделению труда; Петровский, Эллис, я, Киселев, Рачинский (?), Кожебаткин; вот в чем дело: Вы вольны что угодно печатать, кассировать, изменять, но Рачинский, Петровский брались бы сверять переводы; Вы, я и Эллис, мы выбираем книги; у Киселева огромная эрудиция по текущим книгам; мы могли бы его просить быть «au courant»[2043], Петровского – тоже; Кожебаткин (человек с опытностью и вкусом) мог бы быть незаменимым участником по вопросам, связанным с внешностью книги (и Киселев), а главное по печатанию. Как в журнале, так и в К<нигоиздатель>стве, мы трое нерв; извне Вы – диктатор; но если мы не приблизим полезных людей и не дадим им внешних функций теперь, мы остаемся без тела; в любую минуту Вы все можете изменить; без Вас же я один не справлюсь со всем; а у нас уже на деле выяснился прекрасный исполнительный орган; очень полезным другом по историко-литер<атурным> и делам русской культуры оказался Борис Садовской; он привлек к нам Черногубова (специалиста по архивам ценностей культуры).
Теперь и группировка сотрудников в связи с предлагаемой программой журнала (см. ниже).
Если нужны в первый год 2 статьи по общим вопросам культуры; 2 статьи по культуре Греции; 2 ст<атьи> по культуре востока; 4 по германской культуре (Гёте, Ницше, Вагнер, и еще); 2 по культурно-религиозным вопросам; 2 теория эстет<ики>; 2 этика и эстетика, то группы сотрудников нужных – вот.
Общая культура: (немцы – не знаете ли?) Дессуар, Риккерт, Зиммель, Метнер, Лосский, Пресняков (петер<бургский> профессор – очень живой, пишет хорошо: привлечь – легко), Шпетт, Степун, Топорков, Франк, Гершенсон[2044].
Культура Греции: Пресняков (занимался), В. Иванов, Зелинский, Соловьев, Флоренский, (Штейнер?), Новосадский, нет ли у Вас кого? Подумайте, кто бы мог написать о Роде?
Восток: Розанов, Джонстон, Тураев? Ольденбург (нет ли у Вас кого?), Киселев (обещал написать вместо Эллиса о Жераре де-Нерваль, имеющем соприкосновение с востоком[2045]). Кому бы поручить статью о Дейссене?
Германская культура. Кто? Используйте Ваше пребывание в Веймаре. Предполагаемые темы: Ницше (Метнер, Гаст, Ф<ёрстер->Ницше, кто?). Вагнер: Метнер, кто? А. Иванов (помните 2 статьи о Вагнере в «Мире Искусства» – интересные)[2046]; Аргамаков (вагнерианец, может хорошо писать, рекомендует Крахт).
Теория эстетики: Метнер, А. Белый, Лосский, Самсонов? Шпет? Эллис, Брюсов, Иванов, Ильин («ich’и» <?>), Топорков, Рачинский, Садовской? Реми де Гурмон (берется Эллис через Веселовскую и Крахт), Elis Faure (лично знает Крахт, выдающийся французский теоретик), Жилкэн.
Этика, эстетика, религия: Гиппиус, Философов, Мережковский, А. Белый, Розанов, Бердяев, Франк[2047], кто?
История литературы и культуры (русской): Брюсов, Соловьев, Садовской, Эллис, Гершенсон, Корш, Лернер, А. Смирнов, А. Крайний, Мережковский, Ходасевич, А. Белый, и пр. (легко); (немецкой): Метнер, Киселев, Шик, В. Гофман, А. Лютер, Рачинский (?); (французской): Мокель, Жилкэн, Мальё, Гурмон, Elis Faure.
Если интересная статья по философии общего характера – можно.
Прочие сотрудники для укомплектования, рецензий, прозы, стихов, публицистики и прочее. Не приглашаем, ожидая Ваших писем.
Теперь вместо делового изложения передаю резюме разговора с Гершенсоном (представитель группы «Вех»[2048]). Я. Вы бы не отказались сотрудничать в журнале, посвященном вопросам культуры и искусства, где Метнер редактор, я же при<ни>маю участие близкое. Гершенcон. Очень бы согласился, поговорив с Метнером; мы недовольны Лурье, «Р<усской> Мыслью», все лето искали денeг на журнал, посв<ященный> культуре. Я. Нам нужен Зелинский, может быть Бердяев, Франк. Г<ершенсон>. Если журнал «Мусагет», все примут за продолжение «Руна»; профессора никто не пойдет; мы же сначала посмотрим первые книжки. Я (думая про себя). Если профессора и «идеалисты»[2049] откажутся дать вначале подписи, декадентская братия устроит «бойкот», увидев имена из «Весов»; если дадут, всецело с нами Иванов и Мережковский. Гершенсон. Послушайте: дайте нам в журнале постоянный отдел, – т. е. мне, Франку, Струве, Бердяеву; Зелинский наш друг; мы привлечем Вам профессоров; так же сотрудничать мы будем остерегаться: сначала посмотрим; лично к Вам у меня великолепное отношение, но, например, в «Весах», в «Руне» мы не стали бы писать. Я. Позвольте прочесть мою краткую статью «Проблемы культуры» (я написал на этих днях такую, излагая свой взгляд на журнал)[2050]. Г<ершенсон>. Пожалуйста. Я (читаю). Гершенсон: Согласен с Вашим тезисом вполне; по темам Ваша идея – наша идея, т. е. моя, Франка, Струве, Бердяева, Булгакова; мы могли бы сотрудничать, привлечь Вам кого нужно, но: дайте 1) нам отдел страниц в 40–50 в месяц (если журнал 200 стр.); Вы и Ваши будете тоже здесь писать, но организацию поручите нам.
Итак, «идеалисты» предлагают блок с нами, гарантируя нам то, на что мы сейчас спорно рассчитываем; взамен просят отдел. Гершенсон утверждает, что 1) при согласии на дефицит около 15 тысяч (200 страниц) можно и должно положить: за прозу (минимум) 100 рублей лист; за статьи 80 рублей лист.
После этого разговора мы говорим с Петровским.
Я. Идеалисты предлагают обоюдовыгодную сделку, но с ними придется идти на компромисс, опасно их впустить; но при редакции Э. К. всегда их можно впоследствии выжать. Петровский: И они уйдут с «письмом в редакцию, уводя за собой профессоров»; кроме того: они, как клетчатка, имеют свойство разбухать и все заполнять: вспомните «Новый Путь»; и потом, разрастание клетчатки производит «раковые болезни»: опасное соседство, но с другой стороны, как ни хитри, а если рассчитываешь на видоизмененный сравнительно с типично «декадентскими» журналами журнал, без них не обойтись. Я. Для реальной политики литературной они нужны; они – маска, за которой мы пока можем спрятаться; из-за идеалистического камня можно впоследствии сделать наш прыжок на русское общество. Петровский. Да, но опасно, опасно: впрочем, журнал, посв<ященный> культуре, без идеалистов, а с профессорами (Зелинский, Ольденбург, Лосский и др.) и декадентами в России сейчас осуществился бы, если бы мы имели бы втрое более средств; пока же «идеалисты» могут быть посредниками; пишите Э. К., это – обоюдоострый шаг. (Таков смысл нашего долгого разговора).
Подумайте теперь Вы: вообще Ваше присутствие необходимо; Вы бы могли уехать потом; все мы нужнее пока здесь; ведь каждый день приносит «реальные» неожиданности; невозможно сноситься.
Пока Гершенсон осведомлен, интересуется, ждет Вас.
Еще надо сказать 1) Крахт обещает три теоретические статьи по живописи в связи с культурой; 1) Об ассирийской и египетской скульптуре, 2) Импрессионизм и скульптура, 3) Россо (чрезвычайно интересный, мало известный художник); если еще в год 3–4 статьи Бенуа, 2 Грабаря, то 3 + 4 + 2 = 9 статей. Крахт рекомендует одного русского из Парижа знатока «Салонов»[2051]; мог бы в год 1, 2 статьи по вопросам соврем<енного> парижского искусства (теоретическая в связи с выставками).
Еще раз, Эмилий Карлович: приезжайте. Ведь это – 1⁄10 того, что нужно писать; но не могу, рука отваливается; пишу Вам уже 3 часа (часы драгоценны: ведь я весь в делах по журналу, по изданию «Арабесок», и кроме того: пишу «Голубя»).
Эллис же Вам пишет ли так подробно?
Залог, кажется, вносить не нужно (наверное). Гершенсон советует: юридически оформить акт с издателем; далее он говорит, что известная сумма денег на Ваше имя (предпол<ожительная> стоимость журнала) должна быть положена в банк.
В случае, если издатель среди года вдруг откажется издавать, скандал перед подписчиками: скажут, Эллис режет книги; Метнер и Белый обманывают подписчиков.
Пишу это, не зная издателя.
Родной, спасибо Вам – да хранит Вас Свет.
Б. Бугаев.РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 6. Помета синим карандашом: «LХ».
173. Метнер – Белому
Веймар 27/IX 909.
Вы называете меня «бесценным», милый Борис Николаевич! «Бесценны» – Вы, Вы и притом не только для меня и в моих глазах, но вообще. Спасибо, спасибо за хлопоты и донесения. Только напрасно Вы затрудняете себя подробностями и тратите время. Впрочем, утешаю Вас: если бы я был в Москве, мы истратили бы еще больше времени. Я бы раздражался. Вообще все, чтó происходит в Москве, должно иметь место, но я чую, что необходимо мое отсутствие из Москвы и присутствие в Веймаре (на днях буду говорить с Ферстер, Гастом и другими). – Из письма Вашего, пересланного мне сюда из Пилльница, усматриваю, что Вы моих писем еще не получили, я разумею двух огромных[2052] в ответ на Ваши два огромных; но Вы не пишете, получили ли Вы мое маленькое письмо[2053]. Впрочем, это – не важно. Важно в особенности мое второе письмо из больших, где я, между прочим, указываю на недоразумение с цифрою оборотного капитала журнала и заявляю, что издатель дает на журнал 12 тысяч на первый год и по 10 тысяч на следующие, ото всякого остального риска, могущего произойти от недостаточной подписки, отказывается. За раз внести всю сумму нельзя, никаких формально-юридических обязательств я даже и не подумаю предлагать ему брать на себя; это было бы оскорблением: журнал просуществует 1 год во всяком случае, parole d’honneur[2054] и крышка; я никогда не вхожу ни в какие отношения с не-джентльмэнами. – Блок с идеалистами на предлагаемых ими условиях немыслим; это даже комично звучит: «Вы и ваши будете тоже писать, но организацию поручите нам». Франк, Струвэ, Бердяев, Булгаков мне просто до глубины души противны. Если все будет продолжаться в том же духе, то я вовсе не приеду в Москву и никакого журнала не будет. – Если моя идея – идея Франка и Бердяева, то я сейчас же выброшу эту «идею» в окно и найду себе другую. – Простите, что я сержусь; мне лично ничего не надо: я одинокий особый тихий и несчастный человек; в крайнем случае, я готов уехать на земскую службу в провинцию или вести скромнейшую жизнь в Веймаре, пописывая и переводя; но раз Вы меня вытаскиваете за волосы на общественно-литературную арену, то Вы должны… иметь дело и считаться не только с моими Вами мне приписываемыми достоинствами, но и с угловатостями, недостатками, инстинктами, предубеждениями, ни на чем не основанными, но очень резкими… – Я готов для Вас для того, чтобы Вы (и Эллис) могли жить и высказываться, попытаться склонить издателя к журналу несмотря на то, что редактором буду не я, а Вы сами или Рачинский (как примирительный путаник нераспутанных клубков «наших», «ваших», «ихних», «декадентских», вульгарно-либерально-идеалистических, пономарско-кантианских и других «идей»); но редактировать журнал, организованный глубоко чуждыми мне людьми, устраивать государство в государстве, нечто вроде католической церкви или иезуитского ордена, стремящихся поглотить и ослабить политическое тело, в кот<ором> они поселились, – на такие компромиссы я просто неспособен; и все это из-за каких-нибудь двух-трех профессорских статей! К черту профессоров, если они, болваны этакие, не понимают, что Бугаев стоит больше, нежели все армии идеалистических просвирен, хаотических просветителей и мистических гримасников. Я не думаю, что издатель согласится, чтобы редактором был не я, но я-то, конечно, согласился бы, если Вы и другие находят, что блок с идеалистами на предлагаемых ими несколько унизительных для нас условиях – неизбежен. Я всего этого не вижу и не понимаю. Журнал может быть небольшой. Помещать можно и хорошее переводное, согласное с нашими (подлинно – нашими) идеями. Писать будут Вы, еще раз Вы, Эллис, я; далее большой музыкальный отдел, где будут помещаться и Колины[2055] афоризмы, и статьи Конюса, Катуара; далее художники Бенуа, Крахт, Владимиров, Макс Волошин; далее иностранцы; далее философы Шпетт, Степпун, Адемар Гелб (ученик Штирнера); далее Брюсов, Соловьев, Киселев, Нилендер и другие москвичи из Весов; далее Вячеслав Иванов, Мережковский, Гиппиус… чего же больше. Пусть нас называют как хотят. Лучше попытаться пробиться, сохраняя свою индивидуальность. Не пойдет – не надо. Но, впрочем, я уступаю (ибо не осведомлен ни в чем: вчера только узнал, что открыли северный полюс и что канцлер Бюлов пал[2056]). Пусть Анюта[2057] посмотрит помещение Руна; я ничего не имею против. Комитетом я признаю только Вас, Эллиса и Петровского. Я буду советоваться и с Рачинским, и с Кожебаткиным, и с Брюсовым, и со Шпеттом, но для комитета достаточно троих. За название Мусагет я не стою, хотя и не понимаю, чем Плеяды лучше; но почему же не Культура? Против «Плеяд» – ничего не имею, если Вам и Эллису они более по вкусу, чем мои названия. Кто выдумал Плеяды??? NB?? – Против «орла со змеей» решительно протестую как редактор; но как ближайший сотрудник – молчу… в знак… уступки… Клянусь небом! Сегодня ночью видел белую змею, у которой брюхо было раздуто: это змея съела орла! Просыпаюсь, передо мною почталион с Вашим письмом; вскрываю и вижу марку! Сон в руку!! Обнимаю Вас. Ваш Э. М.
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 5. Копия: РГБ. Ф. 167. Карт. 5. Ед. хр. 14.Ответ на п. 172.
174. Метнер – Белому
⊕ Weimar 5/X 909.
Надеюсь, дорогой мой Борис Николаевич, что Вы отвечаете мне на письмо мое от 27-го сент<ября> нов. ст.? Ибо это письмо я считаю окончательным решительным бесповоротным и исчерпывающим вопрос. Говорю исчерпывающим потому, что в сущности это одно и то же, издавать ли маленький журнал или несколько альманахов: одно и то же – в смысле денежном (если иметь в виду, как это делает издатель, только расходы; доходы же считать подарком судьбы, на котором строить какие-либо расчеты «негоже»). Эллис написал мне письмо, где доказывает, что журнал, хотя бы малюсенький, необходим. Я не знаю; не берусь судить, т<ак> к<ак> далеко стою от литераторской биржи. Эллис полагает, что Вы, Андрей Белый, первый, который через два месяца возопиет о невозможности немедленно отзываться на вопросы дня. Эллис сравнивает журнал с кавалерией, сборники с пехотой и книги с артиллерией и говорит, что необходимы все три рода оружия[2058]. Я лично имею только одно возразить против отказа от журнала; именно: если Аполлон или Шиповник укрепятся за 1910 г., то нам уже не придется издавать журнала вплоть до нового кризиса[2059]. Если Вы этого не боитесь, то я вполне согласен на выпуски сборников. Ведь Вы же наверное помните, что я постоянно (не имея в виду одновременного падения обоих журналов нового направления) твердил, что надо начинать не с журнала, а с книг и альманахов. Итак, вопрос исчерпан… На Ваше рассуждение о работе «во имя свое» и для «света» отвечу, что оба мы (и издатель, и я) имеем в виду «свет», но я должен был в своих письмах подчеркнуть цель нашего материального благосостояния (необходимого для плодотворной «службы в деле Света»), должен был подчеркнуть оттого, что ясно видел, как Вы поддаетесь напору литературной артели, ищущей работы, а не «света». Я посетил здесь моих знакомых. Старушка Ницше смеялась, когда я приглашал ее, и сказала мне, что сделала все, что нужно было, и больше вообще писать не будет. Петер Гаст опять (к сожалению) бросился на музыку и переинструментовывает свою плохую оперу[2060], которую (увы!) хвалил Ницше и ставил в противовес Вагнеру. Печально. Гаста ждет жестокое разочарование. Ницше погубил его своими похвалами. Гаст отказывался писать, говоря, что теперь он опять музыкант; впрочем, сказал, что подумает. Hegeler, у которого я вчера ужинал, обещал почти наверное статью о Гоголе… В Веймаре есть пастор Шмидт (той церкви, где проповедовал Гердер), который с церковной кафедры назвал Ницше – предтечей второго Христа. Каково!!! Положим, дух этой церкви всегда был антиортодоксален; Гердер тоже говорил в ней об Uebermensch’e[2061]. Я приеду к первому русского октября непременно; раньше было бы очень трудно: я немного расхворался; мне надо дня два-три отдохнуть, а затем придется пробыть в Берлине дня два. Если мое присутствие необходимо сию секунду, то телеграфируйте. Нельзя ли Эллиса куда-нибудь отправить в деревню к Сереже или к сестре Рачинского??[2062] На один месяц. Не говорите Анюте[2063], что я нездоров. Неврастенический припадок в связи с легкой простудой. Я ничего не могу делать, но на ногах и даже выхожу, т<ак> к<ак> тепло. Обнимаю Вас. Ваш Э. М.
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 5. Копия: РГБ. Ф. 167. Карт. 5. Ед. хр. 15.
175. Белый – Метнеру
сию минуту получил Ваше письмо; спешу ответить; за эти дни накопилось чрезвычайно много событий, в корне остановивших наши планы до снесения с Вами.
1) Мнения раскололись, часть стоит за журнал, у меня же идея иного рода; и вот какая:
2) На 12 тысяч можно вполне издавать журнал сериозный (маленький), но без беллетристики; если так, то – почему издавать журнал. Слушайте мою идею: однажды совершенно случайно «Шиповник» издал книгу о театре, сгруппировав вокруг одной темы ряд статей[2064]; группировали жиды – случайно, небрежно, но только потому, что получилась книга о театре (плохая, хорошая ли – это другой вопрос), она отмечена в «летописях» литературы: спрос на нее был большой, потому что она хотела подвести итог и направить внимание. Теперь: если у нас есть десять тысяч на книгоиздательство, то мы можем истратить на книги тысяч 6–7; прочие же 3 или 4 тысячи + 3 или 4 тысячи из денег на журнал (7, 8 тысяч) употребить на ряд сериозных выпусков по культуре и истории культуры, расположив в порядке эти выпуски; например: I выпуск «Культура и искусство». II выпуск – Культура Греции. III – Греция и современность (Ницше, Роде и т. д.). IV – Культура и миф (Вагнер, Парсифаль, R + K[2065]). Я имею тысячу веских соображений против журнала (до 1911 года) и за выпуски; изложить всё можно лишь при личном свидании: ждем, ждем, ждем ⊕[2066]
Будь журнал или выпуски, то и другое требует многочисленной подготовки; без Вас нельзя; все стало оттого, что вопрос о журнале, или выпусков, ждет Вас. Интимные и официальные доводы за выпуски я не могу изложить в письме; а есть веские доводы, что, приступи мы к серии выпусков, мы возьмем дирижерскую палочку культуртрегерства в России в свои руки; ученые, нам нужные, все будут писать в выпусках, а в журнале – нет. Далее: этими выпусками мы ставим точку на предшествующей эпохе модернизма; с 1911 года мы начинаем уже абсолютно новую линию.
Лучшие силы Университета благосклонно и доверчиво уже относятся к идее выпусков (я уже щупал почву): так возможен блок лучших символистов с лучшими профессорами; мы можем, пользуясь ученым материалом, в своих статьях рядом давать наш курс.
В Москву перевели профессора Новосадского[2067]; это второй подлинный специалист и наш по затаенным взглядам профессор филологии (знаток орфизма и мистерий); он не только обещал свое фактическое участие и совместную работу, но и обещал привлечь Тураева (известного и за границей египтолога), далее обещал, если понадобится, снестись с немецкими учеными; первое, что он сказал, узнав, что есть план выпусков: «Культура и мировоззрение»: – «Надо бы, чтобы была статья, посвященная Эдвину Роде». Но ведь это же наш план; далее, молодые моск<овские> философы все бы писали у нас; наконец: сор, т. е. рецензии, обзор журналов при этом – отпадает; все 175 стр. (до 200) отдельного выпуска посвящены сериозным статьям; лично я готов для каждого выпуска писать, где могу, сериозную статью, т. е. мы можем расправить крылья; несомненно, что к 1911 году у нас будет уже определенный круг читателей; тогда перейти на журнал можно; сейчас же на 12 тысяч по смете можно вести без риска журнал в 108 страниц, где 8 стр. – стихи, 40 стр. – проза, 30 стр. – музыка, 20 – рецензии, обзоры, живопись; итого – 98 страниц. Остается 10 страниц на сериозные статьи; причем для того, чтобы журнал вышел интересным, бремя рецензий и мелких заметок, хлопоты по технике берем мы. А ответственность перед читателями?
С идеей выпусков обстоит иначе: выпускаем лишь столько, сколько хватит 1) материала, 2) средств и в разные сроки: от 5 до 8 выпусков. Сумма страниц 175 × 8 = 1340 страниц в год сериозного материала: есть где расправить крылья за сериозным, не публицистическим трудом.
Теперь; с выпусками не нужно сложного хозяйства журнала, книг, обмена и пр. Мы выгадываем на всем этом несомненно тысячи 2000 <так!> минимум; если выпуск по 1000 рублей, то 8 вып<усков> – 8000 тысяч + 7000 тысяч на книги; у нас остается тысячи 3000 рублей (от двадцати тысяч) + к концу года вернувшиеся деньги за проданные книги (скажем, 7000 тысяч); итого у нас к концу года 10 000 тысяч; эти деньги мы часть кладем в фонд книгоиздательства (5000), часть прикладываем к журналу: 10 000 + 5000 = 15 000; имеем возможность в 1911 году начать журнал уже с наверное 1000 подписчиками, с штатом сотрудников по выпускам и с 15 000 тысячами средств. Поняли мою идею?
За это время у нас есть возможность подвести итог прошлому и уже начать открыто вовсе новую линию.
Милый, милый Эмилий Карлович: у меня есть план провести нашу тонкую интимность в сериозной по виду и ответственной серии выпусков: труд предстоит громадный: продумать эту серию; для этого нужно не только извне продумать, но и стать твердою ногой на «общий остров» общения: имею Вам передать ряд фактов громадной важности, не учтя которых нельзя приступать к делу: дело важно и нужно: выпуски требуют еще большей разработки, чем журнал.
Далее: трио Вы, Эллис, я ныне предстает мне[2068] в такой странной вуали, что я не могу, не поговорив с Вами сериозно, мечтать о начале дела без Вас.
Неспроста я, провожая Вас[2069], чего-то боялся: многое за это время нарушилось; кое-что прибавилось утешительного; еще более обстала сериозность и грозность событий: инцидент с Эллисом имеет грозную внутреннюю подоплеку[2070]; «„ils“ nous observent déja»[2071]. Многое в конструкции дела должно лечь на основании обсужденного с глазу на глаз и при закрытых дверях; без этого я отказываюсь начать действовать; о, если бы Вы прочли под этими словами предостерегающее обращенье: работать, – так всерьез и «не во имя свое», а если так, то что церемониться: Вы нужны делу здесь. Если дело – подспорье «нам», то «мы» принимаем эту помощь при условии, что «наше» – «не только наше»; если Вы скажете, что главное, чтобы «мы» имели возможность здесь и зарабатывать, я отвечу: «мне» лично нужен заработок для того, чтобы мое другое «я» могло сослужить службу в деле «Света».
Если Вы смотрите так, Вы скоро приедете.
Всё здесь «сериознее», чем кажется издали. Помните? Уже Вы, Ник<олай> Карл<ович>[2072] и я – есть: пока между мной и Н. К. не появитесь Вы, до тех пор это «есть» еще потенциально: а уже времена близятся.
«Главное» (∆), конечно, не идея нашего литературного предприятия, но от установления отношений между лицами, имеющими касание к ⊕, зависит приток энергии и в деле нашем. На наше дело хочу смотреть, как на «святое дело»; не хотелось бы начинать, не «благословясь». А пока Ваше отсутствие плодит ряд химер вследствие Вам из заграницы «не видных» причин.
Об Эллисе у меня с Вами, у Вас с Ник<олаем> Карл<овичем>, у меня с Ник<олаем> Карловичем и у меня с «х» лицом[2073] должны быть сепаратные сериозные разговоры: оставить его сейчас, и он погибнет.
Между прочим вам надо приглядеться к одному лицу, горячо взявшемуся за идею нашего предприятия; он тоже <?> – ⊕[2074]. Не Петровский, конечно. Из Германии ныне едут «они»……рыцари с опущенным забралом.
Поймите: в это время Москва центр (октябрь – ноябрь). Ваше отсутствие невозможно.
В случае постановки «дела» Вам уже в декабре можно ехать, куда хотите; важно быть не после, а теперь.
P. S. Пишите откровенно: если Вам обременительно все это чересчур, мы ликвидируем идею выпусков, но тогда… и журнала; я журнал без Вас на свою ответственность не беру: и имею веские основания…
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 8. Помета синим карандашом: «LХI».Ответ на п. 173.
176. Белый – Метнеру
Очень прошу Вас приехать в среду в Москву[2076].
Есть безусловно важное сообщение о технике ведения всего нашего дела[2077].
Ваш приезд и разговор с Брюсовым необходим. Иначе мы рискуем запутаться совершенно и остаться без денег до окончания года. Мой разговор с Брюсовым о технике ведения дела меня потряс. Если не приедете в среду, то позвольте мне приехать во вторник. Жду разговора по телефону с Вами.
Любящий Вас
Борис Бугаев.РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 9. Помета синим карандашом: «LХII».
177. Метнер – Белому
Дорогой Борис Николаевич. Т<ак> к<ак> разговор по телефону затруднителен, а Вы все равно собирались к нам, то приезжайте во вторник к нам. Я предпочитаю в среду остаться здесь и приехать только в субботу. Это письмо передаст Вам Николай Иванович Сизов. Решительно недоумеваю относительно Вашего сообщения о разговоре с Брюсовым. Все это недоразумение или интрига. Конечно, первый год мы издадим меньше, нежели предполагали, но это ни до кого не касается. Если техническая постановка, организованная главным образом Кожебаткиным[2078], окажется слишком невыгодной, мы к 1911 году ее изменим: вот и всё. И откуда Брюсов знает о постановке и о средствах нашего издательства? Я ему об этом ничего не сообщал. Главное зло Москвы это излишние хаотические разговоры. Телефонируйте или попросите протелефонировать мою маму, к какому поезду Вам высылать лошадей, 12.30 или 4.50? Обнимаю Вас и жажду рассеять Ваши сомнения.
Ваш Э. Метнер.
P. S. Привезите, если можете, мои статьи с Вашими примечаниями[2079].
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 8.Ответ на п. 176.
Том 2
1910–1915
1910
178. Белый – Метнеру
20 января.
Шлю Вам привет издалека[2080]: чувствую Вас так близко к себе; чувствую Вас, как Вас (для Вас), чувствую как Вас и себя, чувствую нас (Вы, Николай Карлович, я) – чувствую как всех нас (Вы, Анна Руд<ольфовна>, Алекс<ей> Сергеевич, Киселев, Ник<олай> Карлович[2081], я, и… наш издатель) с нашим издателем: да, да, да; она должна быть среди нас. Я сейчас ее видел: она хочет, она готова, она будет с нами, она должна быть.
Любящий Вас Б. Б.
P. S. Я сейчас пожал руку ⊕ Г…[2082] О, какая это душа: она мне сестра! Знаете ли Вы, что она сейчас думает о нас: ей одиноко, хотелось бы ей улыбаться. Улыбнитесь…
Не собирается ли Г… (отчества не знаю) приехать?
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 10. Помета синим карандашом: «LXIII».
179. Белый – Метнеру
надеюсь, что мы сегодня увидимся у меня; надеюсь, что Н. К. будет, так же как А. М.[2083]
Искренне любящий Вас
Борис Бугаев.РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 11. Помета синим карандашом: «LХIV».
180. Белый – Метнеру
как хочется Вас видеть, как хочется с Вами говорить, говорить без конца; тут, в Бобровке[2084], тишина – снег сбежал, убегают последние ручьи, и небо разверзлось; по вечерам в зале на белых колоннах красный оскал зари; – и тревога: ответственность давит, приближается что-то единственное и строгое: это я знаю; если б пожить с Вами здесь, можно было бы многое решить; мы все призваны, – но мы слабы, слишком мы слабы; будет день – и мы встанем рядом;
как хочется Вас видеть, и говорить без конца; тут, в Бобровке, идут дни за днями – тихо, молчаливо, торжественно; и вся московская суетня с путаниками и quasi-путаниками (я заметил, что в последнее время развилась мода симулировать путаников) – далека и чужда; о, эти московские чудаки! Кто их создал? Для чего они завелись? Деятельность их к ужасу удваивается; энергия их путать – все возрастает; скоро круг этой деятельности покроет всю Москву; но если еще можно терпеть кровного чудака, породистого, то кто может выдержать всех тех бесчисленных особей из полукровок, которых развел (еще недавно редкий) кровный московский чудак: он оказался плодовитым до чрезвычайности; от одного прикосновения к нему здорового, трезвого человека этот последний начинал чудить; так потянулась за каждым путаником вереница полупутаников, за кровным – полукровки. Скоро Москва превратится в сумасшедший дом. Увы – пустая надежда: Москва давно уже – сумасшедший дом.
Как хочется Вас видеть, и говорить без конца; тут, в Бобровке, идут дни за днями – тут место для тихих бесед, и… приезжайте!? Наш последний прерывистый разговор глубоко запал; три дня я не мог успокоиться и только теперь пришел в себя под действием солнечных лучей и полей; кажется, прихожу к решению о себе и Вячеславе[2085]; тут, в Бобровке, сидим мы с А. С. и думаем о том, что сегодня концерт Н. К.[2086]: недаром была сегодня такая ласковая заря. От всей души ему привет.
Но о делах: Полуботкин мне говорил, что, кажется, Вы с ним говорили о том, чтобы я написал проект для «проспекта» книгоиздательства – так ли я понял Полуботкина, и вот по настоянию Полуботкина (pardon!) – Кожебатки – виноват: Кожебаткина (спутал с покойным Полуботко) – я написал и отсылаю в «Мусагет»[2087]: ради Бога, Эмилий Карлович, исправьте, раскритикуйте, забракуйте, дополните, убавьте, напишите сами – словом, поступите с «проектом конспекта» по своему усмотрению; пусть Полуботко – виноват: «Кожебаткин» Вам принесет мой «проект конспекта», то есть проект и конспект – «проспекта» для нашего издательства; я набросал лишь вчерне.
А небо сгорело, звезды под самыми окнами, вдали колотушка и тишина: приезжайте, Эмилий Карлович.
Глубоко любящий Вас
Борис Бугаев.
P. S. Мой привет всем: Анне Михайловне, Николаю Карловичу и Анне Рудольфовне особенно[2088].
Алексей Сергеич кланяется; и – тоже.
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 12. Помета синим карандашом: «№ 65».Датируется по упоминанию концерта Н. К. Метнера (см. ниже, примеч. 3).
181. Белый – Метнеру
ужасно жаль, что Вас не застал; я нарочно пришел пораньше, чтобы Вас видеть; дело вот в чем: 1) Когда мы соберемся для проспекта?[2089] 2) Завтра в два часа дня в Мусагете соберется кружок студентов, желающих заниматься а) теоретической эстетикой, b) историей искусств, c) ритмом[2090]; я дам им задачи на лето; было бы желательно и необходимо, чтобы Вы их посмотрели, как один из офицеров отряда, осматривающий культурных новобранцев; было бы еще желательней, если бы Вы приготовили им по теории эстетики (нормативной) несколько книжечек, они бы за лето их прочли; они – юные ученики в классе теории символизма; приходите; вообще нам сегодня необходимо видеться, дорогой Эмилий Карлович; только вот когда? Если не поспею быть у Вас к Вашему обеду, то постараюсь быть у Вас от 8½ – 9 часов. Несколько дней не видались – это плачевно.
Прощайте, милый.
Б. Бугаев.РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 13. Помета синим карандашом: «№ 66».
182. Белый – Метнеру
Где-то Вы теперь?[2091] Когда пишу «где» Вы, хочу представить себе местность. Все эти дни собирался писать Вам; я уже две недели в деревне[2092]; здесь – великолепие; пока что кончаю статью об «Ибсене»[2093], работаю над поэтами[2094]; собираюсь писать драму (хочется летом ее написать): драма должна называться «Красный Шут»[2095]. Пока что работается вяло; еще сказываются зимние впечатления; зима во втором полугодии была ужасна; в итоге – разбитость сердца. Кругом, пока что, невесело: Философов нас изругал в фельетоне «Рэй<с>бруки удивительные»[2096]. Вообще нас будут травить – это ясно; о вышедших книгах нет пока ни одной рецензии; это значит – бойкот.
Ни от кого из Москвы известий нет. Милый Эмилий Карлович, хорошо бы, если бы Вы подгоняли Кожебаткина; я с своей стороны ему написал, что медлить с проспектом нечего, что книги надо выпускать скорей (разумея Рэйсбрука и Эллиса); корректур проспекта не получал[2097]. Если летом увидите Степпуна, скажите ему, что о Логосе[2098] я не написал потому, что опять-таки негде писать; идти на поклон в жидовские органы при их ненависти ко мне не хочу; а с «Русс<кими> Вед<омостями>» у меня связи нет.
Милый Эмилий Карлович, напишите два слова о себе: скажите, милый, что мне делать, если Кожебаткин летом уснет непробудным сном; у него манера не отвечать на письма. Я еще недельки две подожду, и если будет молчание, придется мне ехать в Москву, его будить.
Простите, Эмилий Карлович, скудость письма; только в деревне понял я, как устал и сердцем разбился… Вы понимаете, в чем?
Жду прилива рабочего вдохновения; пока что сонно работаю, но работаю много. Любящий Вас
Борис Бугаев.
P. S. Мой привет и уважение Николаю Карловичу и Анне Михайловне[2099].
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 14. Пометы – рукой Метнера (?): «июнь? 1910»; Н. П. Киселева: «до 19 июня».
183. Метнер – Белому
Дорогой милый Борис Николаевич! Посылаю Вам открытки, чтобы Вы могли представить себе местность. Я могу Вам сказать то же, чтó и Вы мне: «здесь великолепие… пока что работается вяло; еще сказываются зимние впечатления; зима во втором полугодии была ужасна, в итоге разбитость». Кожебаткина я подгоняю, а Вы, пожалуйста, из-за этого в Москву не ездите. Что нас бойкотируют, это – ясно, но это вовсе не невесело. А что Философов нас выругал, это – подло, т<ак> к<ак> пахнет местью за наше нежелание соединить<ся> и издавать журнал[2100].
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 8. Открытка; на снимке – дом на берегу моря; над одним из мансардных окон на третьем этаже Метнер надписал: «Моя комната». Обратный адрес: Pornichet (L. – Inf.) – Pension de Familie. «La Folie» (Vie de la Butte).Ответ на п. 182.
184. Метнер – Белому
22/VI 910.
Сейчас сильная буря и в комнатах очень уютно. Я начал купаться в море, но прекратил из-за дурной холодной погоды. Я по обычаю читаю, но крайне медленно и не жду, в противоположность Вам, никакого «прилива вдохновения». Коля сочинил песню на Ваше стихотворение из Урны, написанное в Изумрудном Поселке[2101]. За-ме-ча-тель-но! – Простите и Вы, дорогой мой, скудость моего письма. Передайте мой привет Вашей маме. Побольше гуляйте и отдыхайте, наблюдая за чудаками. Здесь нет чудаков. Франция гораздо суше и рассудочнее Германии и России. Горячо любящий Вас Э. Метнер.
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 6. Открытка; на обороте – фотография: Pornichet. – Effets de Vague.
185. Белый – Метнеру
Спасибо за открытки[2102]. Как хочется Вас видеть, с Вами говорить. Я живу тут совершенно изолированно; здесь прекрасно, но…: ах, как бы это выразить. Здесь есть парк, а в парке вечно торчат дачники, которые собираются кучами, и иногда попадаешь в компанию: Боже, что это за люди: наглые, любопытные, безграмотные в вопросах искусства; все они довольно цинично и нагло смотрят на меня; иногда… третируют – да; предлагают насмешливые вопросы, и вообще, обходятся пренебрежительно. Боже мой, ведь это – публика; мы живем в Москве среди исключительного кружка; но стоит лишь поглядеть вокруг – какая дрянная мелочь нас окружает: мне страшно; для того ли проводишь бессонные ночи, мучаешься, тратишь силы, чтобы первая попавшаяся свинья Вас оскорбляла только за то, что Вы писатель, которого свинья и строчки не прочла, но о котором она наслушалась всякой ерунды; на днях один из этих свиней заявил маме: «Вы его лечите: он – сумасшедший». Вчера один молодой человек меня ехидно спрашивал, где я учился русскому языку.
Все эти мелкие комариные укусы действуют крайне отвратительно в общем, ибо изо дня в день Вы видите насмешливые гримасы, «тонкие намеки на толстые обстоятельства». Ну и собрал же Вл<адимир> Ив<анович> Танеев дачников. Мне скоро 30 лет; когда мне было 12 лет, меня всячески гнали товарищи в гимназии, считая зубрилой и идиотом; и вот после 22 лет прошлого я опять здесь попал в положение гонимого гимназиста. Какая гадость! Все это не способствует отдыху; я здесь зол с утра до ночи.
Милый, милый – мне грустно, до чего чувствуешь одиночество. Писатели – ненавидят; окружающие презирают; а немногие близкие, смотрю, один за другим отходят. Для Эллиса я – беспринципен: этого я ему не забуду – [2103]; Сережа тоже отошел[2104]; неужели будет время, что и Вы придете к тому же убеждению, что я – идиот, или – беспринципен.
Сейчас я чувствую одиночество до чрезвычайности; и это вовсе не от факта, что сейчас кругом никого нет. Но разве не рок: что ни неделя – последнее время, и всё новые, новые люди отваливаются от меня, или мне становятся чуждыми; за краткое время я, можно сказать, потерял скольких! Иванов; Анна Рудольфовна[2105], Эллис, Соловьев, Маргарита Кирилловна[2106], Мережковские; и я с ужасом думаю, кто же следующий? Рачинский, Петровский… Вы? Милый Эмилий Карлович, не покидайте духом.
Для кого я пишу? Никому, как писатель, я не нужен. Не знаю, нужен ли я кому-нибудь, как человек; а между тем я все сделал для того, чтобы отказаться от личного счастья, так хотелось быть полезным другим. Ну… кому я нужен?
Мое положение «шута горохового»… не могу жить шутом: прихожу в бешенство, когда меня считают шутом – одни, беспринципным – другие: никогда это слово «беспринципный» не изгладится из моего сознания; я его выбил на твердом камне: «беспринципный» сказал Эллис; «шут» говорят все; соединяю: «беспринципный шут». И мне начинает видеться «монастырь»; убежать, убежать от всех, куда не проникал глаз человеческий. Ибо что значат случайные выражения сочувствия, дружба и прочее, когда без всякого мотива, без объяснения лично, а подло, из-за угла вчерашний друг начинает Вас обвинять в беспринципности; на днях я был в Москве, читал эллисовские разглагольствования[2107]; я краснел от того неумеренного неврастенического восторга, с которым он обо мне пишет; но какое мне дело до этих разглагольствований; следовало бы так прямо и дописать после всех этих похвал: А. Белый – беспринципен. Я бросаю ему в лицо книжкой; черт бы побрал эти похвалы: ну вот, верьте после всего этого, что говорят друзья, друзья до первого несогласия; первое несогласие все знаки плюс меняет на знаки минус. И я начинаю колебаться; стоит ли вообще жить для работы (а для чего же иного я и живу), когда поощрения к работе у лучших друзей до… «первого гусака» (О том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем)[2108].
И я себя спрашиваю: да, может быть, я – «шут»; но тогда… мне не место в жизни.
Ах, хотелось бы перелететь к Вам, послушать музыку Николая Карловича[2109]; жду с нетерпением осени, чтобы выслушать музыку на мои слова.
Милый Эмилий Карлович: вышел Рэйсбрук[2110] – и прелестно; обложка – совершенство; содержание – поразительно.
На днях еду к Тургеневым[2111], от них напишу Вам, и адрес сообщу. Прощайте, милый, милый Эмилий Карлович. Любящий Вас
Борис Бугаев.
P. S. Мама кланяется Вам, Анне Михайловне[2112] и Ник<олаю> Карловичу; я приветствую всех.
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 15.Датируется на основании пометы Метнера над текстом: «24/6 1910» (видимо, дата отправления на штемпеле с несохранившегося конверта).
186. Метнер – Белому
Pillnitz – Elbe (Dresdnerstr. 56). 6/VIII 910.
Дорогой милый Борис Николаевич! Не сочтите моего молчания за жестокую неотзывчивость. Я все время ждал от Вас (после Вашего отчаянного письма от 24/VI из Клина[2113]) уведомления, где Вы находитесь, и адреса Тургеневых, кот<орый> Вы обещали в этом письме немедленно мне выслать. Из Парижа я все равно не мог бы писать Вам[2114]: некогда было, и утомлялись мы каждодневно до крайности. Только что приехали сюда и основались прочно. Решил написать Вам в Мусагет; авось перешлют. На Ваше отчаянное письмо у меня нет иного ответа, как совет просьба требование, чтобы Вы овладели Вашим характером и сделали его достойным Вашего гения. О, конечно, Вы не «беспринципны»; таким Вы можете казаться только фанатикам вроде Эллиса, кот<орый> ведь и Ницше считает «беспринципным»; почему Вам, собственно говоря, вовсе на Эллиса и негодовать незачем. Говоря о характере, я имею в виду те черты Ваши (сами по себе вовсе не отрицательные, раз они налицо у человека обыкновенного), кот<орые> нарушили дистанцию между Вами и толпою. Не сердитесь на меня, а вспомните лучше последнее пятилетие и сообразите. В Ваше дарование я верю больше, чем в чье-либо в России (если не считать, конечно, Коли), и верю больше, нежели кто-л<ибо> в России. И люблю и понимаю Вас больше и, м<ожет> б<ыть>, глубже, чем все окружающие Вас. Уйдите в себя, замкнитесь, выработайте маску и трафарет в обращении со всеми (за исключением двух-трех друзей). Будьте более гордым, недоступным, менее любезным; подчините себя строгому внешнему режиму; постарайтесь полюбить женщин, если Вам не далась женщина[2115]. Судя по письмам Эллиса и Маргариты Васильевны[2116], в Москве настроение летом было не из важных. Все нервничают, томятся, швыряются в астрал и проч. Я крепко держусь, креплюсь; но пришлось много передумать личного слишком личного, много преодолевать; в Порнишэ были странные сны; ощущения наяву совсем исключительные, каких раньше никогда не было. Старался чтением отогнать наступавшие отовсюду странные и жутко отчетливые образы. Когда после ужина прогуливался один по плажу, то ко мне приставал некто из того мира, которого я назвал (Вы это оцените!) Хýмсти-Бýмбсти. Гладкий, извилистый, комичный, и нагло ритмичный: ху́мстй-бўмб / сти́хўмстй / бу́мбстйхўм / сти́бўмбстй / ху́мстйбўмб / и опять сначала. – Париж страшно утомил нас; мы пробыли всего 10 дней; перед тем мы купались в море, чтó при всей целительности тоже утомляет; в результате мы приехали сюда исхудавшие. Мы в полном восторге от Парижа; я не мечтал о таком великолепии, о таком всепроникающем вкусе, о таком органичном сосуществовании старого и нового; в Нюренберге только старое, а новое – ничтожно; в Париже собор Нотр Дам и дамская модная шляпка слиты воедино… Кстати, мода в Париже не имеет противного мне привкуса; во-первых, она не исключает индивидуализма в жизни, а как бы дает только удобную подкладку ему, а во-вторых, мода там естественна; она не довлеет. На вторую ночь в Париже мне снилось, будто сделано окончательное открытие в области платонизма; оказалось, что идеи есть ничто иное как шляпы парижанок. Пока до свиданья! Вскоре напишу еще. Приструньте Кожебаткина. Ведите себя более хозяином. Приласкайте Эллиса. Кланяйтесь Наташе, Асе и Тане[2117], а также всем мусагетам. Ваш Э. М.
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 6. Копия: РГБ. Ф. 167. Карт. 5. Ед. хр. 16.Ответ на п. 185.
187. Белый – Метнеру
Не сочтите и Вы мое молчание за забвение; я молчал не потому, что забыл Вас, а потому что весь июнь залечивался от безумно проведенной зимы; единственная возможность работать над собиранием материала для книги была у меня[2118]; все же слова гасли; а слова, обращенные в письме, должны были бы отражать лишь одну внешнюю усталость; и ничего больше; я не хотел набрасывать на Вас тень своего утомления; потом же я уехал в Луцк и пробыл около шести недель там[2119], забыв все, не зная даже, где Вы; Кожебаткин писал о том, что от Вас получено письмо, но ввиду того, что я три недели почти каждый день собирался ехать в Москву, он письма не пересылал. Так мы и молчали друг с другом.
Милый, старинный друг, я отдохнул: я счастлив; дни, проведенные с Асей[2120], были для меня блеском, восторгом, песней; я утомился внешне; душа же крылата; хочется петь; хочется с улыбкой обнять мир; все время из Луцка я улыбался Вам, милый; через Асю я опять омытыми от слез глазами смотрю на мир; и мир – ясен; в Асе я нашел смысл и счастье жизни; бережно, тихо должен я созидать путь к ней. Мы близки друг другу: если у меня будет жена, то это будет – Ася, или никто; от полноты моей радости я улыбаюсь Вам, мой дорогой, неизменный друг – друг до смерти; помните эти слова; я пишу их сериозно. Все мое безумие прошлого года с Л. Д.[2121] и ее реминисценцией провалилось, как соблазн. Я теперь другой, у меня впереди – смысл жизни; Ася едет в Москву; будет здесь 5 месяцев; в эти пять месяцев мы решим, будет ли она моя на всю жизнь.
Как старинный друг, как милое, душе посланное, знаменье, и как старший брат Вы пишете: «Уйдите в себя, замкнитесь, выработайте маску…» и т. д. О, если б Вы знали, как Ваши слова откликнулись в душе моей: да, да, да. Я ухожу, замыкаюсь: я буду – властный. Если я еще на что-нибудь годен, я внимаю голосу судьбы, который так же обрекает меня на уединение и замкнутость, так же венчает меня быть властным, как призывают к тому же и Ваши слова: Вы, друг старинный: Ваши слова встретили меня тем же, чем встретила меня Москва. Приезжайте; узнаете.
Милый друг: все хорошо, слышите ли Вы меня; пусть будут безобразия, несогласия, нелепицы; как сон теневой, они скользнут по нашим лицам; через все тени, все ужасы жизни протягиваю Вам я руку, улыбаюсь Вам, милый: «Все хорошо: ничто не станет между нами, ибо с нами Бог».
Я живу в Москве вот уж пятый день[2122]; в Москве безобразно; я застал Эллиса в бреду и чаду; мы его теперь отходили; многое здесь тягостно; но лейт-мотив, проходящий сквозь все – «Lustige Geistlichkeit» (есть ли такое слово, на знаю)[2123]; и уютно; и в Москве слышатся уже, хотя лето, метельные песни Николая Карловича[2124]; и Николай Карлович – слышу его близко, близко, милого, близкого. От него возвращаюсь к Вам: «Старинный друг, к Тебе я возвращаюсь, весь побелев от вековых скитаний»…[2125] И от Вас, вместе с Вами поворачиваюсь к Асе; и там меня ждет тихая ласка и свет; дорогой: примите в душу свою Асю, такую одинокую, гордую, тихую, прекрасную, как приняли Вы когда-то, за что-то меня, ибо Ася – почти моя невеста; принимая ее, Вы принимаете меня; милый – будемте, немногие, вместе; этот год нам предстоит быть одной семьей, тихо уйти, властно сосредоточиться, быть одним с любовью и ожиданием; северная вьюга будет злиться, налетая на тихий оплот; зажжем же очаг и у пламени за кружкой доброго пива будем коротать мрак северной ночи, долгой ночи; скажем друг другу: «Да», доверчиво протянем руки; и, осыпанные звуками сонаты, мы будем неуязвимы, властны, стойки; и каменная маска нашей непроницаемости да отразит мрак.
Да будет!
Слышите ли Вы мою бодрость, верите ли Вы моей твердости; тучи еще остались, но душа сожгла все сомненья; звездная песня вошла в мою грудь вместе с к груди прижавшейся звездной ночью; звездная ночь покоится у меня на груди; и я – звездный, звездному своему брату говорю о звездах: они – с нами; пусть будем мы созвездием восходящим, и да здравствует «Мусагет»! Теперь годовщина его рождения[2126]; круг времени замкнут; замкнуто в нем все теневое, недоуменное этого года; а свободное, радостное поет песню все той же сказки…
Теперь фактическое: «Гераклит» выходит[2127]; «Камена» печатается[2128]. Кожебаткин умоляет Вас вернуть хотя бы 2 корректурных первых листа «Музыки и модернизма»[2129], чтобы освободить шрифт; Гюнтер предлагает издать монографию о Георге (критическую с ритмическим исследованием по моему методу)[2130]; Кожебаткин перешлет Вам его письмо; Киселев живет под «Мусагетом»[2131]. Эллис прекрасен; между нами мир и тишина; Сизов – растет. Неллендер <так!> – тоже; Петровский – слушает Штейнера[2132]. А. Р. – в Москве[2133]. Наташа[2134] и Ася освобождены от д’Альгейма[2135]; они просятся в Мусагет. Сережа[2136] – толстеет. Наташа растет не по дням, а по часам. «Серебряный Голубь» пользуется вниманием публики и прессы. Восторженный фельетон был в «Утре России»[2137], сочувственный в «Голосе Москвы»[2138], брюзгливо-благосклонный – в «Русских Ведомостях»[2139]. «Арабески» печатаются мало-помалу[2140]. На днях пишу статью о Ник<олае> Карловиче[2141]; материалы – есть; в «Мусагете» принят костюм для ношения (смесь римского костюма с восточно-арабским: мое изобретение с Тургеневыми) для интимных дружеских собраний; этот костюм ношу уже и обносил: придуман – в Луцке. Носят: я, Наташа, Ася и мама; дали обещание носить: Сизов, Эллис, Нилендер, Шпетт, Ахрамович. Шпетт в Москве. Вячеслав – в Риме (просто в Риме)[2142]; сносится по печатанию книги с Мусагетом М. М. Замятина[2143].
Вот…
Ну? Милый, милый, старинный друг, крепко жму Вашу руку. Да здравствует бодрость.
P. S. Привет Н. К. и А. М.[2144] 1 сентября я в Москве[2145].
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 16. Текст – на почтовой бумаге издательства «Мусагет». Датировка рукой Метнера: «15/VIII 10» (видимо, дата почтового штемпеля отправления на несохранившемся конверте).Ответ на п. 186.
188. Метнер – Белому
Pillnitz 17/IX 910.
Дорогой, милый Борис Николаевич! Ваши оба письма[2146] получил и не отвечал на них (на первое откликнулся кратким письмом)[2147] вследствие скопления разных обстоятельств, среди которых главное – это дурное самочувствие, не покидавшее меня все лето; обычно летом я поправляюсь и душой и телом, залечиваю раны, нанесенные зимой, и полнею «про запас»; на этот раз морские купанья, Париж и, главное, мучительнейшие внутренние переживания истощили меня. Кто купается в море, не должен ехать вслед за этим в Париж и не должен «мучительно переживать» и т. д. Все три вещи несовместимы. Вы страшно обрадовали меня известием об Асе[2148] (которой передайте мой горячий привет). Но об этом мы тоже поговорим при свидании. Бесконечно счастлив я также тем, как Вы приняли мое письмо, мой призыв; и я верю в то, что Вы вступаете на твердый трудный трудовой мужественный путь. – Письма Гюнтера я не получал; книги его я издать не могу; предлагаю ему вместо книги дать большую статью для Сборника, в кот<орый> пойдет тогда 1) его статья о Георге, 2) Степпун о Рильке[2149], 3) Я о «Х» (не знаю еще о каком немце), 4) Вы… ну, о Гауптмане или о ком хотите, 5) Эллис о Вагнере[2150] или… Одним словом, хотелось бы сборник об отдельных авторах…[2151] – Совершенно недоумеваю по поводу Вашего второго письма (об Эллисе)[2152]; ведь перевод исправлен Петровским в такой мере, чтó (как он сам говорил мне перед моим отъездом) его можно печатать не без надежды на некоторый успех, ибо кое в чем он лучше лучшего из существующих переводов, разумеется уступая последнему в других отношениях. Вы пишете так, что я подумал было одно время, не посылаете ли Вы мне по ошибке прошлогоднего письма… В числе материалов для Вашей статьи о Коле[2153] Вы могли бы использовать также и его предисловие к программе концерта Олениной (см. книжку № 8, кажется)[2154]; кроме того, надеюсь, что Вы знакомы с отличной статьей Порфирьева (или Прокофьева) в Моск<овском> Еженедельнике, где о Коле большая статья[2155]. Получили ли Вы письмо Степпуна относительно двух Ваших статей: 1) для русского Логоса о Потебне[2156], 2) для нем<ецкого> две статьи Смысл Искусства и фрагменты из статьи Магия слов[2157]. – Подумываете ли Вы о Песеннике для народа, для которого Вы хотели к уже существующим стихотворениям из прежних сборников присочинить несколько новых…[2158] Ваши мусагетские костюмы отчасти позабавили меня, но отчасти напугали: как бы не стали говорить, что мусагетчики – новая секта, и не смешали бы нас с мерцателями… Навестите Маргариту Кирилловну; она беспокоится о Вас. Я получил от нее милое письмо, на которое ответил[2159]. Не знаю, получила ли она его. Прислала она мне статью Эрна о Логосе[2160]. Только я еще не читал ее… Моя книга[2161] смущает меня порядком: уж очень она случайна и пестра по стилю: от фельетона до популяризации философии; нелепо, но чтó делать! Я пишу послесловие и предисловие. – Кожебаткин не отвечает на письма и не сообщает мне, получена ли корректура моей книги… Состояние моего здоровья таково, что я просто боюсь уже теперь возвратиться в московский омут и серьезно подумываю оттянуть мой приезд. Полагаю, что проспект Мусагета еще рано выпускать, т<ак> к<ак> каталог пока слишком ничтожен[2162]. Да и весь материал, который мы обсуждали с Вами и с Эллисом весною, надлежит еще и еще раз продумать, чтобы не показаться смешными. Между прочим, я трижды писал Кожебаткину, чтобы он весь этот материал (мою, Вашу и Эллисову статьи о культуре[2163]) конфиденциально представил на рассмотрение его маститости Рачинскому; пух, пух, пух, но все-таки он скажет, смешно ли все это. – Скажите Эллису, что я до сих пор не мог посылать ему части Парсифаля[2164], т<ак> к<ак> был занят и плохо чувствовал себя. Строго секретно: надлежит экономить (устно сообщу, почему); Кожебаткина я об этом уже уведомил; поэтому хотелось бы увильнуть от издания Серафиты, которая, кстати, когда я теперь бросил взгляд в эту книгу, мне очень не нравится[2165]; далее: мать Ядвиги очень коммерческая дама и находит, что мы роскошествуем[2166]; напр<имер>, на «мелкие расходы» в месяц по отчету Кожебаткина тратится 50 р.!!! Вообще надо сократиться (но, конечно, не Вам, т<ак> к<ак> Вы получаете minimum и не задолжали); но дальнейшие авансы Петровскому, Эллису и т. д. должны прекратиться. Но об этом Вы никому!! Поговорите только с глазу на глаз с Кожебаткиным как бы от себя, сказав, что знаете только, что надо сократиться; сообщите об этом разговоре мне, ибо Кожеб<аткин> молчит. Целую Вас. Ваш М.
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 6. Копия: РГБ. Ф. 167. Карт. 5. Ед. хр. 17.Ответ на п. 187.
189. Белый – Метнеру
Будьдете <так!> бодры. Еще раз всей силой, какую ощущаю в себе, говорю Вам: «Не падайте духом! Отдохните!» Спасибо за хорошее письмо.
Спешу о делах:
1) Конечно, письмо об Эллисе – прошлогоднее[2167]. Это обнаружилось лишь несколько дней тому назад; произошло все таким образом: я Вам написал; потом написал еще (сунул в карман и думал, что опустил); грянула московская суетня: уезжая в деревню, я – (в прошлогоднем летнем костюме) – нашел письмо к Вам с адресом Пильница: подумал, что забыл опустить; и, вместо письма Вам этого года, опустил прошлогоднее: несколько дней тому назад нашел и распечатал неопущенное письмо; отсылать теперь – нет смысла[2168].
2) Об экономии – завтра же переговорю с Кожебаткиным; да: авансов не надо;
3) О себе должен сообщить нечто: Вы не получили одного моего письма – это ясно; повторяю вкратце его содержание: я теперь буду писать в «Утро России»[2169]; постараюсь зарабатывать в месяц до 100 рублей; кроме того: мелкая работа будет в «Русской Мысли»[2170]. Следовательно, если это укрепится, я буду в состоянии получать из «Мусагета» менее 75 рублей (скажем – 40); ввиду этого: я заимообразно из «Мусагета» взял 125 рублей (когда приедете, поймете, что не для себя: до зарезу было нужно); каждый месяц с октября из 75 рублей я 25 рублей не получаю; в 5 месяцев долг покрывается. Если это не гарантирует, гарантируют мои фельетоны «Утра России».
4) О Николае Карловиче – пишу[2171].
5) Ася приехала[2172], и Ася – моя радость, жизнь, счастье: спасибо за слова о ней.
Вот деловое, а теперь… –
дорогой друг: как много Вам есть сказать, как реально слышу Ваше присутствие, как хотелось бы скорей Вас видеть, как люблю, люблю Вас.
Правда ли, ходят слухи, что приезжаете 17 сентября: не смею верить.
Жду Вас, жду: Вы уже – знаете? А. Р. у Вас была?[2173] Да? Милый, милый – не знаю Вашего отношения; тверд, спокоен.
Уже 4-ый час: на днях пишу подробнее.
Христос с Вами: целую.
Борис Бугаев.
P. S. Мой привет Николаю Карловичу и Анне Михайловне[2174].
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 17. Написано на почтовой бумаге издательства «Мусагет». Помета рукой Метнера: «27/9 10» (видимо, дата на почтовом штемпеле отправления с несохранившегося конверта).Ответ на п. 188.
190. Белый – Метнеру
1-ое октября 910 года.
Слышали ли Вы меня вчера, 30 сентября? Слышали ли Вы меня 16 сентября? Услышите ли Вы меня четырнадцатого октября? Вы просите объяснения? Объяснение ждет уже Вас более полутора месяца – на словах. В этом разгадка Вашего вопроса о том, где А. Р.[2175] Ее с нами нет: но мы духом – с ней[2176].
Милый, милый друг, за последний месяц я прямо-таки о Вас тоскую, вспоминаю все ранее вместе прожитые дни, мысли, надежды, опасения. Эмилий Карлович, будемте держаться друг друга; чувствую горячий порыв к Вам, как к другу; но чувствую и опасенье, что сроки, числа, перегородки из дел, часов и т. д. все более и более будут сжимать свободу нашего общения. В отмеренные 2 часа для разговора будем решать дела о бумаге и шрифте, а главное нашего общения, невесомое будет откладываться до… нового Вашего отъезда. О, как сильно я слышу Вас, как Вы дороги мне, как люблю Вас, Эмилий Карлович, но… не правда ли, в прошлом году какая-то стена не раз начинала воздвигаться между нами – стена недоговоренности; а всякая недоговоренность иногда есть источник роста химеры; в химеры между нами я не верю; в духовный союз больше верю; в душевном же общении самые внешние факты могут нас незаметно друг для друга каменить. Вооружимся же принципиально против возможностей такого окаменения, осознаем заранее; и заранее сожжем самые возможности роста химер. Теперь, когда прошло много месяцев со времени наших последних встреч, скажу Вам, в чем для меня была горечь волнений прошлогодней весны по поводу недоразумений с Эллисом; не в Эллисе было дело: я и он оба устали; с Эллисом я всегда сумею быть; ибо психологическое недовольство друг другом у нас всегда проявляется взрывами; но я смутно чувствовал, что в Ваших словах (в неуловимом) есть оттенок недоверия ко мне, какая-то затаенность; и так как мы крупно не говорили всю прошлую зиму (считаю последним наш разговор весной 1909 года), то за такой период молчания многое могло у Вас ко мне, как и у меня к Вам, накопиться вопросов, недоумений и т. д.; я не знал, есть ли наша недоговоренность просто закупорка слов, или она результат какой-то невыявленной, но втайне растущей химеры; всю прошлую весну я изнывал от желания более интимного общения с Вами, но и чувствовал Ваше, как мне казалось, нежелание идти навстречу; не знал, есть ли такое нежелание обремененность усталости, делами, отсутствие времени, или – другого порядка; есть ли она факт охлаждения нашей дружбы? Вот чем я мучился; и почти с каким-то отчаянием махнул рукой; мы простились формально.
Теперь, когда я отдохнул, когда прошли месяцы, я спокойно возвращаюсь к этому; я умоляю Вас не верить химерам; мы не должны каменеть. Внутренне вижу Вас милым, старинным другом, издали хочу крикнуть Вам: держитесь, все хорошо, зори недаром светят нам; сама темная ночь, когда в комнате зажжены свечи, уютна; зажжемте свечи; протянем кубки; осушим у очага наши промокшие от дождя одежды!.. Мир Вам, старинный, старинный друг!
{(Только Вам.) Она прошла между нами: она была о свете; но ее больше нет, хотя свет, ей зажженный, всё теплится; и мы о свете; она дала форму нашим стремлениям; она взорвала нам душу, и души наши осколки, ей раздробленные; но в пробитую брешь светит Дух. Он со всеми нами. Мы без нее, но мы с Духом; память о ней теплится, как лампада, души наши – свечи; две свечи горят между нами, хотя Вас еще нет здесь; отсутствующий, Вы присутствуете (видел вчера Вашу улыбку, улыбку старинного друга там, где Вам оставлено место).
Ее нет: но мы ждем следующего. Начавшееся ушло под землю: но оно не кончится, круг сжался; круг – как каменная стена. Но ее нет.}
Приезжайте: Вы одни – кровное звено между нами и Н. К.[2177], Н. К. без Вас пока не с нами.
Факт: всем, всем трудно; но трудности внешние, а Вам и внутренно тяжело; Вы, как остро отточенная бритва, режете других и себя; о, как Вам трудно; я восхищаюсь Вашим героизмом, я утверждаю Вас во всем; Вы лично мне нужны; Вы не смеете падать духом; превратите и трагедию в трапезу; превратите единоборство в пляску; как я Вам верю!!
Вы сказали мне: будьте властны; и я стал властен – собрался; через почти непобеждаемые трудности я говорю себе: «Буду!» Я всерьез принял Ваши слова; но будьте же и Вы объектом моей властности. К Вам обращаю я слово: «Тебе говорю, встань!»
Соберитесь, и не смейте унывать! Ведь Вы уже отдохнули – не так ли?
Перехожу к «Мусагету». Ваша властность, Ваше реальное вмешательство во все мелочи жизни «Мусагета» в нынешнем году необходимее, чем когда-либо: потенциальная энергия Ваша, как преследующая известные цели «Мусагетом», должна стать и кинетической: действуйте. Можно было вчера сомневаться в действенности издательства; ныне это – факт; «Мусагет» морально растет не по дням, а по часам; к нам прислушиваются; для из<датель>ства, функционирующего только ½ года (книгами), это успех неожиданный; «Мусагет» – общественное учреждение; Редактор «Мусагета» (идейная сила) должен быть с «Мусагетом». Ваше отношение к «М<усагету>» мне не ясно; Вы, как будто, не верите в него, или как будто он есть для Вас баррикада, в которой засели Метнер, Эллис и Белый; внутри «Мусагета» можно как будто и шутить, забывать «Мус<агет>» и т. д. А сейчас этого нельзя делать: на нас смотрят в бинокли со всех сторон; должна быть тончайшая разработка плана деятельности, считаясь с реальными возможностями, т. е. с днями, часами и прочее; все дни провожу в «Мусаг<ете>» и вижу фактически невозможность сноситься с Вами, пока Вас нет здесь; пришлось бы ежедневно писать трактаты; между тем у нас роятся ряд планов, необходимо сейчас же обсуждение; а то сезон пройдет; и, как в прошлом году, все начнется к весне; нужно подвести итог прошлому, кое-что изменить, кое-что разработать. А Вас – нет…
Например: непоправимый явный ущерб Ваше отсутствие в дни, когда здесь Гессен. Гессен живет около месяца с «Мусагетом»; с утра до вечера с нами; живет общей жизнью; результат – «Логос» и «Мусагет» морально уже одно[2178]; Гессен в месяц «омусагетился» совсем; мы все его полюбили; под вышколенным японцем оказался милый, честный мальчик, который делает к нам еще более шагов, чем Степпун; например, он мечтает о привлечении «Логосом» средств и предоставлении их «Мусагету» для линии сборников «Мусагето-Логос»; у нас был ряд остроумных соображений, в результате которых, например, Риккерт оказался бы уже не в «Логосе», а и… в «Мусагете». А Вас при этом – нет. Все висит в воздухе. Кстати о Гессене: он рвет и мечет, что Ваша статья о Христиансене[2179] не в «Логосе», что он даже не знал о ее существовании; просит, чтобы Вы писали фактически и деятельно в «Логосе», восхищается Вашей книгой[2180], предлагает мне для немцев писать «о переписке с друзьями» Гоголя[2181], очень хвалит мою статью для «Логоса» о Потебне[2182], хочет, чтобы перевели в немецкий «Логос» статью из «Символизма» «Искусство будущего»[2183], пристает к Петровскому и Эллису, чтобы те писали рецензии в «Логос», советуется с нами о всех деталях «Логоса»; словом, «Логос» и «Мусагет» объединились; хотелось бы Ваш взгляд не теоретический, на расстоянии из заграницы, а реальный на основании общения с Гессеном.
Вот один факт, где досадуешь, что Вас нет; есть ряд других фактов (например, Маргарита Кирилловна[2184], «Скорпион», «Аполлон», дружба с Блоком[2185]) и т. д.
Скоро выходят: «Муз<ыка> и мод<ернизм>», «Арабески», «Камена»[2186], будет готова рукопись «Гильдебрандт»[2187], «Логос» (2-й)[2188] уже весь почти напечатан, «Религ<ия> Диониса» – тоже[2189]; а там – ряд неизвестностей, ряд назревающих проектов, к осуществлению которых надо бы уже делать шаги, а их еще и обсуждать нельзя (Вас нет и неизвестно, когда Вы будете). Имейте в виду, что в текущем году мы можем или оказаться на гребне волны, или удачное возвышение «Мусагета» (он – влиятельнее уже «Скорпиона») минутно; нужно бороться; а издательство без фактического главы в минуту напряжения почти что корабль без кормчего. И вот, Эмилий Карлович, неизвестно, верите ли Вы в «Мусагет»: я – верю и живу планами о будущем; но я себя вижу как «мы»; пока «мы», объединенное Вами, отсутствует в жизни каждого дня, невольно отступаешь; и растет Кожебаткин.
О Кожебаткине: в результате лета и осени Кожебаткин не раз являлся гением вдохновителем «Мусагета»; я за это время полюбил его невольно; ему одному мы обязаны престижем внешнего влияния; он весь кишит интересными планами и проектами; работает вовсю и выказывает себя не только дипломатом, но и понимающим задачи «Мусагета». И я невольно смотрю на него не как на секретаря; ибо он и влияет на Брюсова, и на Марг<ариту> Кирилловну; он, например, съездил в Петербург (обежал 30 книжных магазинов, устроил сбыт книг), и в результате: «аполлоновцы» в нас заискивают, с нами дружат; он ходит в «Скорпион»; и «Скорпион» нам уступает по всем пунктам; в деле об «Альманахе»[2190]. Это уже не задача секретаря; он приглашает почти ежедневно обедать Гессена и систематически его «мусагетит» – этого я не могу делать; то есть, сейчас, если не будет Кожеб<аткина>, «Мусагет» провалится. В прошлом году он был «homo novus»[2191] и часто казался досаден; а теперь невольно он наш; мой совет Вам, дорогой Эмилий Карлович, не подчеркивайте его «чуждость» нам; он страшно чуток и, знаю, искренне огорчается (несколько обижается) отношением Вашим к нему, как наемнику; ведь он в сущности делает то, что формально делать не обязан (возит в ресторан Кузминых для того, чтобы сблизиться с ними во имя Мусагета, парализовать «козни» Брюсова); недавно Гершенсон нам завидовал, что у нас есть такой незаменимый и всей душой верный человек; помимо моей невольно выросшей любви к нему, мне приходится, ради его нужной для нас предприимчивости, смазывать лаской колеса его усердия. Он сейчас учится всячески; и растет, как инициатор, нам нужный; если он заметит наше чуранье его, у него, понятно, пропадет пафос; а мы – в процессе всяческого завоевания влияния. Собственно, он нужен, как человек, в деле завязывания сношений и дипломатии, лучше нас практически действующий; если Вы, я (Эллис не умеет быть официальным – вы знаете) устали, разбиты, а надо быть во всеоружии представительства, на Кожебаткина поручиться можно вполне; например: Брюсов объявил, что в альманахе «Мусагет» будут лишь те, кто не даст «Скорпиону» (поставил: «Северные цветы» или «Мусагет»). Кожебаткин фактически перебил стихи у петербуржцев, уломал Полякова, а потом, когда я должен был говорить об этом с Брюсовым, сам вызвался меня сопровождать: был поставлен вопрос: победить Брюсова, разорвать со «Скорпионом», или во всем уступить (писать обо всем Вам и ждать ответа, когда это был вопрос двух дней, невозможно); мы шли на риск; и победил «Мусагет», т. е. Кожебаткин; Брюсов, уличенный в двуличии Кожеб<аткиным>, уступил по всем пунктам и даже обещался сам участвовать у нас[2192]. Но довольно о Кожебаткине.
Сейчас на очереди вопросы, разрешение которых возможно лишь в Вашем присутствии по ознакомлению со всем реальным (в днях, часах, сроках) ходом проведения идеальной позиции «Мусагета», как «и<здатель>ства», претендующего на власть.
1) Разработка программы книг 1910–1911 года.
2) Вопрос о примате книг или теоретических сборников.
3) Расширение или нерасширение контекта.
4) Вопрос о факте сближения с «Логосом».
5) Позиция «Мусагета» в отношении «Аполлона», «Скорпиона», издательства М. К.[2193] и т. д. (Еженедельник кончился[2194]: М. К. ищет сближения, предлагает устроить «салон» в Мусагете для общения «ее группы» и «нашей»).
6) Вопрос о ряде публичных лекций от «Мусагета». Дали согласие, хотят и настаивают на этом (и уже есть темы) С. Соловьев, Эллис, Гессен; мне тоже кажется это имеющим смысл большой (Кожебаткин остроумно придумал киоск с нашими книгами на лекциях); кажется, соглашается Блок, рассчитывают все на Вас, Иванова, Брюсова… Но пора заботиться заблаговременно о помещении и т. д. (а то разберут до рождества) – а Вас нет; проект висит в воздухе[2195].
7) Кожебаткин просит слова: дать мотивированный доклад, что уменьшение бюджета ничуть не меняет наше положение; он ждет для этого Вас.
И т. д.
Видите, Эмилий Карлович, сколько есть текущего; текущее приносит каждый день; издали невольно теоретизируешь; надо вместе видеть, вместе переживать текущее «Мусагета» (он никогда не был так полон надежд, как теперь); а Вы – Вы вдали. «Мусагет» без главы; «нас» нет; хотелось бы реализовать энергию, а… невозможно писать целые трактаты Вам; Вы издали лишь можете говорить: «veto» или «действуйте по усмотрению», «разрешаю»; а следующий день приносит новый коэффициент, поправку к формуле деятельности; и опять надо ждать ответа; а время не терпит.
И я спрашиваю: верите ли Вы, как верим мы все (теперь, как никогда), в «Мусагет»? если да, то сознайте, что Ваше отсутствие есть дефект и моральный и реальный для «Мусагета». Вы скажете: «Мусагет» прежде всего убежище для Метнера, Эллиса, Белого; а вот вышло, что убежище с каждым днем есть все более лозунг (фактически уже «Мусагет» – клуб, где бывают философы, художники и т. д., то есть место завязывания новых идейных узлов, общений, планов и т. д.).
Мы должны невольно принимать, давать ответ, оформливать, то есть, пред-принимать; убежище есть общественное явление; и вот сторону «Мусагета», как общественного явления, я подчеркиваю; подчеркиваю и невозможность разграничить понятия убежища и общественного явления; вижу теперь, что формула первого года (постольку общественное явление, поскольку Метнер, Эллис и Белый находят убежище) начинает меняться (постольку убежище, поскольку общ<ественное> явление). А мы, публицисты, писатели, «люди с устремлением» (а не отдыхающие М<етнер>, Э<ллис>, Б<елый>) должны реальней воплотиться в деятельности «Мусагета», а то воплотится в нем «не наш дух».
И я Вас зову; и я хотел бы, чтобы Вы чувствовали, что Вы – отец; Ваш ребенок уже растет; отец не должен смотреть издали на его развитие, не должен думать «и без меня будут они делать»; поймите, без Вас нельзя.
Властность, Вами мне продиктованная, властно обращается к Вам: забудьте себя и свое и Вы найдете себя в деятельности.
… Мусагет, как явление, есть первая земля прежних дружеских плаваний. Будьте тверды, реальны, деятельны, не бойтесь разорваться, разбиться. Вы тверже, чем думаете.
Подробности: очень интересный был спор Эрна с Гессеном в «Мусагете», затянувшийся на несколько часов; оба начали как непримиримые враги, оказали чудеса диалектической ловкости, расстались как теоретич<еские> противники, но дружески и хорошо. «Логосу» симпатизирует теперь и М. К., и Гершенсон и даже… Новгородцев. Предполагается беседа в «Мусагете» о Логосе: будут Гессен, Гордон, Фохт, Кубицкий, Рубинштейн (партия «Логоса»), Эрн, Шпетт, Булгаков (противники); будет Гершенсон (он настаивает на беседе), Лурье; будут позваны Лопатин, Трубецкой, Новгородцев, Воден и др<угие> философы. Было чтение в «Мусагете» прекрасной повести Садовского «Двуглавый Орел»[2196]. На чтении были: Маргарита Кирилл<овна>, все Тургеневы[2197], Кл<еопатра> Петровна[2198], мама, Эрн, Шпетт, Гордон, Поливанов, Гершенсон, Булгаков, Гессен, Крахт, Руссов, Сизов, Петровский, Викентьев, Арапов, Феофилактов, прочие «мусагетцы», ряд студентов и т. д. Предполагаем раз или два раза устраивать чтения; следующее чтение – реферат Неллендера об орф<ических> гимнах; и т. д. Происходит уже философский семинарий Гессена (вместо удравшего Степпуна) с кружком студентов по «Критике спос<обности> суждения»[2199]; Эллис читает свой курс у Крахта[2200]; занятия по ритму начались тоже[2201]. М. К. продала дом и живет рядом с «Мусагетом»[2202]; она увлечена издательством. Кожебаткин мечтает о соединении Скорпиона – Мусагета и изд<атель>ства Морозовой в деле книжного распространения. Шпетт все так же блестящ – но явно нам враждебен. Книги «Мусагета» идут (относительно) с осени; «Символизм» пошел; «Луг Зеленый» и «Голубь» хорошо идут[2203]. О «Голубе» был ряд фельетонов (много сочувственных)[2204]; Мережковский написал о нем фельетон «Восток или запад»[2205]. Книга влияет. Ее считают «знаменательной». Даже «Русские Ведомости» дали фельетон, где ворчливо, с явной досадой считаются с «Голубем» как с явлением крупным этого года.
О себе; ох, и не говорите, как трудно: редакция, общения, дипломатия, трудность с мамой, необходимость во имя Аси зарабатывать до 260 рублей[2206], отсутствие заработка, сама Ася и «московское»!!! Высовываешь язык, рушишься, воешь, – но с твердостью, с надеждой; все осилит вера, надежда, любовь!
Между нами: Ася как бы моя невеста: она более того: скоро будет со мной. Вся моя личная жизнь с ней связана. Но, ах, какие внешние тут трудности! Но она – мое утешение; и источник веры в бодрость, и источник всех материальных и моральных затруднений.
Может быть, к Вашему приезду физически «скапучусь», а пока до Вас – тверд, бодр.
Обнимаю Вас братски, милый.
Ваш Б. Бугаев.
P. S. Вышел «Гераклит»[2207].
P. S. Летом была «Prima vigilia»[2208] Мусагета (Кожебаткин); с августа до Вашего приезда «Secunda vigilia»[2209] (я). Вероятно, Вам придется встретиться с «Tertia vigilia»[2210], в лице Вас самих, то есть, на несколько месяцев изо дня в день следить за реальной жизнью «Мусагета». Без реализации нельзя; автор проекта должен и проводить его в деле. В результате первой стражи – рост значения «Мусагета» (считаются с ним), умелое сношение, распространение и т. д. Результат второй стражи – слияние с «Логосом» (победа над Логосом). Результат третьей стражи должен быть рождением Вами ребенка, осуществления Вашей мысли, чтобы Вы сказали: «Мусагет» мой, в нем вижу «свое». Это – необходимо.
Тогда «наше» Мусагета будет иметь рост; а иначе – оно исчезнет. Нас раздавят. Мы или располземся по углам, или получится лебедь, щука и рак[2211].
Помните – не искание средств, а «незабываемое» наших встреч лежит на дне «Мусагета», на поверхности же плавает цилиндр Кожебаткина и корректурные гранки; «неуловимое» наших встреч должно питаться «совместным»; оно требует продолжения; и тогда на поверхности Мусагета заплавает вместе с кожебаткинским цилиндром и русская интеллигенция (например, и каблук сапога Булгакова, и бердяевские кудри, и султан шляпы Маргариты Кирилловны, и степпуновское «брюхо», и гессеновский сюртук, и гносеологические мозги Яковенки… которые, кстати, заплавают скоро в Мусагете, ибо он сам на нас грядет в январе. Нужно отстоять яд, мусагетирующий и Яковенку; а для этого нужна вера в нашу правоту и деятельность.
2-го октября.
P. P. S. Вчера обсуждали очень, на мой взгляд, интересный пункт: выпустить громовый сборник, написанный на самую горячую тему, который так же вошел бы в сознание общества, как «Вехи», разошедшиеся в 15 000 экземпляров[2212]. Должна быть, по-моему, тема, нам близкая («культура») и противопоставленная самому враждебному («государство»); и все это связать с современностью («современное» государство). Вот и сенсационный сборник. И уже ясны статьи 1) Культура и государство, 2) Культура и современность, 3) Культура и религия, 4) Культура и история, 5) Культура и эстетика, 6) Культура и символизм, 7) Культура и нация. И т. д.
Должно доминировать «ядро» наше, бронированное приглашенными на заданные темы. Дипломатия приглашения (броня): кто-нибудь из «Вех», кто-нибудь из «анти-вех», кто-нибудь из диких (непартийных) социалистов (умных) для сенсационности. Подобно тому как мы под фирмой «Логоса» должны внести «свое» в филозофутиков, так должны мы внести «свое» в интеллигенцию. Можно рассматривать этот сборник как шахматный ход, как развертывание фланга во всю широту. И не будет компромиссом, если в роли чужих пригласить («имена») Мережковского, Поссе (общественник-синдикалист), Бердяева («Вехи»), Гершенсона («Вехи»), Эрна (да!! Эрн и Гессен встретятся); рассматривая Вас, Вячеслава[2213], Эллиса, меня, как своих (я берусь написать хоть две статьи: одну на самую горячую тему под псевдонимом хотя бы «Семенова» (пусть будет это тайной для всех – даже Эллиса, а то разболтает)[2214]; и вот уже весь сборник готов. 1) Культура и государство (Метнер или Белый). 2) Культура и нация (Метнер или Белый). 3) Культура и современность (Метнер или «Семенов» – бойкий, искренний, хотя грубоватый малый, нами открытый). 3) <так!> Культура и религия (Вячеслав или Мережковский). 4) Культура и общественность (Поссе[2215], Кричевский[2216], Старовер[2217],[2218]). 5) Культура и история (Гессен – взгляд на культурные ценности риккертианца). 6) Культура и эстетика (Степпун). 7) Культура и символизм (Эллис или Иванов). 8) Культура и русский народ (Мережковский; Бердяев, Гершенсон). 9) Культура и христианство (Эрн, Бердяев, Мережковский).
Видите: у нас уже 9 статей с почтенным составом сотрудников (и неожиданной комбинацией): Метнер, В. Иванов, Мережковский, Поссе, Степпун, Гессен, Белый, Бердяев, Гершенсон, Эрн, Эллис, Семенов. Мы соединяем несоединимое, сталкиваем революцию (Мережковский, Поссе) с реакцией (Гершенсон, Бердяев), Европу (Метнер, Гессен, Степпун) с Россией (Эрн, Бердяев, Мережк<овский>), философию (Гесс<ен>, Степп<ун>) с символизмом (Иванов, Белый – Эллис); и на этом столпотворении вавилонском вычеканиваем нашу боевую платформу: 1) долой государство (революция), долой прогресс (реакция), да здравствует научная философия (Логос), разбивающая старые стены культуры, и да здравствует символизм – завязь будущей культуры (Мусагет). Вчера, воодушевившись, я рассказал Кожебаткину содержание 3 статей сборника (как бы в уме уже написал их). Он – в восторге; говорит, что мы сборником прогремим на всю Россию, вызовем «бурю» негодований и сочувствий; теперь именно время такого сборника; через год – поздно. «К<ожебаткин>» говорит, что книга принесет нам огромный доход (может быть, лишний год существования «Мусагета»). Это и «выгодно», и «полезно», и «наше дело».
Итак? Что скажете? Воодушевитесь! Будьте Мусагетом этого сборника. Размахнитесь такой статьей, которая была бы гениальна (Ваши статьи о «Христиансене», «Ницше», «Эстраде»[2219] в высшей степени нужны, талантливы, ярки). Ну?[2220]
На днях пришлю мой силуэт «Красавца» в «Утре России»…[2221] Сегодня ругает меня «Русское Слово»[2222]. Вчера Кожебаткин принес еще утешительные вести: книги наши пошли; «Символизм» пошел, судя по требованиям магазинов, лучше «Логоса». 2-го № «Логоса» магазины ждут с нетерпением. В общем «Символизм» уже продан около 400 экземпл<яров>. Кожебаткин уверен, что в течение года почти пораспродастся.
Знаете ли, что я помирился с Блоком. Он и Эллис обменялись письмами!![2223] И все – Ася!!!
Спор, начавшийся в «Эстетике» о символизме[2224], перенесен в «Аполлон». Блок и Иванов написали о символизме статьи. Брюсов наивно и грубо отругнулся в «Аполлоне»[2225]. Я написал отповедь Брюсову под заглавием «Венок или венец»[2226].
Ну, письмо никогда не кончится. Кончаю насильно.
Еще и еще обнимаю Вас, милый друг[2227].
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 18. Фрагмент опубликован: ЛН. Т. 92. Кн. 3. С. 373.
191. Метнер – Белому
Ассизи 7/X 910.
Дорогой Борис Николаевич! Ваше письмо получил; другого, в нем обещанного, еще нет[2228]. Пишу Вам из священного города, куда Вы чуть-чуть не попали[2229]. Место совершенно святое и белое. Giotto хорош до слез; посылаю Вам узкоглазую черноокую мадонну[2230]. Как хочется здесь поселиться надолго. Видел два дома с старым изображением розы и креста. Есть еще знак странный, в монастыре св. Франциска крест, перекрещенный двумя руками, крест-накрест. До свиданья! Обнимаю Вас крепко. Ваш М. Где Анна Рудольфовна![2231]
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 6. Открытка с репродукцией: Assisi. Chiesa di S. Francesco. Madonna (dettaglio) (Giotto).Ответ на п. 189.
192. Белый – Метнеру
Милый друг! Счастлив. Хорошо. Едем тихо. Сонные сидим в Варшаве. Весело. Радостно. Привет! Привет!
Любящий Б. Бугаев.
<Приписка А. А. Тургеневой:> От Аси привет.
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 19. Открытка; почтовый штемпель получения: Москва. 30. XI. 1910.Датируется по связи с днем отъезда Белого и А. А. Тургеневой из Москвы в заграничное путешествие (26 ноября (9 декабря) 1910 г.).
193. Белый – Метнеру
Венеция – невыразимо хороша[2232]; уверен, что такого города больше нигде не увижу. Она блеснула огнями в голубом пятне моря, прокачала гондолой, и опять ушла. Теперь в Риме[2233]. Устали. От Аси привет. Христос с Вами, милый.
Б. Бугаев.РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 20. Открытка; на обороте репродуцирована фотография: Roma. Il Campidoglio. Опубликовано Г. В. Нефедьевым: Русско-итальянский архив II / Сост. Даниэла Рицци и Андрей Шишкин; Archivio italo-russo II / A cura du Daniela Rizzi e Andrej Shishkin. Салерно, 2002. С. 129.Датируется по почтовому штемпелю: Roma. 14. 12. 10. Штемпель получения: Москва. 6. 12. 10.
194. Белый – Метнеру
«Kennst Du das Land, wo die Citronen blühten?»[2234]
Да, милый друг: туда, туда! Средиземное море ласково лижет молочной бирюзой мавританско-испанский (чуть итальянский) Палермо[2235]. Апельсинные рощи опоясывают город, сквозя золотыми плодами; выше – страна гор, камней, кипарисов, часовен; еще выше голубое небо. Пока в отеле: безумно дорого: здесь Вагнер кончал «Парсифаля» (прожил 6 месяцев)[2236] и наконец поссорился с хозяином нашего отеля (старичком)[2237], который все это и рассказал нам. Никак не можем устроиться; нет и помину того, о чем ‹…›[2238] Лурье.
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 21. Открытка; на обороте репродуцирована фотография: Palermo. Chiesa di S. Domenico (XVII secolo). Опубликовано Г. В. Нефедьевым: Русско-итальянский архив II. С. 130.Датируется по почтовому штемпелю: Palermo. 19. <12. 10>. Почтовый штемпель получения: Москва. 12. 12. 10.
195. Белый – Метнеру
пишу Вам объяснительное письмо. Дело вот в чем: приехали в Палермо[2239]; здесь – дивно; не по дням, а по часам чувствую себя бодрее. Ася розовенькая и веселая; оказывается, здесь место, где крепнут легкие. Расположен Палермо так: бирюзовое море вдается бухтой; на берегу мавританско-италианские дома (многие с плоскими крышами). Растительность – тропическая; громадные кактусы в 2–3 сажени с цветами (кистью) в человеческий рост, тростники, которые у нас растут в комнатах и хиреют от холода, толщиной с руку; далее финиковые пальмы, рододендроны, эвкалипты, магнолии, перевитые лианами, какие-то тропические, неведомые растения; и вместе с тем пинии, платаны, клены – но мало. Все это цветет, жужжит пчелами и комарами; не жарко, но и днем и даже ночью можно ходить без пальто; Палермо окружен кольцом апельсинных рощ; выше раковина гор – диких с разбойниками; еще в Палермо есть дух Италии, а в Монреале (семь километров от Палермо – в горах) ходят испанцы в плащах – не то испанцы, не то арабы. Были все четыре дня в поисках; Лурье наврал[2240]; вокруг Палермо всего две-три деревушки рыбачьи ужасающей грязи, где жить невозможно, а без знания языка и опасно (ведь Сицилия искони – страна разбойников и «Маффии»), или же роскошные виллы герцогов, князей и богатой буржуазии (снять – дорого). Были в Палермо, в Санта Мариа Иезус[2241], в Дельмонта[2242], еще в одной деревне, справлялись в Acquasanta, и – жить негде. Бирюзовое, манящее море, а жить на нем нельзя. Вчера были в Монреале. Монреаль в горах; население арабско-испанское, дикое. Монреаль невероятно живописен; он обрывается над Палермо крутизной, в глубине которой море апельсинных рощ; вдали Палермо и залив, а с другой стороны каменистые, ущелистые горы. Здесь собор, древнейший в Италии[2243]. Только тут мы с Асей кое-что присмотрели, хотя невыразимо дорого. Сегодня делаем последнюю попытку уcтроиться дешево и уютно; едем в Багерию, деревушку близ моря по железной дороге. Если там нет ничего, я в отчаянье.
Дело вот в чем. Ася во Францию не хочет; в Неаполе народ разбойник; севернее Рима теперь холода. В Германию нам с Асей нельзя[2244]; мы невольно загнаны сюда; да и кроме того: здесь жить безумно хорошо для здоровья, нервов, работы; уже многое просится работать; единственно, что смущает меня – деньги.
Сейчас мы в безумно дорогом отеле, попали по неведенью; комнаты показались дешевы, а все прочее ужасно дорого; между тем до получения денег съехать нельзя, ибо оставили адрес Hôtel des Palmes. Жду каждый день телеграммы: Кожебаткин молчит[2245]. Если в Багерии ничего не найдем, придется жить в Монреале в «Hôtel Savoia» (другого ничего нет)[2246]; пансион по 8 лир с человека в день; итого 16 лир, то есть в месяц 16 × 30 = 480 лир; далее мелкие расходы (прачка, на чай и т. д.) = 500 лир, то есть 200 рублей; но здесь нет папирос: минимум 2 лиры на одни папиросы в день, то есть + еще 60 лир, то есть 560 лир; плюс чай, необходимые мелочи, и т<ак> далее: словом, на 200 рублей прожить здесь нельзя. На 300 – да. Особенно сейчас, когда мне нужно купить костюм и в дороге разлезлись сапоги; Асе постоянно нужна какая-нибудь мелочь; милый, дорогой друг: ехать обратно – куда? Опять тратиться; работать в Монреале можно великолепно, быстро; как только переедем – пишу, пишу, пишу, пишу; я, кажется, взял из 3000[2247] шестьсот рублей; остаются 2400, т. е. прожития на 8 месяцев; в эти 8 месяцев я допишу 1) «Голубя»[2248], 2) драму[2249]; за «Голубя» минимум 2200; за напечатание отдельным изданием минимум – 300; = 2500; за драму минимум 150 = 2650; остаются 450: возвращаю фельетонами[2250].
Итак, дорогой друг, пожалуйста, прошу Вас, дайте возможность прожить; ведь я же не знал условия жизни в Палермо. Переезжать же особенно обидно ввиду прекрасного климата, тишины и пр., а главное – не знаешь куда.
Повторяю: последняя надежда – Багерия, но, судя по всему, вряд ли; здесь нет обычая снимать домики у крестьян; есть только виллы, пансионы или же клоаки, где даже русский рабочий не поселится без брезгливости.
С тревогой жду ответа.
А пока цветы цветут. Сердце поет; и только беспокойство отравляет счастье. Ася невыразимое существо; я – счастлив.
Остаюсь нежно любящий Вас
Б. Бугаев.
P. S. Анне Михайловне привет, Николаю Карловичу тоже[2251].
В четверг с Вами![2252]
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 23. Текст – на почтовой бумаге «Gd Hôtel des Palmes. Palerme». Опубликовано Г. В. Нефедьевым: Русско-итальянский архив. II. С. 130–132.Датируется на основании пометы рукой Метнера: «19/12 910» (видимо, дата отправления на почтовом штемпеле с несохранившегося конверта).
196. Белый – Метнеру
Я – в Монреале[2253], на днях подробно пишу; адрес: Italia, Sicilia, Monreale, Ristorante Savoïa. A monsieur Boris Bougaïeff[2254]. Дикий, грозный испанско-арабский город; мало Италии; много востока; родина Калиостро[2255]. Горы, внизу обрыв, море апельсинных рощ; объясняемся знаками. Я безмерно счастлив. Вдали море. От Аси привет. Письмо пишу[2256]. Все объясню подробно.
Любящий Борис Бугаев.
(См. на обороте собор).
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 22. Открытка; на обороте репродуцирована фотография: Monreale. Duomo Lato Orientale. Опубликовано Г. В. Нефедьевым: Русско-итальянский архив. II. С. 135 (с датировкой: 25 декабря 1910 г. – на основании штемпеля, прочитанного как: Monreale. 25. 12. 10).Датируется по неоднозначно прочитываемому почтовому штемпелю: Monreale. 24 <?>. 12. 10. Штемпель получения: Москва. 17 XII <1910>.
197. Белый – Метнеру
На днях пишу[2257]. Сейчас еще столько впечатлений зрительных, столько впечатлений внутренней жизни, что слова – немы. Скажу только: Монреаль странный город; жить здесь можно всю жизнь. Странно. Рядом с нами старинный собор 12 века, весь из цветной мозаики и – смотрите – до чего византийский[2258]. А главное, он увенчан крестом необычайной формы ; таких крестов нет[2259]. Ну, прощайте; на днях пишу. Любящий нежно
Б. Бугаев.
P. S. Ник<олаю> Карл<овичу> и Анне Мих<айловне> привет[2260].
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 24. Открытка; на обороте репродуцирована фотография: Monreale. Cattedrale – Incornazione di Gugliermo II (mosaico). Опубликовано Г. В. Нефедьевым: Русско-итальянский архив. II. С. 135.Датируется по почтовому штемпелю: Monreale. 25. 12. 10. Штемпель получения: Москва. 19. 12. 10.
198. Метнер – Белому
Москва. 19/XII 910.
Дорогой милый Борис Николаевич! Ваше письмо и несколько открыток получил. Разные обстоятельства и события лишали меня возможности взяться за карандаш, чтобы ответить Вам. Не было ни сил, ни настроения даже для короткого послания. Этот безумный хаотический 1910 год хочет показать себя до конца. Петербуржский скандал, разразившийся вследствие столкновения Коли с Менгельбергом, был ужасен по своему демонизму[2261]. Прилагаемые вырезки газет и журнала Музыка информируют Вас фактически[2262]. Но все это не может передать и десятой доли того ужаса, той принципиальности, которая обнаружилась в столкновении двух враждебных стихий: жречества Коли и распутства Эстрады[2263]. Вижу, что я еще слишком слабо писал в своих статьях… Гнусный тон Менгельберга, опасное жуткое хладнокровие Коли и его твердость в проведении своей интерпретации, наконец крик негодования и общий хаос в зале, в сто раз сильнейший, нежели во время скандала в Мусагете; горечь от сознания, что никто из петербуржской музыкальной знати не решился вступиться за Колю и что сволочь вроде Каратыгина явно выражала удовольствие, что Коля отказался играть и его номер был заменен оркестровым; разве все это передашь, опишешь? Мы были так потрясены, что не спали много ночей. Коля, несмотря на физическое истощение, играл в Москве превосходно и очень сошелся с молодым немецким (и германским) дирижером Венделем, который был приглашен в Москву вместо Менгельберга. Последний обнаружил свое негодяйство тем, что, будучи одновременно в Москве для дирижирования филармоническим концертом, навестил Венделя и наговорил ему о Коле до репетиции разных гадостей. Вендель, познакомившись с Колей и увидев, какого человека он имеет перед собою, выразил удивление относительно инцидента с Менгельбергом и сознался, чтó последний ему наклеветал на Колю. Все дни перед московским концертом не умолкал телефонный звонок с расспросами и выражениями сочувствия Коле. Мне пришлось раз двадцать рассказать тяжелую сцену, разыгравшуюся в Петербурге. Скрябин сделал визит Коле. Он был искренно огорчен и возмущен; он говорил, что a priori, не входя в вопрос о нарушении Менгельбергом как дирижером прав Метнера как солиста, он, Скрябин, считает Менгельберга виновным, т<ак> к<ак> в вопросе об интерпретации Бетховена ни один дирижер, будь то сам Никиш, не смеет спорить с Метнером, который сочинениями своими показал, как он глубоко проник в Бетховена и как генеалогически он с Бетховеном связан. На концерте Коле устроили овацию; поднесли пять венков и адрес (с протестом Менгельбергу), подписанный всеми выдающимися музыкантами Москвы, критиками, профессорами Консерватории, литераторами и т. д…[2264] Куссевицкий вел себя очень двойственно; Эллис называет его Иудушкой[2265]; во всей этой истории есть что-то символическое (вплоть до разных недоразумений с роялью перед концертом, с таинственным исчезновением двух лент из венков и т. д.); чувствуется борьба с теми силами, о кот<орых> я писал в своей книге[2266]; недаром мне в Эстетике[2267] уже говорили, что история с Колей есть иллюстрация к моей книге; Коля страдает невыносимо; он понимает, что вполне одинок в музыкальном мире… Другой раз напишу еще об этой истории. Она, конечно, не кончилась… Ох, как я устал; изнурен страшно. А дачная квартира наша только теперь готова[2268]. Все время томились в городе. В Петербурге я навестил один раз Вячеслава; просидел до 2-х ч. ночи; очень хорошо поговорили[2269]; Вячеслав стал лучше, чище, мягче; он, по-видимому, действительно очень любит меня. Виделся с Гессеном. Но главное, был дважды у Блока[2270]; мы очень, очень сблизились; он прекрасен, другого слова нет; Любовь Дмитриевна[2271] была проста мила и дружественна; мы говорили с ней, точно десять лет знакомы; она поправилась и очень похожа на Полю[2272], словно ее сестра; да уж и впрямь не так ли это?.. В Эстетике был весьма удачный вечер из сочинений Коли: Конюс исполнил несколько фортепианных пьес, а Ольга Гедике, сделавшая большие успехи, спела несколько песен Гёте, Ницше и Гейне с сопровождением Конюса…[2273] Провел один вечер с Наташей[2274] и впервые соприкоснулся с ее душевной глубиной; кажется, мы станем хорошими товарищами. Простите это нескладное писание; так устал, что сам не ощущаю, какие слова пишу и на каком языке. Кланяйтесь Асе и спросите ее, не обиделась ли она на то, чтó я ей сказал на вокзале на ухо, и, если не обиделась и если поняла, чтó именно я хотел выразить, то исполняет ли она сказанное мною?.. Ваш рассчет не совсем верен, т<ак> к<ак> Вы забыли, что на обратный путь и на разные расходы (платье, белье, книги и проч.) потребуется большая сумма; кроме того, раньше осени не начнется печатание Голубя[2275], т. е., следовательно, не раньше окончания нашего операционного года, т. е. мы не обернемся в этом году теми средствами, кот<орые> в нашем распоряжении. Но тем не менее Вы не беспокойтесь; мы будем Вам высылать пока 300 р.; дальше будет видно; м<ожет> б<ыть>, Вы переедете в Ниццу, где дешевле, или просто сократите срок пребывания за границей, напр<имер>, до весны. Пока обнимаю Вас крепко; радуюсь Вашему счастью и благословляю ту, которая является причиною его. Всего светлого. Горячо любящий Вас Э. М.
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 6. Копия: РГБ. Ф. 167. Карт. 5. Ед. хр. 18. Отрывок опубликован: ЛН. Т. 92. Кн. 3. С. 376.Ответ на п. 193–197.
199. Белый – Метнеру
начинаю длинное это письмо образом; у меня в окне море; в глубине моря за 150 верст туманные видны острова Устики (вулканические). Далее полукруг береговой Палермо, далее – море апельсинных рощ и множество желтых точек – апельсинов; далее: каменная веранда, висящая над обрывом; далее – если подняться по белой каменной лестнице на крышу, то с другой, противоположной стороны – горы: вправо – покрытые снегом (ночью выпал холодный дождь, на горах – выпал снег); прямо – сотни домиков, вытянутых вверх, красных, желтых, из камня с плоскими крышами; у одного домика растопырилась пальма (вид восточный); если же подойти к окну – вот что я вижу: пятнадцать шагов по веранде; далее; отвесная каменная стена – 3 сажени; у краешка стены над 3 саженями Бог весть как туда вскарабкавшаяся Ася, с опасностью жизни рисующая горы и восточный вид города; маленькая над стеной, с золотыми кудрями и в широкополой шляпе; каждые две минуты я стучу ей в окно; она оборачивается, свешивается со стены; я посылаю ей воздушный поцелуй, она – улыбается мне; она – моя жизнь, любовь; и она отныне – подруга моей жизни, вот – образ; больше ничего не прибавлю к нему…
Внизу собралась толпа, человек 20 мальчишек: они кричат и радуются, что madame, здесь так все называют Асю, – обезьянка…
А теперь деловое: ужасно обманул меня Лурье; великолепная природа, интереснейшая из всех мною виденных стран, но, Боже мой, до чего тупой, косолапый, глупый и грабящий народ: и до чего невыносимо без знания языка; по-французски знают здесь только в отелях, да и то Палермских; а вот мы в Монреале уже десять дней объясняемся знаками. Как попали мы в Монреаль, спросите Вы? Да выбора не было: целую неделю рыскали мы по окрестностям Палермо, не находя ровно ничего подходящего. Мы попали в Hôtel des Palmes случайно[2276]; оказалось, это дорогой страшно отель; и пока с неделю ждал я ответа от Кожебаткина (перевода денег)[2277]; мы успели прожить в одном отеле – 300 франков. Как это случилось, спросите Вы? Да вот: здесь в Монреале счет за белье подали нам в 2 лиры 80 чент<езими>; за меньшее количество белья в Палермо подали счет в 12 лир; и так – во всем; съехать до телеграммы Кожебаткина было нельзя. Каждая поездка за поисками помещений – 15 франков. И глупо же здесь устроено: море – а на берегу моря нет ни вилл, ни домиков: есть – клоаки, но домиков – нет; может быть, где-нибудь и есть, но в «Hôtel des Palmes» корыстно от нас всё скрывали, а языка мы – ни слова: я выскакивал с извозчика, и начинал с отчаянья кричать: «appartamente», «camera»[2278] – «quando costа»[2279]; собирались сицилийцы, бессвязно лопотали, и я, не узнав ничего, опять садился на извозчика. Единственно, что нашли мы, – в Монреале две комнаты с видом 8 лир пансиона с каждого; городок – арабско-испанский, очаровательный, но… – сперва мы умерли от холода, обои в комнатах – в клочьях, одно стекло в окне – разбито; а тут – грянули холода (Монреаль значительно выше Палермо). Едва уговорили мы поставить нам печку: поставили – два дня мы угорали; Ася угорела серьезно; печку нельзя было топить; и опять мы замерзли; далее: уговорили мы поставить керосиновую печь: поставили – в комнатах заплавали клочья копоти; опять-таки топить нельзя; опять холод – и сыро. А между тем; в неделю подали счет 130 лир; плюс минимум еще шесть лир в день (табак – 30 чентезими, спички – 20, Асе папиросы – 1 лира, спирт для чаю, чаи, открытки, почта и т. д.). 6 × 7 = 42; 130 + 42 = 172 лиры неделя, если сидеть, мерзнуть, не трогаться с места, ничего не видеть и т. д.; или 688 лир в месяц; на передвижение, осмотры, экскурсии, покупку хотя бы платков, сапог и др<угих> вещей менее ста лир в месяц. И вот мы решили: в Палермо жить дорого, в Монреале сейчас наживем смертельную простуду; справились по Бедеккеру[2280]; оказалось: в Тунисе дешевле, чем здесь; едем в Тунис и там проведем зиму; там же начинаю «Голубя», там быстро пишу драму[2281]. Но, Эмилий Карлович, придется просить Кожебаткина похлопотать о продаже кавказского имения[2282]; авось в шесть месяцев что-нибудь устроится, а пока – в 6 месяцев обязуюсь докончить «Голубя»; сейчас жарю ежедневно по фельетону; кажется, сумма фельетонов обещает составить книгу «Путевые заметки»; собираюсь предложить «Мусагету». Сейчас примусь за четвертый фельетон; три выслал[2283].
Но, Эмилий Карлович, выяснилось, что не 200, а триста рублей нам нужно; здесь в Монреале вот уже пятый день как веду счет; собираюсь его Вам представить по истечению месяца.
А сейчас очень прошу месяца 3 уступить мне гонорар за фельетоны; у меня единственный костюмчик, у Аси нет шляпы, сапоги мои уже 10 дней – развалины; кроме того – переезд в Тунис; и вот: хотелось бы, чтобы было так: чтобы в счет идущих моих в «Речи» и в «Утре России» фельетонов прислали мне в Тунис рублей 150; а затем по истечению месяца, то есть к пятому русскому январю мне прислали сумму на следующий месяц (300 рублей); а затем вычли экстренные 150 рублей по мере печатания фельетонов. 150 рублей = 3 моих фельетона. Фельетонов буду писать по 4 в месяц. 3000 рублей окуплю следующим образом. 20 листов «Голубя» по 150 рублей за лист в «Русской Мысли» = 3000[2284]; кроме того: напечатание отдельным изданием в «Мусагете» – минимум 300; книга статей о Италии – 150 р. (так?); драма – 150 (так?). Итого: заработаю: 3000 + 300 + 150 + 150 = 3600 рублей. Умоляю Вас, дорогой друг, согласиться на мое предложение.
Да?..
Спешу окончить письмо: из Туниса пишу о себе – внутренно: пишите.
Адрес: Тунис. Poste restante. Мне.
Остаюсь любящий
Б. Бугаев.
P. S. Анне Михайловне привет. Привет Николаю Карловичу[2285].
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 25. Опубликовано Г. В. Нефедьевым: Русско-итальянский архив. II. С. 136–138.Датируется на основании пометы рукой Метнера: «1/I 911» (видимо, дата отправления на почтовом штемпеле с несохранившегося конверта).
200. Белый – Метнеру
Привет из Туниса[2286]. Странно, точно во сне. Каждый араб – благороден, красив, доисполнен достоинства. Вот вид Туниса, одна из сотен улиц; долго сегодня шатались среди мавров и негров; хорошо; только все еще холодно; пожалуй, холодней, чем в Сицилии. Но прекрасно, дешевле, французы – как после итальянцев им радуешься; арабы – тоже благородней. Обнимаю.
Б. Бугаев.
P. S. Привет от Аси.
С Новым годом!
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 26. Видовая цветная открытка: «Tunis. Soak des Armes».Датируется по почтовому штемпелю: Tunis. 5. 1. 11. Штемпель получения: Москва. 29. 12. 10.
201. Белый – Э. К. Метнеру, А. С. Петровскому, Н. К. Метнеру, Н. П. Киселеву, М. И. Сизову, Н. А. Тургеневой
7 января. 25 декабря.
с новым годом! Желаю радости, счастья; сейчас сидели с Асей перед углями; камин рассказывал про то, что могло бы быть, да не вышло. Милый, верьте, – будет, будет, будет! Целую, жму руку.
Б. Бугаев.
Да, камин говорит: рассказывает: сейчас был не в Тунисе, а с вами всеми, с «московским». Буду скоро писать, а сейчас, в этот день русского Рождества, хочется только сказать: с новым годом: и этот год будет решающим. Обнимаю.
Б. Бугаев.
И Вас, Вас слышу: угли навеяли снежную бурю: где пламенный жар, там – и метель. Вы, метельный, как верю в Вас!
Обнимаю.
Б. Бугаев.
С Новым Годом: близко, близко – всё будет: если не здесь, то – «там»; что-то сейчас коснулось меня, что-то шепчет, успокаивает: не существует пространства; я ощущаю нашу общую связь. Христос <с> Вами, не забывайте: Вы, сейчас, хранитель того, чего никогда не бывало, никогда не бывало. Но оно – будет!
Б. Бугаев.
И Ты, Миша, – неспроста: не унывай; испанский принц должен пройти пустыню[2287]: но за пустыней – земля обетованная. Пусть этот наступающий год – улыбнется наступающим счастьем, не счастьем мира, а того, что за миром.
Мы вместе. Обнимаю,
Б. Бугаев.
Милая Наталья Алексеевна, и Вы – Вы тоже: хочу просто взять Ваши руки, улыбнуться. Вы – сестра. Все хорошо. Ничего, что трудно; будет день, будет час, мы увидим, узнаем. Целую Вас. Христос с Вами.
Б. Бугаев.
В «Московское»: братьям и сестре. Братьям прочесть в четверг[2288]. Сестре после четверга.
Всем вместе.
Заповедь новая нам дана: пусть любим друг друга. Не старая заповедь, а новая: это Ее последнее слово. И Она – она с нами.
Б. Бугаев.
Ради Бога, будьте вместе! Ничего не должно распасться.
РГБ. Ф. 128 (архив Н. П. Киселева). Текст – на почтовой бумаге «Hôtel Eymon. Porte de France. Tunis». Опубликовано А. Л. Соболевым: Арабески Андрея Белого: Жизненный путь. Духовные искания. Поэтика. Белград; М., 2017. С. 43–44.Конверт адресован на имя Н. П. Киселева. Почтовый штемпель получения: Москва. 3. 1. 11.
1911
202. Белый – Метнеру
Пишу Вам с чувством глубокого возмущения; только что прочел: негодую. Ведь мы с Асей ничего, ничего не знаем, русских да и вообще никаких газет не читали. Да, да: это все та же история; но, главное, милый – напишите, в каких газетах были сочувственные отзывы: это мне много скажет[2289]. Пора, крайняя пора всем не жидам в какой-то платформе (очень широкой) протянуть друг другу руки: нелепо я это делаю, дружа с разными не жидами. Своя платформа – узкая, нетерпимая; тактическая платформа для меня есть ничто иное, как союз самообороны непродавшихся против продавшихся. История с Николаем Карловичем показала явно, еще раз, как обнаглели они. Ужасно, гнусно, демонично… но тут есть одно, очень любопытное, что хорошо, что выявилось. Это – двойственность Кусевицкого. Вы писали о продажности и жидовстве берлинской эстрады[2290]; Ася рассказывала мне о продажности и жидовстве эстрады французской (отчего д’Альгеймы ушли из Франции). Мне все более начинает казаться, что ту же скверную роль собирается сыграть Кусевицкий с эстрадой русской. Будьте с ним осторожны, дорогой Эмилий Карлович…
Думаю по поводу инцидента с Н. К. написать фельетон (это надо непременно раздуть), но не тотчас… Напишу недели через 2[2291]. Сначала дам на днях силуэт Ник<олая> Карловича в «Утро России»[2292]. Когда выйдет Ваша книга?[2293] Буду о ней писать – куда? Не в «Аполлон» ли? Или – в «Речь»? Кстати: напечатали ли в «Аполлоне» мое против Брюсова?[2294] Пишу, чтоб знать, куда посылать о Н. К. Пишу и ему…[2295]
Милый, милый – пишите мне: Вы не можете себе представить, как нужна мне сейчас Ваша дружба: издалека, вне текущих и срочных дел, заслоняющих или оттесняющих… главное, я сейчас прямо обращен к Вам, и как Вас не хватает! Этот месяц столько создал для меня. Подавляющее количество впечатлений внешних, подавляющее колич<ество> впечатлений внутренних; успокоение – то же. А было много сложного…
Прежде всего во внешнем. Италия обрушилась на нас. Сицилия промелькала, как большой, цветной, пестрый лоскут, как «grotésque» самой Италии, где итальянская несуразность, Вами подчеркнутая, возведена в сплошной канон грандиозными смесителями – сицилийцами: это скорей об-итальянившиеся мавры + испанцы: Вы понимаете, что получается из пролития в испорченную итальянскую кровь Мавритании и Испании; итальянские элементы сицилийца испоганивают его; паршивый итальянишко, грабитель и вор, организатор Каморры и Маффии сидит здесь у себя дома… комфортабельно; но рядом с поганцем… звучит в сицилийце и африканец; и Африка – благородная часть души сицилийца. От мавров переняли они суровость, и полное отсутствие слащавости (не чернослив – а черносливная сладкая грязь… и воняющая); от итальянского взяли они не Манталини[2296], сладкого черносливного тенора, а длинноносого жулика неаполитанца. Длинноносый жулик, однако, все еще борется с благородным арабом. И в этом отношении Сицилия показалась интереснее Италии, цветнее, махровей, но и… более психически утомительной. Одна из причин, по которым мы бежали из Сицилии, была еще бóльшая, чем Вы рассказывали, пропасть между дешевой и дорогой жизнью; дешевая жизнь – вонь и грязь; дорогая еще дороже <в> Италии, среднего вовсе не оказалось. И потому мы, промучавшись в поисках и в ожидании денег, за поиски и за сидение в Hôtel de<s> Palmes отдали страшно много; и бежали… в Монреаль, где тоже было не дешево, холодно, где нас душили, коптили, морозили и где помещение наше с невероятно красивым видом дребезжало, как жестяная коробка. Мы жили в жести и в камне, что зимой… порой нестерпимо; наконец, в наших окнах развалились рамы; дождь и мокрота пролилась в комнаты.
Мы бежали в Тунис.
В Тунисе опять-таки мы сидели 9 дней; ожидая перевода[2297]; и опять-таки это обусловило наши издержки, ибо попали в Hôtel Eymon, где сам пансион сравнительно дешев, но за все мелочи… дерут.
Но Тунис, но арабы, но безоблачное небо, но пальмы – все это великолепно: и как сказалась в Тунисе разница между французом и итальянцем. То, что Италия смешивает, Франция – разделяет: Сицилия – но прочтите о Сицилии у Гёте[2298]: там – все есть… Тунис: европейская часть города: это – повторение Парижа: Avenue de France, и Avenue Julles Fèrry – это Boulevard des Italiennes[2299]; шумная жизнь, кафе; все можно сразу достать (в Италии – ничего); и всё – дешевле. Словом – настоящая культурная Европа; но это – маленькая часть города: а кругом кольцом – снежнобелый, плоскокрыший арабский Тунис с белыми минаретами и пузатыми куполами. И здесь – ничего европейского; везде, где арабы, – чистота: дома белятся и сверкают чистотой; на двориках чистые, пестрые изразцы; сами арабы – благородны, задумчивы, прекрасны: множество достойных, почтенных старцев; отношение к европейцам – сдержанное, но человечески благодушное; если араб и ограбит, как ограбил нас парфюмер (мы купили духов на базаре), то следующий раз он зазовет Вас в свою изразцами убранную лавочку – квадратное углубление в стене без окон – и угостит кофе, даст карточку: словом – считает себя Вашим знакомым и еще в придачу… надушит платок… И странно: следы многовековой культуры везде налицо; простой араб носит интеллигентно-задумчивое лицо, опрятен в жизни, и даже в арабских безделушках – коврах, чашках, туфлях (в которых ходит рабочий), кошельках, которым он расплачивается, – в капюшонах, которым покрывается житель сел, – красота; та жизнь в искусстве и художественном ремесле, о котором писал так много Рёскин, право, осуществлена и проведена в жизнь у араба: форма дома, форма комнат, углы, полы, закоулки, входы домов, резные решетки на ставнях – все изящно. А умение драпироваться в плащ! А самое благородство сочетаний ярких цветов!.. Нет, я уважаю арабов, а Ася – в них влюблена.
Вот почему мы прямо в восторге, когда нашли себе целый дом в арабской деревушке Radès, куда и переселились, где и живем[2300]: новый год для нас начался новой, никогда не виданной обстановкой; у нас – три этажа: в каждом этаже по две комнатушки; и везде зако<у>лочки, проходики, так просто, маленькие пространства, изразцовые полы; с третьего этажа выход на плоскую крышу – и перед нами залитой солнцем, снежнобелый чистый Radès; смотрю из окна – белые, плоские крыши – и финиковая пальма; смотрю в другое окно – Средиземное море; смотрю в третье окно – горы, поля, пузатенький, снежный купольчик из оливок. И дороги, обсаженные кактусами, и белые вдали паруса рыбачьих лодок. В первом этаже дома – только вход; крутая, витая изразцовая лестница ведет во второй этаж; здесь: спальня, столовая, кухонька, так просто комнатушка; все – маленькое; опять-таки изразцовая лестница в третий этаж: здесь комната для работы с громадной (в человеческий рост) сухой желто-оранжевой кистью финиковой пальмы. И за этот домик платим мы в месяц – 50 франков; 70 франков с человека за пансион (140); и 67 за снятую напрокат мебель (с постельным бельем, грелкой и всем прочим); итого устроились за 277 франков месяц; устроились только теперь; расстояние от Туниса – 20 минут жел<езной> дороги; от моря – ходьбы 20 минут. Наш дом на краю деревни; за нами поле оливок и кактусов; с плоской крыши виден и восход, и закат. Во всем горизонте – только одна европейского вида вилла; а то пейзаж целен, стилен, прекрасен; здесь думаем прожить месяца 2, а то и более; и делать экскурсии иногда вглубь – в Захуан, в Кэруан (в глубине Тунисии священный город), в Бискру (17 часов по жел<езной> дороге) – где рукавом песков подходит Сахара: Бискра – оазис, с лесами пальм; из окон же отеля встают пески Сахары (Сахара подходит здесь рукавом); благодаря тому, что мы так устроились, это – возможно.
Только сейчас здесь приступлю к серьозной работе; а то всё были – на бивуаках. Милый, скоро пишу опять: пишите – мне Ваши письма так нужны. Привет и приветствие Н. К., Анне Михайловне[2301] и всем Вашим. Жду от Вас сведений о «Мусагете»: никто не пишет, ничего не знаю. Жду книг.
Любящий Вас нежно
Борис Бугаев.
P. S. Адрес. Afrique. Tunisie. Maxulla-Radès (près de Tunis). A Madame Rebeyrol, buraliste de Radès. Мне. Забыл сказать – из окон виден Карфаген[2302].
<Приписка А. А. Тургеневой:>
Не обижаюсь, помню, а поняла ли и исполняю ли в точности – судить не мне. А что у Наташки[2303] побывали – хорошо.
Ну всего хорошего.
По какому-то я вас люблю.
Ася.
Привет вашим.
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 27. Опубликовано (без начальной части – до разделительной черты) Н. В. Котрелевым: Восток – Запад: Исследования. Переводы. Публикации. М., 1988. С. 151–153 (с датировкой: «Начало января ст. ст. 1911 г.»).Датируется на основании пометы рукой Метнера: «16/1 911» (видимо, дата отправления на почтовом штемпеле с несохранившегося конверта).Ответ на п. 198.
203. Метнер – Белому
Ховрино 11/1 911.
С новым годом дорогой, милый, будьте всегда так счастливы, как сейчас! – Всего получил от Вас три письма[2304] и трижды три (кажется, так) открытки[2305]. Наконец-то пришло известие, что Вы имеете мое письмо… Я так мало писал оттого, что не было никакой возможности… Неприятности, нездоровье, срочное, длинная канитель разных обстоятельств места, времени и причины – не давали покою… Половина квартиры оказалась еще непросушенной, и вот мы ютимся в трех комнатах: работать мне негде, книгами пользоваться нельзя, т<ак> к<ак> они в куче в темной комнате; игра Коли[2306] мешает мне; только через неделю можно будет устроиться. В городе, конечно, работать тоже нельзя; к тому же здесь Ядвига[2307], которой приходится посвящать не мало времени, ибо она скучает со своими родственниками. Когда все будет здесь, в деревне, устроено, Ядвига приедет к нам гостить… Я Вам прислал самые важные вырезки, касающиеся инцидента Менгельберг – Метнер; появилось еще несколько хороших отзывов об исполнении Колей четвертого концерта Бетховена (в одном отзыве (Георгия Конюса) Коля назван идеальным исполнителем Бетховена, как бы рожденным для его произведений)[2308]; но отдельных статей не появлялось; Петербург, спохватившись, перепечатал только Колино письмо…[2309] С Кусевицким я имел длинную беседу, еще более укрепившую во мне мысль об его фальшивости… Мы всё еще не можем забыть петербуржского кошмара: плохо спим и нервничаем. Это было очень скверно… Менгельберг – голландец и по типу не похож на еврея; скорее на фламандского мужичка вроде тех, что мы видим на бытовых картинках Рембрандта; впрочем, черт их разберет. М<ожет> б<ыть>, и справедлива поговорка: не тот жид, кто еврей, а тот жид, кто жид… Во всяком случае верно, что эстрада испорчена еврейством. Что касается статьи об этом скандале, то я не представляю себе, как Вы ее напишете; скорее Вы могли бы или отозваться кратким, но едким письмом в редакцию журнала Музыка, или же использовать этот инцидент в каком-нибудь фельетоне, где Вы коснетесь общих «артистических» нравов и обычаев. Впрочем, если у Вас что-нибудь напишется об этом, то посылайте в Речь; но предварительно дайте мне возможность просмотреть, чтобы не было недоразумений. «Силуэт» лучше всего поместить в день московского концерта Коли, который состоится 7-го марта[2310]. Так и напишите редакции. –
Ваше возражение Брюсову выйдет, вероятно, в январе[2311]. Моя книга почти напечатана, но вследствие невозможности заняться послесловием и примечаниями выйдет не раньше начала февраля[2312]. – Если будете о ней писать, то в Аполлон, т<ак> к<ак> в Речи, вероятно, напишет Гессен или кто-н<ибудь> по его указанию; а в Аполлоне, пожалуй, хватит о ней негодяй Каратыгин; когда будете писать Аполлону, то заявите, что Вы желаете писать о моей книге, тогда не поручат другому[2313]. Макс Волошин написал благоглупость о Мусагете в Аполлоне[2314]. Я послал возражение против якобы штейнерьянства и католичества в Мусагете[2315]. Виноват, конечно, Эллис, который невесть что наговорил этому пошлому Максу… Проспект не может выйти, т<ак> к<ак> Вячеслав не присылает ни статьи об Орфее, ни проспектиков своих (тоже еще не присланных) книг[2316]. Не присылает Вячеслав и своей брошюры Лев Толстой и Сократ[2317]. Степпун приехал и не привез Люцинды, кот<орая> будет готова только к осени[2318]. Сергеев не приготовил трактата о живописи Винчи и обещает только в конце 1911 г.[2319]; Эллис бездельничает и читает Штейнера и о Штейнере и не переводит Парсифаля, а также не двигает своей книги статей[2320]. Чеботаревская не перевела Серафиту[2321], а Сабашникова не готова с Эккартом[2322], также как и Алексей Сергеевич с Бёме[2323]; даже Киселев не приготовил обещанного тома о провансальцах и также медлит с переводом О любви Стендаля[2324]. Наконец, все музыканты надули со статьями о трех композиторах[2325], и Кожебаткину с Охрамовичем почти нечего делать[2326]; так<им> обр<азом>, организация не оправдывает себя коммерчески, книги, конечно, идут, но пока медленно, а деньги уходят на авансы тех произведений, которые будут готовы лишь тогда, когда у Мусагета не будет уже средств их издавать… Я нарочно рисую в мрачно-комичном виде все это, чтобы Вы видели, что у меня достаточно забот. Обещайте мне не писать никаких воззваний к мусагетчикам; я сам понемногу справлюсь. Все сказанное Вас не касается, т<ак> к<ак> Вы на особом положении, но все-таки надлежит экономить и Вам; не забывайте, что ведь, когда Вы приедете в Москву, Вам придется устраиваться, а на это также нужно несколько сот рублей! Я бы советовал Вам как можно скорее двинуть Ваше дело с кавказским имением[2327]. Пишите скорее обещанные письма нам и Вашей маме[2328], которая кстати сказать, ругает ругательски Мусагет, считает нас всех злейшими Вашими врагами, помешавшими Вам сделаться профессором, и жалуется Марье Михайловне Дмитриевой, что ввиду Вашего путешествия ей приходится экономить и отказываться от туалетов; разве она тоже субсидирует Вас или она Вам дала перед отъездом кругленькую сумму? Если это было сказано так, зря, то, пожалуйста, не пишите ей ничего об этом; Бог с ней; да и сам не сердитесь на нее; она Вас не понимает и не поймет никогда; но стесняться с ней в денежных делах, где Вы обязаны в отношении к Мусагету заявлять о своих законных правах, конечно, нечего, и потому я очень прошу Вас по возможности немедля двинуть дело о кавказском имении… – Мы никак не можем найти рукописей Вольфрама Крауза (Пенгу) о Скрябине, Метнере, Рахманинове; отец мой сказал мне, что давал Вам их на просмотр вместе с остальными рецензиями о Коле, что Вы вернули только рецензии, а рукописи нет. Вы не пугайтесь; рукопись стоит всего 100 марок, и я ею очень недоволен, так что втайне доволен, что она пропала, но все-таки напишите, где ее искать в Вашем столе (ключ и прочее); кстати, хотелось бы иметь и Ваш портрет из Золотого Руна[2329], где Вы написали мне стихотворение… Мы хотим издать Вашу лекцию о Достоевском брошюрою[2330], но существуют две редакции; которую взять как основной текст? – NB NB. Если будете для Аполлона писать о моей книге, то, пожалуйста, пришлите статью мне для просмотра во избежание «музыкальных» недоразумений. – Ваше письмо «московскому» было прочтено перед «заседанием»[2331]. Спасибо, спасибо; Коля также благодарит Вас; странно (или больше уже не странно!), что Вы попали в точку; как раз за последнее время Коля носился с метельными темами, с белым хаосом и умиротворяющим его гиератичным мотивом, чтó все и отображается ныне в новой фортепианной сонате, которую он писал в то время, когда я подавал ему Ваше окружное послание; соната, конечно, еще далеко не готова; она движется (слушайте, слушайте, творец теории ритма!) в 15/8!!! – Такого ритма еще мир не слыхивал; это титанично, если принять во внимание, что 15/8 не сдаются в течение всей первой части. –
Наташу[2332] Ваше «послание» уже не застало в Москве. Она недавно уехала с Поццо в Италию[2333]. Д’Альгеймы приехали злые-презлые; негодуют и на Асю и на Наташу. Я еще два раза подолгу беседовал с Наташей и очень подружился с ней. Скажите Асе, что я поздравляю ее с новым годом и что тоже «по какому-то» ее люблю, думаю, что «по какому-то» меня любит и Наташа, а также и я ее… Обе обложки Аси мне очень понравились, особенно для Стигматов[2334]. Анюта[2335] шлет Вам обоим сердечный привет. – Да! забыл еще одно дело: как быть с Мережковским, кот<орый> пишет статью для сборника о Культуре и религии[2336]; ведь это – тема Вячеслава! Еще одно недоразумение с Верховским, кот<орый> вообразил, что Мусагет обещал (?) напечатать его сборник стихов[2337]. Надо уладить особенно первое недоразумение, т<ак> к<ак> Вячеслав, узнав, что Мережковский пишет, обиделся; все это отголоски преждевременно разыгравшейся «португальской революции»[2338]; придется, если Мережковский статью уже написал, извиниться и заплатить ему; печатать его я не стану, и статью на эту тему напишет Вячеслав, как это и было всеми единогласно решено на собрании о сборниках. – Ваши сицилийцы мавры арабы меня интересуют; сицилийцы – смесь римской мешанинной челяди с сарацинами и норманнами; последние две крови, конечно, преимущественно в аристократии; мавры образовались еще в древности из одного арийского племени с примесью арабов (они же сарацины), которые одни только и являются чистыми беспримесными семитами, и с примесью (небольшою) негров; но впоследствии этот древний маврский народ впитал много германской крови именно от вандалов и от вестготов; установлен странный факт, что почти все знатные тунисцы и алжирцы ведут свой род от вандальских и вестготских викингов и герцогов. – Однако пора кончать: наконец-то мне удалось написать Вам письмо. Благоденствуйте, живите себе беззаботно, работайте сколько хотите, что хотите. – Но только не очень засиживайтесь; лучше как-нибудь еще раз съездите. Ваше отсутствие очень заметно, и фатально то, что мы всё с Вами разъезжаемся, старинный друг! – Обнимаю Вас крепко. Моя душа всегда с Вашей и наше отношение «по какому-то» больше дружбы. Ваш Э. М.
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 7. Копия: РГБ. Ф. 167. Карт. 5. Ед. хр. 19.Ответ на п. 202.
204. Белый – Метнеру
Дорогой друг! Спасибо, спасибо за письмо – всячески: по содержанию, и за сведения. Это не ответ, но сейчас, получив Ваше письмо перед тем, как идти на почту, считаю нужным ответить на некоторые пункты. Ваше письмо единственное о «Мусагете». Я взял слово с Кожебаткина о том, что кто-нибудь мне будет что-нибудь писать; далее по поводу сроков, статей, Арабесок[2339], ритма[2340] и деловых сношений я не хотел Вас обременять вопросами, помня, что Вы – в деревне; и однако писем на 10 деловых, состоящих сплошь из вопросов, – ни звука. Более того, он меня два раза подвел со сроками, во сколько высылаются деньги; произошла путаница. Далее: раза три я просил сообщить «Мусагету», что из моих «Путевых заметок» намечается книга: я послал 8 фельетонов о Сицилии, не имея дубликатов. Знаете ли Вы, что на «Мусагет» (на Кожебаткина) пришло 8 фельетонов. Он должен был их отсылать в «Речь» и «Утро России»[2341]. Я заинтересован в их напечатании, а также в том, чтобы рукописи были сохранены; в ответ – ни звука. Вообще, Эмилий Карлович, если будет так продолжаться, то нельзя ли мне со всеми мелочами обращаться к Алексею Сергеевичу[2342] или Ахрамовичу. В последнем случае скажите от себя, чтобы мне писали. На Кожебаткина я – вне себя. Сейчас не расскажешь всех «хамств» его молчания: он молчит на такие вещи, которые требуют ответа немедленного. Скажите ему, что я просто порой рву от бешенства волосы. В «Палермо» меня ограбили[2343], в «Тунисе» я был вынужден сидеть 8 дней в отеле, когда дешевое помещение мы нашли. Я ему пишу это, высказываю, в какие сроки мне будут нужны деньги, – ни звука, ни звука![2344] По расчету уже в 10 дней лежит мое письмо: ни звука, ни звука…
Порой думаю, что это систематическое молчание – есть издевательство.
2) Я негодую на маму: денег она мне дала за несколько недель до отъезда 100 рублей, которые пошли на то, что я был должен несколько десятков рублей, и на то, что деликатно незаметно помочь Асе. 100 рублей не кругленькая сумма, как Вы пишете; и для мамы это ровно не составляет никаких стеснений.
3) Спасибо, спасибо громадное за предложения написать письма Вам и маме; я только и думаю об этом. Но доверенность у Кожебаткина. Итак, я пишу Вам, Ал<ексею> Сергеевичу, а Вы двиньте Кожебаткина. Милый друг, никогда не забуду Вашей доброты. Мне до зарезу нужно, чтобы имение было продано.
4) С Мережковским не знаю как случилось: я не писал ему ни слова вот уже 9 месяцев. Кожебаткин был в Петербурге; был и у Мережковских. Стало быть?..
5) Вольфрам: ах, это ужасно; Вольфрам не пропал, но в бумагах канул. Когда вернусь, найду. Портрет канул в бумагах.
Дорогой друг – это не письмо, а наиболее отписный ответ.
Остаюсь глубоколюбящий
Борис Бугаев.
P. S. Письмо на днях идет. Привет и уважение Анне Михайловне, Николаю Карловичу[2345] и всем Вашим. От Аси сердечный привет.
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 28. Помета рукой Метнера: «911 февраль?».Ответ на п. 203.
205. Белый – Метнеру
12 февраля (нового стиля).
хотел Вам писать тотчас по получению Вашего письма[2346] обстоятельно, но в тот день, кажется, была поездка в Тунис; а потом два дня маленькое нездоровье и вялость; потом с Асей сделался жар; так прошло пять-шесть дней; пишу сегодня. Было мне беспокойно эти дни; вдруг наступили холода, да какие; выпал град; у нас в доме разбитые окна, а у Аси сильный жар; я был в совершенном отчаянии; страшно за нее волновался… Сегодня первый день опять тепло: безоблачное небо, солнце. Сейчас вернулся с прогулки; весна! Поют птицы: всюду пробивается густая зелень; сидел на камне на склоне горы; весь склон белел в маргаритках; кругом раскидистые оливки, коричневато-красные камни; невыразимое море вдали; издали поблескивал огонь с карфагенского мыса; там на возвышенности лепится великолепный Сиди-бу-Саид (село), на самой оконечности мыса; и на самом кончике Сиди-бу-Саида маяк; когда мы с Асей были в Сиди-бу-Саиде и стояли на вершине маяка, кругом золотилось в лучах заката тунисское озеро, ель-Багира, впереди и внизу разбивалось море – что за картина! Такой картины не видел я никогда в жизни. Направо, налево, прямо – даль на много десятков верст; налево – извилистый берег Африки и… Бизерта; направо – громадный Тунисский залив и Добрый Мыс; впереди море и остров Зембра; несколько сзади, по берегу залива – Радес; за Радесом – двурогая гора, которая сейчас глядит в мое окно, когда я пишу; за этой горой 3 года дрался Сципион Африканский, прежде нежели осадить Карфаген[2347]; на вершине двурогой горы карфагенские жрецы приносили человеческие жертвы, а теперь там надпись «Vive la République!»[2348] Жалко! Радес стоит на месте древнего поселка Римлян; поселок назывался Prates; и теперь еще всюду, если покопать, подземные ходы, монеты; Радес находится с противоположной стороны Туниса, нежели Карфаген, а между тем он ближе к Карфагену: так странно здесь расположены места благодаря заливу, косам, перешейкам и озеру. Если ехать по берегу озера, до Карфагена верст 40; если же пересечь перешеек (песчаную косу), до Карфагена не более 10 километров; в начале этого перешейка Радес; в сущности виды с трех сторон его окружают (с севера, запада и востока); на юг – гористая зеленая страна с гребнями Атласа и Захуаном, самой высокой горой Тунисии, откуда к Карфагену был проведен водопровод. С увлечением читаю я книгу о населении Сев<ерной> Африки[2349]; и – Бог мой – какая путаница: основное население – берберы, состоящие из белой расы, шедшей от Сахары к северу, и белой же расы, идущей от Иберии к Африке; до сих пор целые берберские деревни – блондины; карфагеняне не оставили здесь следов; никогда они не сливались с основным населением; берберы от слова barbari; нумидийцы – они же; и у них славное прошлое: Масинисса, Югурта, нумидийская конница и т. д. Берберы в сущности никогда не бывали покорены римлянами; римляне понастроили города, но вглубь сельской страны не уходили: ютились по городам. Вандалы, образовав здесь государство[2350], со столицей Карфагеном, очень быстро сдружились с берберами; часть берберов вандализировалась, вандалы берберизировались; византийцы не пользовались любовью здесь никогда; так было до прихода арабов; арабы не были многочисленны, и они не были фанатичны (фанатизм внесли впоследствии турки); они составили аристократию; в Испанию двинулась маленькая часть арабов с берберским войском;
берберы начали эмигрировать в Испанию и там переженились на христианках; часто они восставали против чистокровных арабов; арабы посылали для укрощения сирийских солдат; так в Испанию хлынули сирийцы; христиане + берберы + сирийцы с малой примесью арабов образовали мавров; когда мавры были изгнаны в Испании, до 3-х миллионов их переселилось в Алжир и Сев<ерную> Тунисию, составя аристократию. Кроме того с востока хлынули турки, которые всегда остались лишь покорителями, весьма мало изменя расу: берберы очень склонны к сектантству: главный контингент донатистов-христиан[2351] образовался из берберов; впоследствии перейдя в ислам, они откололись в ересь шиитскую (ортодоксы магометане сунниты); теперь население Тунисии состоит: 1) мавры (испанцы + берберы + сирийцы + арабы), 2) берберы, 3) чистокровные арабы (всего 3 трибы[2352] на юге), 4) берберизованные арабы, 5) арабизированные берберы (главный контингент), 6) берберизированные и арабизированные турки. Евреи мало смешивались со здешним населением. Еще недавно еврей при встрече с арабом (в широком смысле, ибо арабом зовет себя и бербер) должен был слезть с мула и поцеловать руку; еврей не смел носить красную феску, а черную, не смел ездить верхом на лошади и пр. Прекрасная, живая, красивая раса; ни следа жидовства или монгольства; алжирцы берберы не менее; марроканцы, столь стойко отстаивающие и по сю пору свою независимость, главным образом берберы (арабы в широком смысле слова) и менее всего арабы (в узком смысле слова)… Есть тут в Тунисии много суданцев и очень много туарегов; туареги отличаются разбойничими нравами в пустыне; они часто нападают на караваны; но они гораздо преданнее французам, чем берберы; часто их из-за честности берут в сторожа; сторож – в оседлом месте, и разбойник по убеждению в пустыне; таков туарег…
Но довольно, я невольно заболтался с Вами, дорогой друг, вместо того, чтобы говорить о деле; что делать: Африка так манит, так она в своих африканских чертах непохожа на Европу, так самобытна, целостна: подумайте, милый: целый громадный материк иной, не европейской земли; астрал, элементали – все, все здесь иное; иное клише «ви́дений». Не Европа Африка, но и не Азия; Азии вовсе нет, монгольства ни капли. Африка для меня неожиданный, многообещающий подарок моей поездки: подумайте, каких-нибудь несколько сот километров вглубь и – Сахара. Сахары в Тунисе нет, конечно, но за Тунисом чувствуется громадный, иной, в неизвестность убегающий фон; все мелочи жизни, начиная с цвета земли и кончая ужимками мимоидущего араба, воспринимаю я с изумлением и вниманием на этом, куда-то убегающем фоне; и чувствую – этот фон в Сахаре.
Отвечаю: 1) О маме я уже Вам писал[2353]; меня страшно волновало то, что Вы мне написали; и вот уже недели полторы не мог ей писать хладнокровно: но… жаль, жаль ее: она и говорит, и действует, как несчастный больной человек; и притом по-своему она любит меня больше всего на свете, не понимая ничего ровно ни во мне, ни в окружающих меня. Было время, она старалась ко мне подойти – ничего не вышло; старалась подойти и к моим друзьям – ничего не вышло; и вот она с той поры непроизвольно… сердится; дело не в том, что я не профессор; это мама говорит в пику… Тут вообще что-то иррациональное, оскорбленное… Что она ругала «Мусагет», это меня не удивляет; но это – минута; мне она пишет хорошие вещи про «Мусагет»[2354]. Ее сердит, что… я нашел средства уехать от нее; она бы мне не дала денег, хотя бы потому, что рассматривает меня, как прикрепощенного… 2) Как я уже писал, она дала мне 100 рублей, но еще за некоторое время до отъезда. При этом письме присоединяю письма. 3) О «Мусагетцах»: ужасно ругался, что они бездельники; но, помня Вашу просьбу, никому ничего не писал. 4) Нельзя ли, дорогой Эмилий Карлович, о делах, мелочах (например, с фельетонами, устройством моих дел (доверенность у Кожебаткина)) обращаться не к нему, а к Вам, или, если нужно, к Алексею Сергеевичу[2355]; уже за 2 месяца вследствие неотвечания вопросов на 30 мелких, которых смысл уже миновал, произошла, вероятно, путаница; я жалею, что дал доверенность Кожебаткину в деле сношений[2356] с редакциями; нельзя устраивать своих дел при систематическом молчании. Передайте, милый, Кожебаткину, что, ввиду его неотвечания на письма, все рукописи, а также вопросы я буду делать не к нему, а к Алексею Сергеевичу; с своей стороны я прошу Вас передать Алексею Сергеевичу мою нижайшую просьбу отвечать мне за Кожебаткина; например: Асе непременно хотелось, как автору обложки, знать, какова бумага обложки альманаха и «Стигматы»[2357]; молчание, как молчание по всем пунктам. К немому человеку невольно перестаешь обращаться; если Ал<ексею> Сергеевичу трудно отвечать на мелочи, то… я буду адресовать мелочи хотя бы… к Ахрамовичу; но мне важна Ваша санкция как Редактора, чтобы отвечали. Ведь на конторе лежит обязанность отвечать не только члену Редакции, а хотя бы на простой запрос со стороны. Письменная часть конторы (корреспонденция) у нас… черт знает что! 5) Фельетон о Ник<олае> Карловиче[2358] придет через несколько дней. 6) Жду книг.
Главное: Теперь, Эмилий Карлович, о самом деловом и важном для меня; я уже писал неоднократно Кожебаткину, что собираюсь писать книгу «à la Путешествие по Италии» Гёте[2359], конечно, в другой форме, в форме отрывков; поэтому фельетоны мои по мере появления в газетах прошу очень сохранять, рукописи у меня нет, переписывать все фельетоны – безумная работа. Так вот: каждый мой фельетон от 48 – до 55 рублей (по количеству строк); я отправил 10 фельетонов (8 на имя Кожебаткина, 2 на Ваше), т. е. на 500 рублей; эти 500 рублей берет «Мусагет». Ввиду того, что подавляющее количество у меня впечатлений, они врываются и мешают сосредоточиться для «Голубя»[2360], то – я решил: писать очень много фельетонов, как отрывки книги, которую предлагаю «Мусагету». Чтоб покрывать 3000 тысячи <так!> нужно написать «60» фельетонов; и я их напишу в течение путешествия; за книгу (страниц в 300 приблизительно) беру ну… 200 рублей; итого рукописями гарантирую 3200 рублей; теперь: если «Речь» и «Утро России» печатает мои фельетоны по 2 в месяц, то в течение 15 месяцев постепенно покрывается долг; если по 3 в месяц, то в течение 10 месяцев – покрывается. Теперь: наш план с Асей таков: к июню вернуться в Россию и прожить, так Ася хочет, лето у Софьи Николаевны[2361]: там денег мне будет нужно крайне мало; летом на месте я пишу «Голубя» и к осени хотя бы ⅔ рукописи готовы, тогда беру аванс в «Р<усской> М<ысли>»[2362]. Итак, я уже написал следующие фельетоны:
1) Венеция. 2) От Венеции до Палермо. 3) Палермо. 4) Пестрый Сфинкс. 5) Хохотун и горюн[2363]. 6) Монреаль. 7) Радуга Монреаля. 8) От Палермо до Трапани. 9) Перед Тунисом. 10) Арабы. 11) (отсылаю) Тунис…[2364] Немедленно пишу еще следующие: «Метнер» (силуэт вне серии фельетонов)[2365] и продолжаю серию[2366]; темы таковы: 12) Быт арабов. 13) Арабские кафе. 14) Население Северной Африки. 15) Тунисия. 16) Арабская деревня (Громбалия, ель-Ариана, Сиди-бу-Саид, Гамман-Лиф, Радес). 17) Карфаген. 18) Радес. 19) Радес (материал уже на все эти фельетоны есть). 20) Захуан. 21) Керуан (в оба места поедем). Итого через 2–3 недели я уже написал 22 фельетона, т. е. на 1100 рублей; остается 40 фельетонов, и они совпадают с все растущим пылом у меня видеть вокруг и наблюдать. Я взял пока у «Мусагета» на поездку так: 200 + 300 + 50 + 300 + 200 + 200 = 1250; Кожебаткин телеграфировал (??), а не писал, что 5-го февраля высылает 300; присоединяю и их = 1550; остается мне 3000 – 1550 = 1450. Теперь: если бы «Редакция» в лице Кожебаткина выговорила условия печатания моих фельетонов в «Утр<е> Р<оссии>» и «Речи» по 3 в месяц; или «2» и «3», то при 5 фельетонов в месяц, она получала бы 250 рублей назад из 300 мною посылаемых; если «4», то 200, если «6», то все «300»; так возвращались бы постепенно деньги в кассу; есть у меня еще проект возобновить сотрудн<ичество> в «Киевской Мысли»[2367], но для этого нужно сделать одно маленькое поручение, о котором я напишу Ал<ексею> Сергеевичу[2368]. Если бы и «Киевская Мысль» печатала по 2 моих фельетонов в месяц, то 300 рублей возврата Редакции гарантированы.
Все это выгоднее и «Мусагету» и вместе облегчает меня; теперь: то, что я пишу фельетоны, Вы будете видеть по количеству их получения; и уже дело Редакции Мусагета снестись с редакциями газет; Кожебаткин сделал глупость (писал в телеграмме!!), что в «Речь» отдал серию; значит, он ждал нескольких фельетонов, упуская время их печатания… Вы скажете, что тяжело отмахать 60 фельетонов; да, это было бы тяжело, если бы я их писал между прочим; но я теперь сосредоточиваюсь только на фельетонах, помня, что 1) это отрывки книги, 2) что я в них рассказываю о том, что вижу. Но мне нужен материал для наблюдения, чтобы 60 фельетонов вышли красочны, любопытны для газет; душа тянется в Африку, в Италию возвращаться хочется. Мы с Асей хотим ехать в Россию через Египет, Иерусалим, Константинополь, или… Малая Азия; переезжая потихоньку, это не будет дорого; единственный переезд, нас смущающий, Тунис – Египет; поездка в Египет и Палестину – паломничество, интересное путешествие: Гроб Господен и Пирамида – зовут, зовут, зовут, зовут безмерно. При этом 60 фельетонов гарантированы. «8» фельетонов + 12 тунисских + 20 египетских + 20 – Палестина и т. д. = 60 гарантирую. Получится интересная книга; и потом Египет – моя родина. Жить в Египте можно; отели первоклассные дороги; меблированные комнаты – нет (у нас уже есть все указания); мы теперь привыкли к арабской деревне, и конечно, сумеем устроиться под Каиром дешево.
Итак: к июню по нашему плану мы будем в России. В июне Редакция получит уже все фельетоны, часть денег за них уже будет в ее руках. Пусть только Кожебаткин похлопочет с условиями печатания и попросит печатать больше; два фельетона у Вас; я их прислал, чтобы Вы могли ознакомиться с их содержанием. Теперь: на 300 рублей прожить можно в Каире и везде, с маленькими переездами: Каир – Палестина, Палестина и т. д. Единственный переезд это Тунис – Александрия; билеты на пароходе 2-го класса около 200 франков (3–4 дня пути морем); итого у нас нет 400 франков. Теперь: если Редакция устроится с фельетонами, то ей не страшно мне до июня дать 3000 тысячи <так!>, 2) две газеты и после мне гарантированы, следовательно существовать на первых порах с трудом до осени (в деревне) можно; летом пишу «Голубя»; осенью хлопочу об авансе в «Р<усской> М<ысли>». И вот моя просьба: пришлите мне сразу 500 рублей; тогда – мы едем в Александрию; три недели я провожу еще в Радесе; за это время еду в Керуан и Захуан (2 фельетона); Керуан – священный город Сев<ерной> Африки (5 часов езды вглубь страны; древнейшие мечети). По средам идет пароход в Мальту; с Мальты же в Александрию; письма идут иногда 10–12 дней; по получению этого письма у Вас на размышление 2–3 дня; если же согласны с моим планом, то промедление – лишняя неделя здесь, т. е. лишний еще взнос за аренду мебели, за помещение и т. д. Сроки кончаются так. 3 недели; если деньги опоздают (500 рублей) в течение 3-х недель, неделя траты в ожидании парохода. Почему 500? 500 = 1250 фр<анков>, из них: плачу за неделю здесь; 30 фр<анков> на Захуан, 100 на Керуан, 400 на Александрию; приехав в Каир, надо, чтобы 600 франков были на руках.
Милый Эмилий Карлович, немножко энергии со стороны Кожебаткина, и – «Мусагет» вполне обеспечен. Между тем, отсюда, из Европы, Вы не можете себе представить, какой магнит… Африка. Что Италия? Что Сицилия? Что-то древнее, вещее, еще грядущее и живое в контурах строгих африканского пейзажа. Строгость, величие, дума о Вечности, созерцание Платоновых идей, все<го> этого – в Европе нет; все это обнажено в Африке, даже здесь, под Тунисом: я удивляюсь глупости многих туристов, колесящих Европу, когда в Африке можно почти без опасности и сравнительно дешево углубиться в пустыню; горюю о том, что черт дернул нас с Асей через Италию поехать в Тунис: вот как надо было бы: Одесса – Александрия – Каир – Асуан – Хартум, т. е. углубиться вглубь нубийской пустыни; это было бы не более дорого, но в 100 раз плодотворнее, интереснее, значительней… Дураки европейцы. Уголок Туниса более стоит всей Италии в совокупности; ведь вот: французы, черт их знает, в 1000 раз культурнее итальянцев; и однако, под их влиянием дикий туарег, оставаясь диким, в некотором смысле приятнее и приобщеннее цивилизации, чем коренной сицилианец. Немцы, французы, англичане – молодцы: живые народы. Итальянцы – гниль. Здесь в Тунисии (не в Тунисе, а в стране) только 20 тысяч французов, поселившихся недавно; и страна – процветает; и здесь издавна живут 120 тысяч сицилианцев, которые ровно ничего не сделали для процветания страны. Итальянцы здешние ненавидят французов. Французы очень мягки с туземцами, ввели всеобщую грамотность, корректны. Если бы туристы знали Алжир и Тунис, то конечно, не ехали бы они в Италию!..
Милый, любимый друг! Продолжаю Вам писать. Пишу на откосе: Ася рисует раскидистое дерево, я сижу рядом; сотни убегающих вниз коряжистых дерев. Между ними темнокоричневая – цвета обожженных солнцем туарегских лиц – земля; она золотая, влажная, туманная; вдали – синее дочерна море и совершенно лиловые гребни сахарийского Атласа. Птицы щебечут; благовоние тмина; покой, нирвана, далекий звон бубенцов. Сейчас мы карабкались по деревьям; видели большого африканского кузнечика: странный, совсем не похожий на нашего. Здесь весна: каждый день зацветают новые цветы; только что сошли мандарины и финики; уже есть свежие, зеленые мандарины; под ногами дикая спаржа; всюду прут какие-то нам не известные травы; сегодня утром нарвал Асе большой букет в поле белых цветов; дикий тюльпан начинает цвесть, показались многообразные букашки. Сейчас видели ужасного араба. Он полз на четвереньках по дороге, выгибая спину верблюжьим горбом; злые на нас его покосились глазки, и он сердито что-то про себя промычал[2369]; может быть, это какой-нибудь «марабу»; «марабу» – юродивый мудрец; его почитают при жизни, а по смерти хоронят в полях, воздвигая белоснежный куполок; такая могила тоже называется «марабу». С «марабу» связана целая культура воинствующего мусульманства. Два года тому назад один «марабу» взбунтовал берберов против французов на юге Тунисии; потребовалась целая карательная экспедиция. Милый, милый – подумайте: только на 300 верст вглубь идут железные дороги – до Габеса и Гафсы; к Гафсе поезд уже идет в пустыне; пески эти сливаются с Сахарой; к Гафсе приходят караваны из глубины Сахары; южнее ее уже начинаются аванпосты и форты в оазисах пустыни; там бродят караваны (до 3000 верблюдов и вооруженных арабов), иногда на аванпосты и караваны нападают туареги; вот в таком-то аванпосте, в оазисе, на берегу пустыни хотел бы я много месяцев жить, скакать верхом в песках и часами просиживать, глядя на звезды. И это – только каких-нибудь 500–600 верст вглубь. Но туда пробраться европейцу опасно, пока дойдешь до аванпоста – прирежут… Пока пишу эти слова, все лиловеет, желтеет, краснеет; море – туманится, и над ним беложелтая, сияющая луна, громадные пространства спереди: ни души. Прохладный, вечерний ветерок… И опять тайна веков заглядывает в глаза, голос все тот же внушает: «Будь в Египте»[2370]. Там, у пирамид можно взглянуть в лицо Ливийской пустыне – взглянуть на мир с вершины пирамиды… Милый, прошу Вас, дайте возможность мне совершить это паломничество…
Вернулись с прогулки; возвращаюсь к делу: ради Бога, если Кожебаткин может что-нибудь похлопотать о продаже кавказского имения – пусть похлопочет; сплю и вижу его продажу. Прилагаю при сем письма (отдельный конверт), Эмилий Карлович, Вам, Алексею Сергеевичу и Кожебаткину[2371]; маме пишу завтра письмо, предупреждающее о моем намерении[2372]. Боже мой, как до зарезу мне нужно, чтобы имение было продано.
Конспектирую: 1) Пишу 60 фельетонов и летом «Голубя»; 2) Прошу переговорить с Редакциями о максимальном количестве моих фельетонов в месяц. 3) Прошу 500 рублей на поездку в Египет (300 + 200). 4) Присылаю письма.
Дорогой, милый друг: обнимаю Вас, люблю, верю. Радостное что-то утверждается.
Христос с Вами.
Борис Бугаев.
P. S. Николаю Карловичу и Анне Михайловне[2373] привет, любовь и уважение. От Аси привет тоже.
3 письма, касающиеся бумаг по имению, посылаю при сем в отдельном конверте.
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 29. Помета рукой Метнера: «911». Опубликовано (с сокращениями) Н. В. Котрелевым: Восток – Запад. С. 154–158.
206. Метнер – Белому
Ховрино 1/II 911.
Дорогой друг! Не сетуйте, что редко пишу; моя жизнь течет в нынешнем сезоне нелепейшим образом; верите ли, мне негде даже присесть, чтобы работать или написать в спокойствии письмо. Только вчера, наконец, второе отделение нашей квартиры почти вполне готово (хотя сырость все еще не вполне прошла), и я до сих пор (начиная с поездки в Италию[2374], т. е. 4½ месяца) только и делал, что метался из стороны в сторону и ничего нужного и основательного сделать не мог. Казалось бы, что теперь должно, наконец, начаться спокойное житье и сосредоточенная работа, но… надо мною снова собираются тучи… Дело в том, что Омовик-Змеевик[2375] сообщил мне об арестовании брошюр некоего Л – а, который оказался социал-революционером; брошюры были разрешены мною в 1905–6 гг., т. е. во время наибольшей свободы печати; выговора тогда я за них от Главного Управления по делам печати не получал, но губернатор[2376] был недоволен этими брошюрами, однако арестовать их не посмел. Теперь – реакция; кроме того, министерство, конечно, зло на меня за то, что я не захотел преследовать кадетскую партию; на брошюры эти смотрят теперь сквозь увеличительное стекло, т<ак> к<ак> критерий дозволенного сузился и вдобавок автор – заведомый «преступник» (чего тогда не знали); скверно то, что автор в руках охранного отделения; одним словом, я живу с мыслью, что буду отдан под суд и что придется мне сидеть ½ – 2 года в крепости. Об этом знают пока: Коля, Анюта, папаша[2377], Кожебаткин и Садовской (как нижегородцы и посредники между мною и Омовиком, кот<орый> боялся писать мне лично, т<ак> к<ак> письмо могло быть перехвачено и ему досталось бы), затем, конечно, Киселев, Сизов, Петровский и теперь Вы, как рк<?>[2378]. – Странно, что известие это известие совпало с окончательным освобождением от подсудности Эллиса[2379], и когда он мне об этом с радостью рассказывал, то я мог бы ему в ответ сказать, что теперь, вероятно, мне придется играть его роль. – Темные силы вооружаются, и в союзе могут оказаться черносотенцы с жидами. Может быть, тучи и рассеются; надо, чтобы близкие крепко пожелали этого. Ваше письмо получил[2380]. Кожебаткин говорит, что писал Вам. Это обычная его отговорка. Фельетоны Ваши пришли и размещены по газетам; я читал пока только о Венеции[2381]. Но все они пойдут наверное. Другое дело Ваш Голубь; Брюсов сказал мне, что в 1911 г. он печататься не будет[2382] и что, может быть, в 1912 году, если Вы своевременно, т. е. в середине 1911 года представите ему всю рукопись до конца. Ваши Арабески выйдут, но статьи о Шелом Аше и о Жоресе мы выпустили[2383]; уж очень они по стилю не соответствуют остальной книге… Статью Вольфрама о Скрябине надо непременно найти, т<ак> к<ак> мы должны выпустить книгу через месяц от сегодня, а статья еще не переведена на русский язык[2384]. Надеюсь, что она «канула» не в интимных, а в деловых бумагах??? Вашего письма, обещанного в предписьме, я не получал еще[2385]. Коля благодарит Вас за письмо[2386] и скоро ответит Вам. Анюта шлет Вам привет. – В Мусагете все идет своим чередом, т. е. двигается черепашьим шагом вследствие форс-мажорной неаккуратности авторов. Отец мой очень доволен Кожебаткиным как купцом и дельцом; приходится мириться с некоторыми отрицательными чертами его, кот<орые>, как Вы знаете, и мне крайне неприятны. Моя книга[2387] задержалась вследствие невозможности для меня работать сосредоточенно. Эллис (Стигматы)[2388] и Ваши Арабески на днях выйдут. Печатаются стихи о прекрасной Даме[2389]. Вскоре начнется Логос[2390]. Почти готова рукопись Эккарта[2391]. Переводится брошюра Деуссена о Канте, Веданте и Платоне[2392]. Альманах стихов[2393] просматривается Эллисом… Вот и все новости. Коля читает Ваш Луг зеленый и просто в восторге, в особенности от статьи о Чехове[2394]. От Наташи[2395] получил письмо с границы. У нас в квартире понемногу становится очень уютно: в моем кабинете есть камин, и я мечтаю с Вами посидеть возле угольков; стоят сильные морозы, ясные лунные ночи и восхитительные закаты, когда мы перед вечерним чаем катаемся на лыжах, то бежим, имея по одну сторону восходящую луну, а по другую заходящее солнце. Все могло бы стать хорошо, если бы не тревога в душе о будущем. Приветствуйте от меня Асю и будьте оба радостны и спокойны… Коля сочиняет «Тени сизые смесились» Тютчева…[2396] До свиданья. Обнимаю Вас крепко. Любящий Вас Э. Метнер.
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 7. Копия: РГБ. Ф. 167. Карт. 5. Ед. хр. 20.
207. Белый – Метнеру
Радес. Февраля 21-го. 11 года.
Получили ли Вы большое мое письмо, в котором я пишу соображения о Египте, «Голубе», фельетонах?[2397] Если получили, ответьте. С нетерпением жду ответа.
А вот партия моих фельетонов. Посылаю отрывки №№ 12–15 «Путевых заметок». Скоро высылаю партию следующих. Ко времени отъезда из Радеса будет написано 20 фельетонов; из них все почти писаны в Радесе. Ко времени приезда в Россию, надеюсь, что уже 50 фельетонов «Путевые заметки» из 60 будут готовы; остающиеся быстро дописываю в России; и принимаюсь за «Голубя». Только бы газеты печатали по 4–5 фельетонов в месяц. Ах, хотелось бы мне устроиться еще в «Русском Слове»: там лучше платят; если бы Кожебаткин с «Р<усским> С<ловом>» попытался бы переговорить[2398].
Может быть, милый Эмилий Карлович, Вы заглянете в мои фельетоны и найдете что-либо интересным о Тунисе? №№ 9 и 10 я послал Вам. № 11 – Кожебаткину. Пишу завтра о Ник<олае> Карл<овиче> (силуэт)[2399] и высылаю тотчас, чтобы к 7-ому марту можно было бы напечатать в «Утре России».
Если будет в Редакции накопляться избыток моих фельетонов, то можно бы часть некоторую печатать в «Русской Мысли» (Брюсов просит у меня для нее тунисских впечатлений)[2400]; но лучше (по цене) в газетах. Если «Русская Мысль» даст хороший гонорар – другое дело…
Милый, пожалуйста, передайте это Кожебаткину; ему я уже отчаиваюсь писать; но пишу… все же[2401].
Но кончаю деловое это письмо. Скоро пишу письмо не деловое. Ну прощайте. Христос с Вами.
Остаюсь искренне любящий
Борис Бугаев.
P. S. Мой привет и Асин Анне Михайловне[2402]. Ася, конечно, приветствует и Вас. Привет и уважение всем Вашим.
Получили ли мои письма к Вам, Ал<ексею> Серг<еевичу> и Кож<ебаткину>… об имении?[2403]
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 30.
208. Метнер – Белому
Аксиньино (Ховрино) 19/II 911.
Простите, простите, что так мало пишу Вам и так долго не отвечаю! На это миллион мелких причин, что в связи с какимто странным вообще состоянием моего духа (и здоровья) и объясняет особливую медленность всех моих занятий в нынешнем сезоне. Кроме того, я полторы недели был сильно болен инфлуэнцой. Должен сказать, что никогда еще я так часто не хворал или, вернее, не прихварывал, как за последние полгода. Уж не старость ли наступает?!.. – И большое и маленькое письмо Ваше я получил. Отправленные Вам 500 рублей (вскоре после отсылки Вам ежемесячных 200 р.) явились, конечно, реальнейшим ответом на Ваши соображения об Египте. Из 60 фельетонов в двух газетах могут быть помещены maximum 30 фельетонов, следовательно, 30 фельетонов надо напечатать в Русской Мысли. Сноситься еще с другими газетами неудобно, т<ак> к<ак> Речь и Утро России перестанут печатать Ваши фельетоны, если их будут печатать еще две газеты (Киевская и Русское Слово)[2404]; Вы забываете два обстоятельства: 1) газете приятно считать данного фельетониста исключительно своим; 2) центральный интерес дня в настоящее время политическое состояние как внутреннее, так и внешнее; Речь и Утро России печатают Ваши путевые фельетоны без особенной охоты, т<ак> к<ак> это не совпадает с переживаемым Россией моментом; Вас печатают главным образом потому, что считают своим сотрудником и ждут от Вас в будущем фельетонов на общественные и литературные темы. На это обстоятельство Вы не должны закрывать глаза. Сейчас в России страшное внутреннее волнение, которое не отражается вполне в печати только потому, что газеты безбожно штрафуются и конфискуются… Итак, советую Вам все, начиная с путешествия из Туниса в Египет и вплоть до возвращения через Константинополь (где Вы непременно, если останетесь несколько дней, обратитесь к моему хорошему знакомому Феодору Аркадьевичу Духовецкому, Pancaldi 147, или же узнайте его адрес в консульстве), – итак, все остальное путешествие Вы опишите в расчете не на газеты, а на Русскую Мысль. Конечно, гонорару Вы получите меньше и потому Вы должны экономить, т<ак> к<ак> иначе слишком задолжаете редакции; ведь за Голубя Вы раньше года не получите ни копейки, а за фельетоны гораздо меньше, нежели Вы думали, т<ак> к<ак> едва ли даже 30 фельетонов удастся поместить при теперешних обстоятельствах. Дело об имении, конечно, своевременно будет приведено в движение. Алексей Сергеевич уже говорил об этом с Вашей мамой[2405]. – Бумагу для обложки Стигматов выбирал сам Эллис[2406]. – Вопрос об обложке Альманаха[2407] еще не подымался. Кожебаткин обещает Вам отвечать и просит присылать фельетоны на его имя, т<ак> к<ак> иначе задержка в их распределении, т<ак> к<ак> я бываю в Москве большею частью 1 раз в неделю. – «Сериями» фельетоны требовали сами газеты, так что Кожебаткин тут не причем. – Много ли зарисовывает Ася и умеет ли она быстро импрессионистически набрасывать? Хорошо было бы снабдить Вашу книгу путешествия иллюстрациями[2408]. Конечно, отдельно заплатить за них мы не можем, т<ак> к<ак> мы решили теперь твердо платить от 12–15 процентов за книгу и ни копейки больше; конечно, вследствие иллюстраций за книгу можно будет назначить более высокую цену, а отсюда и повысится Ваш гонорар. Относительно иллюстраций я делаю пока только предположение и ничего не решаю. – Гносеологические мозги Яковенки заплавали наконец на поверхности Мусагета «рядом с цилиндром Кожебаткина». – Он (не цилиндр, а Яковенко) прочел реферат (прилагаю конспект); где высек жестоко Эрна, но, конечно, не прямо, а косвенно[2409]; были ожесточенные прения, и наши обскуранты (Бердяев, Эрн) договорились до credo, quia absurdum est[2410], до мыслей типично-инквизиционно-иезуитски-католических; нет, уж знаете, тогда я лучше на стороне Когена; ибо в этом возмутительном рабском догматизме больше жидовства, чем в сдвинутом со своих арийских скреп кантианстве Когена… Вообще католицизм, психологический католицизм и католическая психология (хотя бы Штейнера) начинают меня серьезно беспокоить. Эллис просто с ума сошел, и в сущности он уже вышел из Мусагета. Мне крайне неприятна мысль, что Эллис остается еще в Мусагете только потому, что субсидируется им (по 1-ое января он забрал авансу 625 рублей), и что, имей он иной источник дохода, он ушел бы фактически. Вот список правонарушений Эллиса за последнее время.
1) Он явился причиной нелепой, хотя и лестной статьи Волошина в Аполлоне о Мусагете, кот<орый> будто бы склоняется к штейнерьянству и католицизму. На эту статью мне пришлось возражать[2411].
2) Он нарочно медлит с сборником своих статей, т<ак> к<ак> ему не хочется его печатать.
3) Парсифаля, кот<орого> он хочет печатать, он, однако, не переводит вследствие того, что ни разу не может явиться в назначенное время ко мне[2412].
4) Книгу о снах он решительно не желает печатать, хотя, по мнению Киселева, это вообще самое ценное, что он написал[2413].
5) Зато на всех перекрестках он кричит, что Мусагет его притесняет и обижает, т<ак> к<ак> не хочет печатать его Гобелены[2414]. (Дело в том, что нельзя же выпускать в свет в течение одного полугодия два сборника стихов одного поэта![2415]). 6) На прошлой среде (кот<орую> я не посетил, т<ак> к<ак> лежал больной) читали стихи Вячеслав и Эллис[2416]. Вячеслав похвалил Эллиса; тогда Эллис иронически его поблагодарил и затем сказал: а Ваши стихи мне совсем не нравятся; они риторичны и неискренни. Вячеслав обиделся, и только его сдержанность предупредила новый скандал в Мусагете, виновником которого явился бы все тот же Эллис[2417]. 7) Наконец, Эллис не только не принял моего выговора за нетактичность и нарушение гостеприимства в отношении к Вячеславу, но вдобавок написал мне письмо в тоне ультиматума, где заявил, что не отдаст «своего» Парсифаля под марку Орфея, если в проспекте об Орфее будет статья «рыжего», который «нечестивыми руками своими лезет к чаше Грааля»[2418]. – Теперь Эллис всюду говорит, что Мусагет ищет внешнего успеха и потому аннексировал Блока и Вячеслава и что это не направление, а просто беспринципный оппортюнизм… Согласитесь, что Эллис просто сошел с ума! Пожалуйста (беру с Вас слово), не пишите Эллису никаких попрекающих писем: это его не исправит. Да он и неисправим, ибо по психологии католик и обскурант. Но, конечно, он внутренно более не «мусагет», и издательство, как течение, едва начавшись, переживает уже серьезный центральный кризис. Быть в духе при таких обстоятельствах довольно трудно и остается махнуть на все рукою и уйти в себя. Все наши благодарят за привет и кланяются Асе и Вам. Крепко обнимаю Вас; любящий Вас
Э. Метнер.РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 7. Копия: РГБ. Ф. 167. Карт. 5. Ед. хр. 21.Ответ на п. 205, 207.
209. Белый – Метнеру
Милый, милый Эмилий Карлович! Спасибо – очень. Деньги получили[2419]. Завтра едем[2420]. Когда получите, адрес: Afrique. Egypte. Kaire. Poste restante. Пришлю привет с пирамид. Привет всем Вашим. Фельетон о Ник<олае> Карл<овиче> в дороге[2421]. Весь Ваш любящий Б. Бугаев.
P. S. От Аси привет. На всякий случай пишу о пер<емене> адреса А. С. и А. М.[2422]
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 31. Видовая открытка: «Kairouan. Grande Rue».Датируется по почтовому штемпелю: Tunis. 7 Mars 11. Штемпель получения: Москва. 28. 2. 11.
210. Белый – Метнеру
10 марта 1911 года.
Пишу Вам с парохода. Едем в море. Едем уже сутки из Мальты[2423]; ехать еще трое суток. Выехали из Туниса 8-го; только 13 или 14 утром будем на месте. Попали на пароход не пассажирский, а, кажется, торговый; он идет из Гамбурга через Мальту – Порт-Саид к Филиппинам и Китаю, и на возвратном пути в Индию; произошло вот что: только что мы пришли в восторг от Мальты, ее крутых стен и домов, будто изваянных в природном камне[2424], как поганый южный итальянец, смешанный здесь с греком, сказался: опять началось жульничество[2425]. Я так разозлился, что уговорил Асю ехать с первым пароходом, какой только уйдет. Пассажирский пароход, ближайший, отходил 12-го; нам предстояло иметь 3 дня дело с кретинами; и мы выбрали отходящий пароход немецкий. В Мальте пробыли мы всего 5 часов; достаточно, чтобы извне познакомиться с городом. И не раскаиваемся: у нас милая каюта с двумя койками, диваном, стулом и столом. В окне – кипят волны; мы – единственные пассажиры; обедаем в обществе милого бородатого капитана, изъездившего весь свет, и милого, добродушного офицера-чудака: он предлагает нам риожанерские сигары, везет с собой целую библиотеку; он мрачен, считает китайцев более культурными, чем Европейцы; на столе у него я нашел… Канта![2426] И он слышал о… Риккерте!! Немцам я обрадовался, как своим, сразу пахнуло уютной, не отельной, обстановкой.
Между прочим, вся почти команда парохода – китайцы; их 45 человек; устроились прочно на пароходе; море пока хорошо; кругом – море. Мы плывем не в Александрию, а в Порт-Саид, ибо парохода в Александрию пришлось бы ждать в Мальте до 12-го. Из Порт-Саида шесть часов езды – и Каир. Пройдем перешеек Суэцкий. И уголышек Красного Моря увидим. (Выяснилось, что не проедем)[2427].
Ася с трудом переносит море. Я – хорошо; сегодня нас покачивает уже в общем третий день (выехали третьего дня в три часа из Туниса). Сегодня Асе лучше, и она сидела на палубе.
Милый, если бы сейчас Вас сюда! Я сижу в удобном кресле на палубе. Перед глазами неизмеримые пространства оловянно-серебряных волн; мимо меня от времени до времени пробегает желтая морда с подвязанной косой: сейчас обедали; и теперь я комфортабельно предаюсь забытью. На палубе никого. Покой в сердце. Сейчас капитан шутливо звал нас с собой в Индию и Китай; здесь нас считают за молодоженов и оказывают множество маленьких услуг. Обстановка здесь товарищески-семейная.
Дорогой друг – продолжаю: уже от Мальты мы проехали 1000 километров; теперь с правой стороны от нас в 300 километрах Триполи, с левой Крит; уже заметно теплеет; сейчас после ужина странная была картина; 3 моряка, здоровенных детины, спорили друг с другом… о чем? О том, что сказал Кант! Говорил капитан о Гейне, Шлегеле[2428] и графе Платене… Это были первые разговоры о предметах высоких после трехмесячных наших скитаний; характерно, что в отелях говорят о погоде, дешевизне или дороговизне; в поездах Тунисии разговаривают о кушанье; два француза, ехавшие с нами из Туниса, добрых полчаса говорили о том, как вкусно то, и как вкусно это; наконец мы с Асей стали смеяться: тогда француз французу заругал русских, но Ася резко их вслух оборвала… А вот в море, среди мелькающих китайских чертей в уютном салоне за домашним яблочным пирогом, бородатый капитан говорил со мной о финикийских надписях, Канте, Платене… и нагрузке угля. Кстати о китайских чертях: сию минуту у меня в окно каюты постучали, и когда я отдернул занавеску и прильнул к стеклу – с той стороны стекла, тоже прильнувши к окну, на меня уставилась желтая харя, как би-ба-бо[2429]. И увидев, что я на нее смотрю, пустилась бежать по палубе. Наш пароход «Arcadia» весь нагружен рельсами для Манджурии. Зачем немцы снабжают китайцев железнодорожными рельсами?.. Ведь эти рельсы против России; против России – против Европы. Какой здесь вкусный яблочный пирог, какой уютный капитан; механик водил меня по всему машинному отделению, и завел на корму; на корме – скотный двор; в клетках овцы, свиньи, куры; один баран важно расхаживает на палубе без привязи; в чьей-то каюте весь день распевает канарейка; утром в 8½ нас зовут к первому завтраку, в 12 часов обед, в 3 – кофе, в 6 ужин.
Сейчас гулял долго на палубе. Луна сквозь серые тучи, чернобелые (от пены) камни (волны – бегающие камни) неслись с неимоверной быстротой; за пароходом вьется стая птиц. Хорошо, весело; так можно плыть месяцами. Пока стоит чудная погода; даже Ася, наконец, вовсе освоилась с морем. Лишь бы не сглазить; ведь плыть нам еще 3 суток.
11-го марта. Вот уже третий день, как мы в море из Мальты; говорят, что послезавтра будем в Порт-Саиде; покачивает боковой качкой; сейчас стоял у борта, и меня обрызнула холодная, соленая волна; качка какая-то винтовая; вчера, как писал, что море спокойно, сглазил; уже ночью захлопали двери; стали опрокидываться флаконы и пр… Но уже у нас с Асей прививкой служит четырехдневное наше путешествие. Если бы сразу на качку – болели бы. Сегодня море – черное с белыми пятнами пены; есть две пены: пена надводная – белая; и пена, крутящаяся под легким слоем воды; и эта пена – бирюзовая; у носа и у кормы бледнобирюзовый водоворот; странно, что ни у кого из поэтов нет эпитета к пене «матовобирюзовая»; между тем это определение напрашивается само собой; когда подскакивает в воздух гребень волны, то он – темно-синий; блеснет солнце и у носа образуется в брызгами пропитанном воздухе радуга; сейчас долго-долго глядел в водоворот, окаймляющий наш пароход; кругом черное, подскакивающее белыми гребнями море, а вокруг парохода синебирюзовое сквозь белое кружево кипенье – свист, рев, треск на поверхности воды летящих струек и ветер, сшибающий с ног. Прекрасно! Нет впечатления пучины, а скорей – землетрясения какой-то желатинной среды. Ходить по воде можно; нужно только сапоги, смазанные салом; я удивляюсь, как до сих пор это никому не пришло в голову.
По моему рассчету проехали мы около 1500 километров от Мальты; осталось по моему рассчету нам до Порт-Саида более 1500 километров. Никогда я не думал реально, что так далек Египет; максимум, думал я, трое суток езды, а тут с 8-го до 13-го (минимум) ехать. То есть до 6 суток езды. С 9-го (3-х часов дня) мы не видали ни парохода, ни малейшего клочка земли, только море да море.
Сегодня полдня проиграли с Асей в крестики; писать трудно (качка); потом смотрели на грохот упадающих на нос корабля чернолиловых скал; море – густейшие лиловосиние чернила; разбиваясь о нос, оно мгновенно становится бледнобирюзовым водоворотом; и пролетает под ногами уже белой пеной; сейчас ужинали, и опять два часа болтал я на черт знает каковском наречии с капитаном; капитан сказал: «Мы, морские люди, не говорливы: но мы любим, когда нам рассказывают». Узнали неприятную новость: приедем в Порт-Саид только через 3 суток; ветер и волны навстречу. Еще три дня и три ночи качаться нам. Ну да ничего: мы пообвыкли. Жаль одно: пропадают дни; писать много нет возможности при такой качке; да и глупеешь от того. Вот я с трудом намарал 6 листочков Вам; а в них – ни одной умной мысли: хоть шаром покати. Кончаю же; буду писать подробно уже из Каира; из Порт-Саида пришлю открытку: милый, милый, позвольте же Вас еще, еще и еще раз благодарить за то, что дали нам возможность увидеть Египет; со священным трепетом приближаюсь я к пирамидам. Жму крепко руку. Получили ли 17 фельетонов. 18-ый о Н<иколае> К<арловиче>. Писал его накануне отъезда[2430]. Напишите, получили ли.
Всем Вашим глубокий привет. Остаюсь любящий
Борис Бугаев
P. S. Ася посылает привет Вам и Ан<не> Мих<айловне>[2431].
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 32.
211. Белый – Метнеру
Милый Эмилий Карлович! Вчера сидели на берегу Нила. Вдруг потянуло к пирамидам[2432]. Поехали. Когда подъезжал, злился: гадостно очень, что турист едет. Но пирамиды вдруг взревели тысячалетьем. В 1000 раз они более значительны внутренним смыслом, чем воображение их представляет; солнце уже село. Мы с Асей взобрались на несколько ступеней ко входу, черному жерлу, и нам казалось, что под нами пропасть, а мы были еще у подножия. Ослепительная луна стояла над ребром пирамид. Белое привиденье феллаха сидело рядом. Позднее на ослах ночью мы поехали к Сфинксу, глядящему из песков выше пустыни на горизонт. Первое впечатление: «Петля и яма тебе, человек»[2433]: Сфинкс гневался. Когда внизу феллах освещал его магнием, он презрительно смеялся. Потом лицо его преобразилось: он стал женственно-нежным и удивленно-грустным, наконец ангельски прекрасным в голубой ночи, обсыпанный звездами; более значительного. Умереть бы у его подножья[2434]. Не так ли, Ася?[2435] Сфинксу нос отбил Наполеон[2436].
Всех целую. Получено ли 18 фельетонов?
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 35. Почтовый штемпель получения: 12. III. <11>.
212. Белый – Метнеру
Пишу Вам под впечатлением Египта[2437]: странная страна; здесь одно замечательное явление: груда пепла; груда пепла – старый Египет; груда пепла – феллахи (пепла крепких египетских костей); феллахи, лицом и фигурой схожие с древними египтянами, – самый декадентский народ на свете; рослые, крепкие, красивые, живописные, грязные, развращенные, лживые, понимающие лишь побои да ругань, феллахи не способны никому и ничему сопротивляться; ужасаются, негодуют на миролюбивую дряблость феллахов; у них есть лишь одна сила: побеждать, уступая; они предавались всем народам; и все, коснувшись Египта, мгновенно деморализировались; замечательно, что крепкий и здоровый климат убивает всех: здесь почти нет стариков; все умирают до сорокалетнего возврата; мамелюки, турки, европейцы, чистые арабы почти не имеют детей; у Магомета-Али (знаменитого здешнего хедива) из 80 детей только пять выросли; немногие дети турок совершенно изменяются в Египте; они превращаются в феллахов; брак иностранца с феллахиней дает не метиса, а чистого феллаха, разбитого, дряблого морально, но физически наиболее выносливого; размножаются в Египте лишь феллахи; но они – груда пепла. Это явление замечательно; на него обращали внимание все писавшие о Египте вместе с Наполеоном…[2438]
Ужасающая месть древнего Египта тем, кто пытается воздвигнуть здесь что-либо после него. И оттого Сфинкс здесь, кажется, единственное живое лицо: но то не человек[2439].
В четверг шестнадцатого были на вершине Хеопсовой пирамиды[2440]; потом расскажу: впечатление более чем странное: на ребре пирамиды над крутизной и под крутизной в быстропадающих на пустыню сумерках меня на минуту охватил мистический ужас, а Асе сделалось дурно, и мы, сидя на небольшом уступе (подъем крут – и узок), казались взвешенными в воздухе; и здесь пронеслось: «Оставь надежду навсегда»[2441]. На вершине же – восторг; чувство высоты и закинутости, отделенности от всего живого на миллиард верст (мой извечный кошмар детских снов) на мгновенье исполнился под вершиной пирамиды, когда три четверти пути уже были пройдены…
Не будь Асиной головки у меня на плече и 6 рослых феллахов вокруг нас, я бы, пожалуй, кинулся вниз головой (но то не головокружение, а чувство Строителя Сольнеса[2442]).
Вчера на нильской лодке (вот форма) катались далеко по Нилу в золотокарих, тяжелых сумерках; справа и слева шли колоссальные пальмы.
Здесь нет ни единой черты сходства с Тунисом. Тунис – раздвоен (Париж и чисто сохранившаяся арабская культура), Каир – смешан; Тунис собран, Каир – разбросан; Тунис белоснежный, Каир[2443] – черносерый; тунисский араб белоснежный; феллах черносиний; тунисская феска круглая, маленькая, с длинной кистью; каирская феска высокая, остросрезанная, с кистью короткой; туниски белые, феллахини – черные; тунисцы чистые, феллахи – грязные; тунисские мечети грациозно-маленькие; каирские нелепо колоссальные; тунисские постройки – простые; каирские – «велелепны». Тунис к Каиру (в смысле арабства) относится так, как прерафаэлитизм к рококо; араб арабизировал бербера; феллах расслабил араба; в Тунисе небо чистое, в Каире тусклопыльное от «хамсина» (знойного ветра пустыни); в Тунисе ни соринки; в Каире – паршивая грязь; в Тунисе сочетается демократизм француза с аристократизмом араба; в Каире сочетается низменность феллаха с тупым чванством миллионщиков англичан; в Тунисе почти не встретишь араба в европейском кургузом костюмчике, но зато все грамотны; здесь лезут из кожи, чтобы казаться европейцами, и на 1000 – 4 грамотных; Тунисия мила, уютна, дешева; Египет величественен, страшен, чудовищно дорог; но несмотря ни на что, это самая прекрасная по пейзажу страна изо всех стран, мною виденных; тропическая растительность и мертвизна пустыни, подходящей вплотную к Каиру, поразительны своими контрастами.
На днях пишу. Привет, дорогой друг. От Аси привет.
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 33. Помета рукой Метнера: «14/3 911» (видимо, дата почтового штемпеля получения на несохранившемся конверте). Опубликовано Н. В. Котрелевым: Восток – Запад. С. 164–165.
213. Белый – Метнеру
При первом возможном случае мы бежим из Египта. Мерзостнее Каира я ничего не видал. Люди: проходимцы со всего мира и… тупые, глупые миллионщики со всего мира. Природа чудесная, но чтобы ей пользоваться, нужно привести собственный автомобиль. Жить в арабском квартале невозможно (арабов здесь нет): феллахи – грязные скотины, доводящие меня до того, что в руках у меня на них подымается палка. Англичане и турки как будто даже содействуют грабительству феллахов; в европейском же квартале нет ни одного здания не чудовищно-безобразного по стилю. Что Италия! Италия рай пред Каиром. На улицах – грязь и вонь и скачут блохи в невероятном количестве; хуже того: по улицам ползают «вши». Дороговизна – вот примеры ее: случайно, проголодавшись, зашли в ресторан у пирамид: два обеда – около фунта стерлингов (25 франков). Послал на днях короткую телеграмму в «Мусагет»: говорят «двадцать франков». Как? «Да, правительственного телеграфа нет: а это – частный». Слово отсюда в Англию стоит шиллинг, т. е. гораздо более франка. Каковы же скоты англичане, пользующиеся грабительски неведеньем иностранцев: бедные туристы, приезжающие сюда и не подозревающие, что есть чистый, дешевый, белоснежный Тунис к их услугам. Сейчас осмотрели 3 коптские церкви, и грабители вырвали до 60 пиастров, доведя нас с Асей до вмешательства городового. Осмотр достопримечательностей – организованный английским правительством грабеж[2444]: надо кричать, вопить во всех странах об этом. А глупые туристы сносят все: надо позорно заклеймить разбой англичан: гаже нации я не знаю!! Это – вторые жиды.
До сих пор я думал, что Англия культурна; уже одна грязь на улицах Каира и самодовольство Каиром местной прессы (они пишут: «все миллиардеры нас посещают: стало быть, мы что-нибудь да есть») доказывает, что и в смысле элементарной цивилизации они мало чем отличаются от «Скотопригоньевца»[2445]. Каир неприятен… до невыносимости; и кажется, мы с Асей, в ожидании денег, заключимся в четырех стенах…[2446] Сады здесь – но сады пыльные; и позор: за вход в пыльный сад – полпиастра. Где это видано, чтобы платили за право пользоваться несуществующей тенью куцой пальмы. Не только лично, но и принципиально я не могу успокоиться: как смеет существовать Каир, когда есть Тунис! Напишу непременно обо всем этом специальный фельетон, добьюсь, чтобы его перевели, и литографированный экзем<п>ляр пошлю в редакции здешних газет, пишущих: «Нас посещают миллиардеры: стало быть, мы что-то есть». Обнимаю Вас, милый друг. Б. Бугаев.
P. S. Простите, дорогой друг, что не пишу ничего более: ничего сейчас из-под пера не выходит, кроме: скот англичанин!
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 34. Датируется по помете Метнера: «27/III 911» (видимо, дата почтового штемпеля отправления на несохранившемся конверте).
214. Белый – Метнеру
Вы, вероятно, получили мои ругательства на Египет[2447]. То – Каир; про Египет же – беру свои слова назад. Сегодня сделали очаровательную прогулку на ослах мимо Мемфиса, дальних пирамид, храма Сераписа[2448] и через пустыню вернулись к пирамидам Гизеха. Пишу от пирамид. Привет. Привезу Вам кусочек египетского храма и «божка». Крепко жму руку. От Аси привет[2449].
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 36. Открытка с видом пирамид и разлива Нила («Gizeh and the Pyramids»); над изображением пирамиды Хеопса Белый написал: «сюда взлезали»; приписка А. Тургеневой: «Так – когда Нил разливается. Теперь ведь он совсем нет».Почтовый штемпель отправления: <Cairo.> 30<?>. III. 11. Штемпель получения: Москва. 26. 3. 11.
215. Метнер – Белому
Аксиньино 21/III 911.
Дорогой Борис Николаевич! Все Ваши письма, открытки и фельетоны, о кот<орых> Вы запросили[2450], получены. На этот раз я Вам долго не писал, только по одной причине: знал, что Вы покидаете Тунизию Африкановну Булалистову и Ребейрола Максуллиевича Радеса, а куда Вы уезжаете от этой астрально-странной антепредетунисовской четы[2451], до сих пор не был точно осведомлен, да и теперь еще не уверен, что это письмо будет Вам вручено р. ю. басрельнильской мадамой, Пешовой Терезой…[2452] – Больше того: я вообще не знаю, получили ли Вы мое большое последнее письмо[2453]. На всякий случай пишу Вам еще раз адрес Духовецкого Феодора Аркадьевича, кот<орый> очень любезный человек и мог бы быть Вам весьма полезен в Константинополе: Pancaldi 147. – Письма я ему не пишу: достаточно, если Вы сделаете ему визит и передадите от меня привет. – Статью Вашу о Коле Утро России отклонило ввиду ее негазетности[2454]; т<ак> к<ак> в этой же газете была помещена восторженная статья о Коле Георгия Конюса, где он называет его титаном[2455], то отклонение Вашей статьи, конечно, объясняется не темой ее, а формой. Кстати сказать: два последние выступления Коли сопровождались небывалым для него успехом как в публике, так и в критике[2456]; почти все билеты были распроданы, чего раньше никогда не бывало. Его начинают признавать, но от этого становится грустно, т<ак> к<ак> в наш век всякое признание есть только лишь мода, а не понимание. – Вашу статью направят в Аполлон[2457]. – Гносеологические мозги уплыли из Мусагета обратно в Италию[2458], и Вы только осенью получите возможность войти с ними в соприкосновение… Нужно сказать, что эти мозги скорее метафизические, даже мистические с трагическим оттенком, а гносеология есть только остроотточенная шпага, которою галантно выпускают антигносеологические кишки из белибердяевщины (говорю кишки, т<ак> к<ак> мне стало окончательно ясным, что булдяи[2459] и эрны отправляют мышление не мозгом, но и не спинным хребтом, как Эллис, а животом). – Dr. Jakovenko думает, конечно, мозгом, всегда мозгом, но это не означает, что все остальное у него замерло и не функционирует: все остальное из его организации живет (вплоть до ног, которые отлично справляются с норвежскими коньками и могли бы доставить ему приз); все остальное подает мозгу материал для думы… Эллис первый принес мне весть о приезде самого Мажора (как его в противоположность Минору-риккертианцу[2460] называет Шпетт); Эллис сказал так: увидев Яковенко и не зная, кто он, я подумал, слава Богу, наконец-то привезли в Мусагет рояль, и хотел уже дать носильщику (т. е. Яковенке) полтинник на чай; Петровский передал мне свое впечатление след<ующим> обр<азом>: типичный интеллигент, должно быть любит выпить, нам всем, разумеется, бесконечно чужд. Вечером того же дня (или на другой день) я был на рел<игиозно->фил<ософском> заседании и вдруг увидел возле Степпуна новое лицо – да это Моряк-Скиталец! – подумал я и потому сначала решил было, что это не Яковенко; но тут же, вспомнив радикализм Эллиса и его предвзятость, а также и иные психологические ошибки Петровского и увидев большой рост и крепкое сложение незнакомца, решил, что это Яковенко. Через полчаса после этого мы познакомились и говорили так свободно, как если бы давно знали друг друга, несравненно свободнее, нежели со Степпуном, Гессеном, Бердяевым, Эрном. Яковенко мне очень нравится; он бесконечно честен интеллектуально и бесконечно предан своему делу; он – чистейший рожденный философ и только, и потому производит такое же гармоничное и законченное впечатление, от которого сердце радуется, как и Блок, который является чистейшим рожденным лириком и только. Я считаю аннексию этих двух замечательных мужей для Мусагета огромным культурным приобретением. Мысль Яковенки страшной сокрушительной силы и гибкости; он может играючи изничтожить одинаково и Степпуна (кот<орого> он потрепал на последнем мусагетском заседании, выступив против него, за Эллиса!!!), и Бердяева, от которого после заседания остался один язык[2461], да и тот застенчиво неловко изгибаясь схоронился в углу под портретом Верлэна… – Яковенко – трагичен при всей своей силе, но это не трагизм обычного русского интеллигента или Карамазова и не трагизм тупика чистой мысли того типа, как у Фохта; это – трагизм философского строителя, обязанного воздвигнуть систему после неокантианства; это не безвыходный трагизм (а то не могло бы быть гармоничности), а трагизм вечной борьбы, кот<орую> надо бодро вести, даже не надеясь на успех… Вы, конечно, понимаете, что Степпун и Гессен – мальчики в сравнении с Яковенко. – До свиданья, привет Асе. Обнимаю. Ваш М.
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 7. Копия: РГБ. Ф. 167. Карт. 5. Ед. хр. 22. Фрагмент опубликован: ЛН. Т. 92. Кн. 3. С. 381.
216. Белый и А. Тургенева – Метнеру
<Рукой А. А. Тургеневой:>
Наброски – главным образом из Туниса – у меня есть.
Но прежде чем думать о их печатаньи, я должна еще очень посмотреть сама и послать их на суд моему учителю[2462].
Думаю, что вы сами знаете, как мало меня интересует вопрос о деньгах. Лучше бы его и не подымать.
Одно хорошо в Каире – над городом плавают стаи ястребов рыжих с типичным рисунком перьев, как на египетских барельефах. Их больше, чем у нас в Москве ворон. Старый Египет и природа мирят вполне с ужасом автомобилей и отелей. Борины отчаянные письма бывают обыкновенно после прогулки по городу.
Мой привет вашим.
Всего хорошего.
Ася.
<Рукой Белого:>
Буду Вам писать долго и много. Но сейчас – впереди всего – один волнующий меня вопрос. Наши желания встретились. Ася сделала много набросков из моего путешествия, и я хотел предложить «Мусагету», с согласия Аси, иллюстрировать мою книгу[2463]. Таким образом мы согласны, но сейчас же чисто принципиально Вам возражаю. Вы пишете, что по расчету 12–15 % «Мусагет» может платить за книги, которые не идут в широкую толпу. Это – много. Когда я предлагал «Мусагету» книгу, само собой разумелось, что я ее могу предложить и даром, ибо статьи, входящие в книгу, предварительно появятся в разных периодических изданиях. На основании расчета, если не ошибаюсь, «Скорпион» платит за книги, подобные «Золоту в лазури», максимум 7 %. Итак; 5 % «Мусагет» собирается платить мне лишних. Я так или иначе сумею в известное количество времени отработать долг. И «Путевые Заметки» я и не намерен был рассматривать как погашение долга. Стало быть, соглашаясь на то, чтобы % с издания, обеспечиваемый мне в «Путевых Заметках», был = «0», и уступая «Мусагету», если он непременно этого хочет, чтобы я получил не более 5 %, я совершенно не понимаю принципиально, чтобы труд художника не оплачивался Редакцией. Главная краса моей книги, уже появившейся в других изданиях, в Асинах рисунках. И потому, я или согласен печатать в «Мусагете» моей книги, или она должна выйти без иллюстраций, или Асины рисунки должны быть оплочены. Мусагету книга в смысле гонорара может обойтись 5, 6 %, ибо, повторяю, от гонорара я отказываюсь.
Милый друг, пишу о фельетонах. Более 30 фельетонов, пишете Вы, не удастся пристроить; газеты хотят от меня статей о литературе и пр. Эмилий Карлович, «Арабески» и «Символизм» ведь сплошь статьи о литературе и прочем. Тысяча сто печатных страниц – и сейчас же: новые статьи всё о том же. Согласитесь! «Путевые Заметки» есть то, чем я живу, что вижу. Что я буду сейчас писать о России, когда я даже не видел 3½ месяца русских газет. Ведь я ровно ничего о России не знаю. Друзья больше пишут всё «лирически», и я – голоден фактами. Так я знаю, что над Москвой носится «радужный блеск» и что Сережа читал в «Мусагете» о Дельвиге (пять писем об этом)[2464], а что за волнения сейчас в России, не знаю. Между тем, живя в Африке, я очень с жаром гляжу вокруг и читаю об Африке. Думаю, что «Путевые Заметки» в целом будут ближе к моему подлинному существу, как писателя главным образом (а не критика), чем заявление в сто двадцать пятый раз о том, что символизм не есть литературная школа; если бы я был кротом, не способным отдаваться цветам и краскам, то – да: мог бы, не взирая на Африку, Австралию, Океанию и даже «Новую землю», жарить и печь статьи о преходящих явлениях русской литературы. Вы подумайте: Пять Символизмов и маленький сборник стихов; какая несправедливость для меня, как писателя. «Путевые Заметки» есть правка пера перед «Голубем»[2465], и вместе с тем неутомительный отдых. Если я не нужен, как автор «Путевых Заметок», я не нужен и как автор «Голубя». А то помилуйте; два толстых тома о символах и зайцевых[2466] и сейчас же: третий том и всё о том же. Я – не Измайлов, не Боцяновский: до приезда в Россию пишу только «Путевые Заметки», хотя бы в виде статей для «Р<усской> М<ысли>». Спрос и предложение хорошая вещь. Но Андрей Белый никогда не умел, да и, вероятно, не сумеет потрафить спросу.
Милый друг, Вы прекрасно знаете, что творчество – мука; а насильно направленное к тому, о чем не поется, – «ад кромешный». Вспомните себя: Вы – писатель; и стало быть, прекрасно знаете, о чем я говорю: и так Араб, Сфинкс не сочетаем никак с «русской интеллигенцией», «бого– и демоно-борчеством», и прочими «московскими» темами, а насильно я писать не умею: берегу силы для лета и «Голубя».
Дорогой друг, все, что Вы пишете о Леве, есть печальная истина; но с выводом не соглашусь я, пока не увижу Льва: он ушел из «Мусагета». Он или никогда там не был, или был, есть и будет. Я нисколько не удивляюсь ни письму к Вам Эллиса, ни поступку с Ивановым[2467], ни ругани его на «Мусагет». Письма от него я получал десятками в своей жизни о том, что я скандалист à la Пуришкевич, что, согласитесь, еще обиднее ультимативного тона к Вам. В прошлом году он сделал такую же бестактность по отношению к Ив<анову>[2468]. Будет и впредь их делать. «Мусагет» он ругал еще до Вашего приезда осенью; но тогда под «Мусагетом», за Вашим отсутствием, разумелись Кожебаткин и я. Теперь – может быть – Кожебаткин и Вы. И весной, и осенью Вы были с Эллисом; он был в «Мусагете». Почему же теперь он вышел? Я его знаю таким, каков он есть, уже много лет; я могу швырнуть в него книгой, но навсегда выбросить из сознания – нет: вспомните, не вопросы тактики, а зóри создали «Мусагет»[2469]. Не Когэн, Риккерт, Бердяев, а нечто гораздо бóльшее; в это бóльшее входит Эллис, несмотря ни на какое правонарушение. «Мусагет» не кодекс правил, а Эллис, Вы, я – мы не только «члены редакции». Считать Эллиса членом какой бы то ни было Редакции нельзя. Пусть он не имеет прав, но – голубчик: не говорите о нем в таком нелюбовном тоне; подите и отколотите, это – лучше.
Вы пишете – опускаются руки. Голубчик – неужели миллионный эксцесс Эллиса тому виной? Все, по-моему, хорошо. Или, быть может, я уже обтерпелся и «шкура» моя нечувствительна к ударам. Ведь вся моя литературная деятельность – ряд оплеух; шесть лет изо дня в день я был с Брюсовым в журнале при обостренных личных отношениях, последние же годы мы были там втроем: я, Эллис, Брюсов. Эллис был – партия Брюсова (против меня)[2470]. Холодное интриганство + истерическое безумие – вот что было для меня работа в Весах под градом хохота и насмешек со стороны. Внутренняя жизнь «Весов» был сплошной, непрекращающийся кризис: а «Весы» продолжали, несмотря ни на что, быть культурным явлением. Есть ли хотя бы 1/100 того сейчас в «Мусагете»? Издательство существует год с лишком, выпустило уже ряд книг, к нему прислушиваются, с ним считаются и т. д. Не верю в Ваше неверие в Мусагет. Самое страшное тут не факт кризиса, а Ваше желание к нему отнестись «ухождением в себя». Эмилий Карлович, звезды успеха с неба не валятся: в «Мусагете» еще много будет всяких перемен – и разве это причина отчаиваться? Вы скажете: «Я так создан: все это – явление русской некультурности; я не могу их выносить». Вот я 4 месяца живу среди итальянцев, англичан, французов. И знаете что? Русские в сто раз внутренне культурней (я не говорю о Германии). И за мертвечину европейской цивилизации не уступлю я русской жизни. Далее: согласитесь, что и я, как и Вы, индивидуалист. Мне вдруг хочется апеллировать к своему субъективизму: я ведь – поэт, и, право, несправедливо, что всю жизнь я видел только ужасающую дисгармонию в плоскости литературы. И в итоге я не устал надеяться. Не от легкомыслия, а через все нравственные оплеухи я продолжаю вообще верить в деятельность литератора. И я говорю «Мусагету»: да, да, да, да!!!
Вы скажете: я – не могу. Что значит это «я не могу»? Была заря или нет? Я говорю: была; и «я не могу» уступка року. Всякая жизнь есть трагедия величайшая: вся она есть сплошное «я не могу». И однако, вопреки «не могу», она тянется. Тут чудо. Все сверх-законно, чудесно, но под чудом провал. Нужно окончательно махнуть рукой на возможности. Возможностей ни у кого никаких нет. Всё – сплошная невозможность. И сам факт существования Вашего, как и моего, вопреки всяческому вероятию. «Сказка» давно началась, история давно кончилась, законопричинности нет, сумасшедшие – все (не один Эллис). Сучок Эллиса видите, а своего бревна – нет[2471]. Все мы, если в нас разбираться, уже не стоим на ногах; мы – «носимы», мы – «в сказке». Не нам остановить ее, не нам ускорить. Если слова мои уличают меня, если есть в них ложь, то – о чем наше многолетнее знакомство, старинный друг?[2472] Неужели о Гессене, Логосе и культурной традиции в философии? Для чего был Ницше, Гёте, Христос – неужели только для того, чтобы все было чинно и в порядке. Когда величайшее бесчиние совершается в мире (загажены дымом и копотью все страны, чума, землетрясенья, смерть, гибель), может ли Лик грядущего в мир безумия не тенить чин и порядок нашего строительства. Мы вместе вовсе не для благополучия Яковенок и Гессенов. Мы вместе, ибо мы вместе «знаем».
Не верю в Ваше неверие, не утверждаю Ваше ухождение в себя. Помните ницшевское: «Еще раз!»[2473] Если что в Мусагете не так, – ну еще один раз!!!
Как только узнал о Левином свинстве с Вячеславом, послал Вячеславу письмо[2474] (от него в Монреале получил прекрасное, глубоко тронувшее меня письмо)[2475].
Милый, простите меня, что все с Вами спорю в письме. Главное не в том, не в нашем словесном расхождении на тему, благополучен или неблагополучен «Мусагет»: дело в том, что смерть как много есть передать Вам. Милый друг, увидимся скоро. Мы с Асей через месяц (если не ранее) в Луцке; оттуда, конечно, еду тотчас в Москву к Вам, маме и «Мусагету». И сейчас же обратно, к Асе – писать «Голубя». Мы с Асей хотим жить под Москвой зиму, чтобы я мог работать и бывать в Мусагете без всей прочей московской катавасии. И сейчас уже озабочивает мысль – где? И вот обращаюсь к Вам с просьбой: скажите, сдается ли Ваш зимний домик в «Изумрудном Поселке»[2476], или Вы там жили на правах знакомого. Если сдается, то с мебелью ли и – какая цена? Скажу откровенно, мы мечтаем жить с Асей вне Москвы, чтобы спокойно работать. Если случайно увидите Ладугина (владельца), спросите, уступит ли он домик мне (если по средствам) с августа или сентября. Со всех точек зрения жизнь в деревне под Москвой кажется нам единственным возможным способом существования. И близко от Мусагета, и вдали от московской истерики; и с «Мусагетом», хождения стадами друг к другу.
Очень обрадовало меня возвращение Алексея Сергеевича в Музей[2477]. Наконец-то? Что Ваша книга?[2478] Отчего не выходит. Получил Арабески, прочел статью «Песнь жизни»[2479] – Бог мой, схватился за голову: в статье по крайней мере сто опечаток. Есть фразы бессмыслицы. Если бы даже в рукописи были опечатки, то… Ахрамович должен был бы обратиться ко мне. В общем «Арабески» + «Символизм» ужасают меня в смысле количества написанного. И лучше буду я писать притчи, рассказы, чем еще, еще, еще и еще статьи; каждая статья – украденная глава из возможной книги, могущей быть цельной; сумма статей – все еще конгломерат, а не здание.
На днях едем в Иерусалим[2480]. Бог мой, что за ужас английский протекторат: не любя французов, я в Африке стал патриотом французов, ибо Африка вся разделена Францией и Англией. И вот. Французская Африка как небо от земли далека от аглицкой. За поведение в Африке возненавидел англичан. Ах, как их следовало бы поколотить!
Африка жива; и подобно тому, как римская провинция «Африка» некогда решала судьбы Рима, выставляла императоров (Александр и Септимий Северы были берберы), так и в будущем Африка вплетется в Европу. Африка не Азия. Араб не монгол; негр – безобидная, скорей комичная и внемистическая сущность; кроме того – негр великолепный солдат, и когда попадает в руки к французам, то он всей душой за Европу; туарэг (древний Кабил) с французами ладит; на Азию следует натравить Африку, на монгола – негра. Но англичане (друзья монголов и соперники немцев) способны озлобить негра, как озлобляют они уже араба; и потому вот моя греза о внешней политике: тройственный союз России, Германии, Франции (будущего, настоящего, прошлого) против жидов-англичан и монголов. Германия получает: немецкую Австрию, Турцию, Малую Азию, Сирию и Палестину, Прибалтийский край; Россия получает Персию, Индию, Галицию. Франция – Африку. И монгольство встречает отпор в Европе, половине Азии и всей Африке; я не понимаю, как не сознают этого французы, немцы и русские. Русские стоят перед всей желтой расой лицом к лицу. Французы уже бьют тревогу в Индо-Китае, где на одного европейца – 4000 полумонголов и где японцы уже ведут пропаганду. Вильгельм прежде всех сознал желтую опасность. Индусы ненавидят англичан, Персия естественно связана с Россией. Немцы уже влияют на Сирию, Палестину, а дорога к Багдаду, ведомая немцами, возбуждает тревогу и злость в египетской прессе. Сама судьба создает тройственный союз европейского континента против островитян и желтых. Я сторонник теперь европейского объединения, как и вообще объединения всякой идейности против всякой безыдейности; и потому, конечно не соглашаясь с Бердяевым, все же, все же – (почитайте его книгу)[2481] нахожу его полезным бойцом против жидовеющей интеллигенции. Несогласия с Бердяевым все же домашний, внутренний спор перед кольцом и его, и нас охватывающей мертвенности. А Европа – Бог мой, какой ужас, какая мертвечина в Европе. Ретроградство Бердяева есть то же, что когда Вы говорите «нет, уж лучше когэнианство». Так же он говорит «нет, уж лучше ретроградство». Тут ведь у него своего рода тактика… Впрочем, я не стою. Окружающее меня 4 месяца «европейство» африканских англичан, даже французов и итальянцев, быть может, создает то, что даже Бердяева предпочту я средней линии благополучно здравствующей мертвенности. Я, русский, – самый культурный человек из среды всех тех европейцев, каких видел за эти 4 месяца. Знаете ли, что множество раз я хотел гордо крикнуть: «Мертвецы – о, если б Ваши низкие, вымытые лбы могли вместить хотя бы половину того, что таится под невы<мы>тым лбом… любого русского!» Эмилий Карлович, когда Вы говорите о России, противополагайте ей Германию, но не говорите «Европа». Европы нет. Есть довольное «собой, своим обедом и женой»[2482] причесанное и вымытое свинство, пасующее в культурности перед любым тунисским арабом. А эта «Европа» – как поганит, пакостит, безвкусит, бесстилит Африку! И какое чванство, довольство, что за разговоры в отелях, вагонах – хоть бы проблеск тоски: пышащие здоровьем трупы. Верю, что всюду есть исключительности; но: средний уровень в России умнее среднего уровня любой европейской страны; быть размеренным, вымытым еще не значит «быть». Вымытое свиное рыло хуже невымытого, сияющее жиром брюшко – хуже, гаже, отвратительней. О сколько, сколько богатства, рылец в пушку и умытых, лоснящихся брюх я вижу всюду и всюду. И до чего все мертво, беззорно! Мы говорим: «русская безалаберность». Да – в Европе не безалаберность, а – «лаберность»: но в чем эта лаберность выражается? В сколачивании миллионов? Гадка московская пресса: но вот каирская (аглицкая и французская) пресса. Знаете ли, о чем они пишут: о том, как чихает аглицкий купец. Лакей Смердяков[2483] доминирует в Европе: и хуже того: он умеет носить костюм.
Верное замечание Аси: «В Европе пропало лицо: лицо слилось с костюмом, стало частью костюма. Русские не умеют еще носить платья: оттого у них сохранилось лицо». Эти слова Аси еще мне что-то открыли в европейской «лаберности». Если «лаберность» и корректность ведут к исчезанию лица – я стою за «беза-лаберность». Когда узнают, что Вы русский, тон к Вам делается снисходительным, у Вас спрашивают: «Есть ли в России театры?» «Ах Вы сукины дети», – хочется крикнуть в ответ. «Да Россия центр живой жизни». И знаете ли что: не говоря о Вас, Петровском, Эллисе и других – Бердяев кажется мне отсюда титаном!
Черт возьми! Я – русский: в этом моя величайшая гордость. Здесь я хочу кричать на улицах в лицо паршивцам-англичанам: «Преклоняйтесь передо мной, ибо я – русский; я себя не берегу, у меня нет брюшка, я не боюсь никого, не дорожу жизнью, и моя жизнь – в идее. Россия лучше всех стран. От Вашего великолепия меня тошнит, Вашей цивилизации не удивляюсь, вы меня не удивите ничем; и наоборот: захочу – прикинусь Вами, захочу – и от ужаса и удивления у Вас волосы встанут дыбом!» Вот что во мне возбуждает европейский хороший тон[2484]. Но простите, милый. Целую крепко. Христос с Вами. Б. Бугаев.
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 37. Помета рукой Метнера: «3/IV 911» (видимо, дата отправления на почтовом штемпеле с несохранившегося конверта).Ответ на п. 208.
217. Белый – Метнеру
На днях написал Вам длиннейшее письмо[2485]. С ним Вы во многом, вероятно, не согласны. Не сердитесь. Буду много и долго говорить с Вами.
Дорогой, теперь скажу Вам одну вещь, которая стала нам до очевидности ясна еще в Палермо. Вы удивляетесь вероятно, сколько мне нужно денег. И Вы знаете, отчего это? Только оттого, что хотя бы 1000 рублей мне «Мусагет» не дал на руки. Мы с Асей разочли сейчас, что по крайней мере 700 рублей брошены даром от одного факта отсутствия нескольких сот на руках на всякий случай. Во-первых, несколько недель ожиданий денег съедало деньги, как это случалось в Hôtel des Palmes, в Hôtel Eymon[2486], в Радесе, где мы получили деньги дней через 8 после предположенного нами срока получения. Необычайно сложно координировать рассчет с Москвой, бурей на море, задерживающей письма, сроком отхода парохода и т. д. и т. д. Хотя бы сейчас: конечно, 300 рублей нам на то, чтобы двинуться из Каира, мало: у нас сломался чемодан, надо сделать несколько покупок необходимых; хорошо, что, предполагая это, я просил выслать маму 200 рублей[2487]. И теперь, она высла<ла>… по почте!! Уже неделю готовы тронуться и неделю проживаемся в ожидании денег от мамы, т. е. более половины денег уйдет на ожидание[2488]. Так бывало и с «Мусагетом». Ведь условия передвижения в Африке сложнее, нежели путешествия из Москвы в Париж. И там несколько сот рублей на руках сохраняют деньги, а отсутствие оных – вытягивает, запутывает. Будь у меня на руках 1000 рублей, на 700 рублей менее я бы прожился[2489].
Милый, как портит кровь эти тысячи непредвиденностей, из Москвы даже не предполагаемых, невидимых. Ведь разве знаешь, что в таком-то месте сломается чемодан, в таком-то месте приходит в ветхость то-то; точно также и Вам неизвестно, что если мы получаем, например, не в среду, а в четверг деньги, то из нашего рассчета вычитается 200 франков. Вот для того, чтобы не было этих бесцельных вычетов здесь, там, и нужно было бы, чтобы часть высылаемых мне денег не высылалась бы, а была со мной. Сейчас сижу злой на маму: бедная мама, не виновата, конечно; виновато то, что я в Африке, а она – в Европе.
Но как портится кровь от всех этих беспокойств!
Все, например, сместилось в смысле месячного существования на 200 рублей благодаря 8-дневному ожиданию денег в Hôtel Eymon и Hôtel des Palmes, когда из присланных денег приходилось отдавать большие куши за ожидание денег и потом едва-едва доживать неделями до следующей получки.
Ну не стану брюзжать на «Европу» и «Африку». Все это «трагикомично». Милый, обнимаю.
Борис Бугаев.РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 38. Помета рукой Метнера: «3/IV 911» (видимо, дата отправления на почтовом штемпеле с несохранившегося конверта).
218. Белый – Метнеру
Пишу Вам и прежде всего – горько пеняю на «Мусагет»; если б знал, что огромное одолжение мне (для меня мое путешествие было равносильно «быть или не быть») будет обставлено порционными высылками[2490], верьте, ни за что не принял бы я этого одолжения. Порционные высылки – это петля на шее. 1) По крайней мере 600 рублей брошены зря на ожидание и пр., что Вам, не бывшим в Африке, не видно, а мне – видно. 2) На 300 рублей не выберешься из Каира. Зная, что мне пришлют не больше (а могли бы – ибо через месяц я – в России), я должен был унижаться у мамы (просить 200 рублей)[2491]. И двести рублей пришли, но а) я их ждал лишних 8 дней и за это время ½ должен отдать за ожидание, b) я получил оскорбительное письмо от мамы[2492], в результате которого, может быть, вынужден брать адвоката и требовать официально своих денег за «Сер<ебряный>-Кол<одезь>», присвоенных мамой[2493].
Ввиду этого умоляю Вас всеми силами души, ради меня, официально передать маме, что я или возбуждаю дело о своих правах на деньги, или кавказское имение должно быть немедленно за какую угодно цену продано, или «Мусагет» ей возвращает немедленно брошенную мне сумму денег.
По отношению <к> «Мусагету» – вот что: мне оставалось или почти пустить пулю в лоб, или за свою жизнь бороться. Ася – мой свет. И оттого я, находясь в крайнем положении, без стыда принял одолжение «Мусагета». Но то, что Мусагет вместо того, чтобы дать мне сумму, порционно не раз сажал меня на мель, у меня отчаянная неприятность с мамой. Мне остается одно: 1) Требовать скорейшего раздела с мамой, из своих денег тотчас уплатить «Мусагету» (ибо, верьте, не сладко мне слышать совет быть экономнее), 2) Либо уплатить из кавк<азского> имения[2494]. Всего этого могло бы и не быть. Но раз случилось, буду безжалостен. Ради Бога, отдайте ей 200 рублей, и пусть ими поперхнется. А я требую выделения своих денег.
Б. Бугаев.РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 40. Помета рукой Метнера: «11/IV 911» (видимо, дата отправления на почтовом штемпеле с несохранившегося конверта).К письму приложены два карикатурных схематических рисунка Белого.Первый – с обозначением: «Действие 1-ое. Аллегория» (в левом нижнем углу). Условное подобие географической карты с указаниями: «Европа», «Африка», «Каир», «Суэцкий ка<нал>», «Яффа», «Иерусалим», «Афины», «Константинополь». В правом нижнем углу – рисунок, изображающий А. Тургеневу, и схематический рисунок с пояснением: «распавшийся чемоданчик». По диагонали изображены Андрей Белый (в правом нижнем углу) и Э. К. Метнер (наверху в центре), схематически обменивающиеся письмами; надпись: «Десять дней» (средний срок следования письма) с обозначениями дней недели от «понедельник (3 апр<еля>)» до «среда 12 апреля <н. ст. 1911 г.>» (видимо, дата изготовления рисунка). Слева от Э. К. Метнера – А. Д. Бугаева, надпись: «Двести рублей!!» В левой части изображены «мусагетцы»: А. М. Кожебаткин (в цилиндре, в руке «Отчет К<нигоиздательства> Мусагет»), приписано: «фффф», «фффф», слева: «Гоголь» (схематическое изображение памятника Н. В. Гоголю), справа: «Пречистенский бульвар»; Н. П. Киселев, Миша Сизов (длинные ноги, уходящие за «облако»), «Лев и Львовцы» (Эллис со знаменем в руке, на котором значится «Ш.», т. е. Штейнер, во главе процессии последователей); две фигуры без подписи – видимо, Г. А. Рачинский (слева) и А. С. Петровский (под надписью «Европа»).Второй рисунок озаглавлен: «Действие 5-ое и финал». Слева – А. М. Кожебаткин, изрекающий: «Книгоиздательство Мусагет благополучно!» В центре – трое за столом (видимо, учредители «Мусагета» Эллис, Метнер и Белый). Справа – развернутая книга, надписи: «Мусагет», «Отчет книг. Выпущено – 100 книг по 20 000 экземпляров. Продано 2 000 000 экземпляров. Чистой прибыли 200 000». В правом нижнем углу – схематический рисунок: «Ширмы», «Действия 2, 3, 4»; пояснительная надпись: «кулаки» (из-за ширм поднимаются четыре пары сжатых кулаков).
219. Белый – Метнеру
Христос Воскресе![2495] Измученный 1) грязью, 2) блохами, 3) бакшишом, 4) хамсином (ветер пустыни), 5) зубом (дергали)[2496], 6) англичанами, 7) десятидневным ожиданием 200 рублей мамы (7 египетских казней)[2497], радостно ахнул в Иерусалиме. Никакой цивилизации (слава Богу!) и связанной с ней мертвечины. Вдруг приехали в Луцк[2498]. Но когда пошли вглубь города… попали в тысячалетнее прошлое. Жив, жив, свят, сказочен, несказанен, велик, грядущ, светл желтозолотой Иерусалим! А кругом – голубые иудейские горы, зелень и рдяные цветы. Понять из Москвы невозможно, чем веет здесь… Проживем здесь вместо Греции[2499]. Сидели долго сегодня перед остатками стен на месте храма Соломонова…[2500] От Аси привет. Обнимаю. Здешние жиды здесь прекрасны… Б. Б.
Ура России! Да погибнет мертвая погань цивилизации.
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 39. Открытка; на обороте – репродукция фотографии: «Jerusalem. – Place du temple. The Temple platforme. Tempel-platz»; приписка Белого к репродукции: «Здесь был Соломонов храм (ныне мечеть). С противоположной стороны – обрывистые скалы и остатки стен… Там сидели и вспоминали».Датируется по соотнесению с почтовым штемпелем получения: Москва. 14. 4. 11 (письма из Иерусалима в Москву шли тогда около двух недель). Дата на штемпеле отправления в Иерусалиме (в русском Сергиевском Подворье, куда Белый и А. Тургенева переселились из английского отеля 31 марта (13 апреля) 1911 г.; см.: Белый – Петровский. С. 184) не прочитывается.
220. Метнер – Белому
Аксиньино 1/IV 911.
Ваши большое и два малых письма и открытку получил. Вам отправил письмо в Афины до востребования[2501]. Отвечаю. Я вовсе не удивляюсь, что Вам надо много денег. Удивляетесь, вероятно, Вы сами и «проецируете» это удивление в моей голове. Но ропщете Вы напрасно и несправедливо. Я просматривал список денежных высылок: Вы получали, приблизительно, деньги каждые три недели раз. Напоминаю Вам два обстоятельства: 1) я предлагал Вам перед отъездом аккредитив, но Вы сказали, что из той фантастической лурьевской деревни, где Вы намеревались поселиться[2502], Вам пришлось бы ездить за деньгами в Палермо; 2) между первой и второй получкой мусагетских денег от издателей прошло столько времени, что был момент, когда в кассе находилось всего несколько сот рублей; это было вскоре после Вашего отъезда. – Вы похожи на человека, который устроился так, как если бы он намеревался всю жизнь прожить в монастыре; но затем оказывается, что он не монах, а спортсмэн; конечно, монастырское снаряжение обнаружилось негодным. Что Вы потратили зря 700 рублей, беда небольшая; ни одно путешествие, даже заранее строго и систематично распланированное, не обходится без сюрпризов, но что в этом обстоятельстве Мусагет не повинен, это ясно. Вы не только не исполнили того, что предполагали в Москве (жить в Сицилии), но даже, приехав в Африку в Тунис, Вы не составили нового плана путешествия и не прислали нам его; Вы из Туниса писали, что намереваетесь там поселиться надолго и ни о каком Египте (где, как это всем известно, страшная дороговизна), Сирии, Палестине и проч. не было и речи; это всплыло все вдруг и неожиданно, отчего и деньги, прибывшие вполне вовремя, оказались с Вашей новой для нас неизвестной точки зрения сильно запоздавшими. Посылать Вам сразу тысячами было опасно, т<ак> к<ак> в такой дикой стране возить с собой все деньги не рекомендуется; аккредитив же Вы могли бы только лично получить в Москве или в другом каком-л<ибо> крупном городе. Отчего Вы не обследовали вопрос, может ли тунисский банк выдать Вам такой аккредитив, кот<орый> был бы действителен в тех городах, где Вы в дальнейшем намеревались остановиться? Если бы Вы нам написали с самого начала тунисского пребывания, что намереваетесь путешествовать и что нельзя ли устроить аккредитив, мы бы перевели Вам в Тунисский банк всю остальную сумму и Вы взяли бы себе аккредитив. – Теперь о книге путешествий. Имея в виду, что Вы и Ася представляете собою нераздельную единицу, я сообщил Вам об условиях печатания книги путешествий, т. е. о процентном гонораре, на который, конечно, повышающе отразятся иллюстрации, т<ак> к<ак> рыночная цена книги станет бóльшей; если бы Ася была Вашим случайным спутником, тогда гонорар за иллюстрации был бы вычтен из Вашего процентного гонорара, который таким образом при вычислении его сначала увеличился (вследствие иллюстраций), а затем бы уменьшился (вследствие вычета гонорарной суммы для иллюстратора); т<ак> к<ак> определить гонорар за иллюстрации очень затруднительно, то редакция пользуется тем обстоятельством, что карман поэта и художника общий, и выдает просто обычный для ближайших сотрудников maximum процентного гонорара за книгу им обоим, предоставляя, если это у них принято, делиться как угодно. Кажется, ясно. И совершенно не понимаю, что за фанаберии такие пишете Вы об отказе от своего гонорара, об уплате последнего Асе. Для меня – это просто перекладывание из правого кармана сюртука в левый. – Теперь выяснилось, что дай Бог пристроить 10 фельетонов[2503]; так что остальное надо попытаться в журнал или же прямо в книгу. Очень интересно то, что Вы пишете о несочетаемости Араба и русской интеллигенции, но я тут не причем: таковы газетчики, им просто неинтересен Андрей Белый в Африке; они хотят, чтобы он был на Арбате. Что касается Эллиса, то окончательно выяснилось, что он никогда и не был в Мусагете, в сердце Мусагета: есть рабы и свободные, католики и протестанты, догматисты и критицисты, аристотелики и платоники, спинозисты и декартисты и т. д. и т. д.; в Мусагете могут быть только вторые или приближающиеся ко вторым; Эллис же удаляется от вторых и окончательно становится на сторону первых, обнаруживая при этом, что он раб, католик, догматик и т. д. не по эволюционному капризу сменяющихся воззрений, а по психологии своей; и в Марксе, и в Данте, и в Бодлэре, и в Р. Вагнере (которого он лжеистолковывает), и в Штейнере он искал и ищет только папу, которому надо поцеловать туфлю[2504]. Человек, который может утверждать с пеной у рта, что инквизиция была благодеянием, что инквизиторы были посвященные маги, знавшие, как надо спасать души, уничтожая тело; человек, кот<орый> только однажды, пусть даже в пьяном виде или в истерике, мог произнести эти слова, безнадежен; я могу его любить, жалеть, могу пользоваться частично его трудом, но считать его внутренно своим не только в «последнем», но даже и в предпоследнем, невозможно; это кончено и навсегда. Он был два дня у меня в деревне и положительно измучил меня своим настойчивым желанием в течение тридцатичасового разговора установить какую-нибудь общую платформу между собою и мною. Он иезуитствовал, хитрил, подтасовывал, делал коварные уступочки; кончилось тем, что я рассердился, как еще никогда ни на кого из своих друзей, и разбушевался так, что заболел (вообще я себя чувствую прямо отчаянно плохо весь сезон); я ругал его и орал на него страшно, он хлопал глазами и так и не понял, на что именно я рассердился. Он все это счел «люциферианством», с моей стороны, и только. Он не понял, что я даже не могу сердиться на его рабские мысли, раз поняв его душу, и что я сержусь только на то, что он смеет думать провести мост от своих воззрений к тем, которых держусь я. Поймите меня, я не выбрасываю Эллиса из сердца, но еще менее, нежели в эксотерическом Мусагете, может Эллис быть в эсотерическом. Эллис – это работник, связанный с нами раз навсегда, но он и бремя тяжкое, кот<орое> мы должны донести. В дальнейшем о Мусагете и о моем неверии я писать не хочу: мы лучше поговорим об этом с глазу на глаз. Напрасно только Вы меня упрекаете в вовсе не свойственной мне супракультурной брезгливости. – Домик в Изумрудном Поселке мы снимали с мебелью за 200 рублей с 1 окт<ября> по 1 апр<еля> (т. е. за ½ года) (не считая лошади и телефона); Лагодин имение продал, и, м<ожет> б<ыть>, этот домик теперь перестроен или сдан кому-н<ибудь> другому… – Я прошу Вас непременно сделать замечание Ахрамовичу за опечатки: он очень милый человек, но мог бы, кажется, за 75 р. в месяц работать аккуратнее[2505]. – То, что Вы пишете о России и Европе, до известной степени верно, но не забывайте, что была пора, когда буквально то же самое писали немецкие романтики, противопоставляя гениальную неумытость живущей только идейною жизнью немецкой культурной среды умытой пошлости англичан и французов. И так же казалось им, что средний немец выше среднего француза или англичанина. Мы не знаем, какие приливы и отливы в направлении сил на идейность и на внешнюю практичность обусловливают перемены в настроенности общества данной нации. Так Германия всегда была непростительно идеалистична и проморгала все колонии; с середины XIX в. она спохватилась и вместо эллинской линии повела римскую; отсюда и некоторый перевес практичности современных немцев над идейностью. Однако пора кончать. Простите сухость тона письма: это от большой усталости и недовольства собою. Мне очень, очень плохо. Хуже, нежели когда-либо. Боюсь, что не справлюсь с собою. Привет Асе. Обнимаю, Ваш любящий Э. М.
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 7. Копия: РГБ. Ф. 167. Карт. 5. Ед. хр. 23.Ответ на п. 216–219.
221. Белый – Метнеру
Скоро увидимся; через несколько дней еду в Москву[2506]. Ничего не знаю из «московского». Страшно хочется снова вмешаться в мусагетские дела, узнать, как что, и потолковать основательно, чтобы потом… до августа удрать и писать, писать. Думаю быть в Москве не позднее 8-го мая; пробуду не дольше 15-го[2507]. Ася на более долгий срок не пускает, да я и буду без нее теперь страшно тосковать. Вообще я без Аси начинаю скучать уже после первых пяти часов разлуки. Но в Москве быть необходимо: 1) Надо видеть Вас и Леву…[2508] Что Мусагет? Ведь после 5 месяцев отсутствия фактически стоишь не у дел; горю желанием приобщиться Мусагету. Принципиально верю в то, что должен, должен, должен быть «Мусагет»… 2) Надо позаботиться о денежных делах с мамой (ох, что предстоит вынести с ней!!..), но я твердо решил до напечатания «Голубя»[2509] заплатить Мусагету долг. 3) Надо узнать что-либо об осеннем нашем устройстве с Асей под Москвой.
Вообще бездна вещей…
Милый, не сердитесь на нервный тон моих каирских писем: но было от чего потерять голову: десятидневное вынужденное сиденье с невралгией, несправедливым письмом мамы[2510] в токе раскаленного песка хамсина (действие этого ветра = медленному удушению); у меня помутился разум, и я беспричинно кипел, кипел и кипел, пока… не попал в «страну обетованную»…
В Афинах не были; 11 дней плыли из Яффы в Одессу[2511]. Теперь в благоухающих полях, и ах, отсюда в город не хочется (как-никак, а езды 2 дня <туда>[2512] и 2 дня назад = 4 ваго<нных> дня), но нельзя не при<ехать>. Ровно ничего не знаю про Москву: вероятно, ряд сюрпризов; жду также много неприятного. Но после 5-месячного роскошества не мешает и потрепаться в московской истерике.
С нетерпеньем жду Вас обнять, выкурить трубку дружеского молчанья у Вас, под Москвой, деловито заговорить в Мусагете и потом перекинуться на прощанье… словами без слов.
Мыслей без речи и чувств без названия
Радостно мощный прибой[2513].
Обнимаю Вас, близкий друг. До скорого свиданья.
Борис Бугаев.
От Аси и меня всем Вашим привет.
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 41. Помета рукой Метнера: «30/IV 911» (видимо, дата отправления на почтовом штемпеле с несохранившегося конверта); помета рукой Н. П. Киселева: «Луцк».
222. Белый – Метнеру
Как здесь хорошо! Как отдыхает душа! Как люблю мою Асю! Как мирно… И зори… И в зорях «старая Москва», которой в Москве теперь нет.
Приезжайте, родной!..
Хотите встретиться с Блоком? Мы замышляем похитить Блока из Шахматова[2514]. Вот было бы хорошо, пожить вместе в Боголюбах; кстати: многое о Мусагете можно бы поговорить, хотя бы о дневнике поэтов[2515]; милый, давно, очень, очень давно не встречали мы вместе зорь. Пора – не из зорь ли возник Мусагет. Здесь зори, дикость, лес, тишина…
Наташа просит передать, что зовет Вас. Ася – тоже…
Милый, Вы и Наташа[2516], только Вы двое улыбнулись мне в Москве. И я понял, что мы трое о чем-то.
После нашего разговора мне неясно наметился «Мусагет» (прошлый, настоящий и будущий) в новом, мягком, симфоническом блеске…
Вдали от Москвы переживаю зорю…
Ася: люблю ее с каждым днем нежнее и больше; громаднее, все громаднее отсюда развертывается для меня моя жизнь.
Как страдал я две недели в Москве, понял только тогда, когда сон Москвы остался за плечами; мне казалось, сброшена ноша, и я опять, как и встарь, ухожу в огневеющий бархат эфира[2517].
Вчера мы весь вечер читали Блока; утром с Асей читали «2-ю Симфонию». Сегодня такой благой, лучезарный закат, и что-то милое, невозможное[2518] подкрадывается к сердцу.
И хочется справить надежду, вместе помолчать на зоре – чтобы были: Наташа, Ася, Вы, Блок и я…
Все возвращается… Опять возвращается…[2519]
Живите надеждой, милый, мой милый друг.
Борис Бугаев.
<Приписка А. А. Тургеневой:>
Буду Вам рада. Ася.
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 42. Над текстом пометы рукой Н. П. Киселева: «Луцк. 24 V 1911», «Москва. 27. V. 1911» (датировки почтовых штемпелей отправления и получения с несохранившегося конверта). Фрагмент опубликован: ЛН. Т. 92. Кн. 3. С. 382–383.
223. Белый – Метнеру
не удивитесь моему письму; да впрочем, я думаю, что Вы удивились бы обратному: удивились бы, если бы я Вам не написал этого письма. Я часто, в сношении с людьми, перехожу от тона важного, соответствующего тому, что переживаю, к тону уступчивому или болтливому, когда вследствие тех или иных обстоятельств время и место не позволяет развернуть в ширину и глубину фронт разговора. Часто, распираемый изнутри проектами, предложениями, снедаемый заботами, я, не встречая всех условий для нужного мне разговора, давлюсь: слова застревают в горле, и то, чем волнуюсь, таю в себе. Таковы отчасти были условия нашей последней встречи[2520]: десять дней (из них обмен внешними впечатлениями, дела с мамой, просто встречи и далее: всего два дня, проведенных с Вами) – десять дней, перегруженных впечатлениями, не могли создать во мне условий, в которых я мог бы высказаться начистоту. Я только дал Вам понять, что тревожусь о Мусагете; а что эта тревога есть, быть может, главная моя тревога – это уже предоставляю Вам понять. Если бы Вы пошли мне навстречу далее, Вы помогли бы мне освободиться от усталости, перекрестных разговоров, поставив разговор о Мусагете ребром, но Вы уклонились (может быть, имели основание) – все это в связи с кратковременным пребыванием захлопнуло меня. Раз два человека, близко стоящие к Мусагету, знают, сколь далеко не все ладно там, то чувство долга перед делом, им близким, обязывает их ближе коснуться; но раз они не касаются – это показывает либо то, что разговор существенно важный откладывается до более благоприятного времени, либо есть у кого-либо из них некоторая скрытность друг по отношению другу, заставляющая их выжидать, кто первый коснется больного места.
В первом случае более благоприятное время, если Вы не приедете в Боголюбы, может отодвинуться до ноября, и осень (время благоприятное для начала деятельности; как было в прошлом и позапрошлом году) <может> опять отодвинуться, что при невечности Мусагета почти ужасно; но, не имея от Вас никаких известий, я не знаю, свидимся ли мы; а если нет, то мне при моей резкой критике некоторых черт нынешнего Мусагета будет трудно иметь с ним реальное касание, которое, конечно, возможно лишь через Редактора; а не высказав Редактору того, что лежит у меня на душе, я теряю всякую почву под ногами без Редактора, в случае своего касания Мусагета. Вот я и решил Вас уведомить. Пусть это письмо будет для Вас лишь знаком того, что положение мое в Мусагете мне неясно без Вас, что Мусагетом нынешним я не доволен, и вот все это заставляет меня затронуть основные начала Мусагетской деятельности.
Я давно молчу; я молчу только оттого, что все ждал инициативы Редактора, в виде ли с его стороны мне предложенных вопросов, в виде ли изложения своего взгляда на настоящее положение вещей. Но Редактор молчит, точно замалчивает нечто; от этого молчания во мне растет беспокойство; растут даже химеры, могущие встать между нами на почве всеобщей невыясненности.
И я решаюсь заговорить о том, о чем совесть моя шепчет вот уже несколько месяцев: «Пора, крайняя пора…»
Начну с шутки.
Кто мы Мусагета? Вы – Вы, я, Эллис – Вы, Кожебаткин – Вы, Гессен, Яковенко – Вы, Петровский, Киселев – или переложение и сочетание этих лиц – или упомянутые + Блок, Иванов – или глЫба из «n» лиц, коллективно воплощенная в окурках Конторы – мне не ясно (ведь я же 7 месяцев отсутствую и не ясно вижу современное положение дел). Я даже не знаю, ассимилируем ли мой дух с виденной мною глЫбой Конторы, где никому нет дела до идейной борьбы, литературы, слова, но где бессловесно мистическое перемешивается с окурочным «головка виснет»[2521].
Все это вместе взятое заговорило со мной, как мы Мусагета. Этому мы я почувствовал себя непричастным – более того, чуждым, даже ненужным.
И я себе сказал: до разговора начистоту с Эм<илием> Карл<овичем>, или с им cозванным trio, или редакционным советом я, как пять месяцев без своей воли выкинутый (я не знал, что о Мусагете пять месяцев не буду информирован), из состава мы выключен. Случайно или не случайно с Редактором мы недообъяснились, мы в общем мне ответило: «Нельзя понимать, в чем суть, не присутствуя, не зная, что происходит (как будто я, писавший чуть не сотни писем с просьбой «сообщить», тут виноват), не у дел». Таким смыслом на меня глянуло мы Мусагета; ни редакционного собрания, ни разговора en trois, ни даже разговора с Вами решительного не произошло.
Итог был тот, что я себе сказал: «Мне деликатно дали понять, что я не Мусагет».
Таким образом, до разговора с Вами, я не у дел; и если до ноября не произойдет решительного обмена мнений, то… – мне в Мусагете нечего делать. Может быть, я не нужен мусагетскому Мы, состоящему из друзей (да), но не литераторов. Б. Н. Бугаев – одно; Андрей Белый – другое. Белый чужд мусагетцам: вот что Белый с болью вынес.
Я все ждал Вашего письма: Вы не пишете: мое впечатление от этого растет до… химеры. Я решаюсь говорить.
Кто мы Мусагета? Было сначала определенно: Вы, Эллис, я… De facto же вышло: Вы, Кожебаткин + «n» – ое количество: мы – стало мыы, мыыы.
И вот весной в Конторе я увидел лишь ыыы, не зная м – ыыы оно, или уже для меня в–ыыы.
И это не по моей вине. Я ехал с бездной волнений, с сознанием, что Мусагет – родной, а вышло…?
Я боюсь буквы Ы. Все дурные слова пишутся с этой буквы: р-Ыба (нечто литературно бескровное – Петровский), м-Ыло (мажущаяся лепешка из всех случайных прихожих), п-Ыль (нечто вылетающее из диванов необитаемых помещений), дЫм (окурков), т-Ыква (нечто очень собой довольное), т-Ыл (нечто противоположное боевым позициям авангарда).
Верьте: пишу не о деятельности Мусагета (хорошие книги не имеют буквы ы), но о группе посещающих Контору людей, о духе, вносимом ими и долженствующем определять линию. Линию не вижу; она вне Мусагета, с Вами (у Вас на квартире), со мной (в Боголюбах) и т. д. Но давно уже наша линия перешла у нас в молчание у себя дома; мы даже друг с другом не говорим о линии, закрываясь недосугом, текущими делами Конторы.
Кампанию делает дух войска[2522].
Дух мусагетского войска (работников) ужасен, цинично-вял, литературной деятельности чужд и самодоволен.
И это уже сказывается на подборе книг.
Блок мне пишет: «К чему альманах? Боже, как несовременно…»[2523] И я, столько раз слышавший дух времени, шум времени, незаслуженно обижен (ибо в психологии Блока я автор инициативы с Альманахом).
Между тем еще осенью прошлого года я то же самое говорил Брюсову, но Кожебаткин сказал мне, что Вы уже утвердили Альманах и это дело решенное (я не стал спорить: сказал себе: Секретарь Кожебаткин знает лучше опытного литератора Белого о намерениях редактора и друга Белого – и немного даже огорчился), уступил: Эллис, Соловьев сказали: «Альманах нужен». Вы приехали, и тут я увидел степень Вашего равнодушия к Альманаху, идея которого мне одинаково чужда.
Альманах воплощение ни Ваше, ни мое, а воплощение неопределенного (м) (в)–ыыы, которое все растет, все растет в Мусагете, так что он становится более чужд Эллису, Белому, да и Вам.
Я этого не хочу. Эллис – не хочет. Вы – не хотите. Не мы делаем Мусагет, а ыыы делается…
И кто вина тем причинам, которые развиваются независимо от Вас, меня, Эллиса в Мусагете?
Немного – Вы.
Что вызвало у меня серию мыслей о Мусагете? Ряд, по-видимому, друг с другом несовпадающих мелочей. Мусагетское трио[2524] перестало собираться; Вы говорили о технике с Кожебаткиным, а проекты, роившиеся у меня, Вас, Эллиса – роились в наших одиночных комнатах; разговоры же наши были скорей частного, а не мусагетски-идейного характера; а глыба, с дующимся ыыы конторы, уже пухла; и на почве неустойчивости трио, происшедшей от замкнутости, и отчасти Вашего («мне надо домой», – это на идейную сторону-то времени нет?) убегания (непроизвольного) от общения с редакционным трио на идейности коллективного мы стало паразитировать безыдейно самодовольное ыы (дыма окурков); и росло Столыпинство. Цилиндра[2525].
Далее: осенью, когда мы собирались с проектами, планами – Вас не было; и не имея власти действовать, мы говорили, Вас ждали, строили планы: Вы приехали с предвзятой мыслью о какой-то «португальской революции»[2526] (которой по существу быть не могло – Вы же это сами знали); я – Редактор, сказали Вы совершенно не нужную истину, ибо таковым мы, члены трио, Вас считали (о мнениях гл–ыыы– бы ни Вам, ни нам дела нет). Ваше подчеркивание слов: «Португальская революция» – мне было несколько неуместным, как сотоварищу трио; Андрею Белому никто этого никогда в вину не ставил. И в «Весах», когда мы были не трое, а шесть, когда отсутствовали четверо, естественно в журнале деятельней были остающиеся двое; и возвращавшийся Брюсов Андрею Белому не говорил: «Вы без меня меня свергли». Мы без Вас в начале сезона сочиняли проекты, торопя Вас вернуться, чтобы их рассмотреть. Вы же заговорили о превышении власти. Дорогой, Андрей Белый, считающий себя лидером символизма, не ожидал, что одни его планы на будущее уже у друга-редактора возбудят недовольство в превышении власти. Мы были не капралы и офицер между собой, в трио, а сотоварищи. Вашу фразу «Вашу деятельность, как писателя русского, не сливайте с деятельностью Мусагета» я понял: не слишком уже вмешивайтесь в Мусагет. Но А. Белый по самому своему темпераменту и по своему боевому прошлому, после руководства «Весами» последнего года сущ<ествования> «Весов» (органом, пока что вписавшим бóльшую страницу в историю литературы, нежели Мусагет) – А. Белый, с которым считались и Мережковский, и Брюсов в «Весах», которого во всем слушал в последние два года «Весов» Поляков, не может быть пешкой в ыыы Мусагета. Он или должен сознавать и создавать свою линию в нем, или глядеть вовсе со стороны.
Тогдашний Ваш разговор со мной, упоминание о бестактности Петровского (мне не следовало бы передавать слова Петровского, ибо я в них неповинен), «португальская вашему воображению представившаяся революция», слова о моей неслиянности, как писателя, с Мусагетом, предстали мне в следующем свете: «Сверчок – знай свой шесток».
Я не сверчок, а до этого разговора единственное литературное имя, имеющее прошлый опыт: я – Андрей Белый. Всякому, кого бы я меньше любил, я сказал бы это: но Вам я этого не сказал. Но я сказал себе: «Метнер теперь или сам должен быть диктатором Мусагета, или немедленно ряд заседаний трио должен решить проекты и освободить потенциально накопленную энергию Эллиса, Белого, Метнера». Но Метнер не созвал трио. С этой минуты морально я был уже выбит из своего положения в Мусагете.
Потенциальная энергия невыспрошенных сочленов, как скопленное электричество, не разрешившись молнией общего дела, стала излучаться через остриё – у Эллиса в штейнеровских кружках[2527], у Белого в серии бессонных ночей, невыска<зан>ных дум о Мусагете. В это время нерв<н>ый Эллис писал ультиматумы, а нервному Белому была отравлена поездка за границу.
Возвращаясь, Белый решил твердо поговорить: «Ну и что же дальше?»
Но какая-то рука отвела разговор (т. е. некоторое невнимание у Вас к моему волнению о Мусагете, о неопределенности моего в нем положения). А ыыы Конторы сказало: «Нет времени думать о литературе; головка виснет».
И м–ыыы Конторы стало для Белого в–ыым…
Теперь, спрашиваю: кто «мы» Мусагета. Если мы – Вы, то действуйте, как самодержец; я, не сливая себя с Мусагетом, имея право его критиковать в частностях и говорить «я – не Мусагет», буду по мере сил, где придется, воплощать свою деятельность, как русского литератора; тогда мой совет Вам: «Разгоните, рассейте ыыы Мусагета, сделайте coup d’état[2528], дабы самому воплотиться в Мусагет. Времена слишком важные, чтобы сонно шутить с счастливой возможностью посредством литературы вести свою линию. Если же Мусагет есть коллективная линия группы, скажите, кто эта группа, видите ли Вы в ней меня: или Вы скажете: «Я Вас не вижу». Тогда я уйду из Мусагета, оставаясь и Вашим другом, и другом издательства. Если Вы видите меня в нашей линии, то я уже Вас спрошу: «Как можете Вы меня видеть, когда Вы даже не подозреваете о том, что я намерен активно внести в Мусагет. Давно, давно Вы уже не видите меня, дорогой друг, не знаете, или не хотите знать. Но я, зная, чтó во мне, не могу уже терпеть свое положение: ни член Редакции, ни не член».
А Вы этого как будто не подозреваете.
О своих дальнейших мыслях, что я вижу в Мусагете, чего хочу, как литератор, не стану писать, пока Вы не ответите мне, кто «мы» Мусагета – но ответите, положа руку на сердце. Ради Бога не сердитесь, но поймите, что пишу ультиматум, а лишь объективное изложение того, что чувствую. Крепко жму Вашу руку.
Любящий Б. Бугаев.
P. S. У меня теперь важная переписка с Блоком[2529], могущая вылиться в деловую о том, как нам, русским символистам, не имеющим нигде своей линии – быть: я должен знать, имеет ли Мусагет отношение к русской истории, к истории русского символизма и т. д.
Представьте себе, в теперешнем хаосе я не знаю этого. Я, например, лично любя Мережковских, рву с ними как представитель нашей группы. Нашему я подчиняю свое, беловское. Но окуркам Конторы не подчинится Белый. Мне нужна определенность, знание того, кто мы, ибо я для мы уже жертвовал связью и дружбой с лицами, чуждыми мы. «Мы» должен я осознавать ценным, или быть одним и свободным.
От Аси привет.
P. S. Итак: или мое письмо есть начало сериозной переписки, или переписка отложится до свидания в Боголюбах, или наоборот, все будет ясно после Вашего ответного письма; до ноября я ждать не буду.
P. P. S. Вы поймите, положение мое, как «Мусагета», с невозможностью проводить в «Мусагете» хотя бы часть своего. До «Мусагета» мои статьи, лекции были сигналами, лозунгами для группы моих. Теперь является Мусагет: к нему притекают и мои, мое, раз я один из трех, а мне говорят в сущности: «Не вводите своего в Мусагет». Но это равнозначно: «Не читайте лекции, не говорите своего, беловского, ибо Вы один из… Да, да, да, дорогой, это так. Раз деятельность Андрея Белого чужда Мусагету, то Белый в Мусагете, и вне Мусагета перестает быть Белым. А так как Белый не перестает быть Белым, то выход ясный: Белый не желателен, как и Эллис не желателен. Тогда остается Метнер, пусть он один за себя и действует; а то со стороны многие считают Мусагет в значительной степени органом Белого, и это вовсе не потому, что Белый это думает, а потому что еще до Мусагета многие смотрели на передовицы Белого в «Весах», как на курс Белого, и продолжают то же видеть в Мусагете. И осаживанье Белого в «Мусагете» есть в сущности полемика с деятельностью Белого вне Мусагета. Или дайте отставку Белому, как в сущности Вы дали отставку Эллису, или боритесь с Белым в Мусагете не критикой, не затыканием горла, а противопоставлением в работе беловскому да метнеровского да.
«Да» Метнера, не проявившись в Мусагете, уже разбило критикой многие задания Белого.
Дорогой, знайте – Б. Н. Бугаев одно, а Белый – другое; Белый это знает, и в то время, как Б. Н. Бугаев безнадежно-умирающе говорит: «Да, да, да» – А. Белый в нем говорит: «Внимание – мы от лица русского символизма заявляем…». И вот наконец Белый Вас спрашивает: Кто мы «М<усаге>та»?
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 43. На конверте – приписка Белого: «Доставить немедленно (важное)». На л. 1 под текстом помета рукой Н. П. Киселева: «Штемпели. Луцк. 17 VI 1911; Москва. 20 VI 1911» (указаны почтовые штемпели соответственно отправления и получения).
224. Метнер – Белому
Свистуха[2530] 26/VI 911.
Дорогой Борис Николаевич. Если я не тотчас же ответил на Ваше первое волынское письмо[2531], напомнившее с такою сладостною болью минувшие дни второй симфонии и обещавшее их возвращение, то исключительно вследствие крайне диссонирующего с настроением этого письма самочувствия моего, день ото дня становящегося все хуже. Знающий меня друг так и только так должен был истолковать мое молчание. Если бы Вы спросили Наташу[2532], почему я не отвечаю, она, которой я не написал еще ни единого письма отсюда, наверно ответила бы Вам: вероятно, ему нехорошо. – До меня давно уже доходили слухи (да Вы и сами признавались мне в этом), что Вы думаете, будто я охладел к Вам, будто я избегаю с Вами говорить с прежнею откровенностью и т. п.: все это – химеры, которым Вы не раз уже давали расти и воплощаться и под влиянием которых Вы предавали нашу дружбу и впутывали в наши отношения посторонних и сомнительных приятелей вроде Соколова-Кречетова и т. п. – Никогда я не искал ничьей дружбы и любви, никогда не пытался подогревать моих отношений и никогда не стремился к разрыву. Все мои отношения вырастали как цветы и так же естественно отцветали, если это было надо; срывать я никогда не позволял себе, вот почему как в дружбе, так и в любви отношения продолжались нередко односторонне, т. е. с моей стороны, с другой же совершался срыв… – Сколько бы раз я ни переоценивал человека, раз вошедшего в мое сердце, какие бы недостатки внезапно ни открывались для меня в нем, сознательно отвернуться от него я не в состоянии, хитрить и дипломатично уклоняться от принципиальных разговоров – также нет; самое большее, что может произойти, это постепенное и медленное отцветание отношения. Такового я в себе не наблюдал, что касается моей дружбы с Вами. Нет во мне никаких колебаний относительно и Вашего таланта. Конечно, по мере нашего общения мне стали яснее иные, опасные, и отрицательные, черты Вашего характера, но кто же без грехов, и, повторяю, все это не может поколебать моей любви к Вам и моего восхищения перед Вашими исключительными дарованиями. По поводу некоторых черт мне приходилось с ближайшими Вашими и моими друзьями говорить и сетовать, но то же самое, вероятно, делали и Вы, говоря с теми же лицами обо мне. Разумеется, я не могу и не стану сообщать Вам результаты моего анализа Вашей личности, ибо это не имеет практического значения и всегда походит на укоризну. Но одно должен сказать, что и самый факт Вашего второго волынского письма и сопоставление содержания последнего с таковым первого письма, все это озадачило меня и вынудило углубить анализ Вашего внутреннего и внешнего habitus’а[2533]. Ваше поведение в отношении ко мне крайне чуждо, непонятно, неприемлемо для меня; такие зигзаги совершенно не отвечают моей природе и заставляют меня быть настороже гораздо в большей степени, нежели после конфликта 1907 года[2534]. Кроме того, из письма Вашего я вижу, что художнический психогнозис одно (и им Вы обладаете в высокой степени), а просто человеческий психогнозис – совсем другое, и тут Вы просто беспомощный ребенок. Ну как же можно было написать мне и обо мне такое письмо?! Ведь если оно попадется когда-нибудь лет через 50 историку литературы и явится для него источником суждения о личности редактора Мусагета, какой уничтожающий приговор вынужден он будет вынести обо мне. Малоизвестный музыкальный критик, заигрывающий с философией и символическим движением литературы, основывает на неизвестные средства издательство с очевидной целью сыграть роль непризванного вождя и руководителя какого-то смутного нового направления, опираясь на группу талантливых, но не пристроившихся литераторов и в особенности на тогда восходившую звезду Андрея Белого; из приятеля отдельных членов этой группы г. Метнер, увлекаемый столь же властолюбием, сколько и честолюбием, превращается очень скоро в мелкого деспота, но деспота ленивого и недостаточно умелого, который ограничивается подавлением инициативы других, не обнаруживая своей собственной; как всегда бывает с такими юпитерами, все равно, в канцелярии или в редакции, Метнер попадает в лапы ловкого секретаря, который и ворочает всем делом вплоть до того, что издает даже книги, не одобренные не только членами фиктивного редакционного комитета, но и самим редактором.
27/VI. В Вашем письме нет ни единого слова правды и все сплошная истерика, явление которой принадлежит к разряду тех, чтó мне наиболее чужды в психологии русского человека, отчего я и терпеть не могу Достоевского. Я не только берусь это лично доказать Вам до конца, а здесь в письме в общих чертах, но и готов был бы документально (письмами моими и Вашими) и свидетельскими показаниями демонстрировать несостоятельность взводимых Вами на меня обвинений и факт искажения Вами картины общего хода мусагетских дел перед лицом кого-либо, избранного нами в третейские судьи.
–
В противоположность журналу книгоиздательство обнаруживает свою идею чрезвычайно медленно, почему об этой идее судить можно часто лишь после прекращения издательства. Мусагет, устраивая в стенах редакции и у дружественного Крахта лекции и собеседования, заключая союз с Логосом[2535], выделяя издания Орфей (вспомните борьбу по этому поводу с Вячеславом и Ваше колебание между моим и его планом[2536]), вступая в блок с Блоком, отмежевываясь от Мережковских, не делая их в то же время своими врагами (издание стихов Гиппиус)[2537], аннексируя творчество Вячеслава, устраняя в то же время деспотическое влияние его на общий характер издательства, объединяя лиц, связанных в ином высшем плане, подводя итоги символистической идеологии минувшего периода (Символизм, Арабески, Русские символисты[2538]); намечая в публичных заседаниях Рел<игиозно>-фил<ософского> общ<ества>, филос<офского> кружка, лит<ературно>-худ<ожественного> кружка, общ<ества> эстетики[2539] позиции философскую, художественную, литературную главных своих членов, делая все это, Мусагет показал, что он не только книгоиздательство, но и общественная единица, хотя и очень небольшая. Таков официальный мог бы быть отчет о деятельности Мусагета. Что он отвечает в весьма большой мере истинному положению дела, об этом свидетельствует несомненный моральный авторитет, которым Мусагет пользуется почти у всех литературных групп и толков, не исключая и части журналистов. Об этом авторитете не раз сами Вы мне говорили.
–
Что касается уже изданных книг, то совокупность их, конечно, слишком недостаточна по количеству и слишком пестра по составу, чтобы можно было увидеть очертания идеи Мусагета, но судить о последней по изданным книгам то же самое, что о Парфеноне по ступенькам лестницы или двум-трем колоннам. Если какие из изданных книг нуждаются в апологии, то Вы сами знаете, в чем их оправдание и в чем обвинение, в чем они заслуживают снисхождение. Одни книги нуждаются в адвокате со стороны содержания, другие со стороны внешней формы (т. е. не той, чтó тесно связана с содержанием). К последним принадлежат Ваши книги, в особенности Символизм. Повторяю, я имею в виду не те мелкие промахи, понятные в таком труде и вылавливаемые злостною акрибией Ваших завистников. Весь материал Символизма и отчасти Арабесок сплошь ценен, но книги вышли нескладными оттого, что Вы втиснули весь материал только в две книги вместо, м<ожет> б<ыть>, четырех, оттого что Вы увлеклись комментариями[2540], оттого что Вы допустили начать набор до того, как статьи (т. е. основа книги) были приведены в окончательную форму и т. д. Вы все это знаете лучше меня. Ваши книги, даже если все будут проданы до последнего экземпляра, не вернут расходов. Не говоря уже о том, что громоздкая внешняя форма их и высокая цена не способствуют распространению Ваших идей в более широких кругах. Как я мог думать, что Вы, чуть ли не десять лет пишущий, не сумеете распределить своего богатства по отдельным книгам таким образом, чтобы они стали с большею легкостью достоянием массы читателей? И в каком деспотизме вправе были бы Вы и друзья наши упрекать меня, если бы я вторгся в Вашу лабораторию и сам стал распределять Ваши работы по группам? Из книг, требующих оправдания по содержанию, я знаю только одну, это – Бодлэра[2541]; но это голос Эллиса, одного из ближайших Мусагету лиц, одного из сооснователей его. Напрасно была издана Гиппиус, это был медовый пирожок в пасть дракона; но кто настаивал на издании Гиппиус, книги, проданной в наименьшем количестве экземпляров и даже по содержанию мало отвечающей настроениям мусагетской группы, как не Вы сами, Борис Николаевич, и если бы я следовал дальше тем обещаниям, которые Вы только по слабости воли раздавали направо и налево, то мы издали бы наверно сборник стихов Юрия Верховского[2542], затем Валериана Бородаевского[2543], потом, м<ожет> б<ыть>, статьи Максимилиана Волошина и т. д. ad infinitum[2544]. Некоторого оправдания нуждается Логос благодаря иным своим статьям. Но, во-первых, Логос международен и в отношении к Мусагету конституционен. Во-вторых, Вы все время были ярым сторонником Логоса. В-третьих, Мусагетирование Логоса не может состояться так быстро. В-четвертых и в связи с последним, не забывайте, что одним из главных мотивов союза с Логосом явилось желание мое, чтобы Вы, Вячеслав, Эллис и, м<ожет> б<ыть>, проснувшийся Петровский упражняли свою философичность. Не моя вина, что Вы вместо мировоззрительной статьи по философии отписались «под Фосслера» Потебней[2545] и замолчали, что и для немецкого Логоса Вы не готовите статьи (а я как раз мечтал увидеть Ваше произведение в немецком филос<офском> журнале, и какое важное событие являла бы собою эта статья); не моя вина, что Вячеслав, пишущий по-немецки, как по-русски, не дал до сих пор статьи и в немецкий Логос, и для русского дал популярную лекцию о Толстом[2546]; не моя вина, что Эллис не хочет (ибо, конечно, может) писать о «своем», но строже и без истерических выкриков; что он, словно издеваясь над Логосом, дал редакторам две такие нелепые рецензии, что привел их в смущение; не моя вина, что не пробудился к активности Петровский, работа которого, конечно, пришлась бы к Логосу, ибо по духу своему он все-таки кантианец. И тем не менее Мусагетирование Логоса медленно, но подвигается, и уверяю Вас, что совсем иную еще картину являл бы собою этот ежегодник, если бы он попал в лапы к Лурье. Уже одно то, что мы, приняв Логос, хотя и с большими издержками, но исполнили катоновское Delenda est Carthago[2547] и ти́товское delenda sunt Hierоsоlyma[2548], ибо главное не надо допускать юдаистической штаб-квартиры. Степпун – «слаби», как говорит Эллис; Гессен – сын крещеных евреев; Яковенко – слишком абстрактен и не вполне еще свободен от когенианства[2549], и вот старший и хитрый Лурье постепенно юдаизировал бы Логос до последней буквы. Наконец, как, к великому изумлению моему, видно из Вашего письма, в оправдании нуждается Антология. Вы, как Вы выражаетесь, конечно не «автор инициативы с Альманахом», но… Вы забываете, во-первых, что на самых первоначальных собраниях Мусагета, т. е. осенью 1909 г., мы решили не издавать книг стихов отдельных авторов, кроме Вас, Эллиса, Соловьева (Блок тогда еще не имелся в виду), а чтобы не быть по кружковски-партийным, было постановлено на второй год деятельности (т. е. в 1911 г.) издать Антологию или Альманах, где собрать стихотворения всех поэтов, даже далеко стоящих от Мусагета[2550]. Это постановление, с которым согласились тогда все присутствующие, и имел в виду Кожебаткин, когда сказал Вам осенью 1910 г., что я утвердил Альманах; у меня есть Ваше письмо от 1 октября 1910 года[2551], в котором Вы поете Кожебаткину хвалу (неумеренную и неосновательную, ибо не за то хвалите его, что в нем действительно ценно) и, между прочим, прыгаете до потолка от восторга, как Кожебаткин перебил у Брюсова, т. е. у Скорпиона, поэтов и чтó за Альманах благодаря этому у нас получится. Не лучше было бы потребовать от Кожебаткина пообождать с приглашением поэтов, написать мне о своих сомнениях в целесообразности теперь именно издавать Альманах, чем («скрыв свое огорчение», как Вы теперь чуть не год спустя признаетесь) пассивно отнестись к оборудованию Альманаха Кожебаткиным, да еще вдобавок захлебываться от восхищения, описывая мне это оборудование; или Вы тогда были неискренни и скрытны (зачем?!), или Вы (чтó мне представляется более вероятным) тогда были вполне за Альманах, а теперь под влиянием Блока и отчасти под впечатлением иных неудачных страниц Антологии говорите, что «идея эта чужда» Вам, забыв прошлое… Мало этого; Вы забыли еще более близкое прошлое; Вы забыли, что, обсуждая и цензуруя материал Альманаха, Вы перед самым своим отъездом говорили благосклонно об Альманахе, обещали для него драму, будто вполне уже готовую в голове[2552] (а это обещание было одним из главных мотивов для меня, более равнодушного к средней лирической поэзии, не отклонять Альманаха); ведь если бы Вы действительно были так против Альманаха, как это Вам теперь представляется, то кто Вам мешал, во-первых, на большинстве предложенных Вам на рассмотрение стихотворений проставить veto; а во-вторых, еще лучше, высказаться, хотя и поздно, по существу со мною; мы могли бы возвратить авторам рукописи и потерять 100 рублей, выданных авансом: вот и все. Но Вы молчали, и я уверен, что молчали bona fide[2553], а вовсе не затаив огорчения. Что касается Блока, то напрасно он не написал мне своего мнения о несвоевременности Альманаха и напрасно Вы скрыли от меня его мнение.
Еще два слова об Антологии. Не считая себя специалистом в критике стихотворной поэзии, я предоставил первое слово Вам, второе Эллису[2554] и последнее себе, причем в своем суждении я нередко уступал даже нехотя «да, принять», «очень хорошо» и другим вотумам Вашим и Эллиса. Я удивляюсь, как Вы могли так деятельно участвовать в издании книги, Вам антипатичной.
–
Что касается того, как образуется линия Мусагета, то само собою разумеется, что не тем путем, что я или Вы берете карандаш и властно проводите ее; эта линия есть диагональ, есть равнодействующая индивидуальных линий главных участников Мусагета; роль же моя как редактора (а не как сотрудника Мусагета) заключается лишь в некотором регулировании этого процесса образования равнодействующей. Если бы я в Мусагете решил проводить только свою линию, только то, что ни на иоту не отступает от этой линии, то я, конечно, издал бы все Ваше (за исключением, м<ожет> б<ыть>, некоторых страниц, а также кое-чего из комментарий к Символизму), заставил бы Эллиса еще и еще раз переработать Русских Символистов; не издал бы Бодлэра; не издал бы Рэйсбрука[2555]; не издал бы Гиппиус; а из стихов Апрель и Stigmata[2556] удалил бы по крайней мере по ⅓. – Альманах же отложил, пока Вы не дали бы драмы. – Кроме того, я наметил бы целый ряд переводов таких книг, от которых стал бы волос дыбом у Эллиса; больше того: при всем преклонении перед Яковом Бёме, я, не будь Петровского, который с такою любовью занят переводом Авроры[2557], призадумался бы издавать его, ибо я далеко не убежден в том, что мистика, которая, являясь диалектикой сердца и образует скорее характер, нежели ум, более необходима в культурном отношении для русского общества, нежели, напр<имер>, гуманисты вроде Гердера, Лихтенберга и старых[2558]. –
М<ожет> б<ыть>, избранные письма Гёте были бы важнее и нужнее России, нежели Бёме. Но я вовсе не хочу, чтобы Мусагет был отражением только того, что вполне консонирует с моим мировоззрением и с моими намерениями. В том, что Вы, Эллис, Петровский, Рачинский, Киселев, Блок, Маргарита Сабашникова в первом ряду; Вячеслав – особо; Логос (как целое) – особо; далее Нилендер, Соловьев, Садовской, Миша Сизов и молодежь во втором ряду; что все это – со мною, в этом я вижу не нечто случайное, а органически сложившееся; это и есть Мусагет; надлежит только, осторожно регулируя, не слишком регламентируя, стараться согласить в различном направлении, но в конце концов к одному и тому же направляющиеся силы. Энергичное и диктаторское вмешательство необходимо и допустимо лишь в случаях, когда кто-нибудь из составляющих моральную персону Мусагета лиц явно нарушает основную его идею (назовем ее для краткости: религия и культура свободных арийцев); или же узурпирует Мусагет для личных оттенков и чересчур индивидуальных моментов своего мировоззрения; так я дал отпор поползновениям Вячеслава (в Вашем присутствии шел один из центральных разговоров на эту тему); так я письмом в редакцию Аполлона в ответ на инспирированную Эллисом статью Макса Волошина раз навсегда негативно определил позицию Мусагета, указав, чем Мусагет никогда сделаться не может и не должен[2559]. – Если бы Мусагет обладал огромным капиталом, он мог бы основать журнал, образовать штат искусных переводчиков и наметить сразу с полсотни ценных иностранных книг, ближе указующих, куда клонится его идея; мог бы даже наметить систематический ряд оригинальных монографий и поручить их составление специалистам и т. п. Но средства Мусагета невелики, и потому я продолжаю настаивать на том, что тесный кружок немногих лиц, связанных более или менее продолжительною дружбою, среди которых родился Мусагет, самым своим составом определяет пока что идею последнего. Да! Мы должны и будем печатать оригинальные и переводные труды именно этих (главным образом) лиц, если только кто-н<ибудь> из них не даст, «эволюционируя», нечто такое, что находится в кричащем несоответствии с всеми чувствуемой идеей. Да! Мы идем от лиц, как живых носителей идеи, а не от отвлеченной идеи; мы идем от лиц, образующих наш мусагетский кружок, и от великих умерших, являющихся как бы патронами членов этого кружка; Гёте, Данте, Ницше, Пушкин, Гоголь, Владимир Соловьев, Фет, Новалис, Бёме, Гераклит, Вагнер, Мейстер Эккарт, Винчи, Бетховен, Бах, Моцарт, Врубель, Кант, Шлегель[2560], Шеллинг; лучи мысли, идущие от этих великих мертвецов, проходят через живых: Андрея Белого, Эллиса, Вячеслава Иванова, Садовского, Нилендера, Вольфинга, Петровского, Блока, Сабашникову, Яковенко, Степпуна и т. д.
–
Обращаюсь к тексту Вашего письма. Я уже выше указал Вам, какое впечатление вынес бы всякий со стороны (напр<имер>, будущий Стороженко, которому попалось бы в руки Ваше письмо) как обо мне, так и о Мусагете. Теперь остановлюсь на деталях. 1) Откуда Вы взяли, что я уклонялся от принципиального разговора с Вами в Ваше последнее пребывание в Москве? Правда, мы не имели возможности (не по моей вине: Вы как всегда не сумели распределить время и тратили его на всякие пустяки) – говорить много и долго; но не Вы ли после разговора со мною выразили Наташе свое удовольствие по поводу того, что «лишь побеседовав с Эм<илием> Карл<овичем>, я вполне и сразу ориентировался и успокоился». За точность выражений не ручаюсь, но смысл наверное был передан Наташей верно и верно же схвачен мною. –
2) Вы указываете на то, что «как в прошлом, так и в позапрошлом году» пропала «осень», т. е. – «время благоприятное для начала деятельности». Другими словами, я виноват в чем-то, в каком-то упущении, ибо меня не было в 1909 году до 1 октября, а в 1910 г. до 1 ноября (или последних чисел октября, точно не помню). Что же пропало? Возьмем осень 1909 года. Когда я приехал, то состоялось несколько редакционных собраний, вполне выяснивших наши планы (отклонение журнала[2561], соединение с Логосом, серия книг, издание которых желательно, принципиальное решение издать Альманах и сборники статей, с которыми согласились, однако, не торопиться, пока отдельные авторы не споются друг с другом[2562]); но разве мой приезд 1 октября вместо (допустим) 1 сентября (а последнее было прямо невозможно!) является причиной того, что рукописи Символизма и Русских Символистов оказались только наполовину готовыми, что Рейсбрук, о котором Вы писали мне, точно он послезавтра мог быть отдан в типографию, должен был пройти кропотливейшую правку, что остальные рукописи оказались пуфом??!!!! У меня есть письма того времени – от Вас и от Эллиса, восторженные и милые, переполненные разными великими, но неосуществимыми планами и с постоянным припевом: приезжайте скорее; все готово; у нас 10 рукописей, которые на днях могут быть отданы в типографию; Кожебаткин подбирает уже шрифт; и надо обсудить, чтó писать и готовить дальше. И вот я с трудом вырвался и приехал 1-го октября. Застал только хаос. Окатил всех холодной водой. И было приступлено к будничной работе… Теперь я глубоко жалею, что приехал тогда 1 октября. Не поздно, а слишком рано я приехал тогда. Раньше января мне и не надо было бы приезжать (я избег бы тогда очень многих осложнений в своей личной жизни, о чем, конечно, я не могу здесь распространяться); получив от Вас смету по журналу и убедившись, что издавать журнал нельзя, я должен был бы заявить об этом и затем попросить, чтобы меня уведомили, когда Символизм и Рус<ские> Символисты, вполне готовые, могут быть сданы в печать, а рукопись Рейсбрука вытребовать к себе в Веймар на просмотр. Тогда оказалось бы, что январь 1910 г. – самое раннее, когда мне стоило приехать, чтобы открыть Мусагет. Но я поверил фантастическим заявлениям друзей и поскакал в Москву, куда, впрочем, Вы призывали меня поскорее не только по делу Мусагета, но и по делу: [2563]. – Теперь: осень 1910 года. Я возвратился к 1 ноября. Допустим, что я виновен (хотя и заслуживаю снисхождения, по причинам, о которых не только здесь распространяться неуместно, но о которых я, как и вообще о своей личной интимной жизни, пока не имею права говорить); итак, пусть я виновен, что не явился двумя месяцами раньше в Москву. Что же упущено вследствие этого моего запоздания? Ведь не выход же в свет нескольких книг, чтó зависит от бдительности Кожебаткина и оборудованности типографии. Следовательно, только опять рассмотрение планов и проектов будущих изданий. Скажем, что основное заседание, на котором разработаны вопросы о трех сборниках, о статьях для каталога, о серии брошюр и о книгах о композиторах[2564], что это заседание произошло двумя месяцами позже, нежели следовало. Тогда надо считать, что сегодня не 28 июня, а 28 апреля; отлично; было решено, что сборник о русских поэтах выйдет в конце апреля (т. е. минус два месяца = в конце февраля); но никто не подал к сроку ни единой рукописи, и, даже допуская мою редакторскую погрешность, надо признать, что мое двухмесячное опоздание едва ли повинно в двухмесячном уже, а очевидно по меньшей мере полугодовом опоздании авторов русского сборника. О статьях иностранного сборника и сборника о культуре, должно быть, даже и забыли думу думати. Были доложены на этом заседании мнения о статьях для каталога («проекты проспекта» и «проспекты проекта», как Вы их шутя называли); и Вы и Эллис согласились с мнениями (правда, чрезмерно резкими) Петровского и Рачинского, что Ваши передовицы не годятся для публики, что их надо переделать и что лучше их пустить в следующем издании каталога (или по другому названию Книжных листков Мусагета)[2565], а в первом издании поместить мою статью[2566], развив некоторые ее части, статью Гессена о Логосе и статью Вячеслава об Орфее. Я принялся, несмотря на заботу о своей книге и на полное неумение мое думать одновременно о двух темах, за разработку своей программной статьи; окончив ее, я написал письмо Вячеславу и препроводил ему статью мою и статью Гессена о Логосе, с просьбой, приняв их во внимание, написать нечто консонирующее об Орфее[2567]. Несмотря на многократные напоминания, Вячеслав до сих пор не прислал ничего. Прошло с тех пор полгода. Неужели и в этом виновато мое несчастное появление в Москве к ноябрю вместо сентября???! Литератор калибра Вячеслава не в состоянии написать нескольких страниц о близком ему предмете для дружественного издательства. А я со своим дилетантизмом и педантизмом, своим трудным и нудным пером нацарапал, повинуясь долгу, статью в полной уверенности, что она окажется самой плохой, а она оказалась единственной. Вы знаете, как мне трудно писать; вытребуйте у Кожебаткина копию моей статьи, и Вы увидите, что, несмотря на небольшие размеры, она потребовала от меня большой работы (вдобавок прервав мою главную работу[2568]), ибо написана осторожно, точно, спокойно, ясно – т. е. не от руки, а после долгого обдумывания и набрасывания. – Я сделал свое дело. Нельзя же было выпускать Книжные Листки с одной моей статьей; еще менее допустимо дать статью о Мусагете и о Логосе и не дать статьи об Орфее. Итак, пришлось, ожидая со дня на день, отложить «проспекты проектов» на неопределенное время. Идее издавать брошюры все так обрадовались на этом заседании, что поднялся даже гул; мое издательское сердце и окнуло: я испугался моря брошюр, ибо видел, как загорелись глаза у Эллиса, как хлопал в ладоши Белый, как закачался Киселев, как улыбнулся Петровский, как призадумался над своей брошюрой Рачинский и т. д. Для начала я выбрал брошюру Деуссена («Веданта и Платон в свете Кантова учения»)[2569], брошюру Вернике «Религия Канта» и фон Шольца (Немецкие мистики)[2570]. Все три брошюры поручены для перевода и редакции последнего[2571] Мише Сизову и Петровскому. До сих пор (прошло 4 с лишком месяца) переведена, и то не до конца, первая из названных брошюр; в ней… всего… 26 страниц, правда, большого формата и убористого шрифта. Может быть, и тут виновато мое позднее появление? – Итак, я испугался моря брошюр, а не появилось ни одной; я думал, что и Петровский и Рачинский размахнутся для брошюры, не говоря уже об Эллисе или о Вас. Но все напрасно. С книгами о композиторах мне пришлось возиться страшно много говорить, убеждать, согласовать, просить; наконец, казалось, все улажено; но к сроку не только не поступило ни единой статьи, но оказалось вдобавок, что никто и не приступал к статьям. Я имею в виду не Вас здесь и не Эллиса, а музыкантов. – Итак, я решительно не понимаю, что значит Ваш упрек в запаздывании моем в 1909 и в 1910 году. Объявляю Вам заранее, что и в нынешнем году я ( приеду), то не раньше 1 ноября. –
3) Все Ваше письмо, если оставить в стороне типично бугаевские филологические и математические шуточки, даже как бы вовсе не Вами написано, до такой степени оно мало предметно, отвлеченно-канцелярское! Я просто подчас не понимаю, о чем конкретно Вы изволите говорить?.. Вы всё «ждали инициативы редактора». В чем инициативы? «В виде ли с его стороны мне предложенных вопросов» (о чем??), «в виде ли изложения своего взгляда на настоящее положение вещей» (каких вещей??). Ведь это все прямо, извините, просто болтовня!!! Я слаб только как писатель (непродуктивен, медлителен), но как редактора я себя ни в чем упрекнуть не могу (за исключением тех неважных промахов, которые связаны с моей неопытностью в технике печатного дела); не станете же Вы, Эллис и другие упрекать меня в том, что я более, нежели следовало, доверял литераторской точности в смысле выполнения работ к условленному сроку; конечно, я излечился навсегда от этой доверчивости; понимая вполне как литератор, что иначе и нельзя, что от творческой работы трудно ждать точности срока, я думаю все-таки, что при подобной неопределенности и неведомости того, что ждет завтра, никакая коллективная работа невозможна; Брюсов сто раз прав, когда он сказал мне, что утвердительно ответить на вопрос, когда, и будет ли вообще, напечатан Серебряный Голубь в Русской Мысли[2572], он сможет лишь тогда, если рукопись, чисто написанная и доведенная до конца, будет лежать на его столе. – Вы ставите вопрос об инициативе редактора так, как если бы дело шло об ежедневной политико-общественной газете, а не об издательстве, выпускающем по нескольку кирпичей в год. Моя инициатива проявилась в самом начале в отклонении журнала, в отклонении кожебаткинского эстетства в выборе и в качествах издания книг, в соединении с Логосом, в выделении Орфея, в предложении с своей стороны ряда книг, в полемике с Вами по поводу Ваших чрезмерно широких проектов сборников; вспомните Ваш сборник о культуре, который пришел Вам в голову в то время, когда Вы с Кожебаткиным сидели в «Праге»[2573], и о котором Вы написали мне за границу[2574]. Когда я получил это письмо в Берлине (в октябре прошлого года), я не спал всю ночь, опасаясь, что сделаны уже шаги к осуществлению. Когда же я приехал и говорил с Вами об этом, читая Вам места Вашего письма, Вы смеялись и говорили: Боже, что за карикатура! Неужели я мог это написать и предложить. Между тем Вы не только это написали мне и предложили, но и сделали шаг к осуществлению, попросив Гессена заехать к Мережковскому и предложить ему участие в этом диком сборнике статьею Культура и Религия. Впоследствии, когда я приехал и на основном заседании обсуждался проект сборника о культуре, на мое предложение поручить такие-то темы таким-то лицам и, в частности, Религия и Культура Вячеславу Иванову, с чем все согласились, Вы, согласившись также, не упомянули о сделанном Вами через Гессена шаге, чем поставили меня в крайне неловкое положение перед Вячеславом, который полагал, что это именно я тот наивный человек, который думает, что он и Мережковский могут писать в одном и том же сборнике на одну и ту же тему. Сборник о культуре Вы собирались выпустить (по Вашему тогдашнему письму судя) чуть ли не в два-три месяца; а на заседании Вы согласились со мною (и с другими), что сборник о культуре должен выйти третьим (I – русский; II – иностранный), и притом отнюдь не скоропалительно, а через год и после основательного обсуждения и согласования всех его статей. Вообще всякая торопливость в редакции книгоиздательства совершенно излишня; в Мусагете Вы, Эллис и Кожебаткин склонны к молниеносным решениям по всем направлениям; здесь все спешат, суетятся, говорят с пеной у рта, так, как будто промедление одного дня уже может непоправимо испортить дело; но исполнение решений медлительно и неопределенно до бесконечности; здесь пропадают не дни, а полугодия; необходимо обратно: долго обдумывать решение и быстро приводить его в исполнение. – Присутствие редактора в Москве, конечно, по временам необходимо, но чтобы нельзя было в книгоиздательстве обождать несколько дней, а иногда недель, чтобы нельзя было многое отлично обсудить путем переписки, это – неправда! Инициативу же я проявляю ровно столько, сколько это возможно при медленном ходе книгоиздательской машины и при сохранении того принципа, о котором я говорил выше, именно о проявлении индивидуальных линий главных членов Мусагета. –
4) Все это «Ы», «глыба, воплощенная в окурках Конторы», и тому подобные Вами создаваемые низшие астральные существа, все это – «взшли» и «недотЫкомки»[2575], все это вот что: выискивание блох и вшей; все это пресловутое русское «ковыряние» (термин Мусоргского)[2576]; все это – истерическое всматривание в «пЫль» бесконечно малых величин, от которого изнурился Чехов и которым всех изнурил Достоевский; глубина русского писателя часто заключается не в чем ином, как в ношении в одном глазу микроскопа и в наивном сравнении отсюда по величине предметов, видимых невооруженным глазом и через микроскоп, откуда и утверждение что холерная запятая одного роста со скаковой лошадью. «Головка виснет»; «я выключен из состава Мы»; что все сие значит? Совершенно не понимаю! Как это «Мы», которое «в общем» (?) ответило Вам: «нельзя понимать, в чем суть, не присутствуя, не зная, чтó происходит», ну не кошмары ли все это!? – И, увидев в Мусагете только окурки и контору, не обнаружили ли Вы этим, что Вам теперь уже больше Мусагет не нужен (а не то, что Вы не нужны ему). –
5) Вначале я, видя, что Кожебаткин стремится к более сильному влиянию, что он думает определять линию Мусагета, осаживал его с риском его обидеть и потерять деятельного секретаря и способного купца. Тогда Вы и Эллис, рекомендовавшие его, стали за него заступаться. Я не обращал внимания и успокоился лишь тогда, когда Кожебаткин помирился с нежелательным ему направлением, ограничиваясь мелкими шпильками и интригами[2577]. Теперь, когда я и отец мой, заведующий денежной частью, очень довольны работой Кожебаткина, теперь Вы (и это уже не в первый раз) нападаете на него, несмотря на то, что он оказывает Вам услуги в Ваших личных делах. Если Кожебаткин позволяет себе говорить Вам от лица Мусагета и чуть ли не читать наставления, то Вы в этом сами кругом виноваты; кто Вас просил просиживать с ним ночи в «Праге», пить на ты (ты тоже Ы и какое еще!), поверять ему тайны своей личной жизни, чуть что не вербовать его в Δ[2578]; оттого Кожебаткин и «вырастает» в Ваших глазах «до… химеры». Вы субъективны до… «химеры» и все предметы видите в фальшивом освещении и в неверной перспективе… Больше того: Вы начинаете видеть каких-то невидимых или чересчур случайных лиц, которых Вы, однако, именуете «группой посещающих Контору людей, которые вносят дух, долженствующий определять линию Мусагета».
6) «Мусагет становится все более чужд Эллису, Белому, Метнеру». Мне он не чужд, почему он стал Вам чужд, я могу судить только гадательно, что же касается Эллиса, то в настоящий момент своего пути он почти всецело вне Мусагета, ибо католичен, штейнерьянен, антиэстетичен; человек, который кричит, что надо жечь тех, кто не признает папы и Штейнера и Штейнера папой, который стоит за Фому Аквинского, инквизицию и иезуитов, который всякое искусство, занятое чем-либо иным, кроме прославления стигматизма[2579], называет блудом, который каждым своим теперешним жестом говорит нет свободной арийской культуре, не может, пока снова не переэволюционирует, числиться членом распорядительного Комитета; вот отчего нет больше собраний en trois, на что Вы жалуетесь; ведь с настоящей точки зрения Эллиса не только Антология[2580] и Логос, но все книги (кроме отчасти Ваших, его собственных, и изданий Орфей), изданные до сих пор и готовящиеся, – суть редакционные промахи. Вы бы послушали, как он недавно бранил меня за то, что я выбрасываю деньги на такой мусор, как собрание стихотворений Блока[2581], которого он ругал не помню каким словом, означающим блуд со святыней; а затем взял книгу и прочитывал отдельные строчки, неистово издеваясь. Спрашивается, способен ли такой человек, который одержим чем-то до конца враждебным Мусагету, стоять во главе его, пока с ним не произойдет перемена к прежнему мировоззрению? А между тем Эллис, как раз сделавшись внутренно антимусагетичным, внешне с особенным пафосом всюду объявлял себя редактором. Статья Макса Волошина есть отражение этого поведения Эллиса. Я вынужден был ответить и, кроме того, во избежание толков и недоразумений проставить свое имя как редактора в начале каталога (см., напр<имер>, каталог в конце первого тома Блока[2582]); впоследствии, конечно, можно будет снять мое имя, ибо я сделал это вовсе не с целью рекламы. –
7) Я никогда не рассматривал помещения Редакции, в особенности в деловые часы, когда присутствует Контора, а у Вас в глазах мерещится от «распухшего ЫЫЫ», как место, где можно обсуждать «идейную сторону», оттого и «мне надо домой», когда Эллис начинал вопить «о последнем», мешая Ахрамовичу корректировать и увеличивая тем и без того большое количество опечаток в изданиях Мусагета. Но я никогда не уклонялся от идейных разговоров ни с Вами, ни с кем другим из Мусагета. В чем же все наше общение с Вами, как не в этом? –
8) Относительно Ваших жалоб, что «осенью, когда мы собирались с проектами, планами, Вас не было», я уже выше сказал. Здесь прибавлю только, что не странно ли с Вашей стороны полагать, будто мое пребывание за границей и неприсутствие на некоторых заседаниях в начале сезона ничего не оправдываемо, тогда как Ваше путешествие или то, что Вы, приехав в Москву, не могли остаться несколько дней лишних[2583] для идейных разговоров, это все в порядке вещей. Но во время моего преступного пребывания за границей явилась реальная возможность осуществить Мусагет, а письма мои из заграницы настолько обстоятельны, что из них можно было, в особенности людям, меня знающим, составить точнейшую инструкцию.
9) Неудачный термин «португальская революция», которым я шутя пользовался, принадлежит не мне, а Эллису. Что в начале прошлого сезона благодаря проискам Кожебаткина (кот<орый> следовал принципу divide et impera[2584]) до моего приезда шла перебранка, это, к сожалению, факт, отрицать который Вы не можете; это доказуемо Вашими письмами и письмами Эллиса; Вы всё успели забыть: в это время Вы дружили c Кожебаткиным, и он настраивал Вас против меня, пользуясь моим отсутствием; отголоском этого был разговор Петровского с Анютой[2585] о том, что я должен уступить Вам редакторство, т<ак> к<ак> я не со всеми членами (читай, с Кожебаткиным) гармонирую. (Прошу Вас, конечно, об этом Петровскому не говорить!) Никакой «предвзятой мысли» о «португальской революции» у меня, конечно, не было. Вся эта часть Вашего письма, где Вы обижаетесь на меня по поводу «португальской революции», сплошь неправда, т<ак> к<ак> Вы явно всё забыли, что и как тогда происходило. Фразы «Вашу деятельность как писателя русского не сливайте с деятельностью Мусагета» я никогда и не произносил. Все это место письма прямо возмутительно; я выставлен каким-то мелким тиранном, зажимающим Вам рот, мешающим Вам «сознавать и создавать свою линию в Мусагете». Нет, Борис Николаевич, Вы или больны, или Вы ищете ссоры. Или тут интрига. Кто-н<ибудь> что-н<ибудь> Вам не так передал о том, что я говорил по возвращении из Петербурга[2586], где имел две неприятности с Юрием Верховским и Вячеславом. Я сказал тогда, что неужели Борис Николаевич не мог сначала запросить меня, а потом обещать Верховскому и заказывать через Гессена статью Мережковскому. – Повторяю, что в книгоиздательстве (вот почему неверно сравнение с ежемесячником Весами, которое Вы приводите) не может быть такого спешного вопроса, относительно которого некогда списаться с редактором, хотя бы последний находился в Америке. Вы могли вести свою линию беспрепятственно, но должны были спросить меня относительно фактического осуществления отдельных шагов. Это – не субординация, а товарищеская критика, и я ничего не предпринимал без Вашего совета, за исключением упомянутых выше немецких брошюр, которые не посылать же было в Африку и которые одобрены Петровским и Киселевым. Вы так придираетесь, что, право, я не шутя думаю, не ищете ли Вы повода выйти из Мусагета. Не произошел ли и в Вас какой-н<ибудь> переворот в мировоззрении, вследствие которого Вы чувствуете, что не можете работать со мною. –
29/VI 911.
10) Никогда я не думал, что Андрей Белый упрекнет когда-либо меня в тираннии. Маску самодержца мне необходимо, правда, было надевать подчас, но сами же Вы благословляли меня на это. А теперь сопоставляете с Брюсовым и даже en laid[2587], что после всего известного мне о Брюсове звучит прямо как оскорбление.
11) В том, что я не «созвал трио», Вы увидели себя «морально выбитым из своего положения в Мусагете». Это Вы теперь так говорите: тогда я объяснял Вам (и в этом письме на эту тему достаточно уже сказано), почему временно трио немыслимо. Но это нисколько не мешает дуэту. –
12) Вы доходите в своем обвинении меня в самовластии до того, что эллисовские сумасбродства в штейнерьянском прозелитизме рассматриваете как результат неправильного «разрешения потенциальной энергии» «невыспрошенного» (ты, мол, виноват!!) «сочлена». И такое чудовищное «изложение» (вернее, низложение) фактического состояния мусагетских дел Вы решаетесь еще называть «объективным»!!!!
13) Отвечать еще раз «положа руку на сердце», «кто Мы Мусагета», я не стану, ибо с Вашей стороны это есть ничто иное, как обидное экзаменирование; к тому же в предшествующих частях этого огромного письма дан на означенный вопрос достаточный ответ. Здесь скажу только, что Мусагетом является тот из близких редакции лиц, кто таковым себя чувствует и (NB!) способен по культуре духа своего чувствовать. Задавать вопрос: «кто Мы Мусагета?» может либо человек новый, еще не вошедший в состав, как это было с Вячеславом; либо член Мусагета, далеко отошедший от того, что объединяло его с другими членами; я не знаю, Мусагет ли Вы, раз Вы сами в этом сомневаетесь. Если Вы будете посылать проклятие Европе, не разбирая правых и виноватых, не проводя грани между тем, чтó я называю культурой, и тем, что я называю цивилизацией, не устанавливая различия между творческими эпохами и нокоцентризмом, т. е. утилитаризмом и цивилизаторством как раз ближайшего по времени к нам XIX века, не видя несходства между романизмом и германизмом и сходство между германизмом и славянизмом, одним словом, если Вы, подчиняя весь теперешний свой образ мыслей тем нотам, которые должны прозвучать во втором Голубе, собираетесь и в статьях и в брошюрах и в лекциях громить огульно т<ак> н<азываемую> Западную Европу, то ясно, что временно наши пути разошлись. При учреждении Мусагета мы условились, что не будем ни западниками, ни славянофилами, что, трудясь по мере сил на пользу русской культуры, мы не станем противопоставлять Россию Европе, а рассматривать Россию как часть Европы, что нам дорога должна быть не общая космополитическая западноевропейская псевдокультура, а отдельные культуры наций, и притом мы сошлись и с Вами и с Эллисом (кот<орый> стал переоценивать в то время романское), что в тесном единении русской культуры с германской (в особенности с немецкой) лежит залог дальнейшего процветания первой. Вы знаете, наконец, что единственное условие, поставленное нам издателями, это – братское отношение к немцам и к их культуре, что не должно, конечно, значить: германизация русской культуры, но: тесная связь обеих культур. Я боюсь, судя по тону прямо вызывающему Вашего письма, что и Вы, подобно Эллису, только в ином смысле совершили куда-то «перевал», который болезненно дает Вам ощущать раскол между теперешним образом Ваших мыслей и тем, что в совокупности многократно обсуженных нами тезисов образует неформулированную, но всеми нами чувствуемую программу Мусагета. Дай Бог, чтобы я ошибался.
14) Вы сообщаете мне о важной переписке Вашей с Блоком, которая касается русского символизма, и задаете мне прямо дикий вопрос «имеет ли Мусагет отношение к русской истории, к истории русского символизма и т. д.» Вы меня простите, но это – вопрос черносотенного характера; если я скажу да, то, стало быть, долой гнилой Запад и да здравствует рябая баба!!![2588] – Ибо если исключить здесь черносотенную исключительность, то вопрос… бессмысленный, ибо он ставится Андреем Белым, находящимся (надеюсь!) в полном уме и трезвой памяти, и обращен к Эмилию Метнеру, с которым неоднократно до петухов шли речи о символизме; обращен к Эмилию Метнеру, который, в противоположность модернистам, не переваливает по два раза в год, а медленно расширяется и углубляется в своих воззрениях, основа которых остается неизменной; этот вопрос обращен к редактору издательства, которое выпустило три огромных тома, посвященных так или иначе судьбам символизма вообще и русского в частности[2589].
В заключение скажу следующее: деятельность Мусагета, как и всё, имеет свои недостатки, которые подлежат критике и друзей и врагов. Но не такой, какова Ваша. Вам, знающему закулисную историю первого года Мусагета, стыдно так грубо-извне-формально подходить к вопросу, искажая одни явления и преувеличивая другие, мелочное значение которых очевидно каждому здоровому и беспристрастному взгляду. Говоря о закулисной истории, я, во-первых, имею в виду появление Анны Р<удольфовн>ы[2590], которое эмпирически (и здесь только и речь об этой стороне дела) нанесло огромный ущерб Мусагету, отвлекая силы и внимание его членов от редакционной работы и литературы, сосредотачивая их больше на субъективно-внутреннем, нежели объективно-внешнем, внося вихрь острых внутренних переживаний. В частности, в моей жизни Анна Р<удольфовн>а напутала особенно много, и притом не только путаница и хаотичный вихрь коснулись нутра моего, но и всего моего поведения и всех событий истекших 1½ лет, сложившихся при ее участии и под ее влиянием. Конечно, силы мои вообще невелики, продуктивность слаба, но все-таки резкое понижение моей работоспособности как раз, когда в ней была особенная нужда, т. е. при основании Мусагета, – очевидно, и единственная причина этого понижения – Минцловиада 1910 года; это я могу с чистой совестью и не боясь греха сказать. Конечно, жизнь моя и без того трудна, сложна и часто мучительна, и некоторые особенные обстоятельства имели бы место и без Анны Р<удольфовн>ы, но все-таки эти обстоятельства сами по себе без тех ингредиентов, которые внесла Анна Р<удольфовн>а, не могли бы иметь столь отрицательного значения. Я говорю сейчас абстрактно и загадочно, но иного я не имею права говорить. Однако все-таки я должен прибавить, что отрицательное значение для работы Минцловиады имеет отношение только к литератору Метнеру, а не к редактору. Я почти ничего не написал; я не имел сил выступить в Мусагете одним из лекторов; но редакторскими своими обязанностями я за немногими исключительными случаями не манкировал. Во-вторых, к закулисной истории Мусагета должны быть отнесены такие факты, как штейнерьянство Эллиса, отказывающегося давать обещанные книги и даром почти получающего субсидию; затем рядом с этим печальным явлением надо упомянуть радостное, но, все же не могшее не отразиться на Мусагете, точнее, на проявлении его деятельности: именно Ваша женитьба и Ваше отсутствие из Москвы.
Вашу критику и Ваши нападки я не принимаю ни в чем, ни в одном пункте; сказать, что я обиделся, это было бы слабым и неверным выражением. Я изумлен до последней степени и дальше иметь общение с Вами смогу лишь тогда, когда буду уверен, что все Ваше письмо – сплошная истерика и что Вы, подобно тому, как тогда смеялись над своим «прожектом» проектом сборника о культуре, теперь, прочитывая это свое письмо, пожалеете о каждой в нем букве… Как Вы не понимаете, что раньше, чем написать такое письмо, надо потерять всякое уважение к адресату. Я подчеркиваю уважение, ибо любовь, конечно, может остаться. А так как Ваше письмо – сплошь неправда, и доказать это я (если мало того, что я написал) берусь перед каким угодно трибуналом, то Вы понимаете, что мое уважение к Вам пало в той же мере и, м<ожет> б<ыть>, даже в большей, нежели Ваше ко мне. Повторяю: Любовь, конечно, не могла одновременно испариться. –
Все Ваше письмо приобретает особо оскорбительный оттенок при мысли, что содержание его, хотя бы частично, не является тайной ни в Боголюбах, ни в Шахматове[2591]; и вот этого уже ничем не смоешь… – Странная у меня судьба: с одной стороны меня всегда переоценивали, с другой недооценивали… – А Вы, которому не безызвестна трагедия моего призвания, неужели не понимаете, что, попрекая меня в сонном сибаритстве, Вы не только искажаете истину, но и выносите мне окончательный приговор, как небокоптителю и «лишнему человеку». Какое же человеческое отношение возможно после этого… Пока я не знаю, кем или чем продиктовано было Вам письмо Ваше, я не знаю и как сложится наше отношение в будущем. Если Вы уходите из Мусагета, то издательство, исполнив уже принятые на себя обязательства по отношению к работам других авторов, временно прекратит свое существование. На прощание скажу Вам следующее. Я считаю Вас одним из гениальнейших людей России, но думаю, что Вы пропадете, если Вы не будете работать над своим характером, который недостоин этой гениальности, ибо Ваше безволие (не беспринципность, в чем однажды напрасно Вас обвинял Эллис), отсутствие самокритики своего поведения, недостаток настоящей внутренней мужественной гордости, отсутствие благоговения к своему гению, отсутствие того, что Гёте называл Ehrfurcht vor sich selbst[2592],[2593], что все это и так уже растлевающе отражалось по временам на Вашем творчестве, и впредь грозит Вам полным банкротством, несмотря ни на какие миллиарды «золота и лазури». Я рад, что решился высказать Вам это, ибо Вы примете или не примете одинаково и это последнее слово, и все изложенное выше. Любящий Вас Э. Метнер. Асе привет.
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 7. Копия: РГБ. Ф. 167. Карт. 5. Ед. хр. 24.Ответ на п. 223.
225. Белый – Метнеру
Давно уже получил от А. М. Кожебаткина при переводе им 200 рублей немецкого издателя[2594] следующую записку: «Дорогой Борис Николаевич, до сих пор не высылал денег, так как «Мусагет» предъявил на них свои права. К. П. Метнер не то что выразил неудовольствие, а удивился, что деньги за фельетоны и за авторизацию „Голубя“ не идут в погашение твоего долга. Не зная, как Ты решишь поступить, я все-таки перевожу тебе 200 рублей» и т. д.
Ввиду того, что А. М. Кожебаткин пишет о «Мусагете» в третьем лице, я ему не отвечаю, ибо, раз он пишет <в> 3-ьем лице о Мусагете, он не Мусагет[2595]. Пишу Вам, как Редактору Мусагета, о своей задолженности. Скажу откровенно: я предпочел бы узнать о правах Мусагета от Вас непосредственно, ибо мотивировать свое желание взять деньги мне удобнее Вам лично, или Карлу Петровичу[2596] лично, чем Секретарю Редакции.
Юридически Мусагет прав: юридически я кругом виноват; морально Мусагет прав тоже; но морально прав и я, удерживая деньги для себя в данном случае.
И вот почему: фактически я отработал (трудом) за фельетоны уже 1000 рублей; фельетоны не печатают; ни Мусагет, ни я не виноваты. Труд сделан: но труд непроизводительный. Голубя[2597] писать не мог в Тунисе, и опять-таки морально, как автор, прав.
И далее:
и т. д.
И вот из двух моральных правот (правоты издателя и писателя) создается юридическая неправота писателя. Конфликт на тему «государство и писатель» – обыкновенный конфликт на социально-экономической подкладке: спрос и предложение. На А. Белого спросу нет. И оттого А. Белый несостоятелен. А. Белому нужно печататься и жить; он идет в Мусагет; быть может, «Мусагет» неправ, игнорируя или несвоевременность (отсутствие спроса), или бездарность Андрея Белого. Оба виноваты – так?
Но А. Белый считает себя писателем, т. е. призванным и писать, и питаться трудом своим (все писатели на этом стоят).
Издательство имеет все права не считаться с этим.
Почему я взял деньги: мне не хватило (почему – могу объяснить устно, а не письменно, ибо тут замешаны третьи люди[2600]). Надо было взять; это пункт первый; пункт второй: мать моя присвоила мои деньги[2601]. Требовать с нее судом не хочу и не стану (мое моральное право); но я опять-таки не виноват в ее корысти. У меня остается 1000 рублей, на которые нужно двум людям шить (мне сюртук, костюм, белье); Асе пальто, платья, шляпу, шубу; далее обзаводиться (простыни, подушки, одеяла и пр.); далее жить. Газеты не печатают; писал довольно-таки унизительную просьбу Брюсову дать работы постоянной в «Р<усской> М<ысли>»[2602]; молчание; вывожу заключение: «Р<усской> М<ысли>» я так же не нужен, как и газетам.
При таком положении я могу с натяжкой рассчитывать 60 рублей в месяц с женой (по 30 на человека). Очень понятно, что мое моральное право цепляться за всякую возможность получать деньги, так же как право «Мусагета» оспаривать; это все та же борьба «государства с негосударством» и личности (состав Редакции Мусагета, я, Вы) тут не причем.
В свое оправдание скажу еще то, что у меня есть имение, которое, если бы кто-нибудь помог мне продать, пошло бы в уплату долга[2603]. Большего предложить не умею. А отдавать из имеющейся у меня маленькой суммы не хочу: мой долг перед Асей тоже моральный.
Куда ни кинь, везде клин.
Единственный выход: подождать продажи кавк<азского> имения. До отъезда за границу я не подозревал, что столь не нужен Редакциям. Иначе не стал <бы> так уверенно говорить об отработании. Наконец, оправдываю себя вполне 1) выдержкой из книги Мережковского «Лев Толстой и Достоевский»: «На нем (Достоевском) оказалось до 10 000 долгу и 5000 на честное слово. „О, друг мой, – пишет он Врангелю, – я охотно пошел бы на каторгу… чтобы уплатить долги и почувствовать себя свободным. Теперь опять начну писать роман из-под палки, т. е. из нужды, наскоро“».
И далее (по поводу неполучения от Кашпирева 200 рублей аванса):
«Но ведь она (А. Г. Достоевская, жена писателя) кормит ребенка, что ж, если она последнюю свою теплую юпку идет сама закладывать!.. Неужели он (Кашпирев) не может понять, что мне стыдно (курсив не мой) все это объяснять ему?.. Да неужели он не понимает, что он не только меня, он жену мою оскорбил, обращаясь со мной так небрежно, после того как я ему сам писал… Оскорбил! Оскорбил!» (Письмо Достоевского).
И далее:
«И они требуют от меня литературы! Да разве я могу писать в эту минуту? Я хожу и рву на себе волосы, а по ночам не могу заснуть… И после этого они требуют от меня художественности, чистоты поэзии, без угару…» (Письмо Достоевского)[2604].
У меня есть несколько предложений, как компромисс выхода из конфликта двух моральных правд и моей юридической неправоты.
Но не зная, в каком отношении стою я к «Мусагету», я не могу обратиться пока ни с одной.
Примите уверение в совершенной преданности.
Борис Бугаев.
P. S. Мой привет Вашим.
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 44. Над текстом помета Н. П. Киселева: «Луцк 5 VII 1911. Москва. 8 VII 1911» (даты почтовых штемпелей отправления и получения).
226. Белый – Метнеру
Боголюбы.
Пишу здраво и трезво[2605].
Сейчас получил Ваше письмо… Отвечать по пунктам? Извиняться? Доказывать, что обидный смысл вложили Вы в мое письмо, что я виноват, что писал в крайнем раздражении, с мигренью в голове, что поводы к этому раздражению были ничтожны (полное мое незнание, что делается в Мусагете, незнание, нужен ли я Мусагету) и т. д. – право, ко всему этому можно будет вернуться впоследствии, все это отступает на задний план перед маленькой фразой Вашего письма (какой, скажу ниже). Словом, верьте, десять, пятнадцать маленьких причин, в сумме могущих превратно осветить мое отношение к Мусагету (и обратно), я изложу потом, если суждено, чтобы наши отношения не оборвались.
Я объясню, как сумма всех недоговоренностей и, как мне казалось, невнимательностей к моей жадности знать о Мусагете все, плюс молчание на письма секретаря, плюс еще многое (быть может, пустяшное) вызвали во мне тон раздраженности, пусть даже запальчивости, в которой приношу глубокое извинение. Но в моем письме не было сознательного желания лично Вас обидеть. Вы вложили смысл настолько ужасный во все, что я писал, что брать свои слова <обратно?>, т. е., что Вы не тиранн, не самолюбец, не ненужный человек – смешно.
В своем ответе мне на мои хотя и полемически раздраженные строки, которые Вы постарались дешифрировать так ужасно для меня, Вы с лихвой вернули мне несколько поспешно сказанных химер. Ваше письмо в сто раз химеричнее, ибо на каждом шагу там почти что прокурорское обвинение, начиная с личной моей жизни и кончая каждым шагом в Мусагете. То, что с известной предвзятостью можно было вычитать из моего письма, сводилось бы к следующему: Редактор Метнер не созывал совета, члена редакции Белого ½ года не извещали о том, какие планы у Издательства (случайно узнал о Стендале[2606] и т. д.); ему не отвечали на ряд писем; положение его в Мусагете неопределенное. Р<едактор> Метнер должен бы был более его поставить в курс дел. Вот и всё: прочее вложено Вами с потрясающим драматизмом. Ничего лично обидного для Эмилия Карловича не было, как мне кажется, на бумаге; человека я не задевал; а если я защищался («порт<угальская> революция»), полемизируя с химерой, можно было бы мне дружески попенять; Вы же должны знать, что у меня нет никаких причин обрушиваться на Вас… Надеюсь, что Вы знаете: есть что-то обратное. Впрочем, после всего Вами написанного считаю оправдываться для себя унизительным.
И в этом виновато Ваше письмо. Если бы я отвечал на Ваше письмо с одинаковой запальчивостью, я от принципиальных сетований перешел бы к квалификации и изложения поступков, я бы сказал, что вижу в Вашем письме чуть ли не сыск, а во многом заведомое искажение (Гессену никаких поручений к Мережковскому не давал, как уже раз Вам писал из Туниса[2607], и т. д.). Но повторяю; я этого не говорю. Я только взываю к справедливости. Я писал не прокурорское обвинение на человека, а изложение недоумений (пусть и химеричных) положения Редакции.
Вы всё свели к личному и этим отняли у меня всякую почву для беспристрастного объяснения по поводу всего, происшедшего между нами. (Если мы когда-нибудь встретимся, если наш конфликт кончится благополучно, я покажу Вам в Вашем письме то, что лично вменяю Вам, как оскорбленный человек). Пока же соскальзываю в другую плоскость.
Вы пишете: если Вам не нужен «Мусагет», уходите, в ответ на мой вопрос: «Нужен ли я Мусагету» (пусть и порожденный пустою, как Вам кажется, химерой); далее оказывается, что каждый мой шаг в Мусагете порождает сплошную путаницу; ну не ответ ли это: уходите. Я не прочитываю так, а мог бы, если бы влагал подразумеваемый смысл. Далее Вы пишете о том, как я не умею себя держать, как не исполняю обещаний (Голубь), как сочиняю фантастические проекты в «Праге». И причем тут «Прага», и причем о черносотенстве и «рябой бабе – России»[2608]: все это экивоки, недосказанности: если бы я развертывал смысл всех этих в данном случае ненужных мелочей, которыми Вы в крайней запальчивости обставили ответ на письмо, то, конечно, смысл всей этой уснащенности: лично меня задеть; чего у меня не было по отношению у Вам. Но опять-таки оставляю все это в стороне. Возвращаюсь к центральному: Вы прекрасно знаете, что именно теперь, когда я должен Мусагету, когда Мусагет сделал для меня столько, именно теперь тяжелее всего мне отплатить Мусагету неблагодарностью, неделикатностью; и, может быть, моя экономическая связанность с издательством (сами знаете, что не по моей вине) ставит <для> меня особенно в болезненном свете вопрос о том, не тяготятся ли мною, именно тогда Вы пересыпаете письмо исследованием моей личности вместо того, чтобы понять одну из подпочв моего возбуждения.
Но все это пустяки. А вот то, что не пустяки: я пишу «Нужен ли я Мусагету?» Пусть это химера, вопрос. Вы же могли бы сказать: «Б. Н., вы говорите вздор». Вы отвечаете: «Если Вам не нужен „М“, уходите». Далее: «Я прекращу издательство» (смысл). Боже мой, уже одна эта угроза прекратить прекрасное само по себе дело связала бы меня; и помимо всего лично близкого я принципиально бы должен взвесить свой… ну, скажем, каприз. Следственно: не может быть и речи о моем выходе. Однако: я квалифицируюсь, как растеряха, обставляющий каждый свой шаг путаницей; следственно: я – бремя; не уходи – закрой издательство; но оставаясь, помни, что Ты бремя. Вот резюме Вашего многостраничного письма. Вот так дилемму Вы мне ставите: сплошное судебное следствие пункт за пунктом деятельности в Мусагете и одновременно: если уйдешь, издательства не будет.
Ну хорошо: я же не думал о том, чтобы уходить. Но как я останусь, когда «мое уважение к Вам пало в той же мере и, м<ожет> б<ыть>, даже в бóльшей, нежели Ваше ко мне» (Ваши слова). Все тут прелестно: 1) Кто Вам сказал, что у меня к Вам уважение пало: это Вы вычитали ложно; это – неправда. Больше я ничего не прибавлю, ибо требовать к себе уважения и грозить умственно палкой, когда у меня к Вам уважения было всегда, – дико, нелепо, почти грубо. Слова «в той же мере» в цитате не при чем. Мне придется поставить дилемму: или слова «в той же мере» (предположение, что уважения нет) плод ужасной химеры, и тогда скорее сожгите эту химеру; или это полемический прием для того, чтобы высказать мне свое неуважение. Уважение не взвешивается количественно; его или нет, или оно есть; пало уважение на столько-то градусов, значит: у меня нет к Вам уважения. В последнем случае, несмотря ни на что (на долг Мусагету, на признательность, на личную связь, на то, что мне идти некуда, на осень), я мгновенно порываю с Вами всякие сношения.
Дорогой друг (может быть, бывший?), я готов с Вами объясняться просто, без препирательств, я готов дать пунктуальный ответ на Ваше письмо, я готов сделать все для примирения при одном условии: откажитесь от Вашей фразы, надеюсь, написанной в запальчивости – о фразе об уважении, смысл которой прямая оплеуха без обиняков. Я не бретёр, чтобы драться на дуэлях, я могу наговорить много лишнего, но я не могу (умоляю, поймите) пропустить мимо ушей en toutes lettrеs[2609] оскорбление. Что бы я ни писал, я en toutes lettrеs не употреблял выражений «подлец», «негодяй», а Ваша фраза – синоним таких слов.
Конспектирую: 1) Я готов извиниться, объясниться, полемизировать и т. д., когда у меня будет свобода воли. 2) В настоящее время угроза прикончить Мусагет в случае моего ухода и объявление мне о Вашем неуважении (уважение пало, что одно и то же), вынуждающее меня, несмотря ни на что (как это ни тягостно мне), тотчас прервать (без афиширования, конечно) всякую связь с Вами, ставит меня в полную невозможность свободно говорить; Мусагет не хочу оставлять а) больно, b) стыдно, с) повод к укорам меня в неблагодарности: «был де, пока ему было нужно издательство»), и однако должен, раз не пользуюсь доверием.
Вместе с тем у меня сознание ответственности за будущее, помимо лично колоссальной потери в Вас, несмотря ни на что – Старинный друг[2610]; повторяю, от Вас зависит, будет ли иметь продолжение конфликт из-за химерических писем, или между нами все кончено.
В последнем случае падает и другое (Вы знаете, что), проваливается осень, падает, как Вы утверждаете, и Мусагет. Тогда мне нечего делать в Москве, ибо там одна только горечь разочарований: с мамой разрыв, с Мусагетом тоже, – и смысла нет даже мне возвращаться на те места, где один лишь «пепел пожара».
От Вас зависит всё – покончить между нами или объясниться. С нетерпением жду письма.
Позвольте же Вас обнять (быть может, в последний раз, старинный друг!) и горячо пожать руку через всё.
Остаюсь любящий Вас
Борис Бугаев.
[P. S. Если думаете еще со мной поддерживать сношения, то сообщите свой адрес.] (Адрес получу от Наташи[2611]).
P. P. S. Итак жду.
Если бы Вы захотели объясниться лично во время проезда за границу, а не отвечать письмом, или если бы объяснились наши недоразумения, то здесь в Боголюбах Вам были бы все рады. Во всяком случае известите, что намерены предпринять; ибо для меня в связи с этим стоит вопрос о возвращении в начале августа в Москву, совершенно бесцельном после могущего произойти нашего расхождения.
От Аси привет.
P. P. S. Если я Вам пишу с оттенком раздражения, простите: сейчас у меня на душе светло в глубине и хорошо; к Вам же смесь любви и глубокой обиды, недоумения. И надо всем трагический смех и вдруг легкость, и мысль: на свете есть не один П. И. д’Альгейм, строющий химеры, а три: он, я и Вы. Ну простим же друг другу химеры!
P. P. P. S. Вчера написал: ночью не спал. Сейчас адская мигрень. Сегодня Наташа сказала, что Вы могли бы приехать. Ну, конечно, приезжайте, да захватите с собой и письмо мое[2612]. Я буду комментировать строки. Внутренняя гармония должна быть между нами «москвичами», и раз двое из московских рвут, то их разрыв есть крах всех; и оттого от разговора или переписки с Вами зависит мое присутствие или отсутствие (Вы знаете, в чем); в противном случае передаю все К‹…›[2613]: сам же, как не заслуживающий доверия, отстраняюсь из «м – ого»[2614] так же, как и из Мусагета.
Странный Вы человек. Разве первое мое письмо[2615] не показывает Вам, за кого я Вас считаю. Первое из Боголюб было обращено к другу, Э. К. Метнеру, второе, деловое (увы, столь неудачное по форме), к одному из проявлений нашей совместной работы в Мусагете. Вы слили запальчивость в частностях с Вашей и моей личностью, и тем крайне запутали наш конфликт.
Вы пишете, не изменилось ли мое мировоззрение: нет. Но изменился (за ноябрь – июль) во многом мой взгляд на то, что в данный момент тактически нужно; стрелки на рельсах меняются от времени, но общее расписание поездов неизменно. Да, во мне много накопилось; я приехал в Москву высказаться: я увидел общее нежелание у группы москвичей (усталых, нервных, разбитых) поднимать эти все мои вопросы; у меня никто ничего не спросил; я сам был занят мамой, Кистяковским[2616], деньгами, хлопотами; я отложил до осени; осенью Вы уезжаете; я и написал (неудачно); а Вы накинулись на меня; хорошо, буду молчать: но лучше ли, если молчание мое о многом будет не знаком согласия? А Вы, перенося все на личную почву, затыкаете мне рот навсегда.
Что Вы пишете о том, что наш конфликт известен в Шахматове? Неправда: с Блоком я переписывался, как друг и писатель с писателем, о России, о том, нужен или не нужен журнал, а не как член Мусагета (сами же Вы положили во мне начало моей двойственности: русский писатель – одно; член Мусагета – другое); предоставьте же мне свободу говорить что мне угодно, как русскому писателю, и переписываться о чем угодно с русскими писателями; о Мусагете менее всего я думал, когда переписывался с Блоком. Вы говорите о третьих людях, вставших между нами; для меня таковых нет; может быть, для Вас – да: я слишком привык к небылицам, сплетням, плетущимся неизвестно кем и для чего, но всегда плетущимся, чтобы обращать хоть какое-либо внимание на то, кто что говорит.
Вот уже два дня прошло, а я не могу опомниться от тех обидностей, которые Вы мне написали. Где у меня в письме к Вам есть квалификация Ваших личных поступков. Далее: если бы я отвечал Вам на личное личным, то это вышло бы из границ спора: не думайте, что я не могу отвечать на Ваше судебное следствие, на ловлю слов (об Альманахе «тогда-то говорили то-то», а тогда-то говорили «то-то»); дело не в протоколе, а в целом ряде причин, которые могу Вам и в письме, и в личном свидании пояснить; я еще раз извиняюсь за тон моего письма, рожденный химерой, которая все же возникла оттого, что целый ряд пунктов мне было нужно Вам высказать; и то, что я имел сказать, было столь сложно и важно, что в промежутке между пятичасовым разговором с мамой и Кистяковским… было сказать невозможно; далее: то, что я имел сказать, предполагало крайнюю готовность у собеседника слушать, а этой готовности не было; а при неуверенности с моей стороны, что готовность слушать у Вас есть (ибо мы говорили, перескакивая от А. Р.[2617] к Мусагету, от Мусагета к Вашей книге и т. д.). Разговор требовал спокойствия; я был измучен неприятностями с мамой. Ведь я приехал с целью высказать свое credo, я мечтал собрать друзей и поверить им нечто вроде исповеди, и от всего этого перейти к моему за пять месяцев продуманному взгляду на положение Мусагета. Почему я этого не сделал? Почему? Ни у кого не было бы охоты меня слушать: это я ясно увидел; уехал разочарованный, с неразрешенным вопросом. Без такого разговора, поймите, мне трудно реально (непринципиально) работать, писать, выступать с лекциями: ибо моя лекция есть либо за свой риск и страх, или есть выражение мыслей группы: я должен был ознакомиться более детально; более ритуальна должна была быть встреча наша на почве общения в Мусагете; я же не без пользы для себя был в «Земле Обетованной». Но то, с чем я ехал в Москву, захлопнулось во мне при виде друзей – всех.
И разговор крайней важности не состоялся.
Этот разговор, поймите же, странный Вы человек, мне был нужен не для того, чтобы настоять на своем, а чтобы мое, войдя в Ваше, Петровского, Рачинского, видоизменилось и вернулось ко мне, как общее, наше: я был в положении человека, одновременно и дающего, и берущего: я был сыт своим и жаждал Вашей реакции на свое; мое впечатление – я стукнулся в запертые двери.
Если Вы до такой степени не психолог, что не можете понять, как может совместиться внутренне звучащая нота Альманах не нужен с деятельным участием в деле устройства альманаха, то мне странно Вам объяснять: Вам может быть неприятна статья (та или иная) в Логосе, но Вы, печатая ее, тем самым ее перед третьими посторонними защищаете. Читаю «Войну и Мир», и вот сравнение: Александр приказал быть Аустерлицкому сражению; Кутузов говорил «сражение будет проиграно»[2618]. Молодежь его высмеяла; на военном совете был тон игнорирования того, что Кутузов имеет нечто сказать; и Кутузов, видя, что против рожна не попрешь, не возражая, даже соглашаясь, как будто отмахиваясь от бесплодной сумятицы, распоряжается сражением, даже лично ведет колонну; «не хотите моего внутреннего мнения знать», ну – командуйте: я, старый рубака, поведу колонны в бой.
Если еще не понятно Вам, то вот несколько фраз из Толстого. Толстой говорит о Кутузове: «Простая, скромная и потому истинно величественная фигура эта не могла улечься в лживую форму европейского героя»…[2619] «Современники говорили, что он подкуплен им (Наполеоном), называли его хитрым, развратным, слабым придворным стариком»…[2620] И далее: «Когда граф Ростопчин на Яузском мосту подскакал к Кутузову с личными упреками о том, кто виноват в погибели Москвы, и сказал: „Как же вы обещали не оставлять Москву, не дав сраженья?“ – Кутузов отвечал: „Я и не оставлю Москвы без сраженья“, несмотря на то, что Москва была уже оставлена»…[2621]
Что же, правдивый Толстой осуждает Кутузова за «ложь»? Придирается – «такого-то числа говорили то-то, а такого-то то-то». Вот приговор Толстого: ‹…›[2622]
В ответ на Ваши многостраничные подсиживания моей последовательности; вопреки фактам, отвечу Вам: «Я одновременно не отказываюсь от некоторых мыслей в статье „Против музыки“ и целиком подписываюсь под статьей „Формы искусства“»[2623].
И беру Толстого под свою защиту: когда желаешь действовать не по своему только личному хотению, а по равнодействующей группы, то надо угадывать желания других, надо уметь ими воодушевляться: я лично кое в чем согласен с «Философией свободы» (Бердяева)[2624], как исповедующей исторического Христа (помимо глупости многих мест, Бердяев говорит то, что непререкаемо для христианина), но я же соединился с Гессеном, которому наплевать на мое последнее, тогда как в пункте последнего ко мне приходит Бердяев и без насмешек слушает меня. Я до сих пор, считая себя другом Мережковского, занял позицию, враждебную ему, и чтобы не было соблазна, прекратил всякое личное сношение. Когда у Блока зазвучали покаянные ноты, я первый, через личную трагедию повернулся к Блоку ради общего дела[2625].
Есть многие согласия: согласие-уступка, согласия ради ненарушения гармонии в Главном, согласие в частности, вопреки расхождению в Главном, согласие, основанное на совпадении личного убеждения с личным убеждением другого. Пока я связан с Мусагетом, мое credo, последнее, предпоследнее, идейное, тактически-идейное, основное и несущественное выражается во всех формах согласий и несогласий; это и хочет сказать Толстой, подчеркивая с особенным удовольствием «ложь», «шатание», «безволие» хитрого, «неискренного» Кутузова, но не для того, чтобы его оскорбить, как Вы меня: «Этот старый человек, дошедший опытом жизни до убеждения, что мысли и слова, служащие им выражением, не суть двигатели людей, говорил слова совершенно бессмысленные, – первые, которые ему приходили в голову»[2626].
«Но этот самый человек, так пренебрегавший своими словами, ни разу во всю свою деятельность не сказал ни одного слова, которое было бы не согласно с той единственной целью, к достижению которой он шел во время всей войны»[2627].
Поймите, мне было горько слышать, мне, уже два года воодушевленного одним девизом: Пусть удельные князья забудут распри, ибо 12-ый год близится, дабы не было отдачи Москвы, не было новой Калки (татары идут)[2628], мне, который стоит за расширение Мусагетской платформы лишь для того, чтобы с возможно большим числом честных, благородных рыцарей (Вами) или… пусть дон-Кихотов (Бердяевыми) раз навсегда для блага моей родины, которую люблю всей душою, всем сердцем, не задаваясь вопросом, в какой степени заслуживает она любви с точки зрения Культуры, – для блага общего дела стараясь сгладить maximum шероховатостей, хочу сесть на ковчег, чтобы окончательно отделиться от настоящих врагов, не врагов по мысли, а врагов по делу жизни: Вы ловите казуистично меня на словах: «Да я в поступках тысячу раз бескорыстней, более готов на самопожертвование, чем многие». И моя моральная сторона на всякие экивоки по поводу того, что сборник о Культуре был сочинен в «Праге» (как Вам не стыдно!), что почему я с Кожебаткиным на «ты» (как будто я Вам обязан отдавать отчет), всякому я скажу: «Руки прочь!»
Простите, дорогой, я не на Вас сержусь: я вдруг весь вспыхнул: как смеют про меня думать, что я неискренен, что у меня семь пятниц на неделе. «В» не виновато, что понимает «А» и «С» и что «А» и «С», понимая порознь «В», не понимают друг друга, – и вот начинают с двух сторон уличать «В»: «А» в том, что «В» с «С»; «С» в том, что «В» с «А». Тем хуже для «С» и «А». «В» тут не причем.
То, что «В» ненавидят столь многие, показывает, что у «В» есть нечто, за что он пойдет на костер: разобьет себя, жену, друзей, Мусагет, так что только щепки лететь будут, пойдет на голодную смерть, а своего «Виденья непостижного Уму»[2629] не предаст.
Не касайтесь неосторожно к самой моей основной струне, дорогой друг!
Возвращаюсь: так вот, когда Вы сказали мне по возвращению из-за границы, что я, как писатель, не вмещаюсь в Мусагете, я себе сказал: стало быть я, как культуртрэгер, не вовсе писатель русский («ковыряющий» – по Вашему выражению – стыдитесь: ведь «ковырянью» русских можно противопоставить дотошное «Still Leben»[2630] немцев; я этого не делаю, а на огульное несправедливое обвинение русских в «ковырянье»[2631] можно бы ответить огульным, несправедливым обвиненьем немцев в слащавой приторности и мещанском благополучии; я же этого не делаю; но писать о русских кровному русскому в том тоне, какой у Вас, все равно, что называть их «кацапами» и немцев – «колбасниками». Тут досада, только досада.)
Возвращаюсь: когда Вы сказали мне, что я, как писатель русский, не вполне Мусагет, я писал лекцию о Достоевском[2632], в которой был между прочим мой ответ Вам[2633], ответ не разговорный, а ритуальный, с кафедры, моя платформа, мое слово к меня не до конца принимающему Мусагету. Вы не пришли, Вы даже не подозревали о том, что у меня есть что ответить, и что на важное заявление нужно отвечать не сразу, а облекшись в себя, ритуально.
Вероятно, я Вам тогда в разговоре что-нибудь сказал; но, может быть, было там (не могло не быть) нечто от фразы Толстого о Кутузове: «Говорил первые слова совершенно бессмысленные».
В статье-платформе (о Достоевском) я писал между прочим следующее (не как член Мусагета, а как русский писатель): Что же есть? (в современной России):
«Невежество, хаос, немота, тьма. И этой всей немой, больной, невежественной России вместе со всем Западом, <как> гениальным, так и не гениальным, мы скажем:
Автора «Пепла» и «Серебряного Голубя» (книг тенденциозно-обличительных: Гибель Дарьяльского, «Исчезни Россия») смешно заподозривать в дурном хаосе. Это заподозривание, это подчеркивание[2635] русский писатель (гм!) – одно, куль<тур>трэгер под контролем Метнера другое. Автор Пепла и Голубя сказал о России такие страшные слова, которые не говорили и Вы. Ваши же заподазривания меня в черносотенстве[2636] – просто смешны и неуместны.
Но в той же статье-программе (не Мусагетской (не бойтесь), а своей, писателя русского) я говорю: «Стадия классицизма, то есть видимой успокоенности и уравновешенности, вовсе не есть отказ от безумия романтизма, а временное перемирие между жизнью и творчеством… „Прекрасная форма“ классика есть всегда только фантасмагория, которой гений обманывает и себя, и нас. Уравновешенность, победа над романтизмом[2637] не последняя цель художественного творчества: уравновешенность, гармония формы есть лишь временная остановка на пути безумия, именуемого творчеством»[2638].
Против романтиков «экстаз, ви́дение одинаково развивается и под влиянием гашиша»; но и против классиков: «На ремесленном моменте творчества не построить оправданья художественной деятельности, как блага: и художник классик, если он не таит в себе чего-то бóльшего, есть бесплодный фантаст, превращающий фантастику в ремесло»[2639]. (Кует форму запою образами). Сапожник, тачащий сапоги, имеет реальную цель; художник классик, если он только художник классик, а не человек, есть запойный пьяница, кропотливо тачащий свой немыслимый сапог.
Я не с больной Россией, не с хаотистами-романтиками; против них – с Гёте (и с Вами); но… я над Гёте еще ставлю жест ухода Толстого (см. мою статью о Толстом в «Русской Мысли»[2640]); этот жест связываю со словами о России:
«Русская культура уже предносится нам, как чаяние; даже вслух мы не смеем сказать о том, о чем втихомолку мы знаем:
И далее:
«Символический странник, получивший литературное имя Влас, стал реальным: не дядя Влас ходит в полях русских; нет, туда пошел Лев Толстой…»[2642]
«Тридцать лет переживал он трагедию творчества, и вот Толстой встал и пошел – тронулся. Как знать: не тронется ли за ним и Россия, тоже больная; как бы грохот лавинный чуется нам в движении Толстого: есть тут чего бояться Европе (мещанству Европы). Не философии западной противопоставляется тут восточная, а сказанному слову культуры еще не сказанное слово культуры русской?»[2643]
«Достоевщина» – гвоздите Вы меня, а я отвечаю из той же статьи-программы (по адресу Достоевского): «Как бы Апокалипсис русского творчества, усмотренный в русской жизни, не оказался эпилептическими корчами, духовность просто «духом» (зловонием тьмы), «Святой Дух» – Свято-духом, дерзающий надрыв – „бобком“» («Тр<агедия> творчества Достоевского»)[2644].
Когда Вы гвоздите меня Достоевским, Вы вовсе не знаете, куда направляете стрелу; Вы или меня не знаете, как не знаете моей статьи-программы. Я лавирую между Скиллы хаоса и Харибды «классической позы»… к будущему России, опираясь на настоящее и прошлое Европы; от этой моей платформы отскакивают, как орехи, Ваши полемические пули. Есть у меня сложная иерархия согласий (уступок коллективу, предпоследнему вообще, согласий подлинных); и иерархия недоумений, не вполне фиксированных несогласий; между тем мое во мне за 8 месяцев явилось мне как духовный подъем, возрождение (через Асю) и внутри, и вовне (Египет, Италия, Палестина); не случайно, что счастье наше с Асей началось с «Das Wandern»[2645]. Новые глаза свои хочу я сверить с вместе виденным с Вами после моего важного шага в жизни.
С этим я ехал, чтобы высказаться: увидел, что никто ничего во мне не понял; моему желанию доложить друзьям о поездке, о заветных мыслях, как бы противопоставили: «Вы ничего не понимаете в Мусагете». И заветное мое на время ушло от друзей. Этим опять-таки в связи с другими причинами объясняется тон запальчивости, некоторое только видимое охлаждение к коллективу друзей, даже к общему делу.
А Вы пишете с ехидством: «Ну что ж, уходите, если Вам Мусагет не нужен». Если бы я глядел на Ваше письмо Вашим подозревающим взором, я вычитал бы здесь намек: «Использовали Мусагет, взяли 3000, да и бегом из него».
Как Вам[2646] не стыдно.
Извиняясь за тон письма, готовый взять обратно свои слова письма до личного дружеского разговора по поводу нашего конфликта, я требую от Вас, чтобы Вы поняли, что под неудачной формой письма была громадная жажда поделиться, обратить Ваше внимание на то, что Вы не видели в близко хотящем к Вам подойти человеке для уяснения многого ради блага общей будущей работы.
И понять запальчивость тона моего так мелочно!..
Я безусловно могу говорить с Вами свободно, «по традициям доброго старого времени» лишь в той мере, в какой Вы берете обратно Ваше неуважение по отношению ко мне.
Через всё говорю Вам: да будет Вам все светло, легко и не подозрительно, старинный друг. Желаю Вам той тишины и света[2647], в какой сам нахожусь все это время.
Любящий Вас Борис Бугаев.
P. S. Это письмо не считайте ответом, а лишь материалом к будущему разговору не только о Мусагете перед осенью.
Написал Вам большое письмо под впечатлением Вашего: оно бурно вылилось, и, написав, стою над ним: послать или не послать?
Зачеркиваю его, но посылаю; нам необходимо видеться: было бы преступно из-за двух-трех «гусаков»[2648] рвать отношения, тем более, что ведь я стою вне этой полемики; но поскольку считаю себя непроизвольно забитым в позы дуэлянта (Вашим письмом) с рапирой, направленной на Вас, сам же воплю: «Боже мой, до чего все это – не то, не то, не то; и только пространство, лежащее между нами, помеха к тому, чтобы сразу же бросить личину <?> оскорбляющих друг друга, а перейти к разговору, без которого, понимаете ли Вы, не могу вернуться в Москву, и в Мусагет.
Ну Христос с Вами, приезжайте же скорей[2649].
Мне надо быть, я считаю, 9–11 августа (11 четверг), так что во всех отношениях встретиться в Боголюбах[2650].
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 45. Л. 1 перечеркнут автором. Помета рукой Н. П. Киселева: «Штемпеля: Луцк 8.VII. 1911; Хлебниково 12.VII. 1911» (даты отправления и получения).Ответ на п. 224. Одновременно с письмом Белый отправил Метнеру телеграмму по адресу: Савеловская ж. д. Хлебниково. Имение Осиповых (принята 8 июля 1911 г. из Луцка): «Отвечаю. Бугаев» (РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 46).
227. Метнер – Белому
Свистуха 19/VII 911.
Дорогой Борис Николаевич. Ваше заказное письмо переслать в Михайловское, где я гостил у Маргариты Кирилловны[2651], нельзя было оттого, что без паспорта мне не выдали бы его. Вот – причина задержки моего ответа. Не спешил же я от Маргариты К<ирилловн>ы домой потому, что отдыхал у нее если и не телесно (отчаянная бессонница), то духовно. Кстати, Вы писали и ей и Кожебаткину тоже довольно странные письма. Кожебаткин был у меня на даче здесь до отъезда в отпуск и жаловался на Вас за Ваше письмо (или последние разговоры с ним)[2652]; он же объяснил мне[2653] выражение головка виснет[2654], которое я, право, не знал, в какой карман положить. Маргарита К<ирилловн>а с большим беспокойством первая стала расспрашивать меня о Вас, вкратце сообщила содержание Вашего письма, сказав, что Вы недовольны Мусагетом и стремитесь в Путь[2655]. Из слов Кожебаткина и Маргариты К<ирилловн>ы я понял, что есть нечто помимо истерики, чтó диктовало Вам Ваше чудовищное письмо ко мне[2656], ужас которого именно и увеличивается тем, что оно абстрактно; к Кожебаткину же и Марг<арите> К<ирилловн>е Вы обратились более конкретно: теперь я понимаю более реальный смысл Вашего нападения: и Вы также не в состоянии быть русским европейцем и мечетесь от западничества к славянофильству и обратно; и Вы также не в состоянии быть в дружбе с мистикой, не ссорясь с общественностью (и обратно); под влиянием идей второго Голубя[2657], долженствующего раскостить Запад, а отчасти заболев отрыжкой от чрезмерно сытного хаотически-мистического угощения 1910 г.[2658], Вы летите от Мусагета, в кот<ором> видите слугу гнилого Запада, и Орфея, в кот<ором> усматриваете разводителя мистических миазм, в Путь или еще какой-н<ибудь> петербургский орган, кот<орый>, по-видимому, нарождается усилиями Блока и др.; кроме того, Вам нужен журнал, нужен и для наскоков, и по материальным (вполне понятным и почтенным) причинам. Мусагет не может ни прокормить Вас, ни дать Вам возможности развернуть Вашу журналистическую деятельность… – Я было укорял себя, что дал Марг<арите> К<ирилловн>е прочесть оба Ваших письма (лирическое и боевое)[2659], а теперь очень доволен: спросите ее, и она Вам наверное скажет, что не я «вложил обидный смысл» в Ваше письмо, а Ваше письмо сплошная и очень труднопереваримая обида.
Вот и Наташа пишет мне: «Бор<ис> Ник<олаевич> не ожидал, что Вы так поймете и примете его письмо»[2660]. Но клянусь, что или она не читала Вашего письма, или же… или же… я больше ничего вообще не понимаю: назначьте каких угодно судей, и Вам скажут, что обиднее Вашего письма трудно что-либо написать, не переходя уже в категорию оскорбления. Это не гусак Гоголя, и я отчаиваюсь в людях, которые полагают, что возможно культурное общение, если мигрени и истерики, купно с невыявившимися в сознании смутными планами, предположениями, подготавливающимися перевалами, кризисами воззрений и т. п. – приводят в движение руку писателя и создают «послание к другу» (ни в чем в данном случае не повинному) вроде Вашего письма. Я бываю виноват и ошибаюсь, как и все; но тут я решительно не вижу за собой никакой вины. Вы называете мое письмо химеричным и прокурорским; но одно исключает другое; я думаю, что оно скорее прокурорское, и я бы мог доказать каждую букву этого письма, совершенно объективно и математично. У Вас удивительно короткая память на многое. Стендаль был принципиально решен на собрании в 1909 г. Книга о любви была предложена мною для перевода Киселеву летом 1910 г. взамен отложенного на неопределенный срок сочинения о Прованс<альских> Лириках[2661]; на собрании в ноябре 1910[2662] г. Кожебаткин, перечисляя книги, упомянул и о книге Стендаля, спрашивая Киселева, когда она будет готова; да и в разговорах наверное не раз упоминался Стендаль. Наконец, даже если бы Вы ничего не знали о Стендале, самое предложение исходит ведь от меня и Киселева, кот<орый> очень любит Стендаля, так же как и я, в чем мы сходимся с Ницше[2663]. – Вы думаете, что я обиделся лично. Конечно, трудно отделить личное от такого дела, каким является литература, издательство и т. п. Но, конечно, через Мусагет Вы задели меня лично, а не через мою личность Мусагет. И не забывайте, что обидность усугубляется тем, что все это написано именно Вами, а не кем-л<ибо> другим. И снова появляется, как и в 1907 г. во время нашей полемики, квалификация моего анализа как сыск. Это же слово выскользнуло у Вас и тогда в письме в редакцию и ко мне[2664]. Относительно поручения Гессену к Мережковскому и обещания Юрию Верховскому я упомянул лишь вскользь[2665], чтобы указать Вам, что Вы, не посоветовавшись со мною, действовали и тем ставили меня дважды в неловкое положение. Вы отрицаете поручение Гессену, он же утверждает это. Очевидно, все-таки он из Ваших слов понял, что надо переговорить с Мережковским о статье для сборника о культуре. Что же касается Верховского, то он прямо сказал мне, что Вы обещали ему напечатать книгу стихов. Допустим, что и здесь недоразумение и с Вашей стороны было недостаточно отчетливое отклонение предложенного. Но ведь и это очень неприятная вещь по своим последствиям. – Вы всё настаиваете на том, что я свожу все к личному. Я не вижу этого. –
Фразы «если Вам не нужен Мусагет, уходите» я не писал; во всяком случае, если она есть, то в таком контексте, кот<орый> ясно показывает, что я не понимаю и не принимаю Вашего вопроса «нужен ли я Мусагету», как абсурдного (ибо Мусагет почти что основан ради Вас), и отсюда полагаю, что не Вы не нужны Мусагету, а очевидно Мусагет Вам не нужен. «Запальчивость» некоторых моих выражений вполне понятна, но «недосказанностей» и «экивоков» я не вижу. Сказанное мною о рябой бабе, как начале темном хаотическом, которого всего больше именно в России, понятно (и отрицать это значит впадать в слепой патриотизм[2666]); никаких неясностей и намеков я не делал. Вы абстрактностью своего письма вынудили меня нащупывать реальный его смысл. Зная, чтó Вы намереваетесь делать во втором Голубе, читая одностороннюю (чтобы не сказать больше) оценку Вашу западных людей в Ваших африканских письмах (например, англичан, которых Вы и не знаете и не понимаете), я невольно стал думать, получив Ваше вызывающее письмо, с вопросами о русском[2667] символизме и т. п.[2668], что Вы сами отходите от Мусагета, который есть Европа, а не Россия только, чувствуя, что для Вас Россия не часть Европы, а, как для славянофилов, часть света и весь свет!!
Если бы Вы были должны Мусагету три тысячи, и при этом не были бы в состоянии расплатиться иначе как давая Издательству книги, я бы, может быть, и сделал над собою усилие и на Ваше ужасное письмо промолчал бы. Но ведь Вы отдадите Мусагету не книгами, а наличными по ликвидации Ваших счетов с матерью и продажи имения. Совершенно не понимаю, откуда у Вас болезненное ощущение к этому долгу. И как не кажется Вам это все ничтожным в сравнении с нашими личными отношениями, в особенности когда Вы имели не раз случай убедиться в моем презрении к презренному металлу??.. – Чувствуя по Вашему письму, что Мусагет уходит от Вас, и зная, что Мусагет стоит на месте и, следовательно, уходите Вы, я указал Вам на последствия. Конечно, Издательство (в тесном смысле слова) не прекратится, т<ак> к<ак> намечен целый ряд книг, но само собою разумеется, что с Вашим уходом Мусагет как Штаб-квартира Литературы падает; этим я хотел только подчеркнуть, в какой мере нелеп Ваш вопрос, «нужен ли я Мусагету?». А Вы каким-то непостижимым (ни логикой, ни чувством) образом думаете, будто я загоняю Вас в угол и ставлю Вам неразрешимую альтернативу: «Вы – бремя, от которого хорошо бы избавиться, но если Вы уйдете, то издательства не будет». Относительно моего уважения к Вам я сказал то, что сказал бы Вам (по меньшей мере) каждый, к которому Вы обратились бы с подобным письмом. В самом деле: если Ваше письмо написано «по болезни», то смешно вообще говорить об уважении; мало ли что больной человек может обидно несправедливого сказать своим близким; если же этого извиняющего обстоятельства нет или если истерия только приправила, наперцовала письмо, а продиктовано оно (как это мне нáчало казаться) смутным ощущением надвигающегося кризиса в воззрениях, пресловутой эволюцией мысли, перевалом, переоценкой и т. п., то (и именно только в этом случае) сказанное мною об уважении остается в силе; ибо тогда надо действительно потерять уважение ко мне (или же никогда не иметь его), чтобы написать мне такое письмо, которое в свою очередь не может тогда не поколебать моего уважения к отправителю. Ибо не проще ли было вместо того, чтобы упрекать меня в деспотизме и в лености, в тайном желании отвязаться от ближайших друзей-сотрудников и в попустительстве антилитературной конторе, вместо того, чтобы рисовать несуществующую картину печального состояния мусагетских дел, прямо и открыто объявить мне: дорогой Эм<илий> Карл<ович>, я чувствую, что расхожусь с Мусагетом, останемся с Вами лично друзьями, но разойдемся, как деятели, т<ак> к<ак> я вижу, что мне надо уйти в Путь или в новый петербуржский журнал. Итак, за истерику я могу лишь от души пожалеть Вас и вполне извинить Ваше письмо; за искреннее размежевание наших личных отношений и наших путей я бы никогда не мог обидеться или перестать уважать Вас; но на такое полуискреннее заявление, каково в Вашем письме, я мог только реагировать утерей части уважения к Вам. (Почему Вы, кстати сказать, не признаете, что уважение имеет свои степени, мне непонятно). – Следовательно, моя фраза об уважении падает сама собою, раз Вы знаете и мне скажете, что Ваше письмо было сплошь «химеричным» от мигрени, истерики, что в нем не было «тактических» приемов, что в мыслях у Вас не было поставить ребром вопрос о Мусагете именно для того, чтобы уйти из него из-за того перевала Вашего сознания, которое <так!> Вы переживаете (…или не переживаете?)… Не я должен зачеркнуть фразу об уважении, а Вы сами; и я, конечно, не посмею усомниться в праве Вашем ее зачеркнуть, а, наоборот, буду искренно рад, что ее больше нет. Что касается меня, то я очень далек от каких-либо химерических построений (я бы даже желал быть менее трезвым); я готов перед кем угодно отдать отчет в каждом слове и этого письма, и того. И даже за фразу об уважении (ввиду ее условности, что ясно из контекста) могу ответить и вполне объяснить ее; хотя не спорю, что, м<ожет> б<ыть>, тактичнее было бы не произносить ее. – И в первом и втором письмах Ваших идет речь о Мусагете; по первому письму Вам все ясно; по второму все неясно; ничего странного нет, что можно было растеряться от таких противоречий.
Я решительно не понимаю неоднократных упреков Ваших в том, что я все переношу на личную почву. И повторяю, никак не мог Вашего абстрактно-фантастического письма принять за поднятие конкретных накопившихся у Вас за ½ года вопросов. Ваше письмо было совершенно беспочвенным и все Ваши упреки неосновательными; о своих же планах Вы не сказали ни слова. О них Вы сочли лучше переписываться только с Блоком, и как же после этого мне было не подумать, что Ваше новое отношение к Мусагету (т. е., в частности, ко мне, как к деятелю) небезызвестно Блоку. И вот Вы пользуетесь случаем, что<бы> и в этом последнем письме опять повторить бессмысленную неправду о моем якобы заявлении Вам о Вашей двойственности и неслиянности как русского писателя и члена Мусагета. Повторяю: я никогда не произносил ничего подобного. Слово писатель у Вас теперь в этих письмах все время с предикатом русский, и в противопоставление Мусагету, «о котором я меньше всего думал, когда переписывался» с «русским писателем Блоком» о «русской литературе». Очевидно, Мусагет какой-то гонитель русской литературы… – Совсем как тогда в 1907 г. Вы называете «судебным следствием» и «сыском» сопоставление Ваших слов и мнений об одном и том же предмете, разделенных известным промежутком времени. Об Альманахе[2669] Вы так возмутительно неправы, и вот даже тут Вы хотите выпутаться… Вы приехали в Москву и утомились и запылились внешними делами, и Вам показалось, что никто ничем не интересуется и что Вас слушать не желают. Когда Вы были у нас в Ховрине, я готов был говорить сколько угодно и о чем угодно. Не в моих правилах перескакивать с темы на тему; я, наоборот, готов долбить неустанно по одному месту… –
К чему выписываете Вы мне антипатичнейшие строки из Войны и Мира о «лживой форме европейского героя»? Это не оправдывается даже надобностью иллюстрировать Ваше отношение к Альманаху, т<ак> к<ак> я не император, а Ваш друг, которому (вопреки Кожебаткинским шагам) Вы могли высказать свое мнение письменно, и я бы по телеграфу отменил Альманах. – И Вы всё сопоставляете себя с Кутузовым, но Вы – писатель, и Ваши слова (которые я сопоставляю, за что именуюсь сыщиком), Ваши слова суть уже дела, тогда как дела Кутузова (как воина, как практика) были его словом (о том, что Ваше сравнение себя с Кутузовым хромает в других отношениях, я сказал выше). – О сочинении сборника о культуре в Праге Вы сами со смехом мне рассказывали, а что касается «ты» с Кожебаткиным, то я не отчета от Вас требую, а только объясняю Вам, почему Вам пришлось выслушивать иной раз от Кожебаткина нотации и терпеть от него фамильярно-снисходительное обращение. При известной дистанции (Zehn Schritt vom Leibe[2670], как говорят немцы) он не посмел бы Вам сказать, чтобы Вы не вмешивались, т<ак> к<ак> вопрос об Альманахе решен и т. п.
Удивительно, до чего Вы, оказывается, мало знаете меня! Ибо не могу же я предположить в писателе такое неосторожное видоизменение моих выражений. Теперь Вы по-новому еще передаете сказанное мною о Вашей двойственности как писателя и как мусагета, и на этот раз я начинаю как будто что-то вспоминать; Вы говорите, что я Вам сказал в ноябре, что «Вы как писатель не вмещаетесь в Мусагете». В такой форме я, конечно, мог это сказать и Эллису, а в особенности Вам, ввиду Вашего богатства в идеях и в оттенках их. Но разве это значит: сверчок, знай свой шесток, как это Вы истолковывали в прошлом письме, где Вы ту же мою мысль передали следующим образом, будто я сказал Вам: «пожалуйста, не смешивайте свою роль как русского писателя с ролью члена Мусагета»! – Вы – отчасти больше, чем Мусагет, отчасти меньше. Да ведь это же сказать можно обо всех «мусагетах». О Вас только в особенности.
Так как Вы очевидно обиделись (и притом зря) на микроскоп и на ковыряние и метнули мне потому фразу о превосходстве русской литературы, то я постараюсь в двух словах Вам ответить и Вас успокоить. Во-первых, я вовсе не огульно всех (как Вы пишете) упрекаю в «ковырянье» (термин Мусоргского NB!!) и в раздуванье бесконечно малых величин до размеров бесконечно больших (занятие, кстати сказать, самоубийственное, недопустимое и с оккультной точки зрения). Во-вторых, я смею как русский немец в силу между-двух-народного своего положения говорить правду и направо и налево, и Вы не знаете, с какою горячностью я заступаюсь всегда за русских в разговоре с немцами? В-третьих, я говорю об опасных чертах русских Вам, который знает мою любовь к Пушкину, Лермонтову, к русской природе, знает, что я – первый, отметивший Вас, как народного писателя, и сказавший да этому Вашему народничеству sui generis*[2671]. В-четвертых, наконец, «слащавая приторность» и «мещанское благополучие» определяют не великих немцев, а средних и малых, тогда как излишним ковыряньем заражены такие великаны, как Достоевский. Я берусь доказать, что все выверты и ужасы и бездны, кот<орые> встречаются у Достоевского, имеются и у Гёте и у Ницше и у других великих немцев, но они стоят над этим, а не никнут от этого. Что касается литературы, взятой в целом, т. е. и поэты, и философские авторы (не профессора), и проповедники, и мистики, и политики, то смешно пока тягаться с Западом, где литература существует тысячелетие. В России Слово о полку Игореве, а в Германии богатая литература миннезенгеров и т. д. и т. д… – Впрочем, Вы сами знаете! Кроме того: Гёте непроизвольно народен (в отличие от нарочитой народности еврея Гейне); народная немецкая поэзия незаметно переходит в поэзию «искусственную», чего о русской поэзии сказать нельзя (так же как и о музыке). В чем русские выше гораздо немцев, это в романе (т. е. в свободной эпической прозе); здесь, впрочем, немцы уступают не только русским, но и французам и англичанам. Строго говоря, можно рассуждать, чья лирика, чья драма, чей эпос стихотворный, чей роман, чья философема выше, немецкая, русская или еще какая, а не чья литература.
Хочу быть до конца судебным следователем, прокурором и сыщиком и указываю Вам еще на одну уже совершенно непростительную забывчивость. В день Вашей лекции о Достоевском я был страшно переутомлен, и Вы сами сказали мне, что в лекции ничего особенно нового не будет, что я все знаю по Вашим статьям и письмам, в особенности по статье Ибсен и Достоевский[2672], что лекция фрагментарна и что достаточно будет, если я приду на прения. Теперь Вы называете эту лекцию своей платформой, говорите, что она была «ритуальным» заявлением Мусагету, и укоряете меня в том, что я не пришел на нее… (Кстати, отчего же Вы эту платформу не даете нам до сих пор в качестве брошюры?). –
Черносотенством я называю не Ваш руссизм, а то, как Вы на манер Моск<овских> Вед<омостей>[2673] задали мне вопрос: имеет ли какое-либо отношение Мусагет к русской истории вообще и к истории русского символизма в частности? Вот характер такого вопроса я считаю черносотенным sui generis, что я и объясняю в тексте. Вы просто не поняли меня здесь. –
Мы с Вами столько говорили о германизме и начале русском, о германском в русском и о славянском в германизме, что странно, как Вы не поняли частичность, специфичность моей ссылки на ковырянье и на Достоевщину. Точно мы с Вами только третьего дня познакомились! Нет! Вы и впрямь наверное уходите! Но, ich grolle nicht[2674],[2675]; на уход Ваш (не из Мусагета пока, а от Запада на восточные окраины) я не могу ни обижаться, ни даже изумляться; будьте только искренни; ведь русские так хвалятся своею искренностью, отсутствием жеста, отсутствием этикета; ведь западные люди представляются им всегда актерами, формалистами, позёрами («лживая форма европейского героя» ведь это Наполеон, одно имя которого приводит меня в трепет и расширяет мои зрачки до несвойственных мне экстатических ясновидений). Я Вас прошу: остаться в Мусагете или уйти из него, как хотите, но только не приплетайте здесь 3000 рублей и разные пустяки. Поступайте только во имя своей идеи. –
Итак, все зависит не от меня, а от Вас. И то, поскольку Вы – Мусагет, и то, поскольку мимо пролетела стрела моего неуважения. Вы знаете, что разрыв с Вами был бы одним из самых печальных событий моей печальной жизни. Идейное расхождение с Вами было бы мне неприятно, но я слишком уважаю свободу мысли и чувства, чтобы пытаться тактически примирить непримиримое. Мое неуважение относится не к расхождению с Вами (это было бы наглым безумием с моей стороны), а к тому приему, которым открылось это расхождение; если же это не «прием», а «истерика» и «мигрень», то нет и потери уважения. –
Я постараюсь выехать вечером 2-го, тогда днем 4-го я буду в Боголюбах; Вы можете выехать 9-го, чтобы прибыть в Москву 11-го. У нас для разговоров будет полных четыре дня с 5 по 8-ое. – Но я боюсь, что меня могут задержать обстоятельства, о которых здесь долго и не стоит распространяться. Возможно было бы в таком случае, чтобы Вы приехали сюда в Москву четвертого и ко мне в Свистуху, например, пятого, т<ак> к<ак> числа 12-го мне уже необходимо будет выехать за границу. Напишите об этом совершенно откровенно. Если Вам из Боголюб неудобно уезжать раньше, то напишите совсем откровенно, и я приеду к Вам, т<ак> к<ак> говорить нам, во всяком случае по моему мнению, необходимо. Четверги падают на 21-ое июля, на 4 августа и на 18 августа, а не на 11-ое[2676], как Вы, по-видимому, думаете, приурочивая свой приезд. Так что если бы Вы приехали четвертого, то было бы хорошо. Я приехал бы в Боголюбы лишь в том случае, если бы, не стесняя никого, мог остановиться в колонии. Т<ак> к<ак> 11-ое не день заседания, то Вы, быть может, могли бы приехать и позднее, раз Вы уже находите возможным не приезжать к 8-ому. Об этом надо еще подумать и списаться или даже в крайнем случае снестись по телеграфу. Привет Наташе, Асе и всем обитателям Боголюб.
Я так безумно устал, так опустошен сейчас, что, право, ничего не понимаю больше и, главное, ничего не чувствую. Знаю, что люблю Вас, что вопреки всему и через всё связан с Вами нерасторжимо, что мы еще в 1902 году были крещены в одной купели и посвящены одним мечом, что один старинный друг с другим старинным другом разойтись не может и не смеет, но все-таки компромиссов и тактических объединений между нами (лично!!) не допускаю. – Обнимаю Вас крепко. Ваш Э. М.
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 7. Копия: РГБ. Ф. 167. Карт. 5. Ед. хр. 25.Ответ на п. 226.
228. Белый – Метнеру
Вот уже три недели как отправил Вам в деревню письмо (объяснительное) на Ваше большое[2677]. Между письмом, столь взволновавшим Вас, и письмом объяснительным я отправил, не зная Вашего адреса, письмо в Мусагет (о деловых своих затруднениях с Мусагетом)[2678]; не ведаю, что Вы получили из посланного (отправил и телеграмму Вам[2679]). Сегодня уже 22 июля, и, не зная, заедете ли Вы в Луцк, или не зная, будете ли Вы мне вообще отвечать, я должен от Вас получить хотя бы уведомление – ждать Вас или нет (ибо время мне собираться, как это ни тяжело, в Москву, в которой, кстати сказать, не жду ничего утешительного). Ввиду того, что М. К. Морозова нас звала к себе[2680], я хотел бы заранее уведомить ее о нашем с Асей приезде.
Итак, жду извещения от Вас хотя бы в два слова.
Остаюсь искренне преданный
Борис Бугаев.
P. S. От Аси привет.
Это письмо пятое по счету из мной отправленных (пишу для счета, ибо иногда письма пропадают).
РГБ. Ф. 25. Карт. 30. Ед. хр. 10. Письмо, видимо, не было отправлено адресату.
229. Белый – Метнеру
Жалею, что послал Вам мое письмо вместо простого «приезжайте»[2681]. Написал ответ и на второе письмо; прочту лично[2682].
4-го мне быть в Москве до крайности неудобно; почему – долго объяснять.
Итак, жду Вас 4-го. 9-го, 10-го, 11-го могу быть в Москве[2683]. Но тогда лучше уж и не объясняться: более удобной формы нет, кроме Вашего приезда. Телеграфируйте и день отъезда, и поезд, и по какой дороге едете (Брянской или Брестской).
Остаюсь любящий Вас
Б. Бугаев.
От Аси привет. Привет всем.
P. S. Телеграфируйте тотчас по получению письма, едете или нет. Мне надо знать заранее[2684].
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 47. Датируется по почтовому штемпелю отправления на конверте: Луцк. 25. 7. 11. Штемпель получения: Хлебниково. 29. 7. 11. Отправлено по адресу: Савеловская ж. д. Станция Хлебниково. Имение Осиповых.
230. Белый – Метнеру
Пока я Вам не писал и не пишу в порядке личном: перегружен был делами, 10 дней искали в Москве помещения[2685]. Потом были у Морозовой[2686]. Теперь уже вот с неделю суетня и беготня.
Перехожу к делам:
1) О проспекте[2687]: предпринято нижеследующее: три недели тому назад писал уведомительное письмо Вячеславу в очень любезной форме, чтобы он прислал к первым числам сентября «Орфея»[2688]. Не прислал. Мы составили коллективно с А. С. Петр<овским>[2689]. Поступили: рукопись Эллиса «Задачи книгоиздательства Мусагет», моя рукопись (вновь написанная)[2690], рецензии и т. д. Помня о Ваших словах по поводу обзоров книг К<нигоиздательст>ва Дидерихс[2691], я составил пробный обзор книг К<нигоиздательст>ва «Мусагет», который всем понравился[2692]. Вчера состоялось первое недельное собрание; были: Эллис, Кож<ебаткин>, Ахр<амович>, Степпун, я, Рачинский, Сизов, Киселев, Петровский. Читался и критиковался весь материал проспекта, т. е. три наши статьи (Вы[2693], Эллис, я), «Задачи Орфея», «Логос»[2694], книжный обзор, не читались лишь авторецензии (не хватило времени). Краткий протокол, составленный Ахрамовичем, посылается Вам при материале. Выяснилось: 1) Если бы напечатать весь материал, то проспект не достигал бы цели, ибо он скорей походил бы на № «хроники». 2) Была бы разноголосица. Признано, что Ваша и моя статьи вполне близки по духу и в этом смысле шли бы в проспект, но Эллиса всеми единогласно признано негодной, ибо она а) есть крикливый мистический манифест, b) она скорей говорит об интимной стороне Орфея, а не Мусагета. Были бурные споры: Эллис кидался, ругался и т. д. Выяснилось и то, что имеется весь почти материал для пробного № «Хроники Мусагета» (условно так называли наши период<ические> выпуски)[2695]. Тогда в видах большего удобства оказалось, что 1) возможно печатать отдельно каталог (quasi проспект) хоть сейчас в следующем порядке:
1) Ваша статья о Мусагете (или без оной?)
2) Либо авторецензии, либо мною составленный по образцу Дидерихса «Обзор книг К<нигоиздательст>ва „Мусагет“».
2) Возможно печатать независимо от того пробный № Хроники.
Этот последний при бюджете 2000 приблизительно = 6 номерам по 60 страниц, принимая во внимание гонорар, или = 6 номерам по 80 и более страниц (если без гонорара); в следующем собранье (в пятницу 9-го) вопрос о гонорарах мы обсудим (я стою за то, что гонорары не нужны: всякий, заинтересованный Хроникой, сам будет стремиться писать там, а гонорар за статейки в 7–8 печатных страниц все равно ничтожен, чтобы составить предмет заработка).
Выяснился следующий характер «Хроники Мусагета»:
1. Культура и «Мусагет» (20 стр.)
2. Дневник «Мусагета» (20 стр.)
3. Книжные листки «Мусагета» (2<0> стр.)
В отделе первом печатаются статьи официально застегнутого тона (жест в сторону публики), за тон статей ответственна редакция; тут Редакция Мусагета намечает вехи своих путей, взглядов; характер – передовые статьи о жгучих нам темах.
В отделе втором (Дневник «Мусагета») печатаются статьи под личную ответственность авторов. Это как бы лирический отдел, материал «Дневника поэтов» вошел бы сюда[2696]. Тут желательны: афоризмы, эмбрионы статей, записи на полях книги; словом, лирика на темы важные, затрагиваемые в первом отделе официально. Первый отдел платформирует; второй – создает материал к платформированию. Я, например, хотел бы обработать в краткой диалогической форме записанную схему одного разговора у Морозовой, где участвовали: я, Желяев, Морозова и проф<ессор> Вульф (об отношении науки к религии)[2697].
Третий отдел. Приближается к каталожной форме. Печатаются обзоры книг 1) наших, 2) не наших (пример: обзор книг «Пути», «Скорпиона» в нашем освещении, т. е. взгляд Мусагета на окружающие явления книжного дела. 3) Вообще печатается обзор тех симптоматических книг, которые являются таковыми нашему сознанию (только не рецензии). Вышла, например, вам любопытная книга о Гёте, книга о Ницше, книга о романтиках. Вы видите нить, связующую их: вы высказываете эту нить, указываете на книги. Наконец, здесь вообще можно высказывать личное мнение о характере такой-то или такой-то серии книг. Следовательно, и здесь в принципе я различаю два типа обзора: 1) обзор мусагетский (страниц 8–10), т. е. взгляд на серию книг редакции, основанный на соглашении большинства мусагетцев (взгляд каждого лица здесь представлен в программе минимум), 2) обзор личный, т. е. того или иного сотрудника Хроник, т. е. серия известных книг, взятая в аспекте Метнера и только Метнера, Киселева, меня (программа maximum) (10 страниц).
Охарактеризовав выяснившийся характер «Хроник», я возвращаюсь к пробному №.
Он уже готов почти. Имеется
1) Культура и «Мусагет».
а) Ваша статья, за подписью Метнер или «Мусагет».
b) Статья «Логоса», которую Степпун берется ретушировать в следующем смысле: имеется заявление «Логоса» «От „Логоса“»: Степпун берется его слегка мусагетировать, взяв заявление Логоса, повернутого лицом к «Мусагету» (работа 1 день)[2698].
c) «Орфей». Написанная коллективно заметка.
О подписях: если будут подписи, то подпись «Гессена» удобна ли при ретушировании Степпуном? Не знаем, кто подпишется под Орфеем. Не проще ли подписаться: «Мусагет», «Логос», «Орфей».
2) Дневник Мусагета.
1) У Степпуна есть интимный материал для этого отдела.
2) Обещается условно дать Киселев.
3) Даю я в самом непродолжительном времени.
(Весь этот материал тотчас же будет отослан к вам.)
3) Книжные листки Мусагета.
Обзор К<нигоиздательст>ва «Мусагет» (без подписи, составленный мной). Или авторецензии, в зависимости от того, что пойдет в каталог.
Удобства такого плана. 1) Невозможная с точки зрения корректности статья Эллиса попадает в «Дневник» под его личную ответственность хотя бы в № 2-ой Хроник[2699]. Для второго № имеется еще в первый отдел моя заметка «Задачи издательства».
Достигается стройность первого отдела, первого пробного №, где попадают статьи о Мусагете, Логосе, Орфее.
Выяснилось, что материал и темы будут, но что недельные собрания необходимы в том смысле, что разговоры, на них происходящие, дают богатейший реальный материал к написанию статеек. Нужно выработать тип статеек в 7–8–10 страниц. Если гонорара не будет, 6 №<-ров> можно превратить в 8, 9, или обратно: 6 номеров стесать = 90 страничкам; 30 страниц для 1-го отдела, 30 для второго, 30 для третьего. Я настаиваю на необходимости собраний 1) освобождающих контору на целую неделю, 2) реально питающих и оплодотворяющих темы к статьям: опыт показал, что статья тут же рождается: так, надо было писать об Орфее; ни Петровский, ни я не знали, что писать; поговорили часа полтора; я сел за стол и занес ход мыслей: на другой день ход мыслей обработал в заметку (я привожу это, как тип коллективного творчества)[2700]. Теперь выяснилось мне очевидно, что дело пойдет, и мы вполне можем, опираясь на свои только силы, вести Хронику (конечно, сотрудники со стороны очень желательны, но строить в рассчете на них не надо).
Может быть, мне придется к 15-ому дня на два за приисканием работы быть в Петербурге[2701]: тогда я Вячеславу все объясню. Пока не пишу ему до пятницы, когда детали «Хроник» выяснятся вполне. Блок за границей[2702] и адреса его у меня нет; но летом мы переписывались, и думаю, он – горячо откликнется.
Естественно выяснилось, что будут писать хоть в каждом № я, Степпун, Эллис; надеюсь – Вы. Обещали во второй отдел и третий писать (обзоры и мысли на полях книги) Киселев, Петровский. Гессен и Яковенко согласятся от Логоса писать. Иванов и Блок наши; пока что – достаточно.
Материал статей с протоколом того, что говорилось на собраниях, посылается на днях Вам.
У меня был разговор со Степпуном. «Логос» идет на условия Ваши. Ему больно разрывать с «Мусагетом». Соглашается печататься без гонорара.
Пока обрываю мои сообщения.
Милый, милый, Вы простите меня, что не пишу о личном. Времени совсем нет. Мы переезжаем в Расторгуево. Адрес. (Павелецкая) ж. д. Станция Расторгуево. Видное. Дача Депре. Мне[2703].
Кожебаткин Вам пишет: как всегда, как только пришлось делать дела по выяснению хроник, Кожебаткин оказался незаменимым человеком; теперь Вы, вероятно, будете испытывать на себе его молчание, а я, будучи в Москве, вижу его деловым.
Четверг 8 сент<ября>.
Степпун предлагает брошюру с заглавием «Культура и жизнь» (брошюру предлагает написать и будто бы в мусагетском, а не чисто логосовском смысле)[2704]. Ответьте: это – предложение. Киселев частью набросал для второй части «хроник» заметку о том, что есть книга[2705].
Вчера 7-го сентября получена телеграмма от Вячеслава о том, что «Орфей» пишется: 7-го сентября я ему выдвинул как последний срок[2706]: получение телеграммы в этот день меня утешает (значит, заметка пишется). Если Иванов опоздает, заметка имеется; если вовремя пришлет, можно печатать ее позднее, изменив заглавие (одной имеющейся статьей больше). Написал длиннейшее и обстоятельнейшее письмо Вячеславу о том, что есть Хроника[2707]. Надеюсь, после объяснения примет живейшее участие.
Выясняются не только детали (о чем писать), но и темы. Мы обсудили возможную платформу, как держаться, по поводу готовящейся серии оккультических книг (между прочим, Штейнера). Петровский крайне воодушевлен. Даже Рачинский обещал писать о книгах, и в «Дневнике». Идея Хроник окончательно воодушевляет меня.
Не отправляю Вам письма до субботы 10-го с тем, чтобы занести хронику нашей жизни (результаты завтрашнего собрания и сегодняшнего разговора со Степпуном).
По получению моего письма ответьте мне Ваше мнение о написанном, а также Ваши мысли о Хрониках, Ваши проекты статеек. Если начать номера в декабре, то материал на 3–4 номера, органически выросший, желателен уже в портфеле Редакции. Выясняется, что гонорар за статьи не нужен: за это стоят: главным образом Киселев, потом Петровский, Рачинский, я, Эллис; склоняется к тому и Кожебаткин. В принципе не платить: в исключительных случаях по просьбе автора да. Экономия на гонораре развязывает руки. Можем тогда свободно выпустить 7 выпусков по 80–90 страничек.
Пятница 9-го сентября.
Вчера был разговор со Степпуном, поставивший меня в довольно затруднительное положение. Степпун теперь говорит в мусагетском духе и считает себя более мусагетцем, чем логосовцем. У нас же говорят – Степпун не подлинный: во всяком случае я чуть-чуть ухаживаю за ним, как за активным участником Хроник. «Люцинду» Степпун почти совсем перевел (кажется, вовсе перевел, только без писем Шлейермахера)[2708].
Киселев заканчивает брошюру для Мусагета[2709].
Брюсов очень скоро дает «Opсьe»[2710].
Моя брошюра набрана[2711].
11 сентября.
Пишу после второго «Мусагетского» собрания.
Факты: Эллис написал премилое письмо, мотивирующее расхождение в тактике с нами. Вскоре после он мне обещал писать в отделе «дневник» много, но за своей, а не редакционной ответственностью.
В. Я. Брюсов очень горячо присоединился к проекту; в «Дневник» предоставляет какой угодно материал из приготовленной к печати книги (которую издаст еще только через год), книга будет называться «Miscellanea»; содержание ее – фрагменты. Просит черпать оттуда хоть для каждого выпуска страничек на 5–10[2712].
М. И. Сизов прочел великолепнейшую статейку о нашем отношении к культуре, науке, религии, философии; статья одобрена всеми[2713]. Степпун, Рачинский и я просили повторить статейку в следующую пятницу, 1) как тему собеседования в нашем кружке, 2) собеседование должно служить материалом к подотделу «О чем говорят» (обработаю в диалогической форме «я» или Степпун)[2714]. Статейка Сизова лирически-сдержанная, но все же лирическая; предположено напечатать во втором выпуске, она как бы руководящая статейка в отделе «Дневник». Диалог на затронутые ею темы может пойти во втором №.
В. О. Неллендер к пятнице (следующей) в наш портфель принесет обзор литературы по орфизму (что в связи с «Гимнами Орфея» (при выходе их) можно напечатать)[2715].
Степпун приносит к пятнице свою статью на тему «Логос, повернутый к Мусагету» (статья предполагается для 1-го выпуска «Хроник» в pendant к Вашей статье). (Заявление Гессена о Логосе предложено напечатать в каталоге[2716]). Тогда же приносит он и статейку в лирический отдел[2717].
Милый – теперь Ваша очередь: пишите, чаще, больше: статейки в 5–10 страничек легко писать; заметки на полях, проекты статей, мысли, интимизм Ваших замечаний из писем – все это благодарный материал для «Дневника». Пишите, ради Бога, и для «Дневника», и для «Культуры и Мусагет». Пишите и обзоры.
Выясняется весь первый № выпусков.
1) Культура и Мусагет
а) Ваша статья (5 печ<атных> страниц).
b) Логос, повернутый к Мусагету (Степпун) (5–7 страниц).
c) «Орфей» (наша или еще не полученная ивановская (5 печат<ных> стр.).
= до 17 печатных страниц.
2) Дневник Мусагета
а) «О (имя рек) пейзаже» (лирическая статейка Степпуна)[2718].
6–7 страниц.
b) «Miscellanea» Брюсова. 5 стр.
c) «О книге» Киселева. 5–6 страниц.
d) «О чем говорят» моя. 6–7 страниц.
22–25 печ<атных> страниц.
3) Книжные листки Мусагета
a) Обзор книг «К<нигоиздательст>ва Мусагет» (мое без подписи). 8 страничек.
b) Каталог К<нигоиздательст>ва. Страниц 12 (или второй обзор: хотя бы «Пути»). 20 печ<атных> страниц.
Остаются для второго №.
1) «Мусагет и Культура» (моя).
2) «Орфей» (моя или Иванова в зависимости от напечатанного).
3) Статейка Сизова (для лир<ического> отдела).
4) «О чем говорят» (диалог обработанный?).
5) Статья Эллиса (не пропущенная в первом №). Последние две статьи для лирики.
6) Обзор Орфической литературы.
7) Хорошо бы иметь Ваши статейки для № или в виде афоризмов, проектов статей, или в виде интимной статейки, или в первый отдел. Желательно иметь обзор Вас интересующих ныне книг (хотя бы из теперешних германских, которые Вы или читаете, или о которых осведомлены).
Решили просить Иванова статейку о «Религии и культуре». К Блоку пока до отыскания его адреса еще не обращались.
Петровский, Рачинский садятся писать.
Степпун взял на себя инициативу обо всем уведомить Гессена и Яковенку, обещая налегать и вынимать из философов в мусагетском тоне статейки о культуре.
Долго обсуждали вопрос гонорара: выяснилось, что гонорар все же нужен. Решили пока что в среднем рублей 30 за печатный лист.
Кожебаткин пишет Вам и пересылает протоколы, для Вас писанные Ахрамовичем.
Вот краткий экстракт сделанного за два собрания; я считаю, что дело двинуто. На третьем собрании обсудятся темы следующих № (конечно, всё до вас проблематично: нужно разработать программу 4-х выпусков сейчас же, чтобы к середине ноября иметь материал для 4-х номеров). Если будет материал поступать далее, можно имеющийся материал задержать, но мы отправляемся от принципа не опираться на сотрудников со стороны.
Обрываю, сейчас еду в деревню: спешка.
Обнимаю. Остаюсь любящий
Б. Бугаев.
P. S. Николаю Карловичу и Анне Михайловне привет[2719].
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 48. Над текстом помета Н. П. Киселева: «Штемпели. Москва. 12. IX. 1911; Pillnitz. 28. IX. 1911» (даты отправления и получения на почтовых штемпелях с несохранившегося конверта).
231. Метнер – Белому
Pillnitz. 25/12–IX–911.
Дорогой Борис Николаевич! До сих пор не писал Вам. Это – оттого, что решил твердо не писать больше одного письма (небольшого) в два дня и больше одного письма (большого) в одну неделю. Иначе – пропадешь при моем педантизме, дилетантизме и кунктаторстве. Пришлось писать своим, у которых разные горести и неприятности, надо было написать Марг<арите> К<ирилловн>е[2720] давно обещанное, Эллису – деловое, Кожебаткину[2721] и Ахрамовичу, Яковенке, муз<ыкальному> крит<ику> Прокофьеву – так все дни распределились… Вам пока делового писать от себя нечего; скорее жду от Вас Ваших впечатлений, решений, соображений о проспектах и других мусагетских делах, а также о Ваших работах. Слышал, что Вы устроились. Расскажите, как и где? А также сообщите, как Ваше дело с имением?[2722] Как провели время у Марг<ариты> К<ирилловн>ы[2723], от кот<орой> ответа на свое письмо я еще не получил… Пилльниц как бы создан для отдыха и правильной работы. Сначала я опустил нервы и целыми днями лежал на солнце, впервые отдыхая этим летом, ибо у Марг<ариты> К<ирилловн>ы я хотя и не работал, но очень плохо спал. К сожалению, мой отдых был отравлен разными печальными известиями из дома…[2724] Затем, отдохнув, я (за отсутствием корректурного материала моей книги[2725], который, кстати сказать, мне почему-то до сих пор еще не выслали) принялся за чтение, ибо и читать как следует всласть мне за этот сумасшедший сезон не удалось как следует. Между прочим, дочитывал непрочитанное в Логосе и перечитывал только просмотренное, между прочим Вашу статью о Потебне[2726], в кот<орую> я в свое время только заглянул. Для Вас она, конечно, написана плохо, но, читая ее среди другого материала ежегодника, снова и опять поражаешься неоспоримым превосходством и подлинностью Вашей мыслительной работы; по напряженности и разносторонне-живому контакту с самыми противоположными областями, конечно, никто из пишущих в Логосе сравниться с Вами не может ни из русских, ни из иностранцев.
Прочел между прочим Зиммеля о культуре (в русском Логосе еще не было)[2727]; это величайший жулик и софист. Любопытно знать: сознательный или бессознательный или полусознательный (инстинктивный)? Вкратце не скажешь, в чем софизм. Он льет крокодиловы слезы по поводу трагического положения, в какое попала культура. Об этом надо говорить с текстом в руках, и формула, кот<орая> у меня чуть-чуть сейчас не сорвалась с языка, мало дала бы Вам. Страшно хочется говорить с Вами об этом… Подумали ли Вы еще и еще раз о том, надлежит ли нам сделать усилие и поддержать Логос или предоставить его своей судьбе, фактически идейно не разделяясь с ним, раз он захочет остаться в Мусагете? Милый мой, напишите мне об этом. Я хочу знать все (до конца – откровенно), что Вы думаете. Была в Дрездене проездом Маргарита Васильевна[2728], и я провел с ней несколько часов. Она много рассказывала хорошего про Мусагет. Из ее слов, однако, я понял, что заседание относительно «проектов, проспектов»[2729] прошло не совсем благополучно и Эллис выскочил как угорелый, что Эллис не согласен с моей формулировкой нашей задачи и кричит «не надо культуры»! Все это, конечно, пока что очень любопытно, но если подобная рознь начнет принимать более серьезные размеры, то едва ли что-нибудь выйдет из наших «проспектов – проектов». – Неужели Эллис до сих пор не понимает того (скажите ему это: мне сейчас некогда ему писать), что культура есть один из путей, что или надо ступить на этот путь и идти им, не оглядываясь на другие пути, или нужно отказаться от него вовсе. Интегрируя религию в культуру, мы, возвышая последнюю, не унижаем вовсе первой, ибо все равно несказанное религии, внутренний духовный опыт останется, так сказать, за сценой; тогда как, устраивая кашу из полурелигии полукультуры (как то делает Штейнер и вообще теософы), мы унижаем религию и вносим хаос в культуру. До свиданья, дорогой мой. Крепко обнимаю Вас. Привет Асе, Наташе, Александру Михайловичу[2730]. Ваш Э. Метнер.
РГБ. Ф. 167. Карт. 5. Ед. хр. 26.
232. Белый – Метнеру
Надеюсь, Вы теперь получили мое очень длинное письмо – сплошь деловое[2731]. Жду на него ответа. Пока продолжаю сообщать о деловом. Прежде всего вкратце мотивы, почему я пишу только о деле. Переписка, сумма разговоров, ред<акционные> собрания, объяснения задач «Хроник»[2732], думы о них в среднем берут у меня 3 рабочих часа в день. Срочная работа для приискания средств заработка в среднем пока берет часа два в день. Итого пять рабочих часов у меня выходит в день, не считая писания «Голубя»[2733]. Иногда падаю от умственной переутомленности; иногда после полуторанедельных дум, писания статей, неприятностей, разговоров, дела об имении[2734], писания статей и одновременно продумыванья «Голубя» я на неделю делаюсь неработоспособен. Следственно, Вы поймете скупость моего тона писем. Пишу в экономии времени лишь о необходимом.
I) По делу о проспекте. Разработан план шести выпусков в год по 4 печатных листа (40 000 б<укв>) формата «Луга зеленого» (по 120 страничек в выпуске = 60 страниц «Логоса»). Хроники назвали «Труды и дни Мусагета»[2735]. Три отдела. I. Статьи экстракты, платформирующие Культуру: Логос, Мусагет, Орфей по отношению к Культуре и друг к другу[2736]. Принимают участие: Метнер, Иванов, Белый, Степпун, Гессен и др… следующее собрание – разработка деталей этого отдела на год. II. «Дневник Поэта et непоэтов». III. Отдел «Кн<ижные> листки Мусагета».
Имеется следующий материал:
1. Метнер о «Мусагете».
2. Степпун «Взгляд на триаду Логос – Мусагет – Орфей с точки зрения „Логоса“»[2737].
3. «Орфей» Иванова.
4. «Культура и Мусагет» моя[2738].
5. «Задачи Орфея» моя.
6. Статья о Культуре Сизова[2739].
7. «Философия тосканского пейзажа» Степпуна[2740].
8. «Нечто о мистике» моя[2741].
9. «Синица и журавль» Петра Карпова (моя)[2742].
10. «Нечто о книге» Киселева[2743].
11. «Статья» Эллиса[2744].
12. «Miscellanea» Брюсова[2745].
13. «Диалог о двойной истине» моя (псевдоним Рубикон)[2746].
14. «Диалог о метафизике» (псевдоним Рубикон, моя)[2747].
15. Обзор к<нигоиздательст>ва «Мусагет» моя (без подписи)[2748].
16. Обзор к<нигоиздательст>ва «Скорпион» моя (без подписи)[2749].
Вот что есть в портфеле редакции.
В скором времени обещали:
1) Обзор «Пути» Рачинский.
2) Обзор орф<ической> литер<атуры> Неллендер[2750].
Статья лир<ическая> Степпуна, О личности Пушкина Ходасевича[2751]. Miscellanea (новые) Брюсова; обещали присылать Эллис, Садовской; решено привлечь в обзоры осторожно: Дурылина, Сидорова, Мариэтту Шагинян. Сегодня пишу вернувшемуся наконец Блоку[2752]. Просили меня просить афоризмов во второй (не ответственный) отдел Гиппиус (не А. Крайнего)[2753]. У меня же просьба к Вам: пригласите М. В. Сабашникову и двух-трех культурных немцев. Гонорар установили 25 рублей за печ<атный> лист (т. е. 100 р. за №).
1. Задачи Мусагета (Орфей – Мусагет – Логос) Степпуна.
2. О Мусагете Ваша.
3. Орфей Иванова.
4. Желательна статья о культуре (малая, но не носящая оттенок анонса (напишите!)).
1. Философия тоск<анского> ландшафта. Степпуна.
2. «Нечто о мистике». Белого.
3. «Miscellanea» Брюсова.
4. Диалоги I о дв<ойной> истине
II о метафизике} Рубикон[2754]
Обзор к<нигоиздательст>ва Мусагет.
Все статьи малы: итог не превысит 4-х печатных листов[2755].
Пока: очень внимательно все относятся к еж<енедельным> собраниям. Никто не манкирует: обычно бывают Степпун, Петровский, Сизов, Киселев, я, Кожеб<аткин>, Ахрамович, Рачинский, бывал Эллис (кстати: инцидент улажен – Эллис кроткий и усмиренный отправился к Штейнеру[2756]); иногда бывает Неллендер и Садовской. Сережа неуловим:[2757] никто не знает, когда он в Москве.
Незаменим Степпун: за ним прямо приходится ухаживать: он пишет чисто мусагетские статьи, одушевлен очень нашими «Трудами и днями». Более всех действует на собраниях. Кожебаткин то хорошо, то возмущает всех хамскими изгибами своего поведения: кстати: Бога ради: всё о проспектах пишите мне, а не ему. А то он, получив от Вас письмо, не сообщает содержание, а инспекторски контролирует нас: иногда какая-либо деталь уже разработана; тогда лишь К<ожебатки>н цедит сквозь зубы: «а я получил от Э. К. указания» и т. д. Кстати: Кожебаткиным возмущаются все; и теперь нет-нет и его осаживают…
О Вашей книге мне поручили писать в «Русской Мысли»[2758]. Когда она выходит? Скоро выйдет Дейссен и моя брошюра[2759].
II. Имение: дело об имении ведется Поццо; много хлопот… «Гриф»[2760], имеющий близкие отношения с одним черноморским миллионером. Но мама и Кистяковский тормозят[2761]. Менее мама; более всего Кистяковский. Дело теперь будет двигаться: есть надежда, что в течение года можно и продать. Выясняется, что оно стоит несравненно дороже, чем говорил Кистяковский.
III. Мои материальные дела очень плохи. Месяц безрезультатно хлопотал пристроить рукописи о «Египте» и «Тунисии». Газеты не печатают фельетонов. Брюсов считает мой этюд о Египте замечательным, но ничего не может сделать без Струве, а Струве и слышать не хочет дать за него аванс, хотя берет в долгий ящик «Русской Мысли»[2762]. Имел полуторачасовой разговор со Струве о «Голубе»: хотел получить аванс: Струве – ни за что. Он обещает: приносите рукопись и тотчас же получите деньги сполна[2763]. Последний срок подачи 15 декабря. В два с половиной месяца обязан написать 15 печатных листов, иначе нечего будет есть; за лист дают 100 р. Или к первому январю буду иметь 1500 рублей, или же только «0» рублей. Итак: видите, должен работать. Волей-неволей уселся писать статью о Толстом для «Пути» (как это мне интересно, в самом деле – ведь писал уже о Толстом)[2764]: в 3 дня должен написать минимум 30 писаных листов, да еще 3 огромных письма (Блоку, Иванову[2765] и переводчице Голубя[2766]). Итак: работать для куска хлеба в ноябре – декабре значит остаться без куска хлеба в январе (без 1500 р. за Голубя); а писать Голубя значит остаться без куска хлеба с середины ноября до января (это при залежи рукописи: 14 ненапеч<атанных> фельетонов, этюд о «Радесе» 60 страниц, «Египет» – 110 стр<аниц>; что делать – Андрей Белый никому не нужен. Остается одно: умоляю Вас, разрешите мне прочесть 2 лекции, устроенных Мусагетом (1) О Толстом, 2) О Египте[2767]). Я просил сначала дружески Кож<ебатки>на устроить мне лекции; отвиливает: сам я, сидя в деревне за работой, не могу бегать по всей Москве с организацией. Мне нужно лишних 400[2768] рублей до окончания «Голубя». 150 рублей как-нибудь наберется; 250 же набралось бы мне от двух лекций. Моя просьба: лекции Мусагету окупятся + известный процент. А прочее – мне. Очень прошу разрешения, если это возможно, тотчас же телеграммой: только через 3 недели после подачи прошения возможна лекция. А деньги мне уже понадобятся к 15 ноябрю.
Милый, милый друг, простите лаконизм: вот письмо к Вам отняло у меня 1½ часа; до письма писал 3 часа статью; тотчас же продолжаю ее; и до поздней ночи переписывать; завтра и послезавтра с утра до ночи – то же. Четверг и пятница[2769] с утра до ночи дела и бега в Москве. А в субботу уже опять «Голубь». И т. д. и т. д.
Жду телеграммы в Мусагет о разрешении или неразрешении мне лекции. Мне она – единственная возможность как-нибудь обернуться.
Милый друг: все личное и интимное – откладываю. Слышал о горе Вашем (о том, что скончался сын Ал<ександра> Карловича[2770]): слышал тотчас же по Вашем отъезде…
Мне хорошо, тихо. Ася – вечная моя поддержка и помощь. Глубже и глубже ее люблю.
Наш адрес: Московская губерния. Павелецкая ж. д. Станция Расторгуево. Видное. Дача А. Н. Депре. Бугаеву.
Как хорошо в деревне!
Остаюсь искренне любящий Вас и преданный всей душою
Борис Бугаев.
P. S. Анне Михайловне и Ник<олаю> Карловичу привет[2771]. От Аси привет.
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 49. Над текстом помета Н. П. Киселева: «Штемпели Москва 29 IХ 1911; Pillnitz 15 Х 1911» (даты отправления и получения с несохранившегося конверта).
233. Метнер – Белому
Pillnitz 19/X 911.
Дорогой Борис Николаевич! Телеграмму с согласием на лекции я Вам тотчас же отправил. От Вас получил два письма. Кожебаткину написал три письма, от него получил небольшую препроводительную записку, Протоколы[2772], рукопись Сабанеева[2773], письмо от Ахрамовича. Вам написал только одно письмо, которое скрестилось с Вашим первым[2774]; это Ваше первое письмо опять-таки было подано и прочтено мною как раз в то время, когда я писал Кожебаткину[2775], оттого я и включил в уже писавшееся письмо деловые ответы на заданные Вами вопросы. Вся эта переписка как раз совпала с концертной горячкой (перепиской с Konzert Direktion, совещания с Колей[2776], прослушивание его пьес, прогулки с ним, чтобы отвлечь его от композиторства и т<ому> п<одобные> закулисные истории…). – Оттого я и не отвечал Вам. Да и теперь буду краток. Во-первых, очень устал; во-вторых, все равно буду через две недели в Москве, и тогда мы всё порешим. Вы, конечно, доставили мне большую радость Вашими подробными письмами, но все-таки напрасно Вы отымаете у себя столько времени и сил. В особенности перед тем как писать второе письмо Вы могли бы справиться у родителей, когда я возвращусь, и написать minimum. Ваш проект проспекта вполне одобряю и название Труды и Дни Мусагета; не пишу подробнее, ибо очевидно до моего отъезда I номер все равно не будет готов, а по приезде можно все будет решить в один день. Говорю так потому, что корректур своей платформной статьи не получал. Отчего Кожебаткин не прислал мне формат и обложку брошюр (Дейссен и Ваша)??? – В письме я просил его об этом… Скажите ему также, что по просьбе Эллиса я ему выслал в Берлин из своих денег причитающееся ему жалованье (60 р.)[2777], которое таким образом высылать ему не следует, т<ак> к<ак> получить его должен я. – С Кистяковским необходимо переговорить Вам лично и по возможности в присутствии Вашей мамы и Поццо; пора кончить так или иначе это дело, иначе Вас проведут за нос! Тормошитесь поменьше; Голубя из-под палки не пишите; лучше прочтите еще лекцию; как-нибудь обернетесь; Голубь должен зреть и медленно расти; лучше напишите фельетоны в газету на «литературно-общественные темы»; ведь это Вам ничего не стоит… Ваше положение очень трудное, но поверьте, оно сразу облегчилось бы, если бы Вы продали имение, так как тогда Вам можно было бы снова открыть кредит в Мусагете. Ступайте к Кистяковскому и поговорите с ним как следует; не юридически, а человечески; скажите ему, чтобы он не думал, что Вы легко можете отказаться от ликвидации имения, что это Вам необходимо, что Вы вынуждены будете принять решительные меры. Дорогой друг! Очень устал! Состояние нервное неладно! Скоро увидимся. На лекции Ваши наверное попаду. Передайте мой привет Асе, Наташе[2778] <нрзб> и всем Мусагетам <?>. Эллис блаженствует <нрзб> и пишет о Нем с большой буквы. Смущает Эллиса только антииезуитизм Штейнера. Попался мальчик![2779] Обнимаю Вас крепко. Ваш Э. Метнер. ‹…›[2780]
РГБ. Ф. 167. Карт. 5. Ед. хр. 27.Ответ на п. 230, 232.
234. Белый – Метнеру
получил Ваше письмо[2781]. Отвечаю тотчас: да, конечно: я уже с прошлой весны ужаснулся деятельности Кожебаткина, сначала тоном, какой он задает «Мусагету», когда нас нет (тон непереносный), потом его не всегда чистыми интригами, наконец полной бездеятельностью, наконец сознанием, что в журнале он был бы невозможный секретарь: что касается до журнала, то я с своей стороны сейчас прямо настаиваю, чтобы секретарем был Ахрамович[2782]. Помните, Вы высказали мне эту мысль? Вскоре после этого сам Ахрамович обратился ко мне, сказав, что вся его работа сознательно тормозится Кожебаткиным, что секретарем он согласен быть, очень хочет, но зависеть в сношении с типографией от Кожебаткина отказывается. Так что с моей стороны нет никакого но против всяческого устранения это<го> вредного и двусмысленного человека. Я бы только хотел одного: чтобы Кожебаткину был вынесен, так сказать, обвинительный приговор – in corpore[2783], единогласно, ибо вследствие ряда моих столкновений за эту осень (еще без Вас) с ним и теперь (на днях, я ужасно на него обиделся за одну бестактность) у него не было впечатленья, что именно я являюсь инициативой его удаления. Он вследствие своего психологизма и подозрительности последнее время чувствует себя неловко передо мной (сделав мне ряд свинств). Далее: ввиду того, что я вернусь из Бобровки, вероятно, не ранее 23 декабря[2784] (ибо надо работать, работать, а две проведенные в Москве недели[2785] разбили мое рабочее настроение), передайте, пожалуйста, Алексею Сергеевичу[2786] мою просьбу, чтобы Кожебаткин вернул ему мою доверенность на получение гонораров и продажу имения; а то он со зла на нас может еще, пожалуй, что-нибудь с этой доверенностью натворить.
Милый, да конечно: до 1-го января мы увидимся: видеться мне надо; но я не приехал (да понятно, почему – боязнь пропустить два рабочих дня, ибо до 1-го января я совершенно невменяем).
Ну Христос с Вами.
Остаюсь искренне любящий
Борис Бугаев.
P. S. Обложку журнала К<ожебатки>н не показывал мне[2787].
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 50. Помета рукой Метнера: «5/XII 911» (видимо, дата отправления на почтовом штемпеле с несохранившегося конверта).
1912
235. Белый – Метнеру
Пишу Вам несколько деловых слов.
На днях пишу Вам подробно и лично, а сейчас, видя В. Ф. за письмом к Вам[2788], приписываю несколько слов о деле.
1) Выясняя состав первого №, мы все пришли к мысли, что несколько страничек фактически новых привлекли бы ряд лиц, интересующихся поэзией: дело идет а) о напечатании маленькой статейки о занятиях ритмом в № первом, написанной мной, b) о приложении к № второму учебника ритма (страничек 5) с комментариями[2789].
2) Дело о Городецком. Городецкий много раз обращается с просьбой напечатать его книжечку стихов (размером не более «Ночных Часов» Блока[2790]); мы уже дважды отклоняли его предложения; с этим третьим предложением обращается он уже в третий раз. Книжка, по мнению Кожебаткина, стоила бы не более 200 рублей. Городецкий уже много раз писал о нас очень сочувственные рецензии; вообще нам помогает рецензиями о всех наших книгах.
Жду указания от Вас (скорейшего), как быть с ответом Городецкому[2791].
Желаю Вам ясности, бодрости и морского ветра на море.
Любящий Вас неизменно
Борис Бугаев.
P. S. Я пишу Вам на днях[2792].
P. P. S. Ввиду выбытия книги С. М. Соловьева до неопределенного срока[2793] книжечка Городецкого в этом году заняла бы его место.
Сережа по одним слухам неизменен; по другим ему лучше[2794].
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 51. Написано на почтовой бумаге издательства «Мусагет». Приложена пояснительная записка (Н. П. Киселева?): «Датируется по времени подготовки „первого №“ <журнала „Труды и Дни“> и по вопросу о печатании Мусагетом стихов Городецкого».
236. Белый – Метнеру
Огромное Вам спасибо за предложение о романе[2795]. Думаю; и непременно воспользуюсь, милый друг, Вашим благородным предложением. Сейчас у меня в разгаре инцидент с «Русской Мыслью»[2796]. Я с Асей в Петербурге[2797], и на днях у меня важный разговор со Струве, долженствующий решить судьбу романа[2798]. Поступок «Русской Мысли» со мной рассматривается как почти подлость и в Москве, и в Петербурге. Даже Гумилев предложил мне выйти из состава сотрудников «Русской Мысли», если они поступят со мной варварски. Между прочим, мой роман вызывает одобрение со стороны петербургских писателей. Утверждают, что он будто бы удачнее первой части[2799] (мнение Вячеслава, Аничкова, Гумилева, Кузмина и мн<огих> других). Гр<игорий> Ал<ексеевич> Рачинский с Булгаковым хотят предать гласности инцидент со мною, если «Р<усская> М<ысль>» отвергнет мой роман (кстати сказать: мне пришлось, пишучи этот роман, 2 месяца жить в долг). Предлагаемая Вами комбинация с романом (спасибо, милый) ужасно хорошо устраивает меня. Но: лучше уже дождаться решения «Русской Мысли»; к 10-ому февралю все выяснится.
Живем с Асей на башне: Вячеслав великолепен, лучезарен и более крепок и наш, чем даже в первый приезд[2800]. Он тихо и медленно эволюционирует к нам, нам и нам.
Одобряет наше с Вами отношение к Логосу[2801]. Крайне стоит за формулу журнала: говорит, что о мистике надо говорить покровенней; скорей укоризненно относится к московскому штейнерьянству; о Штейнере предпочитает молчать. Словом: он – более с нами, чем с Алешей[2802] и Сизовым в вопросе de rebus mysticis[2803]. О журнале: Вячеслав хочет ежемесячно писать нам нечто вроде обзоров общего характера с отметкою замечательных, по его мнению, книг[2804]. Он хочет много нам писать: для нас он начал статью «Степные колосья», отрывки из которой читал: эти отрывки – лучшее из всего, что я знаю: лучше его предыдущих статей[2805]. Вообще он хочет завести у нас свой дневник. Говорил со многими по поводу журнала; намечаются желающие сотрудничать. Профессор Аничков постарается написать нам для нас (скоро)[2806]; на днях веду разговор с Сюннербергом[2807]; Кузмин пишет о «Сor ardens»[2808]. Блок пишет статью[2809]. Кстати о Блоке: Блока еще не видел, с ним творится нечто странное; он болен – но вообще его нельзя видеть[2810]. Все изумляются, сам же Блок мне пишет, что он понял Стриндберга и под его знаком (разумею Inferno)[2811]. Значит: его преследуют; это страшно, опасно для Блока, боюсь за него (похожее на Сережу[2812]). Пока на Блока не можем рассчитывать, но все-таки статью даст[2813]. «Сер<ебряный> Голубь» появился уж с месяц в Москве в немецком переводе (пока не видал)[2814]; русское издание исчерпано[2815]; как приеду в Москву, переговорю со Скорпионом.
Петербург одновременно и утомляет, и дает нравственное удовлетворение. Очень меня все радушно принимают, и очень одобряют меня, как писателя: а то в Москве Брюсов очень уж мне перегрыз горло[2816], так что я совсем пал духом, как писатель; развилось такое чувство: никому-то ты не нужен; литературная Москва чужда; Брюсов преследует; часть друзей (Петровский, Сизов, Киселев) плюет на литературу, снисходительно покачивает головой на то, что ты пишешь какой-то там роман. И как-то падаешь духом. Здесь немного воспрянул: действительно в Петербурге меня, как писателя, любят; даже Сологуб оказывает всяческое внимание.
Мы с Асей закутили на башне: немного – это хорошо; долго – утомительно; но после 3-месячной упорной работы приятно почить на лаврах.
С Городецким виделся; переговорил; откровенно выяснил наш взгляд на печатание сборников. Городецкий отказался от своего предложения по-товарищески, просто[2817]; ему хотелось быть в Мусагете; но печататься ему есть где. Стало быть, мы даже его не обижаем. Итак, с Городецким все дело обстоит благополучно; мы можем его не печатать. Вячеслав глубоко извиняется за свои книги: не желает нас обманывать впредь; говорит, что к осени действительно приготовит обе книги, но до осени перегружен делами очень[2818]. Предлагает нам, если бы мы хотели иметь его книгу, собрать все им написанные статьи (уже у него есть на книгу) и издать, когда хотим; если хотим сейчас, так сейчас; если через два года, так через два года[2819]. Предлагает свои статьи сейчас лишь в возмещение за опоздание книг.
Как быть с этим.
Мне ужасно радостно, что мы как-то с Вячеславом договорились; на московское (вы знаете, на что) он смотрит нашими глазами (это об А. Р.[2820]). Ужасно много за 2 года произошло, но ничего не случилось: мы были до, мы есмы, мы будем; у него твердость, бодрость и широкий взгляд на будущее; и если не будет учителей, видимых, будут учителя невидимые. Ибо – с нами Бог.
Мне очень дорого, что Вячеслав понял Асю, а Ася – Вячеслава; и между нами троими сейчас хорошая дружба.
Милый, милый – вспоминаю Ваш приезд в Петербург два года назад[2821], не хватает Вас, не хватает совместного обсуждения многого; все-таки говорю – Вячеслав наш, наш и наш.
И башня – единственное явление в русской культуре.
Между прочим, Вячеслав вспоминает Вас часто: говорит, что интимно Вы ему близки и что у него и у Вас есть свой цикл невидимых отношений; он чувствует и точки расхождений с Вами, и точки связей; утверждает, что близости все же больше, чем резких расхождений.
Думается, он знает Ваш лик (милый, этот лик – лик слепительный); будьте же рыцарем и теме Вольфингов не отдавайтесь чрезмерно, ибо, как-никак, Зигфрид должен (слышите, должен) с себя стряхнуть Зигмунда[2822].
Милый мой Вольфинг, милый Wanderer[2823], как я сейчас ощущаю Вас: и мне хочется Вам сказать мой ясный восторг, мою любовь, мое утверждение Вас, мое ратоборство даже за Вас: если будет Вам тягостно, не уходите в свой угол, не омрачайтесь и в безнадежности не опускайте рук: милый друг, мы Вас не отдадим: мы явимся; мы будем рядом с Вами биться за Ваше, ибо Ваше, личное – не Ваше только.
О, как сейчас поется мне, и хочется подвига, хочется благородных арийских войск. Наше дело – великое дело: и судьбе не удастся нас съесть.
Нас мало; но мы – есмы.
Целую Вас крепко. Жму руку. Люблю Вас. И через завесу пространств вижу Ваш образ, старинный мой друг. Господь с Вами.
Борис Бугаев.
Башня. Час неопределенный. Ни день ни ночь.
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 52. Над текстом помета Н. П. Киселева: «Штемпеля: С. – Петербург. 30 I 1912; Москва. 31 I 1912» (даты почтовых штемпелей отправления и получения с несохранившегося конверта). Фрагменты опубликованы: ЛН. Т. 92. Кн. 3. С. 390–391.
237. Белый – Метнеру
сама судьба держит меня в Петербурге. В. И. Иванов выдвинул такие вопросы, что у меня голова идет кругом. И совершенно ясно: Ваше присутствие в Петербурге необходимо. Без Вас ничего нельзя предпринять ни с «Тр<удами> и Днями», ни с комбинацией, намечающейся здесь: Вячеслав свидетельствует, что Ваше присутствие необходимо, хотя бы на два дня.
С 16-го числа Вам предоставляется башня. Вам только ночь езды.
Я не могу писать, почему Вы необходимы. Вячеслав сам бы приехал к Вам, но просит передать, что он связан лекциями, которых пропустить не может[2824].
Итак, ждем. Башня в Вашем распоряжении. С отъезда Аси[2825] комната свободна.
Милый, я должен был бы написать неубедительную диссертацию о Вашем приезде, и потому свидетельствую только: Вы – нужны. Я же задерживаем лекцией 23-го[2826].
До беседы en trois c «Тр<удами> и Днями» мы в сложнейшем и щекотливейшем положении.
Надеюсь, письмо будет Вам передано.
Засим телеграфируйте: приедете ли, и когда?
Остаюсь любящий Вас
Борис Бугаев.
Милый, ради Бога приезжайте. Вячеслав приветствует.
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 53. Над текстом помета рукой Метнера: «3/II 12» (видимо, дата отправления на почтовом штемпеле с несохранившегося конверта).
238. Белый – Метнеру
11 февраля.
Приезжайте в Петербург. До 25-го я задерживаюсь. Есть тому причины, о которых мучительно долго писать. По письму Вячеслава, милый, Вы видите, что причины приехать Вам есть[2827]. Приезжайте же, ради Бога, дня на два. 16-го уезжает Ася. Если она приедет до Вас, то Вы отчасти у нее могли бы узнать причины.
Милый друг, настоятельно прошу: приезжайте. Во всяком случае телеграфируйте, ждать Вас или не ждать.
Остаюсь глубоко любящий
Б. Бугаев.РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 54. Справа от авторской датировки указан год (рукой Метнера): «1912».
239. Белый – Метнеру
Вы удивляетесь задержке номера[2828]. Она обусловлена рядом естественно возникавших причин. Скажу прямо: когда В. И. Иванов прочел номер первый, то он очень похвалил его, но поставил вопрос ребром: «Вы – о культуре: культура… но, культура для нас есть символизм, т. е. то искомое мировоззрение и мироощущение, в чем все три мы (Вы, я, он) согласны – (символизм для него и меня). Ну так почему о символизме, в более прямом определении – ни слова?»[2829]
Символизм в России затерт ренегатством Москвы (Брюсов) и ренегатством Петербурга (явные разительные примеры тому я видел). И вот в трудные времена, когда к «Мусагету» стоят ближе всего Иванов (автор «К звездам»[2830]) и Белый (написавший до 1200 печатных страниц только о символизме) – о символизме ни слова в программном номере. Ввиду того, что Вячеслав нам много пишет, обещает не пропускать ни одного номера и в то же время бросает вопрос – «и вы тоже? И автор „Символизма“ глотает то, что ему дороже всего?»
Ряд разговоров привел к тому, что я сериозно почувствовал – предстоит выбор: между Ивановым и Гессеном, Яковенко. И альтернатива: если программный № будет такой, Иванов и Блок писать не станут, и мы – обречены все время пробавляться логосовцами; если передвинуть центр первого №, Иванов душой и пером – наш навсегда, а Гессен и Яковенко все-таки будут, но не в столь густом виде. И я – задержал[2831].
Теперь: поймите – в связи со всем этим открыва<ется> ряд комбинаций, Иванов пытается собственно для моего «вышвырнутого романа», который, по его мнению, лучше всего, что появлялось за последний период, создать журнал[2832]: конфигурация такова, что для решения судеб «Тр<удов> и Дней», моего романа, демонстрации символистов и ряда вещей нужен предварительный разговор с Вами. И судьба первого №, участие Иванова и многое, о чем я не могу писать, ибо надо писать том, а не письмо, зависит от Вашего приезда. Вы отсрочиваете до 23<-го> – и все затягивается до 23<-го>. Поймите же, что я не могу выкинуть Иванова из журнала, ибо тогда, без поддержки его и Блока, самое нужное будет звучать под сурдинкой.
Милый, по тону Вашей телеграммы вижу, что сердитесь. И не мог поступить иначе. Может быть, поступил не совсем обдуманно, как член редакции К<нигоиздательст>ва «Мусагет», а как то велела мне совесть русского символиста, видящего, что делается кругом в 1912 году. И опять Вы можете мне сказать, как сказали когда-то: «Не соединяйте свое писательское служение всецело с Трудами и Днями».
Но –
Мог ли формалистично выпустить от нас Иванова и Блока, ради того, чтобы поспеть к такому-то числу[2833]. Объяснение мусагетцам не давал, ибо спешил в Москву со дня на день. А потом нахлынул ряд неожиданностей. Я написал длиннейшую мотивировку задержки №, но Вячеслав сказал: «Все равно это – не объяснение: объяснение должно быть между Э. К., Тобою и мною».
И потому, я чувствую, что поступал правильно.
Но, дорогой, Вы должны приехать – не позднее 23-го[2834]. Или печатайте номер, но знайте, как гибельно отразится все это на судьбах журнала.
В последнем случае надо напечатать объявление об «Аполлоне»[2835], ибо в ближайшем № «Аполлона» идет анонс о «Трудах и Днях».
Милый, спешите.
Борис Бугаев.РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 55. Фрагменты опубликованы: ЛН. Т. 92. Кн. 3. С. 394–395.
240. Белый – Метнеру
Привет! Если б Вы знали, как я Вам благодарен за нравственную поддержку все это последнее время. Сила надежды так сильна: верю во что-то хорошее, крепкое: вчера, на вокзале, Вы мне показались смущенным[2836]. Неужели Вы думаете, что у меня есть какая-то двойственность в отношении к «мусагетской политике»? Мне было больно это расслышать в темпе Ваших слов. Христос с Вами, милый друг! От Аси самый хороший привет: летом увидимся. Пишу из поезда. Остаюсь глубоколюбящий Вас
Б. Бугаев.РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 56. Открытка; почтовые штемпели – отправления: Луков. 17. III. 1912; получения: Москва. 18. III. 1912.
241. Белый – Метнеру
Воистину Воскресе![2837]
Благодарю: не ожидал. Когда соберусь с духом, то напишу Вам письмо обстоятельно и пунктуально. Пока же благодарю Вас за прилив крови к голове и мигрень, ставшие обычными последний год по получению от Вас писем.
Поэтому отвечаю лаконично:
1) У Кожебаткина я был 2 раза, а не три[2838]: оба раза за получением новостей из Петербурга, ибо уезжал из Москвы. Оба раза не застал и посидел 5 минут с его женой. Стыдитесь.
2) Роман продал Некрасову[2839], ибо: разрывая с «Шиповником» и Лядским[2840], я шел на дружеское условие: сохранить роман для общего журнала[2841]. Вы в Москве сказали, что средств для журнала не найдется; общий журнал рушился. При мне Вячеслав Вас спросил: может ли «Мусагет» пока до журнала меня обеспечить. Вы сказали да. Я сношения со всеми издательствами разорвал. И когда вернулся в Москву, оказалось: Мусагет не может обеспечить. Мне оставалось или тотчас опять ехать в Петербург продавать роман, или обеспечить себя, ибо деньги мне нужны. Я считаю себя свободным от обязательств и невольно, без вины Мусагета подведенным с романом[2842].
3) Вы критикуете мои действия в журнале[2843] и отдельные места статей: я всю зиму собирал статьи. Стало быть: я не гожусь в редакторы и жалею, что столько сил убил на собирание материала.
4) Я вообще больше не желаю жить в Москве в атмосфере нареканий и сплетен: Господь со всеми Вами. Оставьте в покое меня!
5) К Мусагету не охладевал. К Вам – тоже. Но каждое Ваше письмо – ушат холодной воды и перенесенная мигрень. Если так будет продолжаться, я взмолюсь: оставьте меня, дайте мне со спокойным духом дописывать свой роман; мало того, что бежишь из душной и зловещей атмосферы сплетен: тебе еще вдогонку летят нарекания и подозрения.
6) Я вообще, Эмилий Карлович, прошу Вас не писать таких писем: лучше объясняться с глазу на глаз. А то у меня от таких писем делается многодневное нервное расстройство. Или освободите меня от Мусагета, или вообще я прошу доверия. Иначе не умею поступать.
7) Относительно имения[2844]. Я и сам знаю, что заложить легко, но: на этой операции на бумагах на 5000 теряешь тысячи полторы + сумма адвокату. Если я заложу, мне ни рубля не останется + обязательство платить в год 500 рублей: чудовищно невыгодные условия.
8) Относительно д’Альгейма не отвечаю, ибо это к рубрике моего таинственного влечения к Кожебаткину.
Остаюсь искренне любящий Б. Бугаев.
P. S. Настаиваю на том, чтобы Брюсова не печатать[2845].
P. S. Считаю, что во всех взведенных на меня обвинениях я прав. Оправдываться не буду, но… работать при таких условиях, когда Тебя ТОЛЬКО[2846] критикуют, и не помянут добром Твои растрачиваемые часы, я НЕ МОГУ[2847].
О гонораре в «Тр<удах> и Днях» я говорил, что он минимальный; Скалдин не имеет ни гроша, и В. Иванов просил меня для Скалдина сделать исключение[2848].
То, что пишете о романе, сугубо обидно. Денег от Некрасова я получил пока всего 300 рублей, а уже инсинуации. Ваши слова о консервативном издательстве – инсинуация. Вообще тон Вашего письма мелочный и неприятный. Я ссоры с Вами не хочу, но считаю себя глубоко обиженным. О Мусагете <и> недовольствах с Кожебаткиным не говорил.
Не выводите меня из терпения оскорблениями!
Лучше не пишите!
На сплетни, химеры и обидные подозрения, высказанные не с глазу на глаз, а в письме, я не отвечаю!
ГЛМ. Ф. 7. Оп. 1. Ед. хр. 32.Первый (неотправленный) вариант ответа на неизвестное нам письмо Метнера, отосланное из Москвы около 25 марта (7 апреля) 1912 г. Содержание этого письма Белый вкратце излагает в первом абзаце п. 245. 7 (20) апреля 1912 г. он писал из Брюсселя Н. П. Киселеву: «…что с Эмилием Карловичем? Он мне прислал нервное, почти крикливое письмо на 20 больших листов, полное укоризн и химер. Все письмо наполнено упреками за первый номер журнала, какими-то фантастическими ужасами перед моей якобы дружбой с Кожебаткиным, каким-то сыском моего поведения и сообщениями града бабьих сплетен, из которых каждая вырастает почти в химеру. Я оскорблен, обижен, ничего не понимаю, за сплетни не ответственен, с Кожебаткиным не дружу, с Мусагетом не разрывал и т. д. и т. д.» (Арабески Андрея Белого: Жизненный путь. Духовные искания. Поэтика. Белград; М., 2017. С. 53. Публ. А. Л. Соболева). По поводу того же «чудовищного письма» Белый высказался в письме к А. С. Петровскому от 9 (22) июня 1912 г.: Метнер «на протяжении 10 страниц не только сам обвиняет меня в недобросовестности с романом, но подчеркивает, что это и мнение всех друзей, всей вообще Москвы ‹…› и далее: с гордостью сообщает мне, что он рыскал по моим следам и собирал обо мне сведения (т. е. сплетни и слухи), т. е. гордится поступком (сыском), который есть либо поступок, недостойный товарища, либо поступок невменяемый» (Белый – Петровский. С. 207). Сам Метнер излагал суть своих претензий к Белому в письме к Вяч. Иванову от 3 апреля 1912 г.: «Бугаев продал роман и помирился с Кожебаткиным. Т. е. совершил двойное предательство. ‹…› Примирение с Кожебаткиным (упорное искательство этого примирения во имя того, что оба они, видите ли, имеют основание быть недовольными Мусагетом) положительно ничем не объяснимо или же морально очень скверно для Бугаева. Сам же он заварил кашу, требовал от меня удаления Кожебаткина от должности секретаря, а когда я, внимая его просьбе и желая восстановить мир в редакции, нарушаемый истерическими реакциями Бугаева на хамоватый деспотизм Кожебаткина, решил соединить это секретарское coup d’état с намеченной мной ревизией мусагетских дел ‹…› и направить все дело в парламентское русло во избежание личных, слишком личных осложнений и оттенков, – Бугаев не вовремя, не дождавшись конца им самим затеянного дела, сбежал за границу (это еще извинительно, т<ак> к<ак> ему в Москве негде было жить и работать) и перед отъездом подложил грандиозную свинью мне, помирившись с Кожебаткиным и даже заключив с ним теснейшую дружбу на почве „общего недовольства Мусагетом“» (Соболев А. Л. К истории журнала «Труды и Дни»: реестр подписчиков // Russian Literature. 2015. LXXVII–IV. C. 686–687).
242. Белый – Метнеру
Воистину Воскресе![2849]
Воистину – для чего же мы в лжи. Воскресе – а мы, невоскресшие? Пишу так странно, ибо принимаю Ваше Христос Воскресе полно, от души… А как не вяжется все остальное Вашего письма с первыми его хорошими словами. И вот не хочу с Вами, милый, полемизировать по многим причинам:
1) полемика в письмах незаслуженно оскорбляет, ибо всякое письмо, будучи случайно в форме выражения, запечатлевается в сознании на недели между тем, как личный, пусть неприятный разговор так или иначе приходит к концу. 2) Не хочу омрачать мое Воистину Воскресе передрягами. 3) Только что я перенес грипп ужасающей формы: всю святую неделю мы с Асей были больны[2850]; жар в 40° стоял 4 дня; теперь от болезни ослабел и из экономии сил, нужных мне для романа[2851], не хочу себя обессиливать, отвечая на все незаслуженные резкости Вашего письма, ибо вижу в нем расстроенные нервы, химеры: только этим объясняю себе то особое удовольствие, с которым Вы обрушиваете на мою голову ушат неправдоподобных сплетен. Неужели в этом ушате сплетен Ваше «Христос Воскресе»?[2852]
Мое Воистину Воскресе да не будет таким.
А теперь отвечаю кратко.
Я не представлял, что необходимые исправления «Путевых Заметок» так обременят «Мусагет»[2853]. Количество корректурных значков не было оговорено. Впрочем, полагаю, что дальнейшие отделы не нуждаются в столь большой правке. Сызнова переделывать «Путевые Заметки» у меня нет ни времени, ни охоты. Может быть, «Мусагет» обременен моей книгой? Скажите. Единственный за год моей жизни в России – единственный слушатель моих путевых заметок (остальные не соблаговолили даже взглянуть в книгу) высокого о них мнения: этот слушатель В. И. Иванов.
Так как Вы упрекаете меня в том, что я сбыл «Мусагету» мое старье, т. е. «Арабески» и «Символизм», то я очень огорчен: но прежде чем критиковать старье, надо его прочесть в целом. А этого никто из мусагетцев не проделал.
Благодарю очень моего единственного читателя в Москве Н. К. Метнера за его комплимент моей глубоко бестактной и ненужной статье о символизме[2854], в которой я касаюсь глубоко похороненного и сданного в архив вопроса (по мнению логосовцев) – вопроса о том, есть ли школа русского символизма. Я-то думал, что вопрос этот по-новому ставится в первом номере нашего общего журнала; оказывается, я ошибся: мой товарищ по журналу опять-таки не без удовольствия цитирует мнение врагов символизма, логосовцев, о том, что вопрос, затронутый нами с Ивановым, ненужный вопрос. А раз вопрос этот не нужен, то не нужен вообще и я и Иванов в журнале.
Относительно гонорара за «Труды и дни» я, помнится, говорил В. И. Иванову, что гонорар минимальный; помнится, что говорил и Вам о том, что это я говорил: так что вторичный вопрос Ваш о том, говорил <л>и я о гонораре, я воспринимаю, как недоверие к моим словам. Спасибо.
Что же касается до А. Ф. <так!> Скалдина, то В. И. Иванов ходатайствовал о том, чтобы Скалдину платили иногда авансом, ибо Скалдин – человек, не имеющий ни гроша денег; и ему не грех заплатить авансом[2855].
Относительно В. Я. Брюсова Вы мое мнение уже знаете: я полагаю, что напечатать его афоризмы хорошо, но без двух последних: если напечатаем, что Айхенвальд дурак, то это 1) неправда (Айхенвальд бездарный, но почтенный, честный, неглупый и весьма достойный человек), 2) журнал, открывающий свою деятельность с руготни, быстро погибнет. Что касается до Чулкова, то поговорите об этом с Ахрамовичем, и Вы увидите, что, если мы напечатаем передержку Брюсова, то хлопотам и неприятностям конца краю не будет. Итак, моя окончательная резолюция: не печатать выходок Брюсова[2856]. Если же Брюсов считает, что мудрствование о пан-математике идеологически связано с бранью по адресу Айхенвальда, то я не виноват. Как всюду в письме, Вы и тут будто вините меня за то, что я подвожу Мусагет под ссору с далеким нам всем Брюсовым. Что делать: ведь не виню же я «Мусагет», что отказ Гиппиус[2857] и многие мелочи поссорили меня с очень, очень и очень близкими мне Мережковскими, для которых холодность «Мусагета» есть измена моя им. Вообще, если мы будем друг друга упрекать, то всегда найдется чем ответить на упреки. Я нахожу, что метод упреков в письмах, а не в разговоре, есть верное средство превратить какую угодно дружбу в холодные и натянутые отношения, ибо в разговоре все объясняется, а в письме отстаивается и крепнет месяцами.
Относительно статьи Вл. Пяста[2858] скажу вот что: без Вас, так же как без Блока и Иванова, я отказываюсь вести журнал в том виде, в каком он существует. Слабость статьи Пяста для меня не тайна. Я должен был, принимая ее, считаться с непременным желанием Иванова и Блока видеть ее в печати[2859]. И потому упреки Ваши тут не причем. Считаю эту статью слабой лишь в стилистическом отношении. В осведомительном отношении она очень и очень полезна, возвращая к недавнему спору о символизме, положившему основу теперешней группировки русских символистов: Иванов, Блок, я. Опять-таки удивляюсь, почему Ваше veto не проявилось, пока статья была в наборе, если лично она Вам так неприятна. Ведь проявляется же мое veto о Брюсове. Что ж нам, соредакторам, церемониться с veto. Относительно правки: я статью правил до некоторой границы, дальше которой без разрешения автора не мог идти. А ждать разрешения было поздно.
С Н. В. Недоброво, вовсе не мечтающем выступать в печати, надо быть осторожным. Мне больших трудов стоило его уговорить выступить впервые, как писателю. Достоинства его статьи так превосходят недостатки, что статья должна быть, по-моему, напечатана[2860]. Опять-таки Ваше veto остается в силе. Относительно исправления конца статьи: вместо того чтобы писать мне в Бельгию, отчего не написали Вы ему в Петербург. Пока мы переписываемся, время тянется; и, без сомнения, Вы сговорились бы с ним быстрей.
Вы просите меня быть построже: но, дорогой, авторы народ обидчивый: и, приглашая в журнал избранных, аристократов духа, как Недоброво, нужно помнить, что нельзя их заставить маршировать по команде. Я по крайней мере умею создать атмосферу согласия, стараюсь натолкнуть на мысль. Командовать и отдавать приказание считаю невозможным, как считаю невозможным для себя выслушивать советы, имеющие характер циркуляров Правительства.
Если мои слова Вас шокируют и Вы остаетесь при своем мнении, то… не поздно прикончить со всей затеей. Я по крайней мере, опираясь на Блока и Иванова столь же, сколь и на Вас, нахожусь в самом тягостном положении: я выслушиваю диаметрально противоположные упреки с Вашей стороны и со стороны Петербурга. Вы, который так цените количество минут, уделяемых людям, как же Вы не видите, что месячная тягостная жизнь в Петербурге моя[2861] едва-едва дала возможность осуществить блок: Иванов, Вы, я, Блок. И Вы, не ценя брошенных на ветер месяцев мною для создания работы, только и находите возможным критиковать да критиковать. Вы прожили 3 дня в Петербурге[2862] и пришли в ужас, устали. Я Вас ждал две недели в этом «ужасе». Это Вы забываете: Вы забываете и то, что месяцы у меня проходят на создание хоть какого-либо status quo, а я пишу роман (Вы романа не пишете), что хотя бы это письмо отнимает у меня два рабочих дня. Вы, который чувствует утомление после написанной статьи, как же Вы не понимаете, какое утомление чувствую я одновременно: выкарабкиваясь из матерьяльных сложностей, получая неприятности, истощенный огромным количеством написанных и ответственных страниц, ведущий большую переписку: если бы Вы не побоялись пошире раскрыть глаза, то Вы никогда не стали бы с такой сухой черствостью в многостраничном письме, точно с порочною целью вывести меня из себя, исчислять все дефекты моей деятельности. Ваш Христос Воскресе – лучше бы не было Его! Этот Христос Воскресе наполнил дни мои такой горечью, что я уже с ужасом жду писем из Москвы, и что неспроста я все серьезнее помышляю уйти от всех – друзей, как и врагов: ибо у меня создается впечатление, что и те, и другие по-разному только измучивают и лишают сил продолжать работу. Да, дорогой друг: я чувствую себя среди друзей, как перст, одиноким, непонятым, оскорбленным. И не будь у меня моего ангела Хранителя, Аси, я ушел бы из мира.
Теперь о «химерах»…
Если уж Вам желательно исследовать мои действия в Москве, – верьте, от этого желания Вашего и прочей опеки надо мной со стороны друзей я и убегаю подальше-дальше – если уж Вы хотите проследить мои поступки, надо быть точным и не присочинять к фактам субъективных догадок, сплетен и тому подобного. Вы пишете, что Кожебаткин мой друг, что я настойчиво ходил к нему перед отъездом, был три раза и жаловался на Мусагет. Слушайте: я кричу Вам – не смейте говорить вздора! У Кожебаткина я был 2 раза, когда должен был через 2 дня уехать[2863], и надо было наскоро узнать, какие статьи он привез из Петербурга. Путаясь в канцелярии губернатора[2864] и едучи на свиданье с Некрасовым, я случайно оказывался недалеко от него: и так как я знал, что он возвращается из Петербурга такого-то числа, я и зашел к нему, но его не застал, ибо он не приехал. Тогда я поднялся наверх к Ахрамовичу и переговорил о делах. На другой день, будучи на Тверской, я опять зашел, ибо уезжал через день и думал, что его уже не увижу, а знать реальное содержание 2<-го> номера мне надо было, как надо было говорить о «Путевых Заметках». Прочие часы были расписаны. И на этот раз я его не застал. Ваши слова есть полнейшая белиберда. Встретился я с Кожебаткиным случайно в Мусагете на другой день, говорил пять минут, и так как перед отъездом мне хотелось быть в мире со всеми, а я был всю зиму очень сух и подчас груб с Кожебаткиным, то я и сказал, что хочу проститься с ним в мире. Все это касалось не Мусагета, а моей частной обиды на его путаницу с письмами. Правда, только моя любовь к Вам заставляет меня давать Вам этот пространный ответ, ибо всякому другому я сказал бы: руки прочь – это Вас не касается. Чтоб успокоить Вас, я Вам заявляю официально: если нужен мой голос, то мой голос в вопросе о Кожебаткине присоединяю к Вашему. И прошу Вас сердечно больше мне о Кожебаткине ни слова, ибо из Ваших слов прочитываю, будто он мой – интимный друг. Если бы даже я его любил (а я его не люблю), то моя любовь к нему и «Мусагету» столь же похожи друг на друга, как любовь к сыру или колбасе походит на любовь к 9<-й> симфонии Бетховена. Право, это так скучно объяснять и так; само собой разумеется.
Даю объяснение и о романе. Роман пытался пристроить с согласия Мусагета в Петербурге и разорвал переговоры 1) благодаря «Петербургскому Вестнику» (существованье коего зависело от нескольких тысяч в Москве)[2865], 2) благодаря Вашему ответу на вопрос, предложенный В. И. Ивановым (обеспечите ли Вы меня до журнала). Вы ответили: «Да».
Я прервал все сношения и вернулся в Москву. А когда вернулся в Москву, то 1) Вы сказали, что денег из Москвы на журнал не будет («Журнал» рушился и падало мое обещание сохранить роман), 2) о том же, что «Мусагет» издает первую + вторую часть «Голубя», как Вы писали из-за границы, Вы ни слова[2866].
Я остался не обеспечен, в известном смысле второй раз подведен (ибо отклонил три предложения) – подведен без чьей-либо вины. Вместо этого мне предлагают из Пути 150 рублей в месяц, а я всю зиму строил жизнь на 1000 «Русс<кой> М<ысли>», полученной единовременно, что : на 150 рублей (обнаружилось в Брюсселе, что Ася должна Дансу более 200 рублей + платья ей, верхняя одежда мне, костюм, табак, месячная плата Дансу), т. е. на 150 рублей путейских (раскладывая переезды, одежду, 200 р. долгу, месячная плата Дансу[2867], дорогие гравировальные доски и пр.), т. е. 50 рублей на человека в месяц, оставалось: голодать. Когда и рука помощи (без вины помогавших) обернулась только в иронию, я так испугался необходимости представлять контролю друзей количество папирос и количество франков обеда и пр., что решил сперва отказаться от путейской поддержки. Видя же, что Мусагет неодобрительно смотрит на мое желание бежать от душной сплетенной Москвы, куда, может быть, еще не вернусь никогда, то ухватился за любезное предложение С. А. Соколова написать Некрасову. Это была самооборона. Пока получил от Некрасова 300 рублей[2868]. Пока что он не отвечает на письма, и я уверен, что обманет и он. Пока все еще висит в воздухе, Вы уже опять-таки зло упрекаете меня. И опять-таки измышляете обидности, на которые мне остается лишь с улыбкой пожать плечами: политические де причины играли роль в отдаче моего романа; я де действовал в пику кадету П. Б. Струве. Но все, что я знаю о Некрасове, только то, что он – видный кадет в Ярославле. Видите: и тут Вы осведомлены неверно. Назло Вашим колкостям о моем поправении оказывается, что я печатаюсь в издательстве кадетском, т. е. той же платформы, как и «Русская Мысль».
Пункт последний: имение – и тут Вы язвите, не спросив меня основательно о причинах задержки продажи его. Всю зиму я делал все зависящее от меня через: Адамова, Поццо, Балмашева и Соколова, т. е. через Тарасова[2869]. Адамов и Поццо 6 месяцев вытребовали разбросанные документы и собрали. Я множество раз торопил, но надо было иметь дело с кавказскими учреждениями. Тарасов наобещал, и потом оказалось, что поверенные его не оправдали надежд. Оставалось ехать самому. В Петербурге я чуть не продал имение и собрал верные сведения. Просьба поехать В. К. Кампиони сейчас рациональней всего. А заложить нерационально, хоть просто[2870]. Если заложить на 5000 тысяч <так!>, то на пяти тысячах, выдаваемых бумагами Азовско-Донского банка, теряются 1000 рублей при размене на деньги + известная сумма поверенному (скажем, рублей 400); освобождаются 3600; 3000 отдаю Мусагету; 600 рублей, а у меня сейчас долгу больше + 300 рублей ежегодного взносу в банк; если в 7000, то 500. Так поступая, я могу лишиться имения, ибо не уверен, что 300 или 500 рублей взнесу в банк. Такой убийственной для меня глупости я не сделаю, ибо это – петля на шею. Сделаю, если потребует «Мусагет».
Относительно слухов и сплетен о нашем с Вами разрыве: я бессилен; Вы говорите «нет дыму без огня». Конечно, это легко сказать: а вот когда эс-еры говорили, что я под Москвой на вилле устраиваю маскарады в костюме Адама, стало быть, тоже была тут правда? А мы жили и голодали с Эллисом в Москве. Нет, милый: предъявляя серьезные обвинения и подкрепляя их сплетнями, Вы точно ищете нарочно серьезного разрыва со мной. По крайней мере Ваш Христос Воскресе есть нападение на меня, совершенно меня ошеломившее, ибо ни иоты правды нет во всех Ваших упреках. Относительно слухов и сплетен о нашем с Вами разрыве: я столь же невинен в том, сколь Вы невинны в убийстве ксендцом Мацохом своего брата[2871]. Эллис Вас, между прочим, обвиняет в этом убийстве: остается, следуя Вашему методу, думать, что деятельность Ваша вредно отражается в Царстве Польском. Ну, а если это так, то, вероятно, мозги неизвестных мне сплетников знают больше, нежели, например, знаю я. И вот последний этот упрек, упрек мне в том, что создаются какие-то сплетни о нас, мне либо смешон, либо оскорбителен. Но в обоих случаях прошу Вас мне об этом не писать. Да и далее: умоляю Вас не смущать моей тишины на недели и месяцы нервы расстраивающими химерами, ибо я за себя не ручаюсь: видя, что каждый мой поступок в Мусагете создает легенду и чрез легенду является поводом для Ваших нападок, я уйду из Мусагета, не вернусь в Москву, ибо дружба и общее дело хороши не там, где они предлог для взаимного истязательства, а там, где они – животворный залог действительного общения, а не общения сквозь призму третьих и внешних лиц.
О П. И. д’Альгейме, успокойтесь: все Вами рассказанное столь же химерично. В угоду Вашей подозрительности не рвать же мне житейских отношений с людьми, близкими мне через жену[2872]. И тут у меня одна просьба: у нас с Асей так уж сложился быт жизни, что мы читаем письма друг друга: я распечатываю попросту ее, она – мои. И вот случилось, что без меня, без всякой задней мысли Ася прочла Ваше письмо, в котором ее дядя[2873], которого она горячо любит, назван авантюристом. Пощадите ее родственные чувства и впредь не пишите таких слов.
Ну вот кончил. Ася спрашивает меня, отчего я такой красный, а у меня мигрень и сильнейший прилив к голове. Дорогой друг, это всегда бывает последнее время при получении от Вас писем и при ответе на них. Так было все лето: Вы меня летом заставили пережить с десяток мигреней, и с ужасом я думаю, неужели опять это повторится теперь, и мое бегство из Москвы тщетно: что опять Москва за мной погналась сплетнями и неприятностями – «Христос Воскресе» – что ли: да не будет так. Я очень, очень прошу Вас, более: умоляю. Я не Эллис, и тяжелая атмосфера взаимных недоразумений так тяжело ложится на моем здоровье и работоспособности, что я сериозно прошу Вас, дорогой друг, лучше приберечь до встречи Ваши подозрения, жалобы, ибо: на расстоянии, в письмах все это принимает оттенок далеко, быть может, не тот, который Вы вкладываете. Если мы будем и впредь препираться: знайте – я в Москву не вернусь. Я лучше весь год просижу где-нибудь на Волыни в тишине и не в обиде, чем вернусь в место, где тебя ежечасно пригвождают то к кресту, то к позорному столбу[2874].
Воистину Воскресе, дорогой, милый друг: слышите – Воскресе – и воистину!
Любящий Вас Б. Бугаев.
P. S. Адрес. Bruxelles. Place S-te Gudule. 25.
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 57. Датируется по почтовому штемпелю: Brussel. 22 IV 1912. Почтовый штемпель получения: Москва. 13. 4. 12. Фрагменты опубликованы: ЛН. Т. 92. Кн. 3. С. 397.Отправлено адресату вместо п. 241; см. преамбулу к примечаниям, относящимся к этому письму.
243. Белый – Метнеру
Пишу Вам под впечатлением «Тристана»[2875], которого вчера слышал в первый раз (здесь вагнеровские празднества, немецкие артисты – частью из Байрета[2876]).
После 5-часового внимания: мы были совершенно раздавлены, потрясены гениальностью целого, но… хотелось ругаться. Тут нечто все время переходит границы искусства. Относительно Тристана вот что хочется сказать: той эссенции, которая дает жизнь опере, другому бы композитору хватило на 10 опер. Из одного «Тристана» мог бы вырасти сильный композитор. Вагнер до безобразия сгустил здесь гениальность мелодии. И впервые ставит себе вопрос: не безобразен ли гений, если он показывает свой лик, не вуалируясь простою талантливостью. Первый акт «Тристана» уже целая опера в пяти актах. И когда упал занавес после первого акта, я себе говорил: «Что же будет дальше? Тут прошла драма».
Второй акт, особенно первые две трети его (до прихода короля) – океаны чувственности: дышать невозможно от здоровеннейшей и вместе утонченной чувственности; признаюсь – временами становится неприятно.
Третий акт: тут вспомнились слова Ницше, которые я впервые лишь понял; смысл их: «Если бы фабула и аполлинический элемент не занавешивал дионисических метаний 3-го акта, то сердце слушателя должно бы разорваться»[2877]. И да: часовое томление Тристана, потом часовое томление Изольды – черт возьми: что делает Вагнер с пигмеями слушателями?
Теперь целое – целое «Тристана» чудовищно: атомы ж музыкального тела его – сплошь гениальны. Целое – пирамида; частности – утонченный орнамент, покрывающий пирамиду: орнамент, который надо рассматривать в лупу. Что скажете о Хеопсовой пирамиде, миллионы массивов которой покрыты орнаментом, который должно рассматривать в лупу? Если цель – в утонченности орнаментальных мотивов, то за глаза достаточно и одного массива: если цель – в громадности целого, то при созерцании пирамиды орнамент не нужен. Вопрос: титан Вагнер, восставший из глубины земных недр, или рафинированнейший из рафинированнейших конца века? Ницше решил по-второму, но это решение – решение узкое, ибо скорое и легкое. Решение, чтоб поскорей отделаться от загадки. Но и решение первое (Вагнер – древний титан) – успокоительное облегчение: в нем тоже может притаиться подвох. Кто же Вагнер в «Тристане»? Ответьте.
После вчерашнего представления «Тристан» стоит предо мной – как чудовищность гениальности, как чудовищность избытка (будь он беднее, как музыка, он бы не был уродлив). Что такое «Тристан»? Искренне любящий Вас
Б. Бугаев.
P. S. Всем Вашим привет.
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 58. Датируется по почтовому штемпелю отправления на конверте: Brussel. 24. 4. 1912.
244. Белый и А. Тургенева – Метнеру
Происходит что-то уму непостижимое: я послал за эти 15 дней до 40 писем, и ни от кого ответа на них не получал. Между прочим, послал Вам два письма; последнее уже дней 10 тому назад, а первое дней 12 (ответ на Ваше)[2878]. От Ахрамовича уже очень давно ни строчки. Так что я устал писать, и последние дни никому не писал: виною ли тут русская почта, бельгийская – не знаю: но впечатление, что будто находишься в Африке.
Относительно «Путевых Заметок» я не подозревал стоимости корректур: пересылать мне материал не стоит, ибо книга закончена. Относительно первого отдела – «Сицилии»: этот именно отдел был написан с недостаточной обработкой, ибо писался в газеты. Я его обработал. Тунисия ж и Египет проработаны, и корректурная правка там будет ничтожна[2879].
Что касается отчета[2880], то при присылке его я ждал указания о сроке высылки. Относительно отчета, то пришлю замечания о нем. Пока же – кроме других чудовищностей – вот чудовищность: это розданные экземпляры. В рубрике стоит: роздано «Символизм» 247 экземпляров[2881]. Я должен сказать, что максимум розданных автором за все время – 60 экземпляров. Максимум разосланных по редакциям ну 75; итого 60 + 75 = 135; ну, скажем, брали еще (мусагетцы), так что считаю 150. Куда же девались 100 экземпляров? Для ме<ня> это таинственно. Таинственно для меня и с «Арабесками»[2882]. «Арабески» вышли, когда я был в Африке. Я получил 1 истрепанный экземпляр. По возвращению я не рассылал никому «Арабесок». Как автор имел в течение всей зимы экземпляров 6, не более (из полагающихся мне, как автору, 20–30 экз<емпляров>). Об «Арабесках» не было ни единой рецензии[2883]. Сомневаюсь, чтобы книга была разослана вряд ли в большом кол<ичестве> экземпляров. Откуда же чудовищная цифра в 190 розданных бесплатно книг? Этот пункт отчета меня совершенно сбил с толку. Как автор я имею право на «Арабески» еще на 15 (минимум экземпляров), ибо повторяю: авторских экземпляров не имел и всего раз 6 давал книгу с надписью. Откуда же чудовищная сумма? «Трагедию Творчества» имел 10 экземпляров, не более: откуда же 112?[2884] Этот пункт меня бесит. Тут что-то не так. Ася просила Кожебаткина Наташе и Софье Николаевне[2885] высылать мои книги (по 1 экземпляру): это, конечно, не было сделано. Ася не получала ни одной книги с ее обложкой[2886]. Видите – авторы не так уж широко обращаются с книгой. А цифры бесплатно розданных книг чудовищны.
<Рукой А. А. Тургеневой:>
Милый Эмилий Карлович, о закладе пишу я[2887], потому что я наводила все справки и Боря может спутать. Вот что мне сказал двоюродный брат Поццо, знающий в этих делах. – Если заложить за 7 тысяч, то, кроме 3 т<ысяч> Мусагету, надо на поездку и плату поверенному – снятие нового плана – (старые не годятся) и ведение дела около 2 тысяч. Кроме того 500 р. в год процент – иначе имение пролетает. 500 р. наготове иметь Боре не так-то легко. Это значит поставить крест на имении.
Но раз пришла крайность – снеситесь с Поццо, у него все бумаги. Желательно заложить на сумму долга плюс все расходы и немного денег на расплату с первыми процентами. Нам говорили про какого-то Преображенского или Богоявленского[2888] – друга Соколова – Поццо знает, который занимается этими делами, и брат нотариуса – что очень удобно. Впрочем, выбрать поверенного лучше вам с Поццо.
Пишите, что Боре делать с своей стороны и кому давать доверенность.
Всего хорошего.
Ася Тургенева.
Привет вашим.
<Рукой Белого:>
Ася прервала мое письмо и непременно хотела сама Вам писать по этому пункту. Вы вообще совершенно несправедливо подозреваете меня в бездеятельности всю эту зиму. Но пока бумаги не вернулись в Москву, ничего решительного предпринять нельзя было: возвращение же бумаг зависело: 1) от местного, кавказского учреждения, 2) от Кистяковского и Адамова (его помощника). Всю зиму не мог добиться бумаг. Моя вина в том, стало быть, что я лично не поехал на Кавказ в то учреждение, из которого упорно не высылали бумаги, или что я насильственно не принудил Кистяковского действовать поспешнее. Насильственно принуждать человека, говорящего с Вами сверху вниз, значит чуть ли не возбуждать против него дело. Стало быть, ничего иного, как ждать, мне не оставалось. И я не понимаю Ваших упреков в предыдущем Вашем письме, на которое, кстати сказать, я ответил уже дней 12 тотчас по получению, послал заказным (расписка у меня имеется).
Что касается «Тао-Те-Кинг», я эту вещь чуть ли не с отрочества любил, впоследствии читал и перечитывал[2889]. Издать брошюрою, конечно, ее хорошо[2890]. Есть тут у меня один пункт:…да, нет, конечно, издать, по-моему, можно. О Конисси: причем тут Конисси? Конисси мне очень не понравился в летучей встрече с ним в Иерусалиме в прошлом году. Но Конисси и Лао-Дзы, конечно, не имеют ничего общего.
Спешу тотчас же отправить Вам это письмо (за час перед тем получил Ваше); сегодня 17 апреля (по русскому стилю). Интересно, когда Вы получите письмо. Между прочим я писал: 1) Вам 2 раза, 2) Киселеву[2891], 3) Петровскому, 4) 3 раза Ахрамовичу, 4) Бердяеву[2892], 5) Степпуну, 6) Блоку[2893], 7) матери Блока[2894], 8) Рачинскому, 9) Сизову, 10) Маргарите Кирилловне[2895] и мн<огим> другим.
Получил лишь письмо от Сизова, да 2 от Вас. Все прочие – ни звука.
Остаюсь искренне преданный Вам
Борис Бугаев.
Привет Вашим.
Не знаю ничего о 2-ом номере журнала[2896], о присланных статьях, о корректурах «Пут<евых> Заметок», о том, прислал ли Брюсов «Египет»[2897]. Передайте все это Ахрамовичу, и, если Вам нет времени, то пусть он напишет.
Скоро напишу Вам о том, как живу, что делаю. Буду много писать о Некрасове[2898].
В предстоящем собрании мой голос вместе с Вашим: секретарем да будет Ахрамович, если вообще нужен секретарь[2899]. История с Кожебаткиным, его интриги, сплетни, и главное, Ваши постоянные беспокойства о моей де дружбе с ним, – все это сделало то, что при имени Кожебаткина начинаю злиться. Ну его, к черту!
P. S. «Путевые Заметки» могут печататься, ибо все, следующее за Сицилией, не нуждается в правке стиля, а лишь в ретуши.
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 59. Датируется по почтовому штемпелю отправления на конверте: Brussel. 30. 4. 1912.
245. Белый – Н. П. Киселеву, Э. К. Метнеру, А. С. Петровскому, М. И. Сизову
Николай Петрович, Эмилий Карлович, Алексей Сергеевич и Михаил Иванович!
Считаю письмо это, обращенное к Вам коллективно, наиболее удобным и кратким ответом на коллективное обвинение меня в неверности «Мусагету» и данному слову. Недели три тому назад я получил письмо от Э. К. Метнера, полное обвинений разнообразного порядка[2900]; мне ставилось в вину небрежное редактирование «Трудов и Дней», ставилось в вину мое примирение с Кожебаткиным, ставилась в вину продажа романа Некрасову[2901], ставилось в вину халатное отношение к продаже кавк<азского> имения[2902], ставилось в вину мое охлаждение к Мусагету, ставилась в вину моя будто бы измена Мусагету и сближение с Домом Песни[2903], ставились, наконец, на вид распускаемые Брюсовым сплетни о моей будто бы ссоре с Э. К. Метнером. Ставились в вину разнообразные и друг с другом не связанные погрешности. Письмо меня удивило тем более, что накануне отъезда и в день отъезда мы встретились с Э. К. Метнером как друзья[2904], и я уехал за границу с самым пламенным стремлением работать в «Трудах и Днях», уехал с самым пламенным чувством к Мусагету, ко всем Вам, друзья мои, в частности к Э. К. Метнеру.
Признаюсь, письмо Э. К. Метнера меня ошеломило: впечатление от него было таково – вот человек во что бы то ни стало добивается моего охлаждения к нему, к Мусагету, «Трудам и Дням»: вообще к общему делу, и для этого он передает мне сплетни, которым верит: сплетни эти: мое охлаждение к Мусагету, небрежность к Трудам и Дням, ссора с ним. Т. е. лучшие мои чувства к общему делу были несправедливо заподозрены; несправедливо я был облит ушатом вонючих сплетен; человеческое мое достоинство оскорблено. Подозрениями об моем холодном отношении к общему делу добились лишь естественного моего охлаждения. Ибо общее дело не совместимо со сплетнями.
Эмилию Карловичу ответил я обстоятельно[2905], но из письма Н. П. Киселева узнал, что Э. К. письма моего не получал и, стало быть, мой ответ на все пункты письма надо писать вторично, т. е. вторично бросить два рабочих дня для того, чтобы с головой уйти в слякотное перечисление мелочных фактов и мелочных опровержений. Отвечать вторично я отказываюсь: неисправность почты не от меня зависит. Ася свидетельница, что письмо я послал (содержание оного ей прочел), и у меня имеется расписка от почты (письмо отправлено заказным).
Беспокоясь о мотивах, побудивших Э. К. Метнера резко меня обвинять, я спросил Н. П. Киселева, в чем дело[2906]. Н. П. Киселев прислал мне письмо, полное дружеских чувств, за которое я ему глубоко благодарен[2907]. Но в этом письме и он вменяет мне два обвинения: (а) продажу романа Некрасову, (b) мой крутой поворот к Кожебаткину, который, по словам Н. П. Киселева, утверждает, что будто я был у него и у него ему говорил следующее: «Двум людям, недовольным „Мусагетом“, незачем быть в ссоре между собою».
В пропавшем письме Э. К. Метнеру я с достаточной резкостью сказал, что ничего подобного не было.
Но услышав эту ложь во второй раз от Н. П. Киселева, я вынужден по этому поводу сказать Вам несколько принципиальных слов.
Предварительно скажу о романе и Кожебаткине.
I Кожебаткин. Ввиду моего холодного отношения к нему с момента отъезда в 1910 году[2908] до нынешнего времени, я в бытность мою в Москве в 1911–12 году никаких разговоров с ним не имел, да и вообще, кроме «Мусагета», почти нигде с ним не встречался; я позволил себе в течение 1912 и 11 года несколько резкостей по адресу Кожебаткина, вследствие чего, кроме недовольства им как секретарем, между нами была явная неприязнь. Я обижался на него за его халатное отношение к письмам, он – за несколько резкостей по его адресу. Эта ссора личного характера никакого касания не имеет к делам редакции. Мой отъезд из Москвы[2909] (вследствие того, что билеты были разобраны и после 16-го марта не было возможности выбраться из Москвы) – был неожиданно поспешен для меня. А за несколько дней перед тем Кожебаткин уехал в Петербург; я дал ему несколько писем, поручений по делам «Трудов и Дней» к Блоку, Вячеславу, Недоброво[2910]; кроме того, у меня было дело к Евгению Ляцкому[2911]; наконец, он должен был привезти с собой несколько статей. Зная, что он возвращается утром 14-го марта (или 13<-го> или 12<-го>, не помню), будучи около (в канцелярии губернатора) и имея дело к Ахрамовичу, я зашел и к Кожебаткину единственно, чтобы получить статьи и узнать о петербургских сотрудниках и Евг. Ляцком, ибо время у меня все было разобрано предотъездными хлопотами, и я мог просто не встретиться с Кожебаткиным; дома его не застал, ибо он не вернулся из Петербурга, но жена его Ж<анна> Е<вгеньевна> упросила меня посидеть; я посидел с женой Кожебаткина из любезности минут пять (мы с Асей были нелюбезны с Кожебаткиными, не ответили на визит и т. д.): жена Кожебаткина говорила, что печально, что между мной и ее мужем какие-то неприятности; и я сказал, что лично я эти неприятности позабыл (действительно: лично я просто перестал на него сердиться – но какое до этого дело «Мусагету», раз я против Кожебаткина как секретаря?). Помню, что я сказал, что, вероятно, мы уже с Кожебаткиным не увидимся, и что у меня, кроме желания узнать новости из Петербурга, есть к нему дело о «Путевых Заметках». Жена Кожебаткина сказала: «Шура приедет завтра утром и днем будет у Вас». Я же сказал, что завтрашний день я весь в бегах. Тогда я вспомнил, что у меня на другой день первое и последнее свидание с Некрасовым, который остановился рядом с Тверской. Я и сказал, что проездом на Тверскую я на минуту заеду к Кожебаткину поговорить о делах. Что и сделал, но Кожебаткин еще не вернулся, так что я не говорил с ним у него на дому.
На другой день, случайно встретившись с вернувшимся К<ожебаткины>м в «Мусагете», я имел 5-минутную беседу, состоявшую из следующего: Кожебаткин утрированно-дружественно и с чарующей улыбкой на лице мне сказал, что он рад, что старые недоразумения кончены, и что мы прощаемся в мире. Я не противоречил и даже сказал, что давно хотел ликвидировать все наши личные недовольства друг другом, как основанные на не стоящих внимания мелочах; может быть, у меня были очень добрые ноты, но мной руководило лишь хорошее чувство, ибо я как бы прощался с ним, зная, что к возвращению моему в Москву уже его не будет в Мусагете, ибо голос мой, заявляю всем Вам, против него, как секретаря. Прошу заявлением этим пользоваться в возможных заседаниях с голосованьем.
Вот и все о пресловутой дружбе моей с Кожебаткиным. Все прочее есть вздор и сплетни. То обстоятельство, что [2912] друзья и братья верят сплетням, а не моему заявлению в верности, показывает, что бóлее чем мусагетская связь между нами существует на словах, не на деле: братья верят сплетням; брату остается, как не пользующемуся доверием и оскорбленному, сказать: я выхожу из коллектива, сохраняя хорошие и добрые чувства к каждому, но сохраняя свободу действий. Пока из Москвы поступают лишь сплетни и подозрения, я заявляю Вам, друзья мои, – связи в Главном у меня с вами нет. И не удивитесь, если я за свой страх и ответственность ищу правды: в церкви ли, в Штейнере ли, в теософии – это Вас не касается. Вы мне не верите – я ухожу из нашего коллектива. ⊕
2) О романе. Н. П. Киселев указывает на то, что я дал формальное обещание 1) Метнеру, 2) Иванову роман сохранить до 1913 года[2913]. Вам, друзья мои, я должен напомнить об обстоятельствах дела с романом.
С осени 1911 года во всех разговорах с Струве и Брюсовым главным пунктом моих требований к «Русс<кой> Мысли» было получение единовременной тысячи рублей в момент представления рукописи. И я знал, что делал: я знал, что во второй половине года нам с женой необходимо быть в Брюсселе, необходимо мне и ей платье и прочее, т. е. необходимы сверх-обычные траты на несколько сот рублей (перечислять статьи этих трат считаю невозможным); далее: я рассчитывал, помимо 1000 «Русс<кой> Мысли», зарабатывать хоть что-либо, рассчитывал, что из той же «Р<усской> М<ысли>» буду получать за «Египет», рассчитывал, что «Путевые Заметки» уже будут напечатаны, рассчитывал пристроиться попрочнее в «Речи». Повторяю: план нашей жизни был строго рассчитан. И расчет этот был построен по необходимому нам minimum’у. Только таким образом необходимость мне спокойно работать со спокойным отдыхом обеспечивалась, как обеспечивалось спокойствие работы моей жены, в будущность этой работы я всегда верил и после слышанных мной от Данса (ее учителя) слов верю, как никогда.
Только поэтому я взял на себя непосильное и изнуряющее бремя: в 3 месяца я написал столько, что в Петербурге все писатели удивлялись, как мог я столько сделать. И вот к январю, к началу моего инцидента с «Р<усской> М<ыслью>», я был совершенно болен. Провал многих надежд устроиться материально выносила лишь надежда на получение 1000 рублей. С обманом «Русской Мысли» падало все: моя работа, работа жены, отдых и т. д. Только нежной поддержке со стороны В. И. Иванова обязан я, что перенес спокойно эти дни в Петербурге. От Эмилия Карловича Метнера получил я письмо из-за границы следующего содержания[2914]: если не устроится с «Русс<кой> Мыслью», то «Мусагет» предложит мне а) переиздать Голубя[2915], b) издать роман «Петербург», с) перевести оный на немецкий язык и издать в Германии[2916], что за все это я получу столько же, сколько обещала мне «Русская Мысль». Я ответил с глубокою благодарностью. Но в письме Э. К. Метнера тогда же стояли слова: «Если сумеете устроить роман, устраивайте».
Далее: насколько я понимаю список издаваемых нами книг, издание романов все же отклонение, по-моему, от нашей программы, ибо я предпочел бы «Голубю» в «Мусагете» второй том Беме[2917]. Так понимал я, и, пользуясь 1) carte blanche[2918], 2) невозможными экономическими условиями, я завел переговоры с Евг. Ляцким, Союзом писателей, с «Шиповником».
Вот каково было мое поведение в первые дни после обмана «Русской Мысли».
Одновременно с этим 1) я получаю письмо из Москвы, что М. К. Морозова хочет мне помочь, и что «Путь», может быть, даст мне 1000; я, конечно, очень сконфузился, но после сообразил, что «Пути» я могу предложить монографию[2919]; но уже тогда я думал, что речь идет о единовременной 1000, ибо только в единовременном получении у меня была гарантия устроиться, т. е., думал я, мне «Путь» поможет на основании договора с «Русской Мыслью», где главным пунктом обсуждения была единовременность получения.
Одновременно В. И. Иванов звонится к Аничкову и говорит ему, что журнал, который Аничков ему предлагал в 1910–11 году, необходим, что роман мой – Standpunkt[2920] журнала, и что мне сейчас же нужна 1000. Аничков ответил, что поговорит с издателем, что журнал вероятен, но не сейчас, а сейчас он лично бы дал мне тысячу, чтоб задержать роман, но что у него свободных денег нет.
Я тогда задерживаю срок разговора с «Шиповником». И мы с Вячеславом ждем Аничкова.
Восьмичасовой разговор с Аничковым, Ивановым и мной привел к следующему: образуется журнал, члены редакции коего Аничков, Метнер, Иванов, я и Блок, что издателя надо сперва заинтересовать, и 2–3 книжки журнала нужно выпустить собственными силами, что Петербург мог бы собрать паями тысяч 8, и что тысяч 8 должна была бы собрать Москва, ибо для 4<-x> хорошо поставленных книжек толстого журнала нужно 16 тысяч.
Достанет ли Москва 8 тысяч – вот вопрос, который мне ставят Аничков и Вячеслав; я отвечаю, это зависит от многих причин: сольются ли «Труды и Дни» (пай 2 тысячи) с журналом, захотят ли некоторые лица (называю имена) вложить недостающие 3 пая, и говорю, что Э. К. Метнер ответит на это с бόльшим основанием. Собрание решает: без разговора с Э. К. Метнером все приостанавливается. Я спрашиваю, как же мне быть, ибо завтра мне нужны деньги (несколько сот), ждать я не могу. Отвечают: не давайте решительного согласия до разговора с Э. К. Метнером. По поводу «Тр<удов> и Дней» и журнала телеграммой вызываем Э. К. Метнера[2921].
Сущность разговора (Метнер, Иванов, я) – такова: Э. К. Метнер не обещает определенно, что Москва даст нужные деньги для возникновения журнала, но что он попытается зондировать почву; окончательный ответ он даст потом. Тогда В. И. Иванов (который знал степень необходимости для меня иметь деньги) по личному почину предлагает Э. К. вопрос: «Что делать Андрею Белому с его романом? А. Белый обещается сохранить роман для журнала, но А. Белому необходимы деньги. Может ли Э. К. Метнер, как Редактор Мусагета, гарантировать Белому возможность ждать?» Э. К. Метнер обещает, а в личной беседе со мной говорит о месячном жалованье. Я, не навязываясь Мусагету, с глубокой благодарностью принимаю предложение Э. К. Метнера, полагая, что месячное жалованье + 1000 «Пути», которую понимаю как единовременный аванс, вполне меня обеспечивает. И даю формальное обещание ждать «Петербургского Вестника», ибо я столь же заинтересован в появлении моего романа в этом журнале, как и В. И. Иванов, как равноправный сочлен редакции оного: хранить роман для журнала представляет для меня одинаковый интерес, как и для Иванова, даже бόльший, ибо В. И. Иванов есть лишь доброжелатель романа, а я – его автор и одновременно член Редакции.
На основании этого соглашения я рву переговоры с тремя издательствами[2922], т. е. лишаюсь возможности немедленно пристроить роман (ибо обещаемая поддержка в то время для меня еще журавль в небе, а денег в кармане уже нет: и синица в руки необходима).
Так мы и порешили: я не без страха думаю о судьбе нашей поездки, которой срок уже прошел. С этими чувствами приезжаю в Москву: встречаюсь с Рачинским; Рачинский, первый сообщивший мне о желании «Пути» (еще когда Э. К. Метнер был за границей), со мною об этом ни слова: и я не знаю, как мне быть: словам письма я доверился, а теперь подтверждений этих слов нет; мне же первому заговорить неловко. Наконец перемогаю себя, заговариваю: Г. А. Рачинский держит передо мной многочасовую речь о том, что «Путь» не располагает суммами, что «Путь» желает мне помочь (Боже мой, до чего я чувствую благодарность «Пути», но… суть-то вся заключалась для меня в единовременной тысяче) и в течение 6 месяцев выплачивает мне 1000 рублей, т. е. по 150 рублей в месяц. Я очень поблагодарил и, конечно, из благодарности к «Пути» и весьма понятному чувству деликатности не стал спорить: но я бы мог сказать вот что: «Милые мои друзья! Я очень ценю Вас и глубоко Вам предан, но… я должен существовать: существовать литературой в Москве мне нельзя, ибо в Москве нет ни журналов, ни широкой литературной среды. Мне остается покинуть Москву и переехать в Петербург, где, благодаря моим литературным связям, я мог бы зарабатывать до 300 рублей в месяц; стоит мне переехать в Петербург, и я бы мог с благодарностью отклонить поддержку „Пути“, ибо мой труд оплачивался бы вдвое дороже… А на 150 рублей в месяц я жить не могу, не могу уехать за границу на основании тех же суждений, какие лежали в основе переговоров в „Р<усской> М<ысли>“, т. е. все дело в единовременной 1000, которую я работой, черт возьми, заслужил, ибо 15 печ<атных> листов „Романа“ + 15 печ<атных> листов „Путевых Заметок“ при нормальной расценке труда = минимум 4000, т. е. году с лишком свободы и независимости. Вместо единовременной тысячи я должен был получить 1⁄5 ее, то есть этого не хватило бы даже на первые дни за границей по причинам, которые я могу изложить тому или другому из Вас конфиденциально, но не могу возвестить urbi et orbi[2923], ибо у меня все же есть самолюбие».
Итак, с обещанной 1000 «Пути» я потерпел фиаско. А второе фиаско меня ожидало вот в чем: «Мусагет» остался без денег, следовательно, на поддержку «Мусагета» я, как задолжавший, и не мог рассчитывать: о плане издания обеих частей «Голубя», т. е. о своем предложении из заграницы, Э. К. Метнер не произнес ни слова (и эта возможность получить аванс отступала в неопределенность). Кроме того: Э. К. Метнер мне решительно сказал, что денег на «Петерб<ургский> Вестник» Москва не даст, да я и видел, что Москве абсолютно этот «Вестник» не нужен, не интересен, как неинтересно, может быть, и то, что я пишу (я же вижу полное равнодушие к себе, как к писателю, со стороны ряда близких – равнодушия не заявляемого, но проявляющегося в тысячах мелочей[2924]).
Заявление Э. К. Метнера о том, что в Москве для журнала денег нет = полному краху «Пет<ербургского> Вестника», которому я дал обещание сохранить роман при условии поддержки. После этого заявления я оказался совершенно свободным по отношению к формальному обещанию: формальное обещание имеет силу пред чем-либо или хотя бы пред тенью чего-либо – пред тем, что может быть: без поддержки из Москвы журнал быть не может, и формальное обещание мое стало обещанием перед Grand néant[2925]. Об этом я скорбел 1) как член Редакции нерожденного журнала, 2) как подведенный невольно, ибо оставалось вновь ехать в Петербург, вновь в полной неопределенности начинать сношения с редакциями (об этом Э. К. Метнер не подумал – вообще о реальных трудностях, когда они касаются не нас лично, даже друзья думают слишком поверхностно и отвлеченно). Хорошо Э. К. Метнеру, имеющему прекрасный кабинет, часы досуга и внешние удобства и, кроме того, ответственного романа не пишущему[2926], отвлеченно исчислять бюджет, не студента, а писателя с женой, их жизнью и потребностями бюджет, не принимая в соображение реальных не вполне отчетливо видимых фактов. Словом, ему ничего не стоило сказать мне: не будет журнал<а> («Пет<ербургский> Вестник»), и он даже не подумал, что это значит для меня, для которого факт существования журнала есть факт свободы.
Легкость, с которой он это сказал, не соблаговолив выяснить, что же мне теперь делать с разоряющим меня пустым обещанием, привела меня к мысли спасать свою свободу от невозможного для меня в то время бюджета в 150 рублей; и я махнул рукой и на обещание Метнера обеспечить меня для журнала, и на свое (сохранить рукопись), ибо хранил бы я ее – для кого?
Теперь Мусагет ропщет на то, что я отдал роман, который де был бы украшением «Мусагету». Помилуй Бог, какая честь! Украшением роман стал лишь тогда, когда произвел он успех среди петербургских литераторов, заявивших интерес хотя бы тем, что они старались познакомиться с его содержанием. За 6-месячную жизнь в Москве никто из друзей даже не пытался поинтересоваться, над чем я работаю. Писатель же всегда пишет для кого-нибудь. У меня было впечатление, что роман мой, если и интересен кому-либо, то только не мусагетцам, не Мусагету. Отсюда мое авторское самолюбие и породило некоторую сдержанность: поймите же – навязывать обе части «Голубя» Мусагету я не хотел. Сообщая мне о невозможности достать денег для «Пет<ербургского> Вестника», Э. К. Метнер не повторил своего предложения издать обе части, а я из чувства деликатности промолчал. И далее: жить на 150 рублей в месяц я не мог, единовременно получаемая тысяча пролетела. И никто, никто даже не понял, в какое положение я поставлен. Мне оставалось или для возможности окончить роман скорей продать его, или переехать в Петербург и там приискать себе работу.
На основании всего сказанного а) с романом я чувствовал себя свободно всегда на основании неоднократных заявлений Редактора Мусагета, что я могу пристроить мой роман на стороне. И необходимости его предупредить не было (об этом ниже), b) попытка Э. К. Метнера достать деньги для «Петерб<ургского> Вестника» или не была предпринята, или не увенчалась успехом. Во всяком случае: помню его слова: «Денег достать неоткуда». И этим формальное обещание мое себе, как члену Редакции, и В. И. Иванову само собой падало. Обвинения Н. П. Киселева вполне основательны при предположении, что он не знаком с тем, в каком смысле я давал обещание; да и мысль о сохранении романа для журнала принадлежит мне с Вячеславом задолго до того, как Э. К. Метнер приехал в Петербург. И потому сторона всего этого дела не та, какой она выглядит из письма Н. П. Киселева.
Теперь, обвиняя меня, Э. К. Метнер какими-то экивоками указывает на реакционность издательства Некрасова: а смысл этого экивока таков: поссорившись с кадетами и в пику Струве[2927] я пристраиваюсь к правым. В этом освещении личность моя выглядит довольно гнусно: прошу Ал<ексея> Сер<геевича> Петровского, Н. П. Киселева, М. И. Сизова высказать мнение: похоже ли все это на меня? Сколько я знаю, Некрасов кадет[2928], т. е., помимо возмущающей меня инсинуации в авантюризме, тут фактическая неправда (если б я был авантюрист, я получал бы 15 тысяч, не сидел бы на шее у Мусагета и не выслушивал бы попреки в авантюризме).
Как брат и член того же коллектива я спрашиваю Э. К. Метнера: серьезно ли это нарекание? Если он действительно думает, как написал, наше участие в общем деле – возможно ли?
Дорогие друзья!
обрываю это письмо, ибо спешим на «Гибель Богов»[2929]. Вагнеровские торжества – единственная роскошь, которую мы позволяем себе, ибо не услышать «Тристана», «Валькирию», «Гибель Богов» с ба<й>рейтскими исполнителями нельзя[2930]. И вот я ловлю себя на том несоответствии между строем души нашей брюссельской жизни, тишиной и какими-то счастливыми знаками, нами слышимыми, – с той душной атмосферой, которую вызывают московские письма. По-видимому, в Москве что-то есть нездоровое, отравляющее атмосферу. Обрываю письмо, чтоб потом продолжать…
Извиняюсь за бессвязную форму изложения: дело в том, что пишу все это уже во второй раз, ибо по воле небес письмо к Э. К. Метнеру пропало. Не заставляйте же меня 3<-й> раз писать всё о том же. 3 таких письма = рабочей неделе по нервной затрате сил.
Мое свидание с Некрасовым, после которого до последнего времени всё можно было еще изменить, ибо окончательного решения пока не было, состоялось перед самым отъездом. Говорить о свидании этом до факта свидания не хотелось: ибо я даже не думал, что из этого что-либо выйдет. Последние дни мы с Э. К. Метнером не видались, все по той же причине – предотъездной беготне и массе личных дел (у меня и Аси). Перед отъездом я говорил с Э. К. о разговоре с Некрасовым, и в его лице не встретил ни возмущенья, ни решительного настоянья – чтобы я подумал. Так что факт его глубокой обиженности для меня полный сюрприз. И я сетую: надо было мне в лицо сказать свое мнение; тогда не было бы всей этой путаницы. Тогда я бы мог еще из-за границы что-либо переменить.
Вообще церемониться друг с другом в разговорах с глазу на глаз, чтоб потом осыпать упреками в письмах, – этой системы я не понимаю. Она-то и порождает химеры. Отчего Э. К. Метнер не обрушился на меня при прощанье, не выдвинул мне своих оснований; отчего он это сделал в письменной форме. Разговор – имеет начало и конец: недомолвки, даже ссора в личной беседе – открытая гроза. А за всякой грозой – очищение атмосферы. Письменные пререкания – только копят неразразившееся электричество, сеют недоверие между близкими и плодят химеры.
Друзья мои, если Вы считаете себя друзьями, не подавайте повод мне думать, что Вы ищете со мною разрыва. Мое отношение к Мусагету и ко всем таково, каков был наш вечер накануне моего отъезда (когда Э. К., М. И. и А. С. собрались у меня), а не таково, как рисует какой-то враль со стороны. Это ясно: и довольно этого заявления. Подозрения, требования показать паспорт, кроме того, что оскорбительно, раздражает. Даже мирно настроенный гражданин после полицейского обыска становится оппозиционно настроенным. А обыск, совершаемый при помощи сплетен, оскорбителен сугубо.
Неужели это не понятно? Неужели не понятно, что реакция на подозрение в добром чувстве только одна: охлаждение этого чувства. И в свою очередь после письма Метнера мнительность моя выросла: это – естественно. Мое отношение хотя бы к «Трудам и Дням»: тщетно просил я А. С. Петровского, М. И. Сизова высказать свое мнение о 1-ом номере, тщетно просил Рачинского; тщетно в 4 письмах к Ахрамовичу просил дать реальные сведения о том, какова судьба 2<-го> номера, когда он выходит, какие статьи поступили в Редакцию, написал ли В. И. Иванов статьи, тщетно спрашивал, почему не поступает ко мне в гранках материал 2<-го> номера.
Гробовое молчание, да несправедливейший разнос первого номера со стороны соредактора[2931], который мог видеть в гранках допущенные мной оплошности и вовремя их исправить, а не сваливать на сочлена по выходе номера все погрешности. Естественно, что гробовое молчание на мои письма и просьбы объяснялись мной по-своему. И вывод: уже две недели как я не предпринимаю никаких шагов к 3<-му> номеру: не пишу в Петербург, ибо у меня пропала охота быть критикуемым и только критикуемым всякий раз, когда я что-либо активно сделаю в Мусагете. Не выходить из Мусагета я собираюсь, не бросать Труды и Дни: я жду, чтоб рассеялась та психически создавшаяся атмосфера после письма Э. К. Метнера, что интриган, ведущий в Мусагете политику, добивается чего-то, нарушающего мусагетский status quo[2932].
Думать о Мусагете, болеть Мусагетом, редактировать журнал, т. е. отвлекаться постоянно от своего личного дела мне становится необоримо трудным. Друзья мои – чего мне надо? Мне надо – свободы и покоя. Журнала, редакции не надо мне. Все это надо, когда есть общее дело, когда это долг. Самое ужасное для меня теперь слышать, когда мне говорят, что Мусагет главным образом для меня! Поймите – мне ничего не надо, кроме тишины и душевной уравновешенности, которой наносит удары всегда – Москва, Москва и Москва. Разве Вы не видели, что после летнего недоразумения[2933] с Э. К. Метнером я всю зиму только и старался быть дальше от той клоаки сплетен, которая образовалась где-то вблизи от Мусагета. Я уезжал в деревню, в Петербург, и в Москве почти не был.
И злая ирония и тут связывает меня с какими-то мелкими интригами. Как же не сказать мне: «Je m’en fiche»[2934].
Здесь, в Брюсселе, я едва пришел в себя, а меня опять вдогонку, точно нарочно, доканали мерзостями.
Друзья мои: если я в Мусагете, так это потому, что я с Вами, потому что знаю – что за Мусагетом стоит нечто бόльшее: И вот я поколеблен теперь: если верят интригам, если какие-то мы поворачиваются против меня и забывают, что в 1909 году было время, когда мне было предложено собрать близких нашему, и что из всех я только про себя сказал: «Вот – они». И эти они – Вы, друзья мои. Если все это было, то значит, что я Вас люблю, Вам верю, и надеюсь, что чувство это – не политика, не Редакция, не Мусагет, не Труды и Дни. Редакция, журнал, издательство без сквозящего, вечного неизменного за всем – ерунда: и кой черт Мне Мусагет, если наши отношения могут быть поколеблены какой-либо злободневною пылью. Если же злободневная пыль колеблет отношения эти, что я вижу из письма Метнера, из некоторых строк письма Н. П. – если Вы думаете, что я способен интриговать с интриганом и т. д. – я проникаюсь равнодушием к нашему делу издательскому, как к сосуду скудельному, из которого выдохся дух. И далее: я беру мой посох – и прощайте, друзья; Вы меня не увидите вместе: встречайте, ищите тот свет, который меня переполнил когда-то, которому я не изменил (ибо и ныне ищу и буду искать без Вас – всё того же, Главного, как искал и без Вас до 1909 года).
Все зависит не от меня, а от Вас: корень зла – в Вашем недоверии, а не в моей душе. От Вас будет зависеть, пойдем ли мы и впредь одною дорогой или разойдемся, потому что Вы напали на меня, а не я на Вас. Свалок, драк, скандалов и безобразий я не хочу – и их не будет.
При получении впредь чего-либо, оскорбляющего меня, я буду просто не отвечать: замолчу. Это – мое последнее разъяснение.
Ибо я не Эллис, и все пререкания отзываются неделями мигреней, неработоспособностью, а работоспособность моя сейчас – мой насущный хлеб.
Не лишайте же меня моего единственного богатства: внутренней деятельности, и или не пишите мне вовсе, или подумайте, как иные неосторожные слова отзываются больно в душе.
Привет и мир Вам.
Борис Бугаев.
P. S. Друзья мои! Первый акт моей самостоятельности – мой отъезд в Кёльн к Штейнеру[2935]. Ввиду того, что я ощутил потребность быть в мире и истине, что на Москву, посылающую лишь душные сплетни, я махнул рукой, ввиду того, что без жить я не хочу, не могу, я спешно на 3 дня выезжаю в Кёльн, к Штейнеру.
Кольцо оставлено не нам, а мне и через меня Вам[2936]. В своих подозрениях Вы забыли, что А<нной> Р<удольфовной> мне было сказано. Ритуально я был первый и последний при ней.
Кольца я Вам не отдам.
РГБ. Ф. 128 (архив Н. П. Киселева). Опубликовано А. Л. Соболевым: Арабески Андрея Белого. С. 54–64 (датировка: 21–24 апреля (4–7 мая) 1912. Брюссель, Кёльн). Написано перед отъездом из Брюсселя в Кёльн, отправлено 7 мая 1912 г. (дата почтового штемпеля в Кёльне). Почтовый штемпель получения: Москва. 27. 4. 12. Обратный адрес на конверте – Брюссель.
246. Белый – Метнеру
Ну что Вы, ну зачем?.. Опять полемика, опять разногласие… Все это плодит какое-то perpetuum mobile[2938]. Итак, я считаю, что сделал ошибку, пославши длинное послание «друзьям»…[2939] Если то, о чем я пишу там, окрепло, то ведь не в письме проявится оно – в деле. Зачем слова, и слова на бумаге, и , доходящие по адресу чрез много дней, когда эмоция, вызвавшая то или иное резкое слово, уже угасла и душа светит душе и улыбается душе: слыша в пространстве хорошую мысль о друге, укрепляешься: а письмо, не выражающее сущность переживания моего, Вам в момент получения ложится гибельною неправдой.
Я пишу сейчас, усмиренный, с любовью глядя сквозь дым и чад, отделяющие нас: Вы же еще не получили моего отчаянного письма, вызванного действительным душевным страданием[2940]: после написания этого письма пролетели огненным метеором наши кёльнские дни, разговор со Штейнером – коллективно-общий (я начал, Ася кончила)[2941]. Вот все это прошло, я вернулся с огромным просветлением: годы, казалось, прошли в эти 3 дня. Получаю Ваше письмо о Тристане[2942], радуюсь, что вот мы слышим друг друга, собираюсь Вам писать, как прежде, о многом и Главном, в чем живу, и… – трах: на другой день получаю Ваше послание на десяти листах, где Вы прощаетесь со мной и из которого явствует, что между нами лично Главное порвалось, причем даже неизвестно, которое из двух писем – первее: о Тристане (хорошее) или другое (дурное). В одном Вы говорите: до свиданья. В другом, как друг, по-старому говорите глубокие и мне нужные вещи: хорошее письмо помечено не то 14-м, не то 19<-м> (не разобрал), а другое (дурное) 15-ым[2943]. Которое из двух последнее? Не знаю: письма сместились в пространстве: а я – путаюсь. Если после письма, где Вы будто рвете со мною, Вы все-таки написали о Тристане, значит ничего не порвано между нами, и я радуюсь: я протягиваю Вам руки, старинный друг. Если же – до грозного, то… какая-то муть, подозрение, недоверие – словом, какое-то самолюбивое начеку просыпается во мне (Вы знаете, что все мужчины до известной степени, если наступят на ногу, потрясают мечами): словом, хорошие, из глубины души исходящие слова обрываются: ибо не волен я над проявлением беспричинной волны душевного тепла, и не волен я, когда вопреки сознанию эмоциональный холод на время застилает лучшие чувства. Чем неожиданней, чем радостней было Ваше письмо о Тристане (так гармонировавшее с нашей кёльнской поездкой), тем обидней и резче тотчас же получить противоположное…
Что-то оборвалось: я сказал себе Нет – об этом я ему не напишу, пока… не угаснет застилающая его от меня (о, временно!) волна горечи.
Это я пишу к психологии писем. Психология писем не имеет ничего общего с душой пишущего в недоразумениях: пространства плодят химеры.
Теперь уже неизвестно, кто виноват в том, что Вам больно было от моих слов: что мне было больно от Ваших, – да что говорить: спросите лучше Асю. Две недели я ходил, точно пришибленный; и, как странно: отсюда у нас с Асей как-то бессознательно выросла тяга к Штейнеру, – говорю «у нас» и подчеркиваю, ибо Вы даже не подозреваете, что такое Ася в смысле поддержки и полета. Она – воистину Валькирия[2944] (кстати: Штейнер с ней был совсем по-особенному – он сразу понял, откуда она)… Ну, да не в этом суть…
Суть в том, что оба мы раздражены, оба не можем даже спокойно обсуждать мусагетские дела (я, по крайней мере, сейчас внутренно отмахиваюсь от мусагетского, ибо какая-то гарь стоит предо мной, когда я вспомню о Ваших обвинениях). А если бы я Вам рассказал события, бывшие с нами за полторы недели, если бы Вы более посвятили меня в Ваше, в чем Вы, – наверное, я проще бы понял, в чем вина моя; и Вы не приписывали бы мне многого.
Поймите: не в фактичности обвинений меня соль обиды. Я не согласен с мнением Вашим о моей продаже романа, я не согласен с инкриминируемым мне поведением относительно Кожебака[2945]. Если бы Вы написали спокойнее, я бы возражал и обдумывал свое поведенье без привкуса эмоционализма. Соль обиды в непередаваемом тоне, в темпе Ваших указаний мне, в многотональности обвинений: Вы всё в кучу собрали – сплетни и действительные факты (т. е. продажу); дела редакторские (критику первого номера[2946]) с моральными; сериозные вещи с мелочами (например, с отъездом моим – кстати об отъезде: ведь это просто смешно – Вы знали, что вообще я уезжаю до Пасхи[2947] (стало быть, на страстной). А вышло: мусагетские дела, корректура, отсутствие денег и мн<огoe> друг<oe> создали то, что заблаговременно я не мог взять билетов на поезд. И предстояло: либо просидеть страстную и святую в Москве, либо воспользоваться единственно оставшимися билетами. Вы узнали о моем отъезде за 1½ дня, а я за 2 дня, не более. Вы и эту мелочь (т. е. вину Брестской жел<езной> дор<оги>) инкриминируете мне). То есть, тон Вашего письма (пусть ложно воспринятый) меня так глубоко взволновал, а не факты. Ведь тон (неужели и это надо напоминать) делает дело…
На полученное мной письмо (дурное) мог бы ответить столь же пространным в том же смысле, как с Брестской ж<елезной> дорогой и моим пресловутым объяснением в любви к Кожебаткину у него на дому, тогда как пресловутое «объяснение в любви» происходило в Мусагете и продолжалось 5 минут[2948]. Вы скажете: это – мелочи; но мелочных искажений в куче собранных Вами фактичностях <так!> и предвзято освещенных – бездна: все эти факты, Вами приводимые, – полуфакты, а истины, выводимые Вами из них, – полуистины; полуфакты, полуистины – не то чтобы ложь, но и не правда – ведь все это хуже абсолютно ложного: ложнее ложного и обидней обидного.
Судья. Обвиняемый, Вы у Кожебаткина были?
Обвиняемый. Был.
Судья. Вы примирились?
Обв<иняемый>. Примирился.
Присяжные заседатели. Ага, кознь доказана.
Обвинительный приговор: Доказано, что на дому у Кожебаткина 3 раза произошло соглашение члена редакции Белого, недовольного «Мусагетом» и желающего при помощи изгоняемого секретаря добиться каких-то своих целей.
А правильный суд – вот картина его.
Судья. Обвиняемый, у Кожебаткина были?
Обвин<яемый>. Был.
Судья. Для какой цели?
Обвин<яемый>. Идучи к Ахрамовичу и зная, что Кожебаткин, вернувшись из Петербурга, привезет ему нужные до отъезда статьи[2949].
Судья. Сколько раз были?
Обв<иняемый>. 2 (а не три) раза, ибо сам назначил Ко<жебатки>ну час, думая, что он вернется из Петербурга.
Судья. Вы застали его?
Обв<иняемый>. Оба раза не застал.
Судья. Где Вы встретились?
Обв<иняемый>. В Редакции.
Судья. Вы примирились?
Обв<иняемый>. Да, если хотите: в сущности никакого примирения и не было.
Судья. Вы ругали «Мусагет»?
Обв<иняемый>. Никогда… Может быть, когда-нибудь говорил, что надо было бы изменить то-то и то-то. Недовольство той или другой частностью не есть ругань, ибо я не унтер-офицерская вдова[2950], и ругая «Мусагет», ругал бы себя.
Словом, у Вас в письмах и обвинениях ложь и правда обо мне смешались, а – черт в смешеньях.
Нас черт попутал! И ну его к черту, ибо этот черт – джент<л>ьмен с насморком и в цилиндре, смесь Хлестакова и Чичикова: он – хуже черта с рогами.
Во имя будущей работы гоните, будем гнать этого джентьмена.
Не хочу писать.
Хотел Вас просто обнять и вопреки последнему Вашему письму (а по Вашему предпоследнему – но для меня сила в реальности получения, ибо реальна боль от него – отсылка же иллюзорна): итак, хотел Вас обнять, а сунулся в обсуждения, – и опять, и опять, и опять пошли мелочи.
А душевный порыв превратился… в пар: не то, чтобы не было его, он упал глубоко, в центр души и не имеет пока ни слов, ни выраженья… На периферии же докучно звучащие молоточки бьют в мозг однозвучно: Il faut le battre, le broyer, le pétrire (Толстой, «Анна Каренина»)[2951] – pardon: вовсе не то бьют молоточки; молоточки бьют: Кόже – Бáк! Кόжа – Бáка! Кожу́ – Бáку! И т. д. Словом, довольно о «баке – баках» – и довольно навсегда!
Когда Кожи и Баки, сии элементали, не будут питаться порождающей их мозговою игрою[2952] (знаете ли Вы мозговые игры ночью, когда не спится: я эти милые игры испытываю всякий раз по получению Ваших злых писем – не колдуйте же, друг!) – итак, когда Кожи и Баки иссякнут и Ваш образ из-за них встанет прежний, я напишу Вам о том, какие странные вещи происходили с нами до Кёльна, что видели в Штейнере и как потрясла меня «Гибель Богов»[2953]. Лучше, чтобы наши думы о Мусагете соприкоснулись чрез «Кольцо Рейна»[2954], а не кольцо дымовое, выпущенное в Мусагете ртом захожего интеллигента, незнакомого ни мне, ни Вам (ибо он заходил в наше отсутствие); это дымовое кольцо из рта неизвестного осело раз навсегда Кожебаткинским «Ы». Ну, целую Вас! До свиданья.
Б. Бугаев.
Ах, милый Эмилий Карлович! Разве Вы не знаете, как я Вас люблю: ну что толку, если мы навсегда разойдемся. Видимо я буду далеко от Вас, а душой – близко. Разойдемся ли, сойдемся ли – все равно: где-то выше и дальше мы опять встретимся, и общее дело (какое, не знаю) встанет в сознании. У меня отношение к Вам таково, что если бы Вы меня оскорбили, или обнажили бы меч против меня, я щеки бы не подставил, конечно, а вызвал бы на дуэль, но стрелял бы незаметно для Вас в воздух: видимость же поединка была бы, и никто бы не знал, что для меня поединок есть форма самоубийства, ибо братьев я в душе не предавал; и братьев убить не могу.
А когда я взойду на высочайшие ступени (когда это будет – через миллиарды веков?), я сумею и щеку подставить, ибо это будет формою моего благородства; а пока форма моего благородства есть меч. Обнажите Вы меч, я меч обнажу в свою очередь, но наносить удары Вам не буду, как не буду на Вас нападать.
Это я по поводу Ваших слов о возможности нашего разрыва. Подстерегать, преследовать, наносить удары не стану, ибо я – тоже светлый. А Светлый Светлого не убьет. Но защищаться я буду, и меч мой при мне.
Ну – так мир или меч?[2955]
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 60. Датируется по почтовому штемпелю отправления на конверте.Ответ на неизвестное нам письмо Метнера.
247. Белый – Метнеру
Пишу Вам не по личному делу, а по делу Эллиса. Дорогой друг, извините, если я вмешиваюсь в отношения между Конторой «Мусагета» и Эллисом (Эллис у меня в Брюсселе[2956]), но: Контора «Мусагета» ужасно с ним поступает. Эллис всю эту зиму го-ло-дал. И мой долг вмешаться. Эллис должен знать точно, может ли он получать свои 60 рублей (120 марок)[2957]. Дело «Мусагета» ему посылать или нет; но обязанность «Мусагета» заранее его известить, почему ему без всякого предупреждения 1) в последний раз вместо 60 рублей прислали всего 30, 2) почему высылка денег систематически на 1–3 недели запаздывает. На 120 марок в месяц кое-как прожить можно; но если принять во внимание, что он ходит в лохмотьях, что помимо ежедневных потребностей у него могут разорваться башмаки, что каждая серия лекций Штейнера существует на взнос (10–15 марок), что иногда Доктор ему предписывает ехать за ним, то на 120 марок почти невозможно жить (это я знаю по опыту). И вот: если «Мусагет» дает ему 120 марок, то честь всех друзей Эллиса в том, чтобы 1) эти 120 марок присылались сполна, 2) чтобы они присылались точно в срок, ибо запаздна <так!> на 1 неделю = голоданию. Принимаю это к сердцу, ибо по себе знаю, какова мусагетская аккуратность. Довожу до Вашего сведения, что последний месяц ему было выслано 60 марок (вместе 120) без всякого объяснения. Это – жестоко.
Остаюсь искренне любящий Вас Борис Бугаев.
P. S. Дорогой Эмилий Карлович! Умоляю Вас, войдите реальнее в мелочи «Мусагета». Ведь со мной в смысле высылки проделывали черт знает что. Войдите в положение Эллиса. Не верьте Кожебаткину. Тут что-то не так: проверьте все квитанции; показывал ли Вам Кожебаткин квитанции, что посланы деньги (ведь это ничего на значит). Эллис был в Карлсруэ, Штутгарте: деньги могли его не застать и вернуться, а Кожебаткин Вас не уведомить. Эллис утверждает, что он не все месяцы получал.
Далее: на основании показания Прорубникова, будто Эллису он выслал 100 рублей, «Мусагет» ему не выслал. А Прорубников (шельма) Эллису не высылал[2958].
И «Мусагет» посадил Эллиса на голодание. Я в негодовании. Надо сделать расследование. Я – выл из Африки; теперь воет Эллис. Неужели оба мы – лгуны. Умоляю, сделайте расследование.
P. P. S. Эллис просит меня сделать поправку: Прорубников Эллису не не послал, а 100 рублей не дослал. Но Эллис 300 рублей был должен «Дону»[2959].
Не теоретизируйте, что Эллис «не от мира сего». Тут что-то не так.
Только К. П. Христофорова спасла Эллиса от голодной… смерти?!![2960]
Стыдно «Конторе» Мусагета!!..
Надо уведомлять о деньгах точно и высылать точно. А если нельзя, то заранее уведомить.
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 61. Датируется по почтовому штемпелю отправления на конверте.
248. Белый – Н. П. Киселеву, Э. К. Метнеру, А. С. Петровскому, М. И. Сизову
Николаю Петровичу, Эмилию Карловичу, Алексею Сергеевичу, Михаилу Ивановичу.
Пишу это письмо не для пререкания, а для мира и согласия в будущем. Для этого мне нужно очень отчетливо выявить свои грани, чтобы позиция моя была ясна для Вас. Это тем более необходимо, что теперь, после поездки в Кёльн, свидания и разговора со Штейнером[2961], которому я предложил ряд вопросов, просто решающих мое отношение к Нему и его делу, Вам, должно быть, важно знать, где я и в чем я.
Еще осенью я твердо решил, что буду ждать только до мая, что томление неопределенности, отсутствие продолжения раз начатого пути, путаница с м<е>д<и>т<а>циями, обрывочность указаний, как быть с ними, действует разлагающим образом на меня, на каждого из нас, на весь наш дружеский коллектив, проявляясь и во внешней деятельности (хотя бы в «Мусагете») нерешительно, без инициативы (что говорить – истекший сезон был нудный, вялый сезон: что-то было неладное между нами – Кожебаткин ведь лишь эмблема неладицы, ларва[2962], паразитировавшая на нашей путанице, и только). Скажу еще более: в Москве я просто физически задыхался все время. Вы спросите о причинах: причины таковы. Я считал, что раз мы коллектив, то и во внешнем, в журнале, должна быть общая платформа, что я должен быть выразителем равнодействующей нас всех. В «Весах» я действовал за свой страх: как символист врубался в ряды петербургских писателей, наделал ошибок, быть может: но все тут было четко и ясно. Все лично мной платформировано: между статьей общего характера и последней рецензией было единство. В «Мусагете» я стал в высшей степени нечеток, ибо считал своим долгом, не предавая позицию Эмилия Карловича, не предавать позицию Алексея Сергеевича и вместе с тем не предавать «Пути»[2963], не предавать Блока, Иванова. Вышло – какое-то кадетство: как согласовать 1) «Логизм» Гессена, 2) «Оккультизм» Киселева, 3) «Направленчество и Россию» Блока, 4) «Символическую школу поэзии» Иванова, 5) «Символизм, как миросозерцание» мой, 6) «Культуру» Эмилия Карловича, 7) Заглядывание к Штейнеру Алексея Сергеевича и Михаила Ивановича[2964]. Едва я напирал на «логизм», морщились: Алексей Сергеевич, Михаил Иванович, Николай Петрович, В. Иванов. Едва я стал напирать на «символизм», как заморщились: Степпун, Яковенко, и я получил критику первого номера от Э. К.[2965] И все забывали филантропичность моей позиции: корчась от логосовских статей[2966], Алексей Сергеевич не сказал своего веского, определенно выраженного слова. Сотрудничество есть со-действие. Со-действия в деле не было со стороны большинства мусагетцев. За исключением Э. К., я должен отметить ужасающую пассивность в деле со стороны, например, М. И. Сизова, Алексея Сергеевича. Эмилий Карлович то уезжал, то был <в> деревне, так же как и я, и мы встречались редко по независящим от нас обоих обстоятельствам. Отсюда естественная недоговоренность. Далее со-трудничество в смысле идейного со-действия абсолютно не встретил я в ряде членов «Мусагета» в столь любимой мне области: в литературе и искусстве. Никакого идейного общения, никакого волнения о предметах искусства в М. И. Сизове и А. С. я не встретил: наоборот – искусство последних десятилетий было объявлено гнилым, мне советовалось писать à la Крыжановская[2967]. Должен сознаться, что единственно с кем я от времени до времени (за исключением Э. К.) говорил в «Мусагете» о искусстве, это был… Кожебаткин!
Мы вот завели «символический» журнал, а ведь для большинства мусагетцев символизм почти ненужное слово: ну кто разбирал, соглашался или хотя бы полемизировал с моим мнением о символизме? Ведь «Эмблематикой Смысла»[2968] занялся разве что… В. Иванов из Петербурга. Я имею основание думать, что реально моя позиция относительно символизма, мой разбор символизма попросту друзьям неизвестен, не нужен. Иначе у некоторых друзей не было бы столь большой апатии к животрепещущим вопросам искусства. Все, что я писал как теоретик, как практик (ритм)[2969], было вне плоскости большинства товарищей по Редакции. Моя статья о мистике[2970], например, была принята не как стремление от чистосозерцательной мистики к практическому пути, а как озорство этого Бориса Николаевича, которого нужно опекать неизвестно от чего и во имя чего. От чего меня опекали? От жажды к деятельности? Во имя чего? Во имя того, к чему прикоснулись некогда ритуально через меня?
Мое недоумение, как всем нам быть, как гармонически в своей личности преломить разноустремленность нас всех, я знаю, понималось (например, Эмилием Карловичем[2971]) как беспринципность. Друзья мои: блюдя ради нас несуществующее status quo[2972], я превратился из льва в верблюда[2973]: нагрузился степуновским скарбом от «Логоса». Стоило мне сделать шаг, как появлялось за спиной моей опекающее мнение. Словом, шаткость, неопределенность, недоумение, неуверенность этого года происходили во мне из доброго чувства, из желания не развертывать своего личного знамени – знамени Андрея Белого – во имя всё чаемого знамени целого кружка людей.
А где это знамя? Чего идейно хочет коллектив? Куда плывет «Мусагет», как целое? Ясна ли позиция: разрублен ли гордиев узел разноустремленности?
Уезжая из Москвы, я был полон желания продолжать и впредь со всеми считаться, всех опрашивать, обивать все пороги: аллегорически начинать день в беседе с Ахрамовичем в стенах редакции, далее забегать к Ник<олаю> Петровичу, чтоб продолжить день с Эмилием Карловичем и окончить в беседе с Наташей[2974] и Асей все о том же, о «Мусагете», о надеждах и опасениях, ибо я люблю «Мусагет». Для «Мусагета» я тащился в Петербург, там выслушивал критику Вячеслава, защищал «Логос», чтоб потом, в Москве спорить у Степпуна, защищая Вячеслава. Помню разговор с Гершенсоном, когда он нас всех укорял лишь в гутировании мистики, ибо «центра не видно у Вас» (слова Гершенсона); «будьте оккультистами, будьте религиозными проповедниками, но не будьте людьми, равномерно ценящими и понимающими все» (слова Гершенсона). Я часами сражался за «Мусагет» и в Петербурге, и в «Пути». А когда я в «Мусагете» отстаивал «Путь», Эмилий Карлович меня заподозрил в желании[2975] перебежать в «Путь» (летняя переписка). Словом: бόльшего идейного самопожертвования во имя коллектива (иные члены которого уже год относительно идейной платформы в рот набрали воды) быть не может.
И вот, уезжаю я – мне в спину летит обвинение в неверности «Мусагету».
Это было последнею каплей: я не сержусь – но видит Бог, две недели я ходил, как будто меня облили ведром холодной воды.
Параллельно с этим уже с месяц у нас с Асей ряд знамений, требующих разрешения[2976]: есть минуты, когда человек бежит на исповедь: только старец или ведающий может дать совет, как быть. Такие странные знамения вплоть до встреч и странных явлений настолько участились для нас, начиная с нашей болезни и с общего сна[2977] (я и Ася увидели во сне Штейнера единовременно – после всё и началось). Словом, «сидеть у моря и ждать погоды» было уже невозможно: час приходил…
Передряга с Москвой разрешила меня от последнего замедления. Моя политика выжидания принята как беспринципность[2978]. Моя филантропичность безжалостно раскритикована, друзья мои (некоторые из друзей биографически забыли наши отношения: если бы они вспомнили годы нашего знакомства, я не был бы для них «объектом опекания»). Недоверие ко мне, первому и последнему в коллективе, показало мне, что коллектива в специфическом смысле уже нет, и что я свободен. Когда я писал первое свое письмо ко всем Вам[2979], и потом ходил по улицам Брюсселя, я чуть не плакал от незаслуженного недоверия. За помощью мы поехали к Штейнеру, и да: получили ее. Считаю долгом сказать: с июля я в Мюнхене при Штейнере[2980]; что он велит, то и будет. Пора и мне позаботиться лично о себе, где мне учиться, дабы в будущем Вы, друзья мои, не упрекали меня в отсутствии четкости.
Теперь скажу каждому из Вас то, что накопилось у меня.
Эмилию Карловичу.
Эмилий Карлович, старинный мой друг: Вам я обязан более, чем кому-либо! Вы некогда раскрыли мне многие тайны музыки; Вы реально познакомили меня с благородством германской души, Вы приблизили Ницше, образ Гёте зазвучал магическою симфонией – забуду ли Вас? Никогда, никогда. Далее: мы вместе глядели на одни зори, подавали друг другу руки, как братья-рыцари. Разбитый, усталый, я приплелся к Вам в Нижний[2981], и Вы успокоили меня. Далее: не раз Вы оказывали мне дружеские услуги, которые забываются только со смертью. Выходя из коллектива, я считаю, что я остаюсь лично с Вами.
Но вот мои грани различия с Вами: я более, чем Вы, русский; русская Душа, русский надрыв, русский народ, плачущий, по выражению Штейнера, «детскими слезами», в Вас подчас вызывает брезгливость, а русского «мужичка», с которым я часами просиживаю, как с своим-братом, Вы обегаете, лишь увидите издали. Тут я не с Вами, а глубоко с Блоком: Вы боитесь хаоса, забывая подчас, что хаос есть реальная плоть Космоса: кто не войдет в гущу хаоса, тот не сумеет этой гущи сорганизовать. Мое принятие Штейнера идет и по этой линии против Вас, ибо он бόльше Вас чует в безобразии настоящей России нетленную красоту России грядущей. Я иду к нему в надежде вернуться некогда в Россию служить ей полезным работником. По другой грани мы расходимся тоже: Вас шокирует Штейнер, что из Гёте он делает средство пропаганды; соглашаюсь, Гёте громаден: и нельзя им жертвовать: о, искусство до последнего издыхания буду я оберегать от всех теософов, оккультистов, оберегать даже от иных мусагетцев. И Штейнеру я искусства не отдам. Но – Вы забываете, что есть вопрос, о котором прямо мы никогда не говорили (а вот пришло время начать с него в коллективном послании): это вопрос о Христе. Гёте или Христос? Допустим, что такой альтернативы не может быть. Но если бы была, то я со Христом против Гёте. Я не пантеист: я был, есмь и буду исповедующим имя Христово и реально чувствующим Его Приближение. Вместе с тем я не могу быть во внешней Церкви, изжил позицию Мережковского, знаю, надо теперь становиться под определенное знамя Христово: полтора года ждал призыва[2982] – и нет его. И потому я теперь иду к Штейнеру: Христос и Россия! О том и другом говорит мне Штейнер. И верю – культура, искусство приложатся. А у нас вот хранят глубокое молчание о Христе и России (в Мусагете), о культуре же много говорят. Я говорю: я – с культурой. Но если бы встало противоположение: быть с культурой в пассивности, или стать активным солдатом подготавливаемого Крестового Похода и быть вне плоскости культуры, я бы стал крестоносцем. Я понимаю, о последнем не говорят, но есть моменты, когда не сказать о последнем значит отречься: если бы встретилась альтернатива – «метать бисер» «между водкой и селедкой» с одной стороны и «отречься от Христа» простым молчанием, я стал бы между водкой и селедкой метать бисер, чтобы не отречься молчанием.
А Гёте, культуру, корректность и космичность (не хаотичность) приемлю во всех тех пунктах, где они не умалчивают о Христе там, где иной раз уже молчать становится невозможным. Поймите, друг: у меня бывают минуты знания, ощущения того, что Штейнер говорит о Приближении. Как же я могу не идти на голос об этом, особенно видя, что в атмосфере московского перевоздержания, осторожности и мусагетской боязни сказать свое последнее credo, как веруем, – в этой атмосфере цветы не цветут, сплетаются сплетни и братья начинают коситься на братьев. Оттого-то мы с женой и поехали в Кёльн.
Николаю Петровичу.
Николай Петрович! К Вам моя любовь, мое уважение – уважение глубокое и стремление слушать Ваше строгое и правдивое слово. Не понимаю я в Вашей позиции следующего. Вы вместе с Эмилием Карловичем против Штейнера: но Вы считаете себя православным и Ваше Главное, насколько я Вас понимаю, есть православный Путь. Как же Вы примиряете в себе наш общекультурный путь с неуклонно узкой и глубокой линией православия? Если сумеете научить, научите: я вот измучился, изошел кровью между нашим знаком и философией, между Востоком и Западом, Москвой и Петербургом, Россией[2983] и Европой: скажите – в итоге этих восемнадцати месяцев нашли ли Вы равновесие, считаете ли Вы, что все между нами благополучно; если да, скажите, в чем наше преимущество перед всеми; если нет, то… куда идти? Вам, как церковнику, я скажу: были года, я искал в Церкви внешней слов поучения, и я нашел лишь красноречивое молчание, полное и смысла, и вместе многосмыслий: лучшее в Церкви молчит. Мы гибнем, а они всё молчат: заговори они, я был бы не со Штейнером, а они молчат, молчат, всё молчат, пока несведущие (вроде путейцев) предлагают лишь схемы. Вы-то хотите быть и во внешнем круге видимой Церкви, а она Вас не приемлет: она Вас отлучит за Ваши эстетические вкусы, за Ваши увлечения алхимической литературой. Я не рву с Церковью, но я вынужден вне очертания церковной ограды искать ответы на вопросы мои. Они не знают о Христовом Приближении. И радость Воскресения во Плоти им чужда. Словом, они хотят Креста: Розы никогда не примут они. Выходя из коллектива, я протягиваю с любовью и благодарностью руку Вам: будемте друзьями и впредь. Я же не могу оставить плоть, общество, искусство, жизнь: я не могу быть без Розы.
Оттого-то мы с женой поехали в Кёльн.
И еще. Штейнера все христиане подозревают в люциферизме и предвзятом толковании Христа. Я должен заявить, что слышал лекцию Штейнера «Христос и XX век»[2984]. Эта лекция была точно нарочно для меня прочитана: все мои сомнения в его понимании Христа рассеяны этой лекцией. Его понимание не посягает на символ веры, ни на православное раскрытое в разуме учение, а углубляет, говорит о еще не раскрытом в истории («Многое имею еще сообщить Вам», но… «а когда приидет Утешитель»[2985]). Отрицая принципиально углубление символизма о Христе, Вы должны отрицать и учение Соловьева о догматическом развитии. Мои лично сомнения о Христе этой слышанной лекцией сняты. Из всех тем именно эта была для меня наиспорнейшая в Штейнере. Не случайно он ее при мне читал. Отрицание Штейнера должно быть основано на реальном знакомстве с ним: на свиданиях и разговорах с ним, а не на подозрении. После реального соприкосновения с ним в ореоле знамений, мы решили хотя бы два месяца пожить при нем, чтобы ответить на вопрос, что есть Штейнер. И мое главное пожелание видеть Вас в Мюнхене на августовском курсе в качестве эксперта от Москвы, где много говорят против Штейнера и где мало соприкасались реально с его личностью. Приезжайте: предупреждаю Вас, штейнерьяда отныне в Москве усилится, и Вам все равно придется когда-нибудь ехать к нему, хотя бы для того, чтобы уметь в будущем бороться со все растущим его влиянием.
Алексею Сергеевичу.
Алеша, брат мой! Тебе ли писать о том, что нас разделяет, когда Тебя ощущаю воистину братом! Мне ли забыть многое, многое за 10 лет нашей близости! Знай только, помни – Ты мне брат: и все имеющиеся между нами «разногласия» и «при» не относи к себе лично: помни, я говорю о сегодняшнем непонимании наших отношений, свято неся вечную ноту нашей неразрывной близости. Так и помни. А теперь позволь мне для будущей ясности облегчить душу.
Линия моего непонимания Тебя заключается в том, что вижу иногда у Тебя желание опекать там, где никакой опеки быть не может. У Тебя есть много чисто-отеческого желания снисходить, понимать, оберегать, помогать. Это Твоя прямо жемчужная черта прекрасна, я ей преклоняюсь, но… с некоторого времени тут что-то не так: ты снисходишь… почти до слепоты. Для Тебя слово увлечение есть почти страшное слово. Ты безмерно спокоен, или желаешь казаться таковым. И часто Ты в этом кажешься слепым. От этого Ты начинаешь производить впечатление человека, у которого выдохлись все интересы. Искусство Тебе не дорого: Ты уже даже перестаешь понимать искусство. Мне иногда зимой было трудно с Тобой говорить, ибо на все у Тебя одно: «Э, да что там!»… Смотри: за «э да что там» как бы Ты не просмотрел, что совершается в душах близко от Тебя стоящих людей. Помнишь наш разговор в Бобровке[2986], когда я кричал: «Говоришь, говоришь, вопишь, а не слышат!» Ведь это я Тебе говорил, но и тогда, в Бобровке Ты меня не услышал. Вы все под моим молчанием и моей видимой растерянностью просмотрели линию моего выхождения из коллектива. Уже полтора года, с Каира, я пытаюсь каждому из Вас что-то сказать, и у меня впечатление, будто Вы не слышите меня, погрузились каждый в себя и из этой Нирваны равнодушно, без увлечения судите, взвешиваете, режете по живому, говорите о коллективе, но это – звук пустой. Алеша, опомнись: протри глаза – не Тебе меня опекать; решать за другого, что ему нужно: вспомни: я всегда был с именем Христовым, я никогда не менял круто основной линии пути; а Ты? На первом курсе я с Тобой сражался за Главное, и, конечно, Главным Главного было имя Христово. На втором курсе Ты круто повернул, и я, доходивший почти до бешенства в спорах с Тобою за все святое, в два месяца был заподозрен Тобой в антихристианстве? Ты пошел в Академию[2987]. И настали года, когда я уже был опять-таки более христианином в исповедании, чем Ты. Никогда не рисовал я ломаных линий, каким был, таким стал. Я упрекаю Тебя в том, что вижу, как Ты забываешь вчерашнее. Как бы я ни менял тактику, я не есмь тот, кого опекают. Всю эту зиму при попытках говорить ребром у Тебя я встречал «э, да что там». Алеша, бойся страшного паралича в развитии личности, имя которому «благодушие и равнодушие».
Милый брат, целую Тебя. Помни: эти слова мои не обвинение, а только до nec plus ultra[2988] подчеркивание одной едва звучащей в Тебе ноты; если она зазвучит громче, Тебе грозит остановка. Этой нашей общей остановки боюсь я: мы из коллектива превратились в коллегию друг друга опекающих и друг за другом ходящих дозором вплоть до наведения справок и сыска. Сторож коллектива, оберегая коллектив от увлечений, гневов, восторгов, как бы не стал Ты оберегать общее и от «звуков сладких и молитв»[2989]. Побольше Тебе истерики, безумия, вдохновения – побольше «эллисовщины», иначе сетованья Эллиса о Вашем с Мишей кадетстве превратятся в сетованья реальные. Боязнь увлечения, желание, чтобы все было благополучно, часто обертывается окаменением и утратой огня, а с огнем угашаются в сердце все интересы.
Огня интереса к реально происходящему в душе ближнего я желаю Тебе.
Михаилу Ивановичу.
Миша, милый: Ты не думай, что я забыл ту особую линию наших с Тобой отношений, которая началась с прихода в гости ко мне, «Всаднику Белому»[2990], Тебя, «Всадника Рыжего». С этого дня я Тебя особенно нежно полюбил; я всегда был с Тобою, и когда мы встречались, и когда не встречались. Твоего письма из Ялты в трудные для меня дни я тоже не забыл[2991]: все знаю, все помню. С той поры много изменилось – Ты возмужал, углубился: я уважаю глубоко Твою выдержку, твердость воли, постоянство в намеченной цели и систематичность. Уже давно – мы братья. И выходя из коллектива, я не только жму руку Тебе на прощание, я жму руку Тебе, как путнику на параллельном и мне близком пути. Что же я имею против Тебя? Против Тебя я немного имею, но уж буду до конца четок. Буду намеренно углублять мои недовольства. Алексей Сергеич снисходительно опекает и при том часто не видит, что он опекает, и во имя чего в данном случае опекать: опекает и снисходит так вообще; и потому иногда бывает слеп: получается путаница. Ты же часто уходишь, Твоя опасность: «Мое дело сторона». «Вы – мусагет, а я – штейнерист». Ты подчеркиваешь иногда свою неприкосновенность в том, в чем мы сообща барахтались этот сезон, думая, что соблюдаем какое-то status quo. Тебе я скажу прямо: когда мы в Брюсселе встретились с Эллисом[2992], Эллис мне сказал: «Жму Тебе руку за то, что Ты всю зиму твердо держался в стороне от Штейнера. Я даже против Тебя старался организовать в Москве кружок, но я на Тебя не сердился, ибо лучше Штейнера проклинать, чем заглядываться на него».
Так вот: крайний левый штейнерьянец подал бывшему крайнему правому (с его точки зрения) свою левую руку, осуждая кадетскую тактику М. И. Сизова и Петровского. Я знаю, что это не так, но считаю нужным заявить, что я не был в штейнеровском бунде[2993], ожидая времен и сроков. Относительно себя я соблюдал во имя всех нас (как носитель лозунга) строжайший нейтралитет: на Штейнера, как мне временно запрещенное, не заглядывался и даже вызывал с Вашей стороны нарекание в индифферентизме. Но моя нерешительность, боль, молчание, убегание в сторону, надеюсь, были красноречивыми показателями, как мучительна для меня остановка в пути. Вы этого не поняли.
Поймете ли Вы меня теперь? Я не знаю. Что касается меня, я себя понимаю прекрасно. В день, когда я счел необходимым ввиду отсутствия ясности наших отношений выйти, я столь же определенно и решительно, с «увлечением», так сказать, попал в Кёльн предложить Доктору прямой вопрос, как мне быть далее. И когда вместо ответа Доктор нас позвал, я не счел нужным говорить о том, что пути наши не сходятся (какие это у нас пути – «сидеть у моря и ждать погоды» до смерти?). Я определенно заявил Штейнеру, что согласен: и теперь, если потребует тактика движения, я поступлю в какие угодно «теософы» и в какие угодно «тетки»[2994], раз прикажет тот, кому я доверяю. То, что я знаю о Гельсингфорсе[2995] (а я все знаю), заставляет меня надеяться, что и Вы с Алешей отныне придете прямо к Штейнеру, а не станете «так сказать» штейнерьянцами.
Милый друг, вот сказал, как умел[2996].
Б.
P. S. Если Алексея Сергеевича это письмо мое уже не застанет, то по прочтению оного Э. К. Метнером, Н. П. Киселевым и М. И. Сизовым я очень прошу переслать и А. С. Петровскому по его летнему адресу[2997].
РГБ. Ф. 128 (архив Н. П. Киселева). Опубликовано А. Л. Соболевым: Арабески Андрея Белого. С. 69–77 (датировка: Около 7 (20) мая 1912. Брюссель). Датируется по почтовому штемпелю отправления: Brussel. 20 V 1912. Штемпель получения: Москва. 10. 5. 12.
249. Белый – Метнеру
Сейчас получил Ваше письмо длинное[2998]. Прошло около месяца после отправки моего письма до Кёльна[2999], до ряда событий невероятных в нашей жизни с Асей. И ответ Ваш через месяц повергнул меня в грустное чувство: когда же все это кончится! Вот два уж месяца, как хочу я Вам написать о целой эпопее, нами пережитой, но Ваши письма отнимают какую бы то ни было возможность психически иметь с Вами общение духовное вне Кожебаткина и продажи романа, который, кстати сказать, я не мог писать около 3 недель из-за писем Ваших[3000]. Боже мой: вот реакция на Ваши письма: видя конверт от Вас, я уже нервничаю, кончаю письмо – неизменные – прилив к голове и мигрень. А Вы требуете, чтобы я перечитывал Ваши перечисления мотивов, почему правы Вы, а не я.
Ну хорошо. Я дал себе слово – не возвращаться к полемике; но поскольку я считаю, что образ мой очерчен Вами в письмах искаженно, то я не могу согласиться с очень многим Вашего письма. Ибо стоит мне объяснить, что я 3 часа у Кожебаткина не сидел[3001], как вы строите новое обвинение: почему же Вы не писали Кожебаткину. Ответишь на это – и вырастет опять новое.
Я и решил: больше не писать ни о чем подобном. Считайте себя правым. При свидании мы поговорим, ибо perpetuum mobile есть perpetuum mobile. Сколько бы мы ни объяснялись письменно, мы не подвинулись бы.
А жаль, очень жаль, что Вы загнали нашу переписку в какой-то роковой тупик, из которого совершенно не слышен голос «старинного» друга, к которому мысленно я возвращаюсь, с которым имею «умопостигаемые» беседы и с которым в письме так трудно эмпирически побеседовать о Главном, Странном темпе нашей брюссельской жизни. Впрочем, Вам, вероятно, и не интересно знать, что с нами было…
Сейчас у меня остался месяц до срока окончания романа, и надо работать безмерно, чтобы выполнить обещание представить окончание к 20 июню[3002]. Наш день в Брюсселе проходит так: с 10 до 7 часов пишу. С 7 до 10 занимаемся немецким языком, читаем интимные курсы Штейнера и делаем к ним комментарии. После 10 чувствуется такая усталость, что просто ужас. Такой темп жизни вызван тем, что мы в начале июля в Мюнхене (около Штейнера), а в августе слушаем курсы.
Вообще вопрос о Штейнере мы решим не издалека, а основательно его узнав, и как личность, и как Учителя, ибо первый же разговор с ним и 3 проведенных в Кёльне дня в его атмосфере разбили все мои отвлеченные схемы о нем. Остается неминуемо реально узнать и его, и его доктрину.
Наши недоразумения, наша взаимная усталость, «при» и прочее есть для меня показатель нашего общего несовершенства. Охотно признаю, что весьма несовершенен и я, и прошу меня простить в том, что в моих письмах или в моем поведении показалось Вам странным. Прошу только об одном: отложим все это до личных разъяснений. Никакого чувства у меня против Вас нет, но пререкаться четверть года из-за того, 3 минуты или 3 часа я дружил с Кожебаткиным, я не могу (я работаю по 10 часов в день и готовлюсь к очень важному шагу жизни); а в таком настроении все «пререкания» просто ужасны: просто рассматриваешь их как нечто во что бы то ни стало желающее тебя сорвать (il faut le battre, le pétrire, le brоyer)[3003].
Охотно уступаю Вам до личного разговора Вашу абсолютную правоту: только не будем пререкаться.
Милый, на днях Вам пишу и опять-таки о спорном пункте: о своих отношениях к д’Альгейму и о том, почему я все-таки еду в Bois-le-Roi[3004], хотя Вы наложили на меня нравственный запрет. Тут опять мы не сходимся. Мой адрес: France. Bois-le-Roi. Seine et Marne. Chèz Monsieur Pierre d’Alheim. Ася приветствует Вас. Крепко жму руку. Остаюсь глубоколюбящий Вас
Борис Бугаев.
P. S. В Берлин не приеду, ибо еду работать с утра до ночи.
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 62. Датируется по почтовому штемпелю отправления на конверте. Отправлено в Пильниц.
250. Белый – Метнеру
Вы пишете[3005], что окончательно убедились в том, что нечего от меня ждать понимания моих прегрешений, ибо то, что Вы ждете от меня, сводится к тому, чтобы я перед Вами раскаялся и признал, что Вы во всем правы. Вы не понимаете, что настойчивый тон, невозможная едва терпимая раздражительность Ваших нападок, прошлогоднее выражение Ваше «уважение пало»[3006] (которое я не мог никогда забыть и никогда не забуду, ибо подобных выражений по отношению ко мне никогда никто себе не позволял): – словом, настойчивая запальчивость Ваших писем в свою очередь показывает мне окончательно, «что нечего ждать от Вас надлежащего отношения» к моей просьбе не писать мне писем такого содержания и отложить вопрос о наших отношениях до свидания.
Итак, это мое последнее письмо на темы нашей переписки.
Неоднократно я протягивал Вам руку примирения: Вы тоном Ваших писем показали мне, что не принимаете мое желание через все заговорить с Вам<и> по-настоящему, по-дружескому.
Мое коллективное письмо оправдательного характера[3007] вызвано Вашим указанием мне, что в «Мусагете» все удивляются моим поведением, и потому я и понял, что Вы лишь выразитель дружного негодования на меня друзей: в письме своем я повторил главным образом лишь то, что написал Вам лично в первом письме[3008], ибо от Вас получил уведомление, что Вы моего письма к Вам не получали.
Вы и Штейнера использовали для того, чтобы ткнуть меня носом новый раз в кашу нашей переписки.
Что Вы́ все толкуете о моих поступках, стоите над душой и два месяца не даете мне покоя. Вы мне сорвали мою работу, измучили – и гвоздите, гвоздите, гвоздите.
Убедительно прошу Вас, дорогой друг, лучше вовсе не писать мне, чем безрезультатно препирать и попирать меня и самому препираться о мои письма, которые суть лишь самооборона. Когда на Тебя нападают, то Ты защищаешься, ибо не желаешь ходить в морально полученных синяках. Вы даже не замечаете, как грубо иной раз бьете меня хотя бы пожеланием о том, чтобы отношения наши были perpetuum nobile[3009]: ведь, судя по контексту всех писем, отношения наши благодаря мне – суть perpetuum ignobile[3010], где автор ignobilia[3011] я. Вы гипертрофируете всякий мой lapsus linguae[3012] по отношению к Вам, а сами вы покрываете меня своими lapsus’aми. Вы слишком чутки к тону моих писем и весьма нечутки к тону, каким Вы пишете.
Вы с какою ожесточенностью сами жжете все мосты между нами: после получения Вашего последнего письма у меня опустились руки: если я написал позорящее Вас письмо, ради Бога простите, умоляю Вас, ибо я ни в мыслях не хотел Вас оскорбить.
Вы же не видите, что заставляете думать меня о Вашем отношении ко мне после заявления (прошлогоднего) уважение пало и после «прекрасно звучащего» сетования о perpetuum ignobilia. С неуважаемым автором, отношения с которым суть ignobilia, не переписываются. Требовать, чтобы адресат внимательно глотал подобные выражения как уважение пало, стану капралом и perpetuum nobile (в противоположность ignobile), конечно, становятся на дороге всякого понимания.
Вы сообщаете мне обо мне заведомо ложные сведения о том, будто я имел трехчасовую беседу с К<ожебаткин>ым конспиративного характера тоном, не допускающим сомнения в том, что вы верите заведомой лжи, не понимая, что уже фактом этого сообщения в тоне доверия к сообщению вы жестоко меня оскорбляете, вызывая меня на бурнейшую реакцию.
После же вы только между строк только сообщаете мне, что весьма рады, что дело обстояло не так, с недопустимою легкостью, не имея ни капли раскаянья, ни даже понимания того, что вы, размазывая ложь на многих страницах, доставили мне дни нестерпимого страдания и горечи незаслуженной обиды. Словом, если бы Вы реагировали с тою же чуткостью на обидность для меня Ваших писем, с какой реагируете на каждую мою фразу, – не было бы двухмесячной переписки, не было бы с моей стороны явного нежелания перечитывать Ваши прокурорские акты. Конечно, я неврастеник («при такой неврастении нечего ожидать, что Вы можете отнестись к письмам так, как надо»[3013]). Merci! Когда В. К. Кампиони позволил себе однажды заметить мне нечто подобное, то я около недели с ним не говорил. Сказать это столь же деликатно, как ткнуть пальцем в горбатого и крикнуть: «Горбач! Горбач». По поводу неврастении напомню Вам евангельский текст о сучке и бревне[3014]. И так что же двум неврастеникам объясняться на неврастенические темы, в которых давно уже элемент дела исчез. «Мусагет» испарился, о «Трудах и Днях» ни слова, а на желание мое писать об ином, внутреннем, важном для меня – я получаю немой ответ: «Je m’en fiche»…[3015]
Ладно: не стану приставать к Вам с внутренним, и не пишу больше о нашей тяжбе.
Наша переписка, согласитесь, не есть ни деловая, ни духовная, ни холодная, ни горячая: она – душевная, теплая и слякотная канитель, где мы пересчитываем, кто кого переоскорбил.
Не я напал на Вас: Вы бросили мне заряды обвинений: прокурорски судя, уже предрешали суд и вынесли приговор, поверили Кожебаткину (факт невероятный!!!) и тем поставили меня в невозможность спокойно Вам отвечать.
Ваши письма показали, что у Вас нет ни капли уважения ко мне, раз Вы можете верить заведомо ложному.
В последний раз умоляю: до личного свидания en deux[3016] (когда спокойно, с глазу на глаз возможно вернуться к нашим отношениям) не будемте касаться темы двухмесячной канители. Я предупреждаю Вас, что еще слишком остро чувствую боль огорчения, чтобы со спокойным беспристрастием и милой улыбкой на лице отвечать на темы вроде «ignobile».
Остаюсь крепко любящий Вас Борис Бугаев.
P. S. Я не вполне понимаю, чего Вы хотите от меня: я готов анализировать все свои недостатки, знаю, что слаб и нищ. И охотно прошу прощения в том, что Вам доставил столько неприятных минут. Одного я не стану делать: унижаться и кланяться! Я уже многократно пытался идти Вам навстречу, и Вы требованием, чтобы я признал, что Вы во всем великолепны и правы, показали мне, что хотите чего-то иного, чем примирения или разбора: Вы хотите какого-то публичного моего покаяния в едва понимаемых мною проступках против Мусагета и Вас.
P. P. S. Фатально: сегодня утром встал работать: получил Ваше письмо, и – рабочий день сорван…
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 63. Датируется по почтовому штемпелю отправления на конверте. Отправлено в Пильниц.
251. Белый – Метнеру
Позвольте мне через раздирающую наши отношения полемику принести мои искренние извинения в резком тоне всех моих отповедей Вам.
Не оправданием, а психологическим объяснением оных пусть послужат мне нижеследующие пункты: 1) не я первый затеял полемику, 2) в вопросе о Кожебаткине я не виновен (что же касается моего личного примирения с ним в то время, ибо теперь после всего бывшего – это не так: что касается личного примирения в то время, то это вопрос, которого не вправе касаться мои друзья, если они касаются в тоне требования объяснения, ибо это их не касается. 2) Роман продал под влиянием необходимости после окончательного провала «Петербургского Вестника»[3017]. И не раскаиваюсь: ибо это дает мне несколько месяцев независимости в момент, когда независимость эта нам с женой необходима.
Конечно, это все не оправдания, а объяснения резкой отповеди Вам.
Итак, я прошу Вас простить, если я огорчил Вас.
Конечно, действительность обнаружила наше диаметрально противоположное отношение к ряду вопросов. И с этим постараемся мириться на будущее время.
Я от всей души прошу меня извинить за весь инцидент этой двухмесячной переписки.
Мне остается еще для удовлетворения Вашего нравственного требования объяснить мое присутствие в Bois-le-Roi[3018], что я и сделаю на днях.
Постараюсь действовать так, чтобы мои дальнейшие действия в «Мусагете» не вызвали нарекания друзей: буду осторожен и скромен.
Остаюсь искренно преданный и любящий Б. Бугаев.
P. S. Позвольте мне выразить Вам горячую мою благодарность за хорошие Ваши слова в № Втором «Трудов и Дней» о моей Симфонии[3019].
Я – весьма скромного мнения о том, что я сделал. Оттого-то я порой и высказываю несправедливые нарекания друзьям по поводу того, что они не балуют меня советами в моих все еще робких шагах на поприще литературы (это к Вам не относится).
Моим друзьям я пишу письма, в которых прошу меня извинить во всем бывшем тем более, что вряд ли мы увидимся вскоре и поэтому мне, перед важным событием моей жизни, важно расстаться со всеми близкими в мире.
P. S. Относительно коллектива Вы правы. Эллиса – почти правы.
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 64. Отправлено из Буа-ле-Руа в Пильниц. Почтовый штемпель отправления неразборчив.
252. Белый – Метнеру
Bois-le-Roi.
Спасибо за радостное Ваше письмо[3020]: о, как я измучился за эти два месяца нашего расхождения. Ведь Вы не можете и вообразить, до чего Вы мне дороги, до чего грустно и тягостно мне всякое расхождение наше. Пишу Вам на днях большое и обстоятельное письмо о многом, так произвольно и странно вторгшемся в нашу жизнь.
Да будет между нами мир и да соединим наши мечи, ибо нас – мало: мы такие «бездомные», такие бесприютные. Нам ли разрушать катакомбу, в которой мы ныне.
Старинный, старинный друг[3021]: ну конечно, мы будем вместе: ведь встреча с Вами – для меня роковое и очень важное в жизни. Если мы будем посягать и на это, то… что останется от нас.
Милый друг, в Москве вы прочтете мое послание: не обращайте на него внимания: оно, порождение бессонных ночей и неотвязных дум, тревоги. Мне сейчас очень грустно, что я написал 2 коллективных письма под влиянием минуты[3022].
Да канет все это в прошлое. Ну, обнимаю Вас и крепко, крепко жму крепко руку. Ася приветствует. На днях много пишу. (Собираюсь Вам прислать о «Тр<удах> и Дн<ях>» и о себе целое исследование). Здесь – до 20-х чисел июня.
Ваш Б. Бугаев.РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 65. Датируется по почтовому штемпелю отправления на конверте. Отправлено в Москву.
253. Белый – Метнеру
Извиняюсь за долгое молчание. Поймите, оно вызвано не случайно. Оно – из наилучших побуждений. Между нами встал ряд недоразумений. Мы с ним покончили. Мне надо Вам писать о столь большом и глубоком, что не могу я сразу от писем о Кожебаткине перейти к другому. Написать Вам сейчас о самом важном, о чем хотел (единственно только об этом хотел) писать из Брюсселя, не могу. Тогда вместо Главного, что просилось наружу, мы писали друг другу о Кожебаткине. И напиши я тотчас же о другом, другое зазвучало бы в какофоническом ладе. Вот первая причина моего молчания.
Вторая причина внешняя. Я так безмерно устал. Подумайте: 2 месяца в Брюсселе шли в темпе невероятном: 1) внутри ряд изумительных феноменов, происшедших с нами (просто сказка из 1001 ночи), в результате которых мы кинулись в Кёльн и попали в Мюнхен[3023]. 2) Упорнейшая работа над романом (обессиливающая и высасывающая мозг)[3024]. 3) Ежедневные занятия немецким языком и разучивание курсов Штейнера[3025]. 4) Неприятности с Москвой. Такой сложности я не выдержал и почти свалился от нервного переутомления в Bois-le-Roi.
В Bois-le-Roi было не легче: присоединились разговоры, вопросы совести, бои с д’Альгеймами. И вместе с тем самые ответственные места романа.
На переписку фактически нет времени, а писать Вам после бывшего между нами втрое сложней; это – работа двух-трех дней (я боюсь Вам писать: напишешь фразу неловкую от усталости, от безмерной усталости, Эмилий Карлович, а Вы ее поставите еще как лыко в строку, и снова возникнут серии писем).
Вот отчего я жду времени и вдохновения, чтобы сказать Вам Главное, что имею, без этого же все письма, все объяснения непонятны.
Поэтому скоро, но не сейчас напишу Вам о журнале (его, так сказать, личную критику), о книге Вашей[3026], о Мусагете, о себе и Вас.
Пока же вот очень важное для меня сериозное и лично деловое: дело об имении[3027] поставлено на хорошую дорогу. В. К. Кампиони берет отпуск, едет, снимает план (для закладки это надо, какой-то план, которого нет в бумагах), на месте узнает ценность земли (он же специалист), разбивает на участки и на месте же видит, что предпринять, продать ли частично, сдать ли <в> аренду, продать целиком, или заложить. Лучше всего заложить, ибо дорога решена и через 2 года тысяч на 10 имение дорожает[3028]. Закладка не так проста, как Вы писали. Нужен ряд хлопот и 3–4 месяца с момента начала дела. Но… но… но… Вот тут-то вся суть: до Кёльна мы думали вернуться; порцию денег за роман я получаю (½ половину) по напечатанию, ввиду ряда измучивших причин роман я не мог к сроку окончить; роман к сроку не выйдет. И с середины сентября до ноября нам будет сложно. У В. К. Кампиони для поездки на Кавказ, планов, житья там (ему нужно 300 рублей). Он 100 достает. 200 мы обещали выслать, но не можем, ибо деньги нам нужны до окончания курса в Базеле[3029] (от Штейнера мы не уедем теперь). Тогда: В. К. Кампиони не едет на Кавказ. И все дело опять застревает. Если бы Мусагет мог выслать В. К. Кампиони 200 рублей теперь к августу, то через 3–4 месяца Мусагет получил бы мой долг. Если нет, то… И все дело в 200 рублях. Ответьте, дорогой друг, может ли Мусагет выслать В. К. Кампиони 200 рублей или нет к августу тотчас же, чтобы мы изыскали средства на поездку сейчас же. С нетерпением ждем скорого ответа. Остаюсь искренне любящий
Борис Бугаев.
Вообще: можно ли сейчас достать 200 рублей до октября (роман выйдет тогда) или до закладки?
Наш адрес: München. Akademiestrasse 7. Pension Romana. III St. Мне.
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 66. Датируется по почтовому штемпелю отправления на конверте.
254. Метнер – Белому
Траханеево[3030] 15/VII 912.
Милый дорогой Борис Николаевич! Если Вы получили мое письмо, отправленное в Bois le Roi 3/VII[3031], то знаете, что я считаю себя у Вас в долгу как корреспондент, а не обратно. И мне сейчас и некогда и не хочется тратить времени на переписку, ибо я слаб и должен весьма беречь свои силы, чтобы хоть что-н<ибудь> сделать при моей плохой работоспособности. Спешу лишь уведомить Вас, что распоряжение о высылке 200 рублей Кампиони сделал немедленно по получении Вашего письма здесь. Если все запоздало на несколько дней, то лишь потому, что я застрял у Марг<ариты> Кирилловны[3032], где я на этот раз особенно хорошо отдохнул и душой и телом. Журнал[3033] у нас висит в воздухе. Материалу никакого для сентябрьского номера (т. е. для 4-ой собственно июль-августовской тетради), кот<орый> ведь необходимо выпустить в начале сентября. № III я выпускаю, не дожидаясь Скалдина от Вас и статьи Вячеслава[3034]. Обнимаю Вас и приветствую Асю, Наташу[3035] и весь русский вагон теософов в Мюнхене[3036]. Ваш Э. Метнер.
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 11.Ответ на п. 253.
255. Белый – Метнеру
Позвольте мне Вас поблагодарить за то, что Вы сочли возможным выслать Вл<адимиру> Конст<антиновичу> Кампиони деньги, ибо, право, это очень меня выручает: так или иначе, но почти наверное я сумею заплатить Мусагету мой долг в декабре, ибо на закладку имения уйдет не менее 3–4 месяцев.
Позвольте мне извиниться: на Ваше хорошее, хотя и полемическое письмо[3037] я молчал: молчал по многим причинам; одною из причин была следующая и весьма понятная: ввиду того, что Ваше письмо было ответом на мое 2-ое коллективное письмо[3038], а я получил оный ответ через 2½ месяца, весьма понятно, что Ваша живая реакция по прочтению моего второго письма не соответствовала моей психической настроенности во что бы то ни стало защищать пункты этого моего письма. Да и кроме того: так не хотелось возвращаться, к темам, смежным с нашей полемикой. На письмо Ваше отвечу прямо и кратко. 1) Все, что Вы пишете о Христе, меня успокаивает, приводя к нашим разговорам 1902 года. 2) Гёте недостаточно знаю, чтобы о нем судить. 3) Штейнера недостаточно знаете Вы, чтобы судить о нем. Вот пожили бы Вы месяца два при нем, тогда бы мы могли поговорить на эту тему. Иначе: мне кажутся Ваши возражения на тему о Штейнере не достигающими цели. Замечу, дорогой друг, лишь одно: я и Вам пишу «Вы» с большой буквы; так принято выражать уважение; если я Вам пишу «Вы» с «В» большого, то следовало бы, говоря о Вас, как о третьем лице, писать Он с «О» большого. То, что я пишу Доктор, Он, с больших букв, есть показатель моего уважения: а уважение есть чувство, в котором, кажется, нет ничего предосудительного.
Объясняю еще мое молчание тем, что последние два месяца и совсем замолчал, ибо: Вы не можете себе представить здешней жизни, до чего она напряженна и как все работают, работают по 18 часов в день: жизнь кипит бурно, стремительно: Доктор (видите, опять «Д» с большой буквы) последние два месяца не спал: и это не в переносном, а в буквальном смысле слова. Мы тоже работали: 1) каждый день уроки немецкого языка для Наташи[3039] и Аси, 2) каждый день перевод мистерий[3040], 3) лекции Эллиса по важным циклам, которые мы не успели прочесть, 4) мы переводили циклы, 5) работа, заданная мне Доктором, 6) режим, требующий особой сосредоточенности.
Видите, до писем ли?
Дорогой друг, позвольте мне теперь посетовать на Вас: Вы были в двух шагах от нас, в Байрете, и не известили вόвремя[3041]; не приехали в Мюнхен, не могли даже уведомить, чтобы я приехал и поговорил с Вами хотя бы два часа лично, чем устранилась бы самая необходимость писать изнурительно огромные письма. То, что я хотел бы сказать Вам лично, придется суммировать в пунктах Петровскому[3042], а это сложнее. Ведь не знаю, когда увидимся, ибо мы с Асей не приедем в Москву: наша участь решена. По крайней мере год мы не можем уехать от Доктора, и Вы прекрасно понимаете, почему; далее: мы сейчас хрупки, как фарфор; теперешняя наша работа Доктору такова, что ряд месяцев будет нас приводить в состояние чрезвычайной нервной хрупкости, граничащей с нервным расстройством, и лишь потом приведет к укреплению всей физическо-душевной конструкции. Да, Эмилий Карлович, мы занимаемся радикальным ремонтом негодных ветшающих построек, называемых личностями: друзья должны этому радоваться, ибо, надеюсь, мы придем со временем в такое состояние, когда уже друзья перестанут измерять в градусах падение или возрастание своего уважения или неуважения к нам.
Что ж, уезжая из Москвы, мы вызвали реакцию: нас обвиняли, мне вменяли в обязанность делать то-то и то-то: не делать того-то; я и внял: только учиться друг у друга нам не пристало, ибо у каждого есть свои аффекты и дефекты; я и выбрал себе учителем Штейнера тем более, что мое личное глубокое потрясение всем строем его обращения с нами разделяет и Ася. Рубикон мы переступили; и теперь: лучше нам умереть голодной смертью в Берлине, но неподалеку от Доктора, чем вернуться в Москву, где все мы порядком-таки измучили друг друга, и где все равно работать нельзя. Вам лучше в бытовом отношении. Вы устроились в деревне, приезжаете раз в неделю и потом отдыхаете в природе: но прожить еще один сезон так, как прожили мы с Асей, в Москве, в одной комнатушке, на народе и так работать, получая щелчка то от Брюсова, то от мусагетских недоразумений – нет: да при режиме, данном мне доктором, я умер бы теперь в Москве. Мы вернемся в Россию, через год, полтора, набравшись сил, окрепнув для сознательной и стойкой работы.
С Мусагетом меня связывает глубокое чувство: никогда не ощущал необходимость Мусагета так, как сейчас; но могу работать в Мусагете лучше из Берлина, чем оставаясь в Москве.
Да при отсутствии денег возвращение в Россию и сколько-нибудь сносная жизнь дороже. Если умирать с голоду, лучше умирать с голоду в атмосфере покоя и при Учителе, нежели в атмосфере Москвы.
Но не стану писать о том, что было. Была и моя вина, были и химеры. Все хорошо, что хорошо кончается; и надеюсь, недоразумения наши в прошлом. Прошу верить, что мое, так сказать, штейнерьянство нисколько меня не откидывает ни от друзей, ни от литер<атурной> деятельности, ни от Мусагета: временно, на полгода я должен замкнуться в полную сосредоточенность и спокойствие, на несколько месяцев как бы умерев для всего, ибо, кроме личной потребности на это время уйти в келью, это необходимый первый шаг сколько-нибудь реального ученичества, без которого (я говорю не шутя, а совершенно серьезно) нам с Асей грозит настоящее психическое расстройство (мозг не выдержит). Если в этот промежуток времени Москва будет нас терзать, остается повеситься. И так-то едва выдерживаешь атмосферу в 100 давлений, и так еще предстоят эти 4 месяца всякие сложности и давления судьбы: если к этому присоединятся еще недоразумения с друзьями – я говорю серьезно: во мне что-то окончательно лопнет. Вы не можете себе и представить, как изнурителен путь, намечающийся сам собою для нас с Асей у Доктора. Как ужасно выдерживать давление одного присутствия неподалеку от Доктора: ведь это – гигант, с шуткою предлагающий Вам 15-пудовую гирю (для него она – пушинка; Вы же раздавливаетесь). А между тем, если по воле внешних или внутренних причин мы с Асей сейчас отступим, или хотя бы уедем, мы сломаемся уже навсегда: уехать уже нельзя. Вступая в адские ступени чистилища, убежать отсюда – значит навсегда остаться в аду, ибо зажженного пламя испытания никто не снимет, кроме Доктора; уйти, вернуться – значит уйти от Рая; с Кёльна до сих пор (4 месяца) мы уже идем по пути, так что поздно сходить. И я умоляю Вас, старинный друг, серьезно принять это в душу. Если Вам был близок Андрей Белый, если Вы хотите, чтобы и впредь был бы Андрей Белый, а не идиот из сумасшедшего дома, примите это и помогите нам в этот решающий миг быть спокойными. Ибо чувствую где-то вдали подходящую силу и знаю: если приближение ее будет сорвано теперь, вся душа оборвется уже навсегда в этой жизни.
Дорогой друг, есть еще один пункт, в котором умоляю Вас, что-либо мне помочь; этот пункт есть пункт денежный.
Знаю и не забуду безмерной услуги, которую благодаря Вам оказал мне Мусагет: знаю, что смысл нашего путешествия в Сицилию, Тунис, Египет и Палестину был преддверием к первому шагу по пути ученичества (если Вы прочтете сполна мой этюд Египет, то Вы узнаете реально по описанию пирамид, Сфинкса, Каира и т. д., что нечто в наших душах началось уже ранее Доктора, а работа Доктору есть работа над эфирными чувствованиями, пробудившимися в нас с Асей у подножия пирамид). Наша поездка в Египет была не только началом отплытия от Москвы, началом пути с Асей, свадебным путешествием; это свадебное путешествие стало и преддверием к нашим первым шагам на тернистом и длинном пути, который реально развертывается вблизи от Доктора.
Только теперь понимаю то особое чувство разочарования, которое охватило меня, когда я весной 1911 года вернулся в Москву и увидел, что никто из друзей не понял сущности того во мне, что мы с Асей увидели, как ви́дение, в Африке. Я чувствовал сплошное чувство досады от того, что слова мои об Африке кажутся лишь словоохотливостью туриста, что «Путевые Заметки» мои, которые для меня не менее важны, чем «Голубь»[3043], даже никем не читались, что «Путевые Заметки» остались для всех кинематографом образов, а не вздохом души, в далях мира и далях пространства увидевшей Свет. Что делать: иные идут к Штейнеру через зубрежку циклов, шагая через страницы; мы с Асей именно тогда приближались к нему, когда шагали по странам, и в Египте, у подножия пирамид, и у порога мечети Омара[3044] под неприязненными криками нас проклинавшей кучки мусульман мы уже реально приобщались первой медитации Доктора. Путь наш к Штейнеру начался с Монреаля, когда мы в Соборе встретили Рождество, продолжался под бирюзовыми лучами луны на плоской крыше Радеса, и в пустыне у Керуана[3045], и в пустыне Ливийской под лучами египетского полудня… Ничего, нечего не поняли друзья, когда мы вернулись в Москву (я не о Вас, дорогой друг, а о всей сумме нас в Москве); после таинств путешествия нас встретили лишь мелочами: помню – говоришь: «В Африке мы узнали», а тебя обрывают: «Пять месяцев тому назад Кожебаткин»…
Уже тогда мы реально отделились от Москвы.
Сезон 1911–1912 года был для нас лишь сезоном удуший в Москве, где даже работа срывалась; все равно: если бы мы роковым образом не поехали бы к Штейнеру (вблизи которого поняли, что такое для нас был Египет), мы бы говорили на разных языках с Москвою. Этот же истекший сезон привел меня в состояние такого рамолисмента, что я погиб бы, если б не Штейнер.
И вернуться в Москву теперь → плюхнуться в сплошное, бесцельное безобразие (да еще с содранной от медитаций кожей (первые медитации Штейнера – хирургическая операция) и обнаженными нервами) → значит погибнуть.
Вот…
Ввиду этого, дорогой, умоляю Вас: не заставляйте нас предпринимать обратного путешествия в Москву за поисками денег, ибо все равно наше возвращение в Москву будет возвращением за несколькими стами рублей, из которых рублей 300 съест само путешествие, ибо жить без Штейнера нам нельзя.
Теперь: вот наше положение. Мы – втроем, едем в Базель[3046]; через 2½ недели денег не будет (порцию денег за роман 1100 получим лишь в декабре, ибо роман лишь через месяц кончу[3047]); тогда же будут деньги от залога. Через 4 месяца мы богаты; но ирония судьбы в том, что 4 месяца до этого нам предстоит голодная смерть. Ради Бога, помогите: и вот сетую; если бы Мусагет напечатал «Путевые Заметки», которые уже ровно год, как готовы, я имел бы нравств<енное> право просить за них гонорар; к этому праву присоединилось бы и горячее желание автора видеть свое детище напечатанным тогда, когда сердце к нему не остыло еще (право, «Путевые Заметки» книга хорошая, а не отбросы, как мнят мусагетцы). Мусагет же откладывает книги годами; почему? Денег нет: но год тому назад деньги были. Почему же год тому назад не издали хотя бы первую часть. Я не сетую: я горюю; ибо ужасно мне теперь, ибо знаю, что у Мусагета нет денег, знаю, что я работаю много. Не виноват Мусагет, но не виноват и я, русский писатель, которому в критический момент всей жизни, с ободранными нервами, с невозможностью уехать в Россию приходится, как милостыни, просить денег. Помогите! Если не мусагетскими деньгами, то нельзя ли занять мне рублей 200. Я уже написал соответствующее письмо Марг<арите> Кирилловне, прося занять у нее до декабря[3048], т. е. до получения денег от Некрасова. Но мне нужно сейчас иметь рублей 500, ибо 1) прожить месяц в Базеле, 2) отправить Наташу в Россию[3049] (ей необходимо было жить при Докторе – это между нами), 3) на устройство жизни в Берлине.
Жить дешево, а устроить дешевую жизнь на много месяцев не дешево в первый месяц. И вот: ради Бога, пока что пришлите скорей 200 рублей, или телеграфируйте: помните, пишу это письмо 28 августа (нового стиля) и в пространство, ибо Вы не дали свой адрес никому (вот за это надо мне Вас теперь журить, как Вы меня: ни Эллис, ни Петровский, ни Киселев не знают Вашего адреса). Через 2½ недели денег не будет ни гроша.
Кроме того: предлагаю Мусагету:
1) переиздать том Симфоний (4 Симфонии),
2) два тома стихов (выборку из 3 томов),
3) Путевые Заметки,
4) «1-ый том Голубя»[3050],
(или Некрасову). Вот мой выход пока гасить мусагетский долг; если бы год тому назад Мусагет мне предложил бы это, часть долга была бы погашена уже теперь.
Жду горячо, с нетерпением ответа по адресу:
Suisse (Schweiz). Basel (Bâle). Poste restante. В Базеле будем через неделю.
Обнимаю Вас, дорогой друг. От Аси привет.
Анне Михайловне[3051] привет. Всем Вашим также.
Борис Бугаев.РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 67. Авторская датировка – в тексте, в заключительной части письма.Ответ на п. 254.
256. Белый – Метнеру И «МУСАГЕТЦАМ»
Ввиду всевозможных осложнений в прошлом и для пресечения взаимного непонимания в будущем я суммирую то, что имею сказать «Мусагету» (редактору-издателю или той корпорации лиц, находящихся в Москве и связанных с Издательством, которая составляет идейную группу «Мусагета»).
Разделяю мои пункты на пункты теоретического порядка, предложения, недовольства.
Здесь определяю свой взгляд на «Мусагет».
1) Предполагаю, что «Мусагет», если помнить историю его возникновения, не есть только издательство, но издательство, имеющее идейные цели.
2) Предполагаю, что я член Редакции, более того, член Редакции, – проводивший реально свои взгляды в «Весах». И потому считаю возможным вмешиваться во все детали издательства (если оба мои предположения не разделяются редактором-издателем или коллегией лиц, составляющих «Мусагет», прошу меня своевременно вывести из заблуждения).
3) Я считаю, что «Мусагет» не есть только полезное книгоиздательство, но и живое дело, формы проявления которого разнообразны, гибки, текучи; как живое дело, «Мусагет» не может руководиться застывшим кодексом кодификации и параграфов. Как живое дело, «Мусагет» должен более заботиться о тактике выявления себя во времени: слышать «шум времени», ибо само собой разумеется, что члены Редакции «Мусагета» относятся с уважением к Прекрасному, Вечному, неизменному во все времена. Но на вечном и прекрасном в этой плохой современности не построишь живого дела: культурные ценности или творятся, или культурные ценности являются предметом разговора. Я понимаю Мусагет, как самое творчество того, что впоследствии будет объектом рассуждения, культура он или нет, и не довольствуюсь пониманием «Мусагета», как учреждения, заключающего культурные ценности всех веков и народов в переплет с изображением марки «Мусагета».
4) То есть: «Мусагет» не музей, а храм, а – живой алтарь.
5) Алтарь служения русскому и не русскому символизму (в предположении, что символизм, само собой разумеется, есть культура).
6) Есть творчество культуры: и есть констатирование культурных ценностей. Есть буддийская, христианская, арийская и т. д. культуры и есть Будда, Христос, Зигфрид и т. д. Не знаю, был ли культурен Господь наш Иисус Христос, но знаю, что он создал культуру. Хотел бы, чтобы «Мусагет» служил тому, что впоследствии может быть рассмотрено, как новая культура. В словах «мистерия», «религия», «посвящение» слышу нечто, часть чего впоследствии бывает всецело культурой. Не знаю, культурен ли я, утверждая, что культура есть остывание лавы творчества; а сама лава творчества продукт посвятительного религиозного огня. Не полемизирую со словом культура, но в своем личном деле в оном не нуждаюсь, предоставляя оформливать уже со стороны, культурна ли моя литер<атурная> деятельность или нет.
7) «Мусагет» отсюда для меня – алтарь служения Ведомому мне Богу: формы же проявления служения этому Богу сообразны с «шумом времени». Признаю лишь до некоторой степени (но признаю всецело), что иногда время определяет эти формы так, что Ведомый Бог в этих формах является, как Неведомый, т. е. в маске за подписью «Культура». Этому Богу служу с ограничением (но служить могу).
8) В этом смысле для меня Маской божественного дыхания был символизм, и я лично в слове Культура не нуждался: если в этом слове нуждаются мои сотоварищи по Редакции, протестовать я не буду, но буду стремиться аксентуировать иные слова: мистерия, Бог, и наконец Символизм.
9) Алтарем «неведомому богу»[3052] (в сущности ведомому) был для меня символизм, в тайном своем предчувствующий «новую землю и новое небо»[3053]. Эта нота звучала в Вл. Соловьеве: но в символизм специально это предчувствие внесли В. Иванов, Ал. Блок и я.
10) Как один из трех, собственно двух, теоретиков русского символизма я в Мусагете не могу допустить, чтобы эта нота не была уважена, т. е. чтобы со мной не считались.
11) Символизм был лишь вопросом, осознанием первоисточника великой культуры, грядущего чрез ars в mysterium.
12) Реальным раскрытием символизма для меня является розенкрейцерство. Отношения к розенкрейцерству не минуешь при осознании реальных путей культурной работы в «Мусагете».
13) Слово «оккультизм», стоящий в программе моего товарища по Редакции Эллиса, вызывает ряд недоразумений (есть оккультизм и оккультизм). Будучи до сих пор согласен с товарищем Эллисом, я заявляю, что под оккультизмом разумею я некоторые стороны развития, бессознательно затронутые символизмом и реально осознанные в розенкрейцерстве. В этом смысле розенкр<ейцерский> оккультизм лишь углубляет тайное чаяние русского символизма и не становится в отношение антиномии с моим пониманием «Культуры». Я считаю единственно реальным углублением символизма в [3054]. Я с не вопреки моей литер<атурной> деятельности, а благодаря.
14) Не знаю, «культура» ли мои симфонии, но писал я их с иным чувством, нежели чувство культурного служения; я писал их, как реальное предчувствие космических событий будущего, а не как образы на потребу культурного созерцания.
15) Не удивительно, что единственным продолжением моего пути есть то течение, в котором слышу я прямой ответ на чаяния, отображенные в моих произведениях; и мой путь не может быть связан констатированием, что и эти чаянья тоже «культура», что и им есть местечко в этнографическом музее культур всех веков и народов.
16) Я – писатель идейный: и идейное вмешательство мое в идейный путь «Мусагета» неизбежно, пока я состою членом Редакции «Мусагета».
17) Или напротив: если мой путь реализации культуры будущего и служения культуре будущего в символизме и в оккультизме признается реально нарушающим status quo[3055] понимания культуры «Мусагетом», я прошу не обращаться[3056] ко мне с вопросами идейного порядка.
18) И в последнем случае Мусагет остается для меня чрезвычайно нужным книгоиздательством, с которым я могу быть периферически связан идеями и кровно связан практически, как писатель, нуждающийся в дружеском издательстве.
19) Все пункты, намеченные здесь, касаются не вопроса моего об участии в Мусагете, а вопроса о том: есмь ли я, как и Эллис, один из руководителей издательства.
20) Если мы с Эллисом признаемся действующими членами Редакции, я просил бы считаться с нашими мнениями хотя бы в такой мере, в какой считались с нашими мнениями 2 последних года существования «Весов», где мы делали реально политику «Весов», хотя и не были во всем согласны с Брюсовым.
21) В «Мусагете» же абсолютно не считаются с Эллисом[3057]; и часто лишь уведомляют меня о состоявшемся без нас решении, что есть в сущности non-sens (стоит уехать из Москвы, как остаешься в полной неизвестности о «Мусагете»).
22) Если же более реальное вмешательство в дела и судьбы Мусагета не признается желательным, я просил бы точного уведомления о степени нашего вмешательства и кодификации границ нашего участия в установлении программы деятельности.
23) Если же мы вовсе устраняемся из Мусагета и В. Иванов и Ал. Блок не призываются Э. К. Метнером на наше место, для меня явствует, что на штаб-квартире русского символизма спущен флаг движения, так или иначе (с Мира Искусства) где-либо развевавшийся в продолжение 12 лет. И тогда это есть момент исторический: русский символизм, не имея пристанища, обращается в странст<в>ие подобно бегунам[3058], не имеющим Града.
24) Это спущение флага движения не упраздняет, конечно, полезной роли книгоиздательства, в котором мы надеялись найти приют для наших книг. Весь вопрос тут в установлении внутренней связи своего «Я» с внутренней жизнью Мусагета.
25) Так же мы будем сотрудничать, присылая наши рукописи, ждать появления наших книг; но мы не будем тогда заявлять, что Мусагет есть издательство, судьба которого связана с тем, что установлено нами, как путь (мной в «Символизме» и «Арабесках», Эллисом в книге «История русского символизма»[3059]).
Вот пункты теоретические.
1) Надеюсь в недолгий сравнительно срок вернуть «Мусагету» мой долг Мусагету.
2) Подобно тому, как Мусагет признал полезным издать собрание стихотворений Ал. Блока[3060], не найдет ли Мусагет полезным реально приступить к скорейшему изданию:
а) Моих четырех Симфоний.
b) Моих стихов в 2-х томах, где я бы сделал выборку.
c) «Путевых Заметок».
d) Первой части Голубя[3061] (в случае принципиального согласия о первой части Голубя я пишу особое письмо).
В таком случае, если это предложение принимается и осуществляется в ближайшем будущем, то часть моего долга покрывается гонораром за означенные книги. Если бы Мусагет сделал мне 1½ года тому назад соответствующее предложение, то значительная часть долга моего была бы покрыта. Я много слышал о том, что можно было бы издать мои произведения, и о том, как долг мой бременит Мусагет. Почему же за 1½ года со стороны Мусагета не было предпринято шага, облегчающего мне уплату долга и облегчающего Мусагет, хотя бы тем, что книги готовы, авторский гонорар уплачен и т. д.
Будь это сделано ранее, мы стояли бы на пути ликвидации наших деловых счетов.
Ведь сумма гонорара за помеченные книги превысила бы 1000 рублей, т. е. освободила бы мне 1000 рублей при уплате долга после ликвидации с имением[3062].
Я молчал, ибо, признаться, я ждал со стороны Мусагета этого предложения. Но предложения не было.
1) Почему Мусагет не отвечает на письма?
2) На мое деловое письмо, как Редактора «Тр<удов> и Дней» (около 3 месяцев тому назад), я не получил никакого ответа от секретаря В. Ф. Ахрамовича; между тем в этом письме я спрашивал, к какому сроку мне готовить статью для 3 № и какой материал имеется в портфеле Редакции. Дважды я спрашивал и, не получив ответа, решил, что умываю руки. Лишь от Э. К. Метнера чрез 1½ месяца я получил извещение в тоне сетования, что материала нет, и что № выходит летом.
Симптоматичная, ужасающая халатность в деле письмен<ных> ответов лишает меня всякой возможности сноситься с ред<акцией> «Труд<ов> и Дней».
3) На мое деловое письмо, где Редактор Э. К. Метнер, мне ответили, что адрес Э. К. Метнера неизвестен. А у меня вопрос, от которого зависит все мое будущее в ближайшие дни. Подчеркиваю: адрес Редактора должен быть известен всегда.
4) На мою телеграмму В. Ф. Ахрамовичу ответ получил А. С. Петровский в такой форме: «Передайте Бугаеву, что адрес Метнера неизвестен».
5) Я прошу передать В. Ф. Ахрамовичу, что неответ на деловое письмо и ответ на телеграмму не мне, а Петровскому, рассматривается мной, как нарушение элемент<арных> правил приличия. (Адрес ведь мой в Мусагете). Должен ли я в таком молчании видеть неуважение и игнорирование меня лицом, стоящим непосредственно при Мусагете. Или и это лишь досадная оплошность? Я просил бы вообще раз навсегда принять во внимание, что я никаких ссор не желаю, но что хронически и в Африке, и в Боголюбах, и в Мюнхене в деле сношения с Редакцией наталкиваешься на сплошные бестактности, в результате которых в душе накопляется досада, так что все вопросы, связанные с Мусагетом, при их постановке приобретают несимпатичный оттенок какой-то затаенной враждебности со стороны остающихся членов Редакции в Москве и нервной повышенности в тоне писем со стороны членов Редакции, вынужденных проживать за чертой Москвы.
Я хотел бы, чтобы это оказалось обычной формой московской небрежности, а не выражением враждебного настроения. При последнем, согласитесь, трудно иметь сношения с Мусагетом.
Примите уверение в моем уважении.
Борис Бугаев.РГБ. Ф. 128 (архив Н. П. Киселева). Опубликовано А. Л. Соболевым (Арабески Андрея Белого. С. 84–88. Датировка: Август 1912. Мюнхен).На конверте – надпись рукой Белого: «Мусагету (Редактору-Издателю, или Коллегии лиц)». Возможно, письмо было передано в Москву с кем-то из слушателей лекций Р. Штейнера, посетивших Мюнхен в августе 1912 г.
257. Белый – Метнеру
Месяц тому назад я узнал от москвичей, что пока адрес Ваш неизвестен[3063]. 16 дней тому назад, когда уже настала крайняя пора мне просто немедленно узнать, не поможет ли мне «Мусагет» временно 200-стами рублей, я запросил «Мусагет» телеграммой, где Вы. Получил телеграмму с тем же лаконическим уведомлением: «Адрес Э. К. Метнера неизвестен». Уже две с лишним недели лежит в Москве мое письмо, где я умоляю тотчас меня уведомить, может ли «Мусагет» немедленно мне помочь, ибо в противном случае через 2½ недели нас вышлют в Россию этапным порядком или посадят в долговую тюрьму (швейцарские законы мне неизвестны). Дело шло не в том, чтобы «Мусагет» выслал, а в том, чтобы понял, что от немедленности ответа зависит наше существование. Если бы «Мусагет» ответил «Нет, не вышлю», я не обиделся бы, я сказал бы «на нет суда нет»; и с тяжелым сердцем возопил бы по всем направлениям «караул, погибаем: спасите»… Авось нашлись бы добрые люди.
Но время упущено (16 дней упущены: через неделю ни единого франка и через 5 дней «Мусагет» получит это письмо); если бы я и нашел добрых людей, то добрые люди не нашли бы меня с Асей, ибо Бог знает, что с нами будет через неделю[3064].
16 дней тому назад то же я писал Марг<арите> Кирилл<овне>[3065], прося вовремя ответить, может ли она помочь, телеграммой, дабы выиграть драгоценное время. И 16 дней от нее ни звука[3066].
Всякий имеет моральное право отказать: но морального права нет у друзей держать человека в положении тягостной неизвестности: ни да, ни – нет. Зарежьте, но режьте же, черт возьми, поскорее.
Тягостно было бы мне обратиться к издержавшемуся Сереже[3067], или к Анне Алексеевне Рачинской[3068]. Но в положении, когда хочется кричать ка-ра-ул, мирятся с тягостностью. А теперь благодаря Вам и Марг<арите> Кирилловне даже этот тягостный «караульный» выход совершенно отрезан.
Вы спросите, почему не писал я ранее. Да, жалею – но разве я, обвиняемый в халатности и разгильдяйстве моим уравновешенным и здравомыслящим другом, доходил до такой степени неряшества, что, будучи членом редакции, от оной редакции скрывал бы свой адрес на протяжении месяца. А тем более непростительная халатность Редактору «Мусагета» не давать адреса своего, зная, что от сотрудников могут быть необходимые, спешные запросы, ответить на которые может лишь Редактор.
Обнимаю Вас, дорогой друг, и – ка-ра-ул!!!
Борис Бугаев.
Простите мне эту шутку: в нашем положении остается только стоически шутить.
Не сердитесь: но Вы ведь не переживали трагикомедии, подобной нашей; а в Москву мы все-таки не вернемся…
Пока пишу Вам адрес: Suissе. Bâle. Hôtel Bernerhof. Chambre № 20. Мне.
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 68. Над текстом – помета Н. П. Киселева: «Штемпеля: Basel. 9 IX 1912; Москва. 31 VIII 1912» (даты отправления и получения на конверте). Отправлено по адресу издательства «Мусагет».
258. Вяч. Иванов и Белый – Метнеру
<Текст Иванова:>
12 сент.
Пишу Вам из Базеля, куда приехал для свидания с Борей[3069] – и пока только три словечка деловых, – но, впрочем, вместе и для того, чтобы сказать Вам, что обнимаю Вас заочно – почти буквально, потому что Вы всё передо мной, с необычайною живостью иллюзии (если это не Ваш астрал, как невольно заподозришь, беседуя все время с «штейнерианцами»). И, главное, прежде всего, благодарю Вас, дорогой Эмилий Карлович, за книгу о музыке, чрезвычайно интересную для меня, хотя уж очень бранчливую (сверх меры), остроумную, во многом существенном симпатичную, в другом – несогласную со мной, но никогда не обижающую моих чувств лучших и основных[3070]. Спасибо и за «статьи-статуи» на неподобающем (!) месте, в предисловии, без повода…[3071] О Дионисе у Вас несколько сбивчивых слов, быть может симптомов некоторого заблуждения[3072]. Кажется, пришлю Вам несколько афоризмов о Дионисе для Тр<удов> и Дней…[3073] Ибо ведь Труды и Дни существуют? Nein?? Так вот значит и деловое. Удивительный порядок в моих мыслях сегодня!! Отчего это? –
Дела:
1) Прошу о высылке корректуры моей статьи, предназначенной для № 3 и присланной через 2–3 недели после Пасхи…[3074] Ведь Вы же получили большую и важную статью, очень важную для меня??
2) Статья Скалдина должна непременно идти, в силу условия, по кот<орому> о ее годности сужу я. И т<ак> к<ак> я сказал автору, что она идет, то я связан, и его статья – моя статья. Но вычеркнуть кое-что, конечно, можно. Печатать же необходимо, иначе я в ложном положении[3075].
3) Статью о Брюсове автора, имя которого забыл, мне присланную для совещания, передаю А. Белому. Она меня отнюдь не пленила. Я был бы скорее против ее напечатания (по соображениям, между прочим, и тактическим), но не безусловно[3076].
Адрес мой: Lausanne, poste restante.
Любящий Вас всею душой
Вяч. Иванов.
P. S. Письмо Кузмина в ред<акцию> Аполлона было для меня сюрпризом книжки (что не очень рекомендует Кузмина), но формально он во всем прав[3077].
<Текст Белого:>
Видите, на этот раз «Д» с большой буквы (видите, с большой буквы пишу не только слово «Доктор» но и слово «Друг»[3078]); итак: дорогой Друг! Существуют ли «Труды и Дни», спрашиваю я, Редактор? Три с половиною месяца тому назад тщетно тщился[3079] я узнать что-либо деловое о журнале. Ничего! Просил, чтобы меня известили о сроке выпуска 3 №, а мне не ответили[3080]. Считаю недопустимым, чтобы хоть 1 № вышел без моей статьи (видите из этого, что писать буду много, : ввиду распределения всех моих дней требую за месяц до выхода номера, чтобы я был извещен о сроке выхода). Считаю необходимым напечатание статьи Скалдина. Изумляюсь, что о письме Кузмина и о статье Чудовского[3081] не уведомлен. В случае продолжения бойкотирования меня, как редактора, считаю невозможным оным числиться. На «Трудах и Днях» я нарезался с Ахрамовичем, ибо многого не знал о полемике, что узнал от Вячеслава. Обнимаю Вас. Б. Бугаев.
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 69. Текст Белого опубликован в примечаниях А. Л. Соболева к публикации переписки Белого и Н. П. Киселева (Арабески Андрея Белого. С. 96). Отправлено адресату в Москву в одном конверте с письмом Вяч. Иванова (последнее в публикацию В. Сапова «В. И. Иванов и Э. К. Метнер. Переписка из двух миров» не вошло и не было выявлено: в примечаниях к ответному письму Метнера определено как несохранившееся; см.: Вопросы литературы. 1994. Вып. III. С. 285).
259. Метнер – Белому
Пилльниц 13/26–IX–912.
Начинаю серьезно думать, что какой-то диавол здорово работает над тем, чтобы похерить и Мусагет, и все связанные с ним дружбы и личные связи… Этот диавол мне неизвестен, а okkulte Forschung[3082] производить я и не умею, да и не хочу. Знаю одно, что, помимо теософской внешней правды и справедливости, существует просточеловеческая, за которую я раньше всего изо всех сил моих держусь… Вот на основании этой мне ясной правды и подвергая самому придирчивому анализу все свои слова и поступки в отношении к Вам и к Эллису за все время нашей дружбы, я прихожу к тому заключению, что неповинен ни перед Вами, ни перед Эллисом, ни прямо, ни косвенно, ни деланием, ни упущением решительно ни в чем. Клянусь в этом всем для меня святым! Прошу Вас об этом сообщить Эллису, ибо, надеюсь, он понимает, что после его последнего письма я никаких личных сношений иметь с ним не могу[3083]. Это не означает разрыва, а просто «не могу»; мне больно! Я почти не в состоянии и Вам писать; но пишу потому, что тут уж нельзя не писать, и, кроме того, Вы сами старались поправить дело, тогда как Эллис после означенного письма (оставленного мною без ответа) просто замолчал. –
А теперь перехожу к тяжкой обязанности отвечать Вам пунктуально на Ваши два письма, только что очутившиеся в моих руках, и начну с того,
1) почему я так поздно получил их. Если я упрекал Вас и Эллиса в том, что Вы забываете давать свой адрес, а затем негодуете на молчание и неполучки, то я тем более должен был не поступать так же, хотя и есть огромная разница между мною и обоими Вами, ибо обо мне всегда можно справиться у родителей по телефону или написать по родительскому адресу. Вы опять спешите в первом письме вернуть мне упрек, сделанный Вам и Эллису, а в последнем письме упрекаете прямо в неряшестве и непростительной халатности, не совершив предварительно того «сыска», который совершаю всегда я, не боясь клички «судебный следователь». Уезжая из Москвы, я определенно сказал, что еду в Байрейт, сколько останусь там не знаю, писать: Hauptpostlagernd[3084]. Уезжая из Байрейта с Колей и с Анютой[3085], я оставил на Байрейтской почте приказ посылать письма Wien Hauptpostlagernd, ибо мы не знали, сколько дней мы пробудем в Нюрнберге, Регенсбурге и сколько времени мы будем ехать по Дунаю в Вену. В Байрейте я не получил ничего ни от редакции, ни от Мусагетцев. В Вене я тоже ничего не получил. Уезжая из Вены, я[3086] дал свой адрес в Пилльнице. Но и в Пилльнице я долгое время ничего не получал редакционного. Почему всюду я получал письма от своих? Еще недавно получил письмо, прогулявшееся из Байрейта в Вену и оттуда сюда в Пилльниц. Если бы неукоснительно посылали мне в Байрейт, я бы давно все имел. Неужели редактор не смеет совершить маленького путешествия, не зная вперед всех отелей, где он остановится и сколько дней и проч.? Далее: всем давно известен адрес Пилльница: Herrn Emil Medtner Pillnitz – Elbe Sachsen. Кажется, просто. Отчего не попробовать (раз уже началось диавольское недоразумение) послать сюда. Ведь знают же, что без Пилльница не обходилось ни одно путешествие? Наконец, все были осведомлены, что я в Байрейте: и Петровский, и Киселев, и Сизов; я удивляюсь, что никому не пришло в голову наугад отправить пятипфеннигову<ю> открытку Bayreuth Hauptpostlagernd. Ведь могли же себе представить, что, уезжая, я сам не знал еще, где помещусь в Байрейте!.. Но довольно об этом! Повторяю: в Москве всем, и в Редакции и дома, было известно, куда надо писать… Что я не делаю сейчас попыток post factum оправдать свое мнимое «неряшество», тому доказательством служит то, что по прибытии в Пилльниц я более недели ждал известий из Москвы и № III Тр<удов> и Дн<ей> и, наконец, потеряв терпение, написал Ахрамовичу; доказательством же того, что оставшиеся в Москве члены редакции не могли не знать, где я, служит то, что № III Тр<удов> и Дн<ей> я получил уже на другой или третий день после отправления моего запроса, следовательно, независимо от запроса, кот<орый> еще не мог достичь Москвы. –
Кто отправил Вам из редакции телеграмму «Адрес Э. К. Метнера неизвестен»???? Это чудовищно! Повторяю: надо было слепо следовать тому, что я сказал, и писать Bayreuth Hauptpostlagernd. Но допустим, что я не говорил этого; неужели перед тем, как посылать телеграмму, нельзя было протелеграфировать в Правление Моск<овской> Кружевной Фабрики и узнать у отца или Карла Карловича[3087] мой адрес??? И как только Вы могли поверить, что я уезжаю, не оставив своего адреса больному отцу, за здоровье которого мы все время так опасаемся!!! И кстати: ведь отец казначей Мусагета, член хозяйственной комиссии, причастен Мусагету; стало быть, можно было официально и его запросить. Но довольно, довольно, довольно! Я глубоко сожалею и огорчен страшно, что Вы метались и страдали; но удивляюсь на Вашу беспомощность, несообразительность, с одной стороны, и на действительную халатность телеграфного ответа, с другой. – Кто во всем этом виноват, пока не знаю. По получении сегодня сразу семи писем в одном пакете[3088] из Редакции (в числе их два от Вас) я немедленно телеграфировал отцу, чтобы он выслал Вам 300 рублей. Письма же в редакцию с разбором и проборкой еще не писал, ибо сел писать Вам. –
2) Вы пишете: «Ваша живая реакция по прочтению моего второго письма (коллективного) не соответствовала моей психологической настроенности во что бы то ни стало защищать пункты этого письма». Вот, дорогой мой, в этом-то все и дело: я подпишусь подо всем, что я Вам когда-либо писал; под сутью, разумеется, не под буквой, которая всегда и у всех стареет отпадает изменяется. – Каждое свое нападение и каждое отражение Вашего нападения я и по сию пору считаю правильным и готов всячески доказать эту свою правоту (мои грехи в другом; к Вам они отношения не имеют); эта моя правота проистекает от того, что я, как Вы выражаетесь, «сыщик»! О, если бы Вы были «сыщиком»! О если бы Вы не подчинялись только настроению и не выуживали бы только настроение у своих корреспондентов!
3) О Штейнере лучше не буду говорить из уважения к Вашему чувству по отношению к нему. Только одно: с каких пор Андрей Белый держится столь демократического принципа, по которому надлежит, чтобы иметь право произнести суждение о человеке, как деятеле, «жить при нем несколько месяцев»! Обжиться можно ведь с очень многими! Я никогда не отрицал в Штейнере ни моральной чистоты, ни оккультнопедагогической гениальности. Не смею отрицать и его проницательности психологической, допускаю и ясновидение!! Но на каком основании должен я (или кто-л<ибо> со мною единомыслящий и единочувствующий) заставлять себя «жить при Штейнере», раз несколько книг его, серьезно прочитанных, и лекция (эзотерическая; о Гёте), прослушанная с напряженным вниманием и полным непредубеждением[3089], почти каждой строкой своей, почти каждым произнесенным словом, самы<м> звуком голоса и жестами; одним словом, раз все явление, взятое в целом (и неповерхностно), говорит мне нет. Ни один писатель и ни один оратор не раздражал меня так, как Штейнер. У меня 1000 аргументов против него! Пусть он – святой, но… я должен себе искать другого. Он глубочайшим образом мне чужд и, может быть, и… враждебен! Зачем буду я жить возле него? Чтобы привыкнуть! Чтобы отвыкнуть от себя, от того (разумеется) в себе, что ценно! Штейнер – сила; бесспорно! Но именно потому слабому не устоять! Я готов потерять себя в Боге, но не в Штейнере! Зачем (если я даже и безбожник), зачем должен я принять Бога из рук Штейнера? А если для приятия Бога необходима оккультная гимнастика (и все равно, у кого брать уроки этой гимнастики) – (теперь мода на всевозможные гимнастики) – то я не хочу Бога! Ибо если для приобретения ритма необходима ритмическая гимнастика, то… то я не хочу быть ритмичным… Но тут-то я знаю, что с помощью ритмической гимнастики ритма не приобретешь: кто имеет ритм, тот сделает его более продуктивным, более гибким и т. п.; кто же не имеет его, тот приобретет лишь метрическую дрессуру. Думаю, что так же и с Богом. Кто имеет Его, тот может «работать» и «упражняться» (но лишь под руководством своего святого); кто же не имеет Бога, тому никакой оккультизм не поможет, в особенности же преподанный несимпатичным ему Мейстером. –
4) Ваше рассуждение о большой букве в слове Вы (в письме) и в слове Он (вообще) – извините меня – весьма странно.
5) Байрейт для меня нечто столь подлинное, несомненное и священное (несмотря на кучу серьезных недостатков), что я желал отдаться этой «медитации» после «концентрации»[3090], а потому никоим образом не мог желать разговора с Вами после всего ставшего между нами, да еще с присоединением сюда столь взрывчатой темы, как Штейнер! – Вагнер и Штейнер! Нет, это, – свыше сил моих! Или тот, или другой! Пока мне достаточно Вагнера. –
6) «Друзья должны радоваться», пишете Вы, «тому, что мы занимаемся радикальным ремонтом негодных ветшающих построек, называемых личностями»!! Радоваться буду я потом, а теперь, пока я невыразимо страдаю при мысли, что Вы ремонтируете свою личность сверху, вместо того, чтобы начать снизу. Мы в такой мере явно расходимся (авось когда-нибудь опять сойдемся!), что я в последний раз решаюсь говорить откровенно. В личном и деловом отношении, едва только что-либо начинает идти не совсем гладко, как Вы (так же как и Эллис) становитесь просто невыносимы. Ваша несправедливость, забывчивость, постоянное «с больной головы на здоровую», постоянная отдача себя во власть моментального настроения, запутывание самых простых вещей и внезапное упрощение действительных сложностей, все Ваше экзотерическое поведение (поскольку я могу судить по отношению ко мне и к Мусагету) столь невыносимо, нестерпимо, что для меня является грозным вопросом, какую цену имеет ремонт купола, когда фундамент шатается?.. Я не виноват в том, что невиноват перед Вами (и перед Эллисом); я вовсе не выдаю себя за безупречного человека: и я многогрешен; но перед Вами и перед Эллисом (снова клянусь) я совершенно чист! –
7) «Не учиться друг у друга»; это – конечно, «нам не пристало»; в особенности я никогда не брал на себя роль учителя в чем бы то ни было (хотя нередко меня к этому и приглашали), – но верить друг другу, быть верным, доверчивым, не видеть в советах – желание опекать, в деловых замечаниях коллеги – диктаторство и полемику и т. п. –
8) Я пишу Вам на этот раз действительно в последний раз и думаю, что иначе поступить и не могу и не смею. Вы пишете, что «во мне что-то окончательно лопнет, если и т. д.» Боюсь, что во мне уже лопнуло. Дай Бог, чтобы я ошибался. –
9) Чтобы «Андрей Белый и впредь был», я страстно хочу, а потому сделаю все возможное, чтобы поддержать Вас. –
10) Неужели Вы не помните, в каком восторге был я, слушая Вашу лекцию об Эгипте[3091], слушая Ваше чтение отрывков из других частей Ваших Путевых Заметок? Наконец, я читал несколько фельетонов, как в печати, так и в рукописи…[3092] Уже который раз Вы упрекаете «друзей» в равнодушии и непонимании Вашего творчества. Доставалось и бедному Петровскому, и Мише Сизову, и другим, намекалось и на меня… Кто же тогда Вас ценит, если не мы! Вот Вы ушли в «работу» Штейнеру и ни слова не пишете мне о книге моей[3093]; неужели Вы думаете, что я хотя бы на мгновение был на Вас за это в претензии; ну что моя книга, когда Вы заняты «ремонтом личности»; а Вы с год тому назад бранили Петровского и в разговоре, и в письмах ко мне за его равнодушие к Вашему второму Голубю[3094], ибо Вы в то время были страшно против теософии и оккультного пути и очень за искусство, за литературу, за немедленное создание журнала и т. д.; но Вы забывали при этом, что Петровский «работает» Штейнеру и что его относительное равнодушие к вопросам чистого искусства есть результат «концентрации»; Вы не замечали при этом, что Петровский, вложивший всю душу свою в перевод Бёме[3095], жаждал Вашего внимания к его работе, ждал, что Вы прослушаете его чтение перевода… –
11) Что Путевые Заметки год тому назад (???), это –??? – Очень прошу Вас вспомнить и опомниться. Хотя бы, напр<имер>, то, что Вы собирались пропустить целый ряд заметок по журналам – Это стыдно, Борис Николаевич; стыдно и больше ничего!
12) Переиздание Ваших сочинений возможно лишь после их распродажи. Распродана только I симфония. Надежда есть, что распродадут вскоре Голубя[3096]. Но, разумеется, раз Вы продали второй роман Некрасову, то Мусагету смысла не имеет печатать второе издание первого романа; поэтому снеситесь с Поляковым и, если он разрешит, предлагайте Ваш первый роман Некрасову. –
13) Ни в одном из писем Вы, редактор Тр<удов> и Дн<ей>, ни словом не упоминаете о журнале, который Вы сами преждевременно вызвали к жизни (ибо я уступил только Вашему ультиматуму – начать журнал с 1912 г.); да, Вы горели, пылали месяца два, но скоро журнал стал Вам в тягость; а теперь Вы и забыли думать о нем; я не упрекаю; я понимаю Вас; конечно, я жалею, что я уступил; если бы я воспротивился и отложил до 1913 г., то… то… журнал оказался бы, по всей вероятности, вовсе даже и не нужным. – № III май – июнь не мог быть мною выпущен в конце июля из-за того, что ни Вы, ни Вячеслав не возвращали статей, отосланных на просмотр[3097]; Вячеслав не присылал корректуры своей статьи[3098]; а Вы ничего, как «Андрей Белый», не слали. Я уехал, оставив распоряжение немедленно выпустить № III, не дожидаясь больше ничего, ибо есть же предел запаздыванию. Я не упрекаю ни Вас, занятого теософией, ни Вячеслава, пережившего сильный внутренний и внешний конфликт и занятого переездом за границу[3099]. Но неужели интерес к журналу так уж мал, что о нем даже в письмах не упоминают. Неужели не было 10 минут времени прочесть статью Скалдина и возвратить ее Мусагету со своим заключением?[3100] Мы едва собрали материал для III №; портфель журнала совершенно пуст. Я сделал все, что мог, и участвовал во всех трех номерах, пожалуй, даже слишком ретиво. –
Вот Вам чертова дюжина пунктов. Я устал. До завтра! Простите!
14/27–IX–912. – Хотел было сегодня подвести итог сказанному, но судьбе угодно было послать мне еще одно испытание, вероятно для того, чтобы я с более легким сердцем (хотя и с более истерзанным) принял бесповоротное решение, о котором дальше и будет речь… Сегодняшнее испытание заключается в полученных мною только что двух письмах (снова через Москву в редакционном конверте); оба отправлены из Базеля 19/IX и заключают в себе: одно Вашу приписку к письму Вячеслава, другое – письмо Эллиса[3101]. – Мое терпение лопнуло! Да! Сейчас я буду жесток! Подобно тому, как в феврале Вы, попав на башню, вспомнили, под влиянием Вячеслава, что в уже решенном нами сообща I программном номере Тр<удов> и Дн<ей> мало подчеркнут символизм[3102], Вы теперь внезапно вспомнили о существовании Тр<удов> и Дн<ей> потому, что приехал к Вам Вячеслав! Все Ваше письмо обидная ерунда! Ничего Вы «тщетно не тщились»! Вас запрашивали о статьях! В частности, о Скалдине! Вы упорно молчали! Вы пишете, что Вы не знали о сроке выхода № 3 –?? Ведь это – смешно! «Май – июнь» конечно должен выйти между началом мая и концом июня! Я уехал в конце июля, и от Вас не было ни слова! Стыдно: разве Вы не знаете, что «срок выхода» русского журнала зависит не от редакции, а от сотрудников! От меня о письме Кузмина и о статье Чудовского[3103] Вы ничего узнать не могли, т<ак> к<ак> все это произошло во время моего отсутствия, и раз Вы видели, что я молчу, то Вы могли представить себе, что я или болен, или (как это, к сожалению, имело место по причинам мне пока еще неизвестным за отсутствием письма от Ахрамовича) – что я сам ни о чем не знаю! Кто из редакторов кого сознательно или бессознательно бойкотировал??? Что Вы «нарезались на „Трудах и Днях“ и с Ахрамовичем» (если только и это вполне может быть и не так, и не то) – тут я ни в чем не виноват. По Вашему желанию я устранил от секретарства Кожебаткина и назначил Ахрамовича, которого Вы сами хотели. Если Ахрамович не годится, то предложите другого секретаря; я не знаю, кто станет работать с такими капризными хозяевами за 50 р. в месяц как секретарь и журнала и издательства. – Ваша приписка к письму Вячеслава довершила все. Меня доконали. – Так что над милым началом письма Эллиса я уже гоготал от смеху… Кто виноват в хаосе «Мусагета»??? Только и исключительно: Эллис и Вы. больше! Единственная моя вина в том, что я мало деспотичен был; но, поверьте, не из недостатка в разумном деспотизме, а лишь потому, что был всегда убежден в невозможности симулировать органичность и гармонию при помощи начальнических нажимов, в таком деле, как литературное сообщество. Одно время Вы (который вместе с Эллисом вставили в Мусагет своего «друга» Кожебаткина) считали последнего «ангелом-хранителем Мусагета»; через несколько месяцев «ангел-хранитель» превратился в «демона разрушителя»! Я не замечал ни того, ни другого. Были промахи и очень сильные именно там, где я мало смыслю. Но кто устроил хаос и в чем преимущественно Вы видите оба этот хаос, я не знаю. – Я удивляюсь на то, что Эллис не счел нужным даже извиниться за свое последнее письмо и начинает новое базельское хотя и с милого обращения ко мне, но снова с упрека все в том же хаосе, отказываясь приводить примеры хаоса, потому что «это – скучно». – Впрочем, дальше идут примеры; но 1) книги и брошюры, выходящие в Мусагете, конечно, ему посылаются, так же как и каталог; 2) его «манифест» был отклонен, и об его участии в журнале я раза два подробно ему писал; 3) писал я ему о том, как будет поступлено с его рукописями, которые он будет присылать; 4) что Арго будет сдан в набор осенью, тоже ему сообщалось[3104]. Где хаос, где, где!! Только в Ваших головах в Вашем расстроенном воображении. Были ссоры, недоразумения, ошибки, но хаоса я не вижу. Хаосом было бы, если бы мы печатали без разбору все, что писал последнее время Эллис в стихах и в прозе. Хаос был бы, если бы мы в Тр<удах> и Дн<ях> объявили торжественно, что «культура зиждется на синтезе оккультизма и символизма». Хаос был бы (позволяю наконец себе это сказать), если бы Мусагет находился всецело во власти Эллиса и Андрея Белого. О, тогда был бы хаос! Невиданный! во всей мировой истории! Но, к счастью (или к несчастью: не знаю уже больше), моя маленькая персона нет-нет да и задержит движение к хаосу… Все милое и лестное, что пишет Эллис мне в своем письме, падает перед одним этим ложным обвинением (хотя он и спешит сказать, что не обвиняет меня)… Мне не надо похвал, а только признание фактического… Но факты, по-видимому, не существуют для оккультистов, а только для судебных следователей. – Ни Вы, ни Эллис не помните ни того, что Вы писали мне, ни того, что говорили. – Прошлого для Вас, без оглядки несущихся в будущее, – не существует. Я составлю записку, излагающую всю историю возникновения и действования Мусагета, и предложу ее опровергнуть заинтересованным[3105]. – Я глубоко сожалею, что содействовал основанию Мусагета и отнял у себя столько времени и сил. – Я прошу Вас прочесть это письмо Эллису, т<ак> к<ак> писать ему я не стану. Не стану больше и Вам писать. Письма от Вас и от Эллиса, не вскрывая, буду возвращать обратно; жду от Вас обоих только открытые письма по редакционному адресу; если же надо написать что-нибудь деловое подробнее, прошу адресовать на имя Киселева, Петровского или Сизова. Довольно. Старинный друг[3106] ушел надолго, когда возвратится и вернется ли вообще – неизвестно[3107]. А теперь дело:
a) Проповеди оккультизма в Тр<удах> и Дн<ях> я не допущу.
b) Если журнал не может выходить вовремя (что зависит только от сотрудников) и если он должен влачить жалкое и для никого почти не нужное существование, то я его закрываю с 1913 г.
c) Признавая, что Вы переживаете кризис, Мусагет обязан поддержать Вас материально, пока это надо, даже если Вы ничего ему <не> даете; Эллис обещал освободить Мусагет от своей субсидии: но если бы ему это не удалось с начала 1913 г. (как он обещал), то и ему будет продолжаться выдача ежемесячно.
Будьте счастливы! Ваш Э. М. –
РГБ. Ф. 167. Карт. 5. Ед. хр. 28.Ответ на п. 255 и 257.
260. Белый – Петровскому
Извиняюсь, что удручаю Тебя; но так как у меня нет никакого выхода иного, то очень очень прошу передать Э. К. Метнеру нижеследуюшие чисто деловые, а не личные соображения.
Но прежде несколько пояснительных слов Тебе. Э. К. Метнер в резких формах извещает меня, чтобы я сносился с ним впредь либо открытками, либо чрез посредство Тебя, угрожая в противном случае возвращать письма нераспечатанными. Не желая Тебя удручать, я все же не имею никакого иного выхода.
И вот что я прошу Тебя пункт за пунктом или прочесть, или передать устно следующее.
I) Обидевшая Э. К. Метнера приписка к письму В. И. Иванова вызвана была тем, что меня окончательно вывело из себя одно обстоятельство: бывший у меня В. Иванов с раздражением жаловался, что статья, посланная через 2 недели после Пасхи, не была ему послана в корректурах и что он удивлен, что из «Тр<удов> и Дней» никакого извещения о судьбе статьи[3108]. Э. К. Метнер и В. Ф. Ахрамович мне пишут, что корректуры посланы; но я, основываяcь на словах В. Иванова и на опыте неполучения известий о «Тр<удах> и Днях» в течение 3-х месяцев, имел все основания обижаться и удивляться, что на мое полное необходимых вопросов письмо, посланное В. Ф. Ахрамовичу еще в июне, я никакого ответа не получил. Э. К. пишет мне в том смысле, что я лгу. Передай Э. К., что факт остается фактом:
а) В. И. Иванов думал, что статья его потеряна.
b) Эллис утверждает, что ему не было послано ряда его интересующих вещей (между прочим, Каталога)[3109].
c) Я получил «Экхарта» только после троекратной и настойчивой просьбы (книга уже 2 месяца была в продаже)[3110].
d) Мне как бывшему Редактору «Трудов и Дней» было важно знать полемику; я пять 5 <так!> месяцев тому назад просил всех мусагетцев (каждого порознь) и В. Ф. Ахрамовича (в отдельности) извещать меня обо всех отзывах печати: о статье Чудовского и письме в «Аполлоне» Кузмина меня ни единым звуком из Москвы не уведомили[3111].
e) Передай Э. К. Метнеру, что с Ахрамовичем я не «нарезался» (по его выражению)[3112], а нахожусь в очень хороших отношениях и лично очень его люблю; но полагая, что молчание на мою просьбу сообщить материал статей (только теперь, через 4 месяца, просьба моя исполнена) вызвано непонятной для меня обидой на меня (ведь Ты только сказал, что письмо его мне вернулось в Москву обратно), чему подтверждением служило и то обстоятельство, что на мою лично ему адресованную телеграмму он лично мне не ответил, а через Тебя и т. д., все это меня удивляло и несколько раздражало. Но это раздражение естественно и понятно и ни о каком «нарезывании» не может быть речи.
f) «Трудами и Днями» я действительно интересовался и интересуюсь, но: не зная, когда решили выпускать 3-й номер (летом или осенью) я просил сообщить В<итольда> Ф<ранцеви>ча; его ответ до меня не дошел, а для меня, лично работающего Доктору, зан<имающегося> немецким и пишущего роман, написать статью трудно. Я ждал точного определения времени выхода номера, но не получил указаний и принялся за текущую работу; только через 2 месяца (в конце июля н<ового> с<тиля>) получил письмо Э. К. Метнера с указанием, что летний № готов и выходит без моей статьи[3113]. Тогда писать было поздно… Вскоре приехали Вы (Ты и Миша[3114]) и – помнишь? – Когда Ты сказал, что, по-твоему мнению, журнал кончится, я вспылил и сказал: «Как же у меня, редактора, не спросили?» У меня было действительно еще прежде намерение фактически не редактировать (ибо невозможно это из заграницы): но всегда было намерение писать, как и был громадный интерес вмешиваться в дела «Мусагета». Ты должен это подтвердить Метнеру, как и Н. П. Киселев, с которым в Мюнхене я имел несколько очень больших разговоров, где высказывался категорически в этом смысле. Э. К. Метнер «ничтоже сумня<ше>ся» называет выражение моего интереса к «Мусагету» ложью. Подтверди ему, что о «Мусагете» я старался сам, первый говорить, но что Ты не раз отклонял меня от разговора о Мусагете: передай Э. К. Метнеру мое впечатление о том, что двое беглых оккультистов Белый и Эллис, по моему мнению, в 10 раз более интересуются Мусагетом, чем бывшие на побывке в Мюнхене проживающие в Москве Мусагетцы. Ибо это возмутительно: одновременно же – одни с раздражением морщатся при желании моем говорить о Мусагете (моя единственная возможность говорить лично с москвичами – ибо в почту не верю), другие же неприлично обрывают мой интерес к «Мусагету», говоря, что мои жалобы на малую осведомленность суть «больная[3115] ерунда» (подлинное слово Э. К.)[3116].
g) Передай Э. К. Метнеру, что прошу в видах истины не распространять обо мне ложных мнений; эти слова относятся к месту его письма, где он пишет: «но тогда вы были с искусством против теософии» (предполагается, что я ныне против искусства с теософией). Передай ему, что в свою очередь для меня эта фраза есть чистейшая ерунда: я с , а не с теософией, ибо теософия Д<окто>ра не есть общепринятая «теософия» (в кавычках); против той теософии я и был, и есмь; с же я и был, и есмь. Точно также я был и есмь с искусством: характерной чертой моего искусства есть соединение эстетизма с , т. е. символизм, каковое истолкование его смотри мои статьи за 1904 и 05 годы «Cимволизм, как мироп<онимание>» (Арабески)[3117], «Теургия» (Нов<ый> Путь), «О целесообразности» (Н<овый> П<уть>)[3118] и т. д. Для меня оккультизм и есть теургия: спор об окк<ультизме> и теургизме есть спор о «стриженом и бритом». Неужели не понимает этого Редактор Мусагета, заявляющий категорически: «Синтеза символизма с оккультизмом я не допущу в Тр<удах> и Днях». Мне остается уйти из Редакции, ибо к чему тогда Редакция прилагает руку к этому синтезу, печатая мой «Символизм», «Арабески» и «Историю русского символизма»[3119], где этот синтез уже проведен: о большем для «Тр<удов> и Дней» и не мечтаю.
i) Обычно я тотчас же отвечаю на письма и по получению письма от Ахрамовича ему сейчас же обстоятельно написал. Узнавши материал и срок выхода №, я сейчас же принялся доделывать мою статью для «Трудов и Дней» праздно валяющуюся у меня в набросках вот скоро месяц, ибо, не зная, существуют ли «Тр<уды> и Дни», я, признаться, не торопился (да и время мое строго разделено по часам и сидеть над статьей пред пустым пространством не интересно). Статью высылаю[3120].
k) Э. К. Метнер чуть ли не кричит на меня в письме на 3-х страницах, что как так не знали, где я… Выходит, что и это я солгал. Прилагаю при сем а) телеграмму, доказывающую, что адрес его действительно неизвестен[3121], b) ссылаюсь на Твои слова, отбившие у меня охоту писать в Байрейт: «Адрес Э. К. неизвестен. А в Байрейте его сейчас верно уже нет»[3122]. Писать же в Пилниц не зная наверное, где он, было нецелесообразно, ибо ответ от него был мне нужен немедленно.
l) Передай, что Эллис в Штутгарте и мы съедемся лишь через 3 недели, тогда я и покажу Эллису открытку Э. К.[3123], и что Эллис просит напечатать в журнале его предисловие к «Парсифалю»[3124]. Если бы я был Редактор, то я бы настаивал; но как сотрудник довожу до сведения.
m) Прошу с № 4 снять редакторскую подпись мою[3125].
n) Эллис в «Труды и Дни» писать будет и мог бы писать в духе «Истории русск<ого> символизма». Но видя в книге этой синтез «символизма и оккультизма», спрашивает у Редактора разрешения писать в этом духе (вот ведь: в чисто эстет<ическом> журнале «Весы» писали о чем угодно, а на старости лет хотят нас засадить в рамочку!).
o) Передай Э. К. Метнеру, что я извиняюсь за тревожный тон моего второго письма к нему[3126], ибо оно все «караул»: действительно 3 недели жду ответа рокового для меня о деньгах: ни от кого ничего. Остается на 3 дня денег – ни звука (ужасное положение!). Если бы не 25 франков В. Иванова, случился бы с нами невероятный скандал; к тому же оба простужены и не у кого занять (ибо никого из теософов в Базеле нет). К завершению путаницы от А. М. Поццо получаю 130 франков за подписью «Rugdeff» и получить не могу: взвоешь тут[3127]. И вот я ставлю Э. К. альтернативу: или он, Э. К. Метнер, не сообщал месяц своего адреса, или огульно, все Мусагетцы (Ахрамович, Ты, Ник<олай> Петр<ович> Киселев), ложно утверждающие, что адрес Метнера неизвестен – путаники; или же в Конторе – хаос. Этот логический вывод квалифицируется Э. К. Метнером как личное ему оскорбление и он оскорбительно заявляет, что письма, ему адресованные, он будет не распечатывать.
p) «Мусагет» отвергает переиздание моих сочинений. Не стану спорить! Прошу передать лишь фактические поправки: «Сер<ебряный> Голубь» распродан (кажется). И «Пепел» распродан наверное; и ссылка на невозможность печатать – отговорка. Книга стихов Блока 3-ья была нераспродана, когда объявили собрание его сочинений[3128]. Ряд лирич<еских> сборников К. Бальмонта был нераспродан, когда С<корпио>н стал выпускать собрание сочинений[3129]. 4 симфонии Скорпион собирался выпустить 4 года тому назад и даже объявил в анонсе. Но что делать: на «нет суда нет». И все-таки предлагаю «Мусагету»:
a) Мой распроданный «Пепел», второе издание которого для меня важно.
b) «Драматическую Симфонию», распроданную тоже.
r) Э. К. Метнеру глубокое спасибо за 300 рублей, но → конечно: они пришли уже, когда мы переехали в Vitznau[3130], ибо между моим письмом Э<милию> К<арловичу> (в Мусагет) и получкой прошло уже недель 5 с лишком, а в Базеле ведь не вечно же мы. Теперь: только что получил из Базеля извещение о переводе Юнкером[3131] суммы, на что пишу в Базель, чтобы прислали в Vitznau (опять благодаря тому, что А. М. Поццо неразборчиво написал Bugaeff (и вышло Rugdeff) именно у нас может быть недохватка в этих 100 франках): тогда: по получению 300 рублей вычитаю сумму в 100–200 франков и остальные возвращаю Э<милию> К<арловичу>, но куда? в Москву? в Pilnitz? Пусть мне напишут, когда он вернется в Москву; занятую сумму вернет А. М. Поццо по получению обратно в конце октября своего перевода мне (прилагаю записку бюро о том, что произошла путаница). Наконец: если «Мусагет» обещает приступить наконец к печатанию «Пут<евых> Заметок», то, возвращая 300 рублей, я буду просить «Мусагет» мне ссудить их в счет гонорара за «Пут<евые> Заметки» (если с имением в декабре не решится дело, то может статься, что в конце декабря страшно деньги эти понадобятся)[3132].
Ну вот, кажется, все. Извини, голубчик, но – прочти эти пункты Э. К. Метнеру, ибо, пересказывая их устно, неизменно забудешь.
Остаюсь искренне любящий Тебя
Борис Бугаев.
P. S. Прошу очень Тебя Э. К. прочесть все пункты. Привет всем. Адрес Schweiz. Vitznau (bei Luzern). Vierwaldstättersee. Herrn Boris Bugaïeff. Hôtel Rigibahn.
P. P. S. Выписку из Mandatausgabe, где вместо Bugаïeff стоит Rugdeff, берегу (может понадобиться); надеюсь, что мне поверят.
P. S.[3133] Действительно виноват, что не выслал Скалдина[3134]; но, пожалуй, это и есть мое единственно подлинное прегрешение; и во всяком случае есть оправдание: я даже забыл о Скалдине в 4-х месячный промежуток, когда о «Тр<удах> и Днях» ничего не знал. Ввиду того, что мы в Vitznau налегке (а вещи сданы на хранении в Мюнхене) то, может, статья (впрочем, не уверен), что статья эта в отложенных бумагах осталась в большом сундуке; во всяком случае завтра сделаю ген<еральный> смотр вещей и, может быть, найду здесь; в противном случае высылаю через 3 недели.
В заключении всего скажу, к общему недоразумению присоединяется: а) письма мои пропадают, b) выяснилось, что ряд писем ко мне пропал. Деньги приходят с опозданием или с перевранной фамилией, c) может статься, что 300 рублей мне не перешлют из Базеля, а прямо вернут в Москву, ибо Vitznau – деревушка, а швейцарцы – тупы[3135].
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 70. Датируется по почтовому штемпелю отправления: Vitznau. 7. X. 12. Почтовый штемпель получения: Москва. 27. 9. 12.Письмо хранится в подборке писем Белого к Метнеру – т. е. по получении было передано А. С. Петровским Метнеру. По своему основному содержанию адресовано Метнеру – как ответ на п. 259, – что позволяет включить данное письмо в корпус переписки.
261. Белый – Метнеру
Высылаю статью в «Т<руды> и Д<ни>» → «Круговое вращение»[3136]. Если статья не подходит, некоторым образом переступая грань платформы, то я нисколько не обижусь на редакционное примечание, снимающее ответственность Редакции с моей статьи. В «Тр<уды> и Дни» буду много писать, но писать свое, интимное. Был бы рад, если б Ред<акц>ия уделила мне «свой угол» à la «своего угла» Розанова в былой памяти «Новом Пути»[3137]. Одно деловое соображение напишу Н. П. Киселеву, который Вам передаст.
Примите уверение в совершенном почтении. Борис Бугаев.
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 71. Открытка – цветная фотография: «Basel. Spalentor». Датируется по почтовому штемпелю отправления (по адресу издательства «Мусагет»): Vitznau. 11. X. 12. Почтовый штемпель получения: Москва. 2. 10. 12.
262. Метнер – Белому И ЭЛЛИСУ
Траханеево 1/14–X–912.
Обращаюсь к Вам обоим, т<ак> к<ак>, во-первых, имеется общее до Вас, во-вторых, не мешает, чтобы и особенное к каждому из Вас стало известным и тому и другому. Вы сами вынудили меня обратить к Вам опять закрытое письмо, ибо, не вняв моей просьбе, писали (для сообщения мне) и Петровскому[3138] и Киселеву далеко не только насущно-деловое, но и личное, и притом снова в обиднейшей форме возмутительные несправедливости. Я сохраняю в этом письме возможное хладнокровие и прошу его хладнокровно читать. Для написания краткого и систематичного послания у меня нет ни сил, ни времени. Длинное и бессистемное набросать и легче, и скорее. Я уже отправил Вам обоим (согласно предложенному мною условию) по открытке (по Вашим последним адресам)[3139]; надеюсь, что Вы их получили и знаете: Бугаев о моей просьбе сохранения его имени как редактора; Эллис – о сдаче в набор его «Манифеста» под условием моей редакторской правки этой в свое время совещанием отвергнутой статьи[3140].
1) В приписке от 12/IX к письму Вячеслава Бугаев пишет: «На Трудах и Днях я нарезался с Ахрамовичем, ибо и т. д. – »[3141]. В оправдательном своем письме к Петровскому от 7/X (т. е. менее, чем через месяц!) Бугаев пишет: «Передай Метнеру, что с Ахрамовичем я не „нарезался“ (по его выражению), а нахожусь в очень хороших отношениях etc.» – и далее: «…ни о каком „нарезывании“ не может быть и речи…»[3142] Это выпадение памяти (объясняемое, может быть, «сдирающими кожу» (по выражению Бугаева) медитациями) чрезвычайно характерно для Вас обоих, и, если понадобится, я могу привести десятки таких выпадений, с которыми и связано большинство мелких недоразумений, из коих в воображении самих же страдающих этими выпадениями слагается представление о мусагетском хаосе.
2) Передо мной письмо Бугаева Петровскому. Письмо же Бугаева Киселеву было мне лишь прочитано, а не вручено[3143]. Оно глубоко возмутило своей неправдой, и я был в таком гневе, что думал, что со мною случится нервный удар. Киселев и присутствовавшие при чтении Петровский и Сизов могут подтвердить сказанное. Мне скоро 40 лет; я отбывал воинскую повинность, состоял при прокуроре палаты, адвокатствовал и, наконец, был чиновником на ответственном и трудном посту. Никогда мне не приходилось встречать подобного безобразия в деловых отношениях и никогда я не думал, что мне придется быть так оклеветанным и опозоренным. Клянусь, что внес в дело, нас объединяющее, весь свой жизненный опыт, и надеюсь, что будущий историк (которому придется заняться крупным явлением Андрея Белого и связанными с его именем течениями русской литературы) будет столь справедлив, что отдаст мне должное и не поверит истерическим письмам Бугаева и Эллиса, вызывающим в Москве целый скандал.
Итак, передо мной письмо Бугаева Петровскому. Я бы мог вскрыть неверность и передержку почти каждого раздела этого письма, но ограничусь немногим. а) Мои письма Бугаеву от 10/VI, 3/VII, 15/VII[3144] все содержат запросы о Тр<удах> и Дн<ях> и сетовании на отсутствие материала, а также напоминание о Скалдине. – Бугаев и в письме к Петровскому, и в письме к Ахрамовичу (очень любезном, ибо обрушиваться надлежит только на Метнера) повторяет уже опровергнутое мною в письме от 13–14/26–27–IX требование об уведомлении за месяц о дне выхода двухмесячника (словно Бугаев новичок в журналистике!); причем в письме к Петровскому он говорит, что не знал, когда выйдет III № (т. е. весенний-летний), летом или осенью? Странно, что все письма Бугаева ко мне дошли (но в них он на мои вышеперечисленные запросы не отвечает); письма же о Тр<удах> и Дн<ях> Ахрамовичу не дошли! Наконец, почему Бугаев, не получая ответа на свои не дошедшие до Ахрамовича запросы, не запросил меня и притом заказным письмом! Странно, что и Вячеслав не сделал того же, не получив отправленную ему корректуру[3145]. Пусть мне укажут тот случай, когда я не отвечал бы на деловые запросы!? И Эллис и Бугаев не нашли нужным довести до моего сведения неполучение некоторых книг. Эллис в свое время месяцы молчал об инциденте с его месячным окладом[3146].
b) Писать подробные доклады нельзя требовать от секретаря, получающего 50 р. в месяц. Никаких отзывов в печати о Тр<удах> и Дн<ях> не попадалось, кроме фельетона Шагинян в южной газете, № которой в одном экземпляре[3147]; если угодно, я его вышлю; № Аполлона сравнительно недавно вышел, и я сам его прочел лишь на днях; ничего ужасного в нем нет; глупое письмо обидевшегося Кузмина и осторожная заметка Чудовского[3148]. Вдаваться в полемику не стоит. Могу вырвать страницы и прислать Вам, но прошу не затерять и возвратить обратно. – Аполлон более не обменивается с нами изданиями, а значение его (по-моему) слишком невелико, чтобы делать ему честь записываться на его издание и полемизировать с лицеистами, у кот<орых> молоко на губах не обсохло. Повторяю, если Вы – иного мнения, то попробуйте ответить Чудовскому. –
c) Охотно верю Вашему желанию писать для Тр<удов> и Дн<ей> и «вмешиваться в дела Мусагета», но зачем Вы кривите душой и, дорогой Борис Николаевич, к чему закрывать глаза на чрезмерность всего того, что Вам ныне приходится проделывать (Штейнер, нем<ецкий> яз<ык>, Роман). Внутри Вы не забываете ни о чем, но внешне – Вы не замечаете, как проходят недели и месяцы; когда же наконец спохватитесь, то ищете себе оправданий вроде неизвестности точного срока выхода двухмесячника (когда раз навсегда было решено на собрании не запаздывать). NB слова ложь я не произносил; больной ерунды также, и сказал обидная ерунда[3149]; обидная – для меня, ибо не отвечать мне на мои запросы, писать незаказные письма Ахрамовичу, и потом во всем обвинить меня, если вышла путаница, разве это – не обидно.
d) Бугаев и в особенности Эллис пишут обо мне москвичам ужаснейшие письма, где приписывают мне слова, кот<орых> я не произносил, и не скупятся на всевозможные обидные прозвища вроде Столыпин, инородец, сыщик и т. п., а Бугаев просит меня через Петровского «в видах истины ложных мнений» о нем?!! Это прямо курьез!
e) И Бугаев, и Эллис влагают мне в уста, а затем подымают на смех фразу, кот<орую> я не произносил: «Я не допущу синтеза символизма и оккультизма». Я сказал: «Хаос был бы, если бы мы в Тр<удах> и Дн<ях> объявили торжественно, что культура зиждется на синтезе оккультизма и символизма» – и затем в конце того же письма (от 13–14/26–27–IX) я сказал: «проповеди оккультизма в Тр<удах> и Дн<ях> я не допущу». Это – огромная разница. Очевидно, писатели разучились читать письма своего интимного друга. – Мои слова означают: I. Не надо делать шума; II менять платформу; III выступать с проповедью. В особенности неофитам в период подготовительный с расстроенными нервами и неустановившимися формулами во время, м<ожет> б<ыть>, ломки мировоззрения следует молчать о новом и делать спокойно старое дело. Zerne schweigen und dir wird die Macht[3150], гласит одна оккультная медитация. Едва ли Штейнер одобрил бы немедленное внесение оккультных мотивов в журнал, посвященный культуре. – Никогда в голову мне не приходило «запрещать» рассуждения о связи искусства и религии или культуры и мистерии в том духе, в каком ведутся подобные рассуждения в Ваших книгах (это относится и к Эллису, и к Бугаеву). – Напрасно оба Вы из себя выходите, доказывая мне исконность Вашего оккультизма. Другое дело определенная проповедь данной оккультной школы и «ваяние новых лозунгов» (по выражению Эллиса). Если я это допущу, то Вы сами оба через год будете мною недовольны. Кроме того, тогда уйдет Вячеслав. Вот что он пишет мне на днях (5 окт<ября> / 22 сент<ября>): «Синтеза оккультизма и символизма я не признаю, как эстетической платформы или программы журнала. Здесь огромная опасность для искусства вообще, а кроме прочего я защищаю знамя символизма, а не выдаю его, не подмениваю его; не укрываюсь в чужие ряды. Я сам могу быть оккультистом; но своего оккультизма через это одно не стану по возможности и преднамеренно вносить в свой символизм»[3151]. Накануне получения этого письма я сказал в Редакции, что если бы я сам стал штейнерьянцем, я все же не сделал штейнерьянским Мусагета. – Итак, в Тр<удах> и Дн<ях> возможны и статьи об оккультизме, но… возможны статьи и против оккультизма и, в частности, критика (напр<имер>, идеалистическая) сочинений Штейнера. – A priori сказать, какая статья Ваша или Эллиса (об оккультизме) приемлема, – нельзя. Вы сейчас в трансе; этого отрицать нельзя; подвергните себя (оба Вы) дружественной критике Вячеслава и моей. –
f) О фатальном недоразумении с моим адресом я уже писал. Из сказанного уже ясно, что моей вины тут нет. (Перечтите письмо). – Ахрамович виноват в том, что дал Бугаеву недопустимую телеграмму: «адреса Метнера не знаем». A Bayreuth Hauptpostlagernd! A Pillnitz! т. е. первый и последний пункты моего пути (а они оба были известны, неизвестны были только даты). Мой адрес не был и не мог быть известен даже мне самому только в течение нескольких дней пути из Байрейта через Нюрнберг, Регенсбург, Пассау, Линц в Вену (по Дунаю). – Отец телефонировал Ахрамовичу: «точный адрес сейчас пока неизвестен»… Ахрамович отправил нелепую телеграмму и успокоился, не спрашивая больше отца в течение многих дней. – Ахрамович был весь август болен и, говорят, имел крупные неприятности в семье. Надо простить ему; он весь август был вне себя. Оттого он запоздал и с выходом III № Тр<удов> и Дн<ей>, кот<орый> я оставил ему вполне приготовленным к выходу, и с брошюрой Тэна[3152]. – Последнее особенно досадно, т<ак> к<ак> на Тэне мне хотелось видеть, как пойдет мусагетская книжка, являющаяся сезонным пирогом. Но годовщина 12-го года уже отпразднована, а мы еще не выпустили Тэна. Явно, что Ахрамович шесть недель НИЧЕГО не делал. – Оттого не сдан и Арго[3153], ибо Ахрамович взялся просмотреть рукопись со стороны корректорской и ничего опять-таки не сделал. Помните Вы оба: у меня не было людей, и Ахрамовича и Кожебаткина Вы оба рекомендовали. Да и где взять секретарей за ничтожное жалование. Тут я совсем не причем. – Как Вы словно обрадовались, найдя возможность упрекнуть меня по поводу адреса, вместо того, чтобы сообразить, что подобное «неряшество» и «халатность» не столько «непростительны», как Вы, Борис Николаевич, изволили писать, сколько явно немыслимы и совершенно не отвечают всему habitus’у[3154] Вашего «старинного друга»![3155] Странно, что Петровский (Сизов? и Киселев?), все трое, выехавшие за границу до меня, утверждали, что мой адрес неизвестен; откуда они знали, что я, уехав, не оставил адреса? Им был мой адрес неизвестен, им, как уехавшим до меня: вот и все!
g) Бугаев пишет, что Петровский (а Сизов? а Киселев?) уклонялся от разговора о Мусагете и с раздражением морщился, говоря, что Труды и Дни кончаются. Я должен сказать, что эти уклонения, отговорки, голословные заявления с отказом продолжать разговор, что все это весьма простительно, хотя и несколько эгоистично! В самом деле, ведь если начать говорить, то придется резать правду-матку или же фальшивить. Первое опасно, второе – грешно. Ну и уклоняются. Но, видно, мне придется настоять на том, чтобы перестали «уклоняться» и открыто высказались. Еще один скандал, и я потребую третейского суда. –
h) Так как Бугаев, надеюсь, внял моему увещанию и согласился, по крайней мере, в 1912 г. остаться редактором Тр<удов> и Дн<ей>, то и я внимаю его настоянию относительно напечатания в Тр<удах> и Дн<ях> Эллисовского предисловия к Парсифалю; но с одним условием – Бугаев должен продержать редакторскую корректуру. Тогда Манифест Эллиса пойдет (если он согласен, чтобы я его выправил) в тетради №№ 4–5, а Предисловие к Парсифалю в тетради № 6[3156] (Арго пойдет в первую голову, так что Парсифаль выйдет только к Пасхе[3157]; но это уже самое позднее; NB: у нас мало денег будет в 1913 г.). – Тут же кстати скажу, что не мешало бы Бугаеву с Эллисом потолковать о версификации Парсифаля, которую Бугаев так не одобрял. – Клянусь, что Эллис, усовершенствовавшись в нем<ецком> яз<ыке>, будет недоволен своим переводом. Нельзя, господа, учиться и, учась, тут же фиксировать для публики свои уроки. Это относится не только к переводам, но и к статьям по оккультизму. –
i) Это я-то хочу Вас обоих в «рамочку засадить»!? Пишите о чем хотите и как хотите, но помните о той «рамочке», которую Вы сами себе поставили, участвуя в основании Мусагета; Мусагет – одно, Духовное Знание[3158] – другое; нельзя раздувать Мусагет до того, чтобы в него вошло и Духовное Знание, достаточно Орфея и Логоса…[3159] Кстати, Духовное Знание отклоняет от себя Парсифаля Эллиса, даже если бы Мусагет дал деньги на издание! Это – характерно! А вот Мусагет должен, быть может, помещать у себя статьи о мистерии Штейнера, заявляющие, что Фауст Гёте детская забава в сравнении с этими мистериями, или статьи, где пытаются доказать, что Кант – дилетант и испортил философию (см. Philosophie und Theosophie Steiner). – Мусагет должен остаться верным Канту, Гёте, Вагнеру, или его существование есть ложь, есть фикция. –
k) Приходится вернуться к пресловутому инциденту с моим адресом, ибо Бугаев все в том же письме Петровскому сам еще раз возвращается к этому инциденту, по-видимому, неисчерпаемому в его глазах: во-первых, я протестую против передержки (их, впрочем, много в последних письмах Бугаева), заключающейся в том, будто я заявил, что буду возвращать письма нераспечатанными потому только, что меня упрекнули (ложно) в «неряшестве» с адресом (…«этот логический вывод квалифицируется Метнером как личное ему оскорбление etc»…); во-вторых (см. выше пункт f об адресе), из предложенной Бугаевым альтернативы (увы и ах) следует логически, что «Ахрамович, Петровский, Киселев, ложно утверждавшие, что адрес Метнера неизвестен, – путаники», только я этого выражения не употребил бы, ибо Ахрамович потерял голову (как я уже говорил), а Петровский и Киселев, как уехавшие до меня[3160] (впрочем, не помню точно, уехал ли Петровский до меня, но он простился со мною за несколько дней до моего отъезда с тем, чтобы выехать как можно скорее); итак, самое бóльшее, что могли утверждать Петровский, Киселев и Сизов, это то, что они не знают моего точного адреса, а не то, что мой адрес вообще неизвестен; если же они утверждали последнее, т. е. «вообще», то они «путаники», и я это им скажу в лицо. –
l) «Метнер отвергает переиздание моих сочинений», пишет Бугаев, вновь подтверждая мою мысль о том, что писатели разучились читать. Проще прочесть пункт 12 моего письма Бугаеву от 13–14/26–27–IX и сказать, какая здоровая вполне голова способна сделать из этого пункта вышеозначенный вывод?? (А такими «выводами» пестрит вся последняя переписка Бугаева). Отклоняет Мусагет только переиздание Голубя, и это потому, что второй роман продан Некрасову. С этим отклонением вполне согласны и Петровский, и Киселев, и Рачинский, и мой отец (т. е. и Лит<ературный> Совет, и Хозяйств<енная> Комиссия). Все остальное, разумеется, может быть переиздано, если Вы будете иметь письменное разрешение на это от Полякова и других издателей, о чем и намекается в пункте 12 (…«спишитесь с Поляковым»…) – Прежде всего было бы желательно издать все три симфонии в одной книге в формате и шрифтом IV симфонии. Но надо узнать, разрешает ли Поляков или проданы ли III и I симфонии[3161]. –
m) К чему Бугаев хочет возвращать часть высланных ему денег? Они уже занесены как аванс за Путевые заметки. Кстати: каковы результаты поездки Кампиони?[3162]
n) Письмо Бугаева Петровскому прочтено и отвечено; совершенно то же я бы мог сделать и с письмом Бугаева к Киселеву, если бы оно находилось передо мной; и это письмо так же полно недоразумений и обид; а все, что пишет мне Бугаев, начиная с своего нападения летом 1911 г. и с злобного отпора на спокойно-деловое отражение этого нападения, все это свидетельствует лишь об одном: моей души Бугаев никогда не понимал, а любил он какую-то фигуру, которую он выкроил себе из суммы субъективных слишком субъективных впечатлений от моей личности. – Грустно это признать!
3) То же самое можно сказать и об Эллисе. И он очевидно никогда не чувствовал моей души, раз у него могли вырваться по моему адресу слова, вопрошающие, могу ли я «исполнять свое слово честно, и где гарантия, что обмана не будет», и слова, заявляющие, что «наконец у него нашлись истинные друзья среди теток и теософов, на слова которых можно положиться», что, «конечно, разочароваться до конца можно только один раз»[3163]. И все это из-за того (письмо Эллиса от 24/VII–12), что он уехал, не оставил своего адреса, и потому деньги пришли позднее. Эллису неоднократно доказывалось, что его сетования о деньгах в огромном большинстве случаев не основательны; ему присылалась выпись из книги Карла Петровича[3164], которую он, Эллис, не опротестовал и опротестовать не мог; но через два-три месяца затянул снова ту же песню. Но допустим на мгновение, что Эллис прав и что Кожебаткин систематично запаздывал с присылкою денег; отчего Эллис ждал пять месяцев и потом только сообщил об этом? Отчего вообще в случае небрежности «Конторы» или «Секретаря» немедленно не извещают меня, дабы я мог по горячим следам проверить дело? Отчего, в частности, Эллис не уведомляет о получении им денег? – Если бы Кожебаткин был вор, он все-таки удержать денег не мог бы, ибо существуют квитанции от банка с обозначением адресата. (Кроме того, кстати сказать, имеется у нас разносная книга, где квиттируются все почтовые посылки). –
4) Кожебаткин, конечно, не вор, но, как и все вокруг, легкомысленный и не признающий положения: «дружба дружбой – а служба службой». Отсюда он то небрежничал, то смешивал личное с деловым (как и все вокруг). Я неоднократно подтягивал его, но что я могу сделать с человеком, который служит за небольшое жалованье, так сказать, больше по дружбе с литераторами? На вопрос, правда ли, что он не отправил Вам нескольких книг, он ответил, что не отправил только Логос и Блока, ибо и то и другое Эллис считает макулатурой… (за точное выражение я не ручаюсь, но смысл верен)…[3165] Я, конечно, сделал ему выговор, но что тут поможет! Раз человек смешивает свое должностное дело с приватными соображениями! Раз нет дисциплины! Где, где вообще в России дисциплина? И что тут можно сделать! (Что касается каталога, то Дмитрий[3166] уверяет, что он был отправлен вместе с Модернизмом и Музыкой[3167], а Дмитрию я верю больше, чем всем другим в редакции, ибо он – старый солдат; очевидно, каталог выпал из бандероли; как только будет, Лев Львович, известен Ваш адрес, Вы немедленно получите все Вами неполученное). – Базировать свое заявление о Мусагетском хаосе на нескольких небрежностях секретарей – это вопиющая несправедливость!
5) Относительно Арго и Парсифаля скажу еще раз, что они не были двинуты к печатанию оттого, что многое в этих книгах наводило на сомнения, о чем Вам небезызвестно. Арго просматривали многие и многие находили, что Вы в данный момент своего эволюционирования не способны к художественной самокритике и впоследствии сами будете дружески журить нас всех за снисходительность к Вам. В частности, Бугаев был того же мнения и особенно восставал против детaлей версификации Парсифаля. Пусть Бугаев поговорит с Вами, Лев Львович, об Арго и о переводе. В дальнейшем я соглашался на принятие Вашего перевода Лоэнгрина[3168], но не указывал срока его печатания. – (У меня есть копии писем к Вам, и я могу доказать неоднократное обсуждение мое этих вопросов, так что Вы, Лев Львович, напрасно в числе примеров мусагетского хаоса приводите неосведомленность Вашу об этих вопросах). – Никто никогда не сомневался в большом даровании Эллиса, но столь же никто (я думаю) не сомневается, что статьи и стихи, выходящие из-под Вашего пера в момент переходный Вашего духовного развития, ниже Вашего дарования, дорогой Лев Львович! И чувствуя это, Вы в одном письме (не помню, ко мне или еще к кому-либо, не к Сизову ли? – это можно восстановить) сами отказывались от печатания Парсифаля. – Когда я слушал Ваш перевод, он мне показался более разработанным, но когда я потом вторично просмотрел его с текстом, я увидел массу промахов и натянутостей. Всех их не исправишь, оттого я и ограничился двумя-тремя вопросительными знаками. Но теперь уже решено. Мы его печатаем, так же как и Арго. Но предупреждаю, Вас ждет жестокая критика. –
6) Вот Эллис в том же письме, которое я сейчас с трудом дешифрирую, дает далее блестящую страницу повсеместного упадка культуры[3169]. Я помню, я предлагал ему в одном давнем письме написать о германских впечатлениях. Ни гу-гу… – Только дальше я не согласен: в Германии и сейчас много ценного, и для меня Штейнер все же вопрос, а не ответ! – А. Белый же для меня не пример, ибо, признавая всю его гениальность, я вовсе не считаю (и никогда не буду считать) его за вождя, за которым надлежит следовать, ибо то, что, б<ыть> м<ожет>, необходимо А. Белому, вовсе не нужно мне и другим. А. Белый – романтик и индивидуалист и менее всего способен сыграть ту роль, какую сыграл в России Лев Толстой, в Германии – Гёте.
7) Письмо Эллиса от 6/19–IX–912. Он утверждает, что на письма его с запросами о Парсифале и Арго он не получил ответа[3170]: это – неправда! У меня есть копии. Я уже этого касался в настоящем послании, а потому прибавлю здесь лишь, что о колебаниях по поводу его рукописей ему не могло не быть известно, в частности он забывает, что по поводу Парсифаля, помимо сомнений в переводе[3171], были сомнения, когда он требовал помещения предисловия Штейнера, были переговоры с Духовным Знанием; относительно Арго были переговоры с ним, по поводу сокращения книги и снятия интимных посвящений. (Напр<имер>, все, что касается кончины Лени Сабурова[3172].) Все это тянуло и задерживало поступление книг в типографию. –
8) Письмо Эллиса от 7/20–IX–912, адресованное Киселеву для передачи мне[3173]. Тут Эллис снова касается моего заявления по поводу его столкновения с женихом Сизовой[3174]. Точно я ему не писал подробно, кто и почему побудил меня к увещанию его. Маргарита Васильевна[3175], страшно взволнованная, передавала мне о тех поношениях, кот<орые> Эллис себе позволил по адресу Сизовой и ее жениха, и просила меня образумить Эллиса[3176]. Я написал (у меня есть копия письма). Эллис вместо того, чтобы отрицать свою брань (этого сделать он не мог), стал извинять ее оккультными соображениями… Я уже тогда сказал Эллису, что он не может называть сплетнями и клеветой сказанное мне Маргаритой Васильевной, ибо этого я не могу позволить, относясь к Маргарите Васильевне с глубочайшим уважением. В разбираемом письме снова летят слова: «клевета и сплетни». Итак: как с точки зрения Бугаева, так и Эллиса я – сплетник… Спасибо! На добром слове!
9) Фраза «не допущу синтеза символизма и оккультизма» (повторяю) не написана в моем письме к Белому, а если она (по словам Эллиса) войдет в биографию Белого[3177], то лишь как доказательство небрежности, с которой такой крупный писатель читает важные письма своего друга и коллеги. – Эта «бессмертная» и «классическая (?) фраза», говорит далее Эллис = снятию его «манифеста» с программного № Тр<удов> и Дн<ей>… Но в этом «снятии» участвовал Бугаев, следовательно!..?.. Относительно «синтеза оккультизма и символизма», как он проявился уже в прежних сочинениях Бугаева и Эллиса, я распространяться здесь не могу и скажу лишь, что кое-что и в Теургии мне в свое время было не по нутру[3178]; я тогда же, в 1903 г. написал Бугаеву огромное возражение[3179], кот<орое> мы хотели даже поместить в Новом Пути. Это кое-что отразилось и в статье Против Музыки и вызвало нашу первую полемику, в которой Бугаев допустил под влиянием Соколова-Кречетова обидную инсинуацию против меня в своем письме в редакцию какой-то газеты!!![3180] Эллис тогда стоял всецело за положения моей статьи Борис Бугаев против Музыки!!! Это кое-что, которое иронически я бы назвал желанием прыгнуть выше своей спины, раз оно вырастет в главное и существенное в Вас обоих, неминуемо выроет между мною и Вами обоими непереступаемую бездну. Не я бросаю (по выражению Эллиса) «каждый день бездны между собою и будущим», а растет бездна между мною и Вами[3181]. –
10) Я никогда не «кокетничал эстетически с Крестом и Розой», как говорит Эллис; вот это – чистейшая и возмутительнейшая клевета! Если только я верно понял неясно изложенный намек! Это – полное непонимание моей личности. –
11) «Все Его (Штейнера) враги – мои враги, все Его хулящие да погибнут»[3182] (в том числе и я, которому Вы сулите безумие и стирание в порошок)… И остались Вы, Лев Львович, всё прежним инквизитором, всё прежним ультракатоликом, т. е. ветхозаветником, т. е. юдаистом. Никакой внутренней свободы, которую внесли в мир германцы, в Вас нет! Э, э, жечь, жечь и сейчас слышится в Ваших словах.
12) Читаю «Досье» Эллиса[3183]. Мусагет – литературное издательство; все эзотерическое должно остаться именно эзотерическим. Comenius – Gesellschaft – литерат<урное> общество, издающее гуманитарные и мистические книги[3184]; но Comenius – Gesellschaft – ложа эзотерическая; однако об этом по книгам не видно. Штейнер – отнюдь не сверхчеловек. В этом я глубоко убежден. Сверхчеловеки не занимаются смешением мякины с чистым зерном (Иеремия XXIII, 25 etc.) – Эллис отнюдь не переводчик Вагнера, ибо Эллис – талантливейший ритор, которого я знаю среди современников, и импровизатор, Вагнер же – мифотворец, музыкант и руносозидатель, т. е. поэт лапидарный и стихийный. – Мистерии Штейнера НИКОГДА не будут изданы Мусагетом. Им место в Духовном знании. –
13) Эллис подымает старый вопрос об Орфее, кот<орый> окончательно оформился в Петербурге. Принципиально же вопрос о выделении линии мистической был решен именно нами тремя (Бугаевым, Эллисом, Метнером).
14) Мой абсентеизм, диктатура Секретаря и невозможность сноситься со мною – чистейший вымысел. Для интимных деловых разговоров всегда к услугам был наш деревенский дом.
15) Мусагет стал анархией постольку, поскольку анархичен Белый и Эллис. Конституция тут не причем.
16) Логос наиболее дисциплинированное крыло мусагетской армии. Называть Логос некультурным есть смешная дерзость и ничего более.
17) Какие рукописи Эллиса редактировались без его ведома???? –
18) Когда раздавались по адресу Эллиса «угрозы не издавать???»[3185]
19) «Люди высокой пробы»???????[3186] Х а – х а – х а –?!!!
20) Будет ли гибель Мусагета «ударом всей русской литературе», я не знаю, но погибнет он только благодаря неистовствам болеющих прививкой штейнерьянства главных членов его, не сознающих своего лихорадочного состояния. –
21) Руль Мусагета передавать в руки Штейнеру я не уполномочен. – Требовать это от меня значит быть в экстазе, который я не разделяю.
22) Пункт 7-й «досье» прямо говорит о необходимости устранения меня «без всяких слов»! Ну не курьезно ли это??
23) Эллис может быть поставлен в ряды ближ<айших> сотрудников, если будет напечатана хотя бы одна статья его старомусагетского тона. –
24) Что я не считаюсь с Эллисом и с Белым – смешно слышать!
25) Штейнера я видел и слышал. Предисловие его (лекцию) к Парсифалю читал. Скажу наконец, что ЛГАТЬ нечего на меня: я прочел 2 цикла, Geheimwissenschaft[3187], массу записок, десяток брошюр. В общем, наверное, больше, нежели Эллис. –
26) Если голос мой как «главного редактора» оказывается «отрезанным» от «всех сотрудников» (досье Эллиса), то пусть эти «все» считают себя отрезанными от Мусагета, который в таком случае ликвидирует свои дела и прекратит существовать. –
27) Издатели существуют для писателей, но писатели не вправе насиловать совесть издателей. –
28) «Исторически обесценится значение Вагнера и моего (Эллиса) истолкования к нему, как предшественнику (!!!!) мистерий Штейнера». Эта «бессмертная и классическая фраза» войдет в «биографию» Эллиса[3188]. –
Я кончил. Ответа на это письмо я не допускаю ни прямо по моему адресу, ни через друзей. Ответ может быть только один: предложение третейского суда и точная деловая предметная сводка обвинений меня как редактора и как человека[3189].
В заключение прошу подумать 1) над афоризмом Гёте: «Das Erste und Letzte, was vom Genie gefordert wird, ist Wahrheitsliebe»[3190] (Spr<üche> in Prosa 547)[3191], 2) над различием внутренней дисциплины и внешней дисциплины и над тем, что есть соединства, есть предприятия, которые держатся только внутренней дисциплиной или почти только; к ним принадлежат литературные товарищества вообще и Мусагет в особенности. Отсюда одни меня называют капралом, Столыпиным, дрессировщиком, тиранном и т. д., другие упрекают в недостатке деспотизма. – Я же сам обвиняю себя только в одном: в оптимизме, и притом в двояком: т<ак> с<казать> эмпирическом, что я мог рассчитывать на полное доверие к себе друзей, столь эволюционирующих, и на их бережность к предприятию (я говорю не о материальных средствах); и, во-вторых, в оптимизме, т<ак> с<казать>, мистическом, т. е. что я, жизнь которого сплошное разочарование и отречение, мог думать, что мне удастся наконец создать дело, которое переживет меня.
Итак, прошу стать на чисто-формальную почву. Все уже выяснено моим письмом. Остаются только открытки. Если мои пункты относительно журнала, книг и т. д. Вами обоими принимаются, то мы можем до поры до времени еще работать вместе.
Э. Метнер.РГБ. Ф. 167. Карт. 5. Ед. хр. 29. Об отправлении этого письма адресатам 6 (19) октября Метнер упоминает в письме к Эллису от 1 (14) ноября 1912 г. (РГБ. Ф. 167. Карт. 13. Ед. хр. 6).
263. Белый – Метнеру
Считаю долгом уведомить Вас, что 1) Эллис в Штутгарте[3192]. 2) О статье Скалдина я писал в письме А. С. Петровскому[3193]. 3) Статью о Н. К. Метнере постараюсь прислать в первой половине русского ноября (ответ на циркулярную открытку)[3194]. 4) О В. К. Кампиони буду писать подробно и просить А. С. Петровского Вам передать[3195].
Примите уверения в совершенном почтении и преданности.
Борис Бугаев.РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 73. Видовая открытка: «Blick vom Rigi-Känzzli auf Pilatus, Bürgenstock und Stanserhorn». Датируется по почтовому штемпелю отправления: Vitznau. 22. X. 12. Штемпель получения: Москва. 13. 10. 12.
264. Белый – Метнеру
Считаю долгом Вас уведомить официально о нижеследующем: общее содержание Вашего письма за исключением нескольких пунктов (о которых ниже) считаю приемлемым в принципе; полемические несогласия идейного порядка, деловые недоразумения и так далее, и так далее мы обсудим впоследствии, когда психологически будет возможно друг другу и говорить, и писать.
Общее мое впечатление: пока работать мы можем.
Для нормальности работы в «Трудах и Днях» ставлю следующие условия: я соглашаюсь остаться Редактором «Тр<удов> и Дней» лишь в том случае, если об учителе моем, докторе Штейнере, вообще не будет статей – ни хвалебных, ни критикующих. Обещаю уговорить отсутствующего в Vitznau Льва Львовича Кобылинского не писать на темы об оккультизме; пресловутого синтеза «символизма» с ходячими представлениями об оккультизме я не предлагал, а говорил лишь о точке в символизме (требую отличия от ходячего представления об «оккультизме»). Теперь: то, что понимаю я под «синтезом», уже есть в двух посланных статьях[3196] (элементы синтеза есть). Если статьи приемлемы, то и вся моя «новая» линия (никакой «новой» линии у меня нет) в них налицо. Извиняюсь за цитаты из «Мистерий»[3197]. Но цитата не разбор, не проповедь. Прошу их так и принять.
Оставаясь Редактором «Трудов и Дней», должен я напрямик заявить, что ни статей В. Иванова, ни статей Э. К. Метнера pro или contra Штейнера я не пропущу; ибо положение мое перед Штейнером было бы совершенно ложным, если бы я, оставаясь учеником его, пропускал в редактируемом мною журнале теоретические рассуждения о его чисто практическом деле[3198].
Вот мое единственное условие; и оно справедливо: антиштейнеристы обязываются молчать о деле доктора; тогда и штейнеристы из уважения к общему делу обещают свой нейтралитет.
Оставаясь с Вами товарищем по Редакции, многоуважаемый Эмилий Карлович, я прошу о единственном: Вы называете мои «ответы по крайнему разумению» «передержками», «ложью». «Передержка» и «ложь» предполагают сознательный и злой умысел. А таковое предположение, поймите Вы, было бы тоже «передержкой» и «ложью». Настаивать на сознательной «лжи» моих писем, значит навсегда (в сей жизни и в будущей) искать разрыва со мной.
В последнем случае вопрос о «третейском суде» между мною и Вами выступает сам собою. Условия мои в случае этого суда уже написаны мною (первой реакцией на письмо Ваше было – искать этого суда); при внимательном перечтении Вашего письма я увидел в нем нечто еще, кроме грубого утверждения, что я «передержщик»; и вот это «нечто» и побудило меня написать Вам формальное и примирительное письмо во имя общего дела, нас связывающего. А предложение третейского суда и мои условия этого суда я в видах общего мира и блага пока прячу в свой чемодан.
Уведомляю Вас о том, чтобы Вы не думали, будто я от суда уклоняюсь; третье напоминание о суде (первое летом 1911 года, второе весной 1912 года) заставляет меня с величайшей серьезностью отнестись к этому напоминанию. Только одно миролюбие, действительная потребность в столь нужном для меня самоуглублении и общее дело вынуждают меня в последний раз постараться в пределах формальных отношений искать хоть островка гармонии и солидарности.
С надеждою на существование хотя бы минимальной этой гармонии позвольте засвидетельствовать, многоуважаемый Эмилий Карлович, мое уважение к Вам.
Борис Бугаев.
P. S. «Я бы мог вскрыть неверность и передержку[3199] почти каждого раздела этого письма» (Метнер: последнее письмо его мне), «я протестую против передержки[3200] (их много в последних письмах Бугаева[3201])…», «лгать нечего на меня[3202]». И все резюмировано: «Das Erste und Letzte, was vom Genie gefordert wird, ist Wahrheitsliebe» (Гёте). Сопоставляю эти выдержки и вижу ясно, что я обвиняем в сознательной лжи и сознательной передержке, тогда как в лучшем случае могла идти речь о полной запутанности в понимании текста писем, смысла слов и толкования недостаточно оформленных выражений. Если Вы, Эмилий Карлович, не объясните точного смысла, о какой лжи и передержке вы говорите, сознательной или невольной (от неясности толкования), и не заявите мне, что я не передержщик, то, несмотря на всю готовность договориться хоть бы до минимума согласия, вопреки необходимой работы над собой и невозможности мне приехать в Россию, я должен буду воззвать к третейскому суду между нами[3203].
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 72.Ответ на п. 262.
265. Белый – Метнеру
Эллис шлет статью[3204]. Прочел и одобрил оную. Несколько упоминаний об оккультизме чисто внешни[3205]. Если они шокируют, Эллис согласен на цензуру: писать будет для каждого номера. Упоминание обо мне можно бы пропустить[3206]. В общем статья хорошо литературно написана. Скоро пришлю еще статью. «Тр<уды> и Дни» надо беречь, по-моему.
Примите уверение в совершенном почтении и преданности.
Б. Б.РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 74. Видовая открытка: «Rigi-Kulm (1800 m) und Pilatus (2132 m)». Почтовый штемпель отправления не прочитывается. Датируется по почтовому штемпелю получения: Москва. 19. 10. 12. Обратный адрес: Stuttgart. Degerloch. Werrastrasse, 45 (Белый и А. Тургенева жили в Дегерлохе с конца октября н. ст. вместе с Эллисом).
266. Белый – Метнеру и В. Ф. АХРАМОВИЧУ
откровенно мучаюсь инцидентом со статьей Яковенки. 1) Люблю и ценю Яковенку. 2) Знаю, что, останавливая статью, вступаю с Вами в редакционный конфликт[3207].
И все же.
Два основания, по которым совесть моя страдает еще больше, если статья пройдет: а) резкий презрительный тон по отношению к антропоморфизму[3208]: антропоморфизм же во внешнем своем выражении есть гуманизм. Отрицание философии антропоморфизма есть отрицание человечности философии. В более внутренном: резкость по адресу антропоморфизма есть резкость по адресу символизма. Символизм есть выражение антропоморфизма наших дней. Наконец, в интимнейшем: антропоморфизм есть религия. По гуманизму, символизму, религии бьет Яковенко и по их адресу пишет «в возврате к философствованию в антропоморфических представлениях – дерзость вандалов Герострата»[3209].
Главное же основание: личное – как я посмотрю в глаза Бердяеву. Ведь меня связывает с ним тесная связь. Изо всех тем Яковенки – только эта тема, тема Бердяева, для меня нестерпима; и опять рок: именно потому-то Яковенко ставит меня в несносное положение. Пропустить резко-задирательную статью о Бердяеве и одновременно обмениваться с Бердяевым от поры до поры интимными письмами, это было бы с моей стороны подло.
Объясните все это Яковенке: видит Бог, я не придираюсь.
А во всем виновата спешность: впервые ведь получаю я материал № уже сверстанный в предположении, что ни иоты в нем не изменю (за несколько дней до выхода). Есть еще один выход: статью напечатать с выноской: «Содержание этой статьи резко не разделяется мной. В одном из следующих №№ будет мною написан ответ г. Яковенке. Андрей Белый».
Вот придуманный мною выход.
Остаюсь искренне преданный и готовый к услугам
Борис Бугаев.
Я нисколько не виноват в том, что корректуры лежат в Берлине, ибо твердо знаю, что писал про Штуттгарт[3210].
Вместе с тем кукольным редактором я быть не могу.
1) Я не могу подписать свое имя под статьей Яковенки: «Философия Свободы» заслуживает критики; но чтобы книга эта была связана с костром Джорждано Бруно и отвратительными воспоминаниями: нет-с, позвольте![3211] Передайте Э. К. Метнеру следующее: пусть он вспомнит, как я ему жаловался на легкий тон рецензии Степпуна по поводу той же «Философии Свободы» в «Логосе»[3212]. И видеть в 10 раз более неприязненную – на этот раз статью и не в Логосе, а в нашем журнале – для меня невыносимо.
Как хотите. Или я накладываю veto на статью в таком виде, или, что рациональнее, я ухожу от редактирования. Нельзя нам с Э. К. Метнером редактировать вместе. Мы глядим в диаметрально противоположные стороны.
Повторяю: писать я буду много, факту существования «Тр<удов> и Дней» очень рад, согласен на редакторскую цензуру: но не кормите меня насильно тем, чего я не ем; а таковою насильственной кормежкою для меня является статья Яковенки, блестящая, интересная, как все принадлежащее Яковенке, но злая и несправедливая. Кроме того: Бердяева я лично нежно люблю и не могу допустить издевательства над ним в своем журнале. Выход единственный: необидное для меня сложение редакторских функций (ибо в случае veto моего – Яковенко обидится).
2) Первая статья «Учебника» самонадеянна[3213]. О формуле ритма говорить рано. Мы еще сами не знаем, что такое ритм, и определение ритма «Учебником» есть определение ощупью[3214]. Через день высылаю.
Все же другие статьи (я сейчас получил их) не вызывают сомнений.
Далее: моих статей не ожидайте: я только что получил с Poste restante Ваши открытки и уже теперь выписываю берлинскую корр<еспонденцию> в Мюнхен. Если мои статьи идут в №, то придется их мне не корректировать. Что Вам стоило с материалом присланным прислать и их? Остаюсь искренне любящий Вас
Борис Бугаев.РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 75. Датируется по почтовому штемпелю получения: Москва. 9. 11. 12. Отправлено на имя В. Ф. Ахрамовича по адресу издательства «Мусагет».
267. Метнер – Белому
Траханеево 16/29–XI–912.
Форма Вашего последнего письма (об Яковенке) позволяет мне обратить это письмо Вам лично.
1) 1/14–XI отправлено мною очень большое письмо на имя Эллиса, в котором я даю объяснения по поводу Вашего письма о третейском суде и о передержках[3215]; говорю о Ваших Арабесках[3216], об их враждебном жесте, о Штейнере и о многом другом. Эллис сообщает мне, что этого письма он Вам не решился дать; прошу Вас взять у него и прочесть; я вторично не могу писать, и, право же, там ничего обидного нет; наоборот, многое из сказанного должно удовлетворить Вас[3217].
2) Анна Алексеевна просила меня (в письме из Vitzenau)[3218] после 20/X нов. стиля отправлять все в Берлин до востребования, что и было мною и конторою исполнено. О Штуттгарте (т. е. о перемене Вашего маршрута) Вы уведомили поздно, когда все уже полетело в Берлин. Почему же Вы удивляетесь в письме к Ахрамовичу?
3) Вашего протеста против статьи Яковенки о Бердяеве я не ожидал; что Вы найдете ее «несправедливой», не ожидал тоже; полагал, что Вы предложите зачеркнуть костер Бруно, отвратительные воспоминания, вообще всю идеологию Русских Ведомостей[3219], которая мне самому донельзя претит, и все те места, где смешивается (нечаянно!) религия, суеверие, религиозная философия и сам Бердяев в одну кучу, что являет собою смешение (недостойное Яковенки) и аналогичное смешению Бердяевым всех неугодных ему философов в кличке «рационалисты» (в чем ведь сам же Яковенко справедливо упрекает Бердяева…)[3220]. Не ожидал я запрета статьи о Бердяеве уже потому, что Вы сами позволили себе ряд эксцессов против ныне Вам ненавистного кантианства[3221]; я полагал, что Вы сохраните толерантность к резкой отповеди противной стороны, которая в лице Яковенки имеет своего представителя в Мусагете, достаточно широком, чтобы вместить и ценное в неокантианстве. Ведь о том же Бердяеве можно было бы дать еще статью в Т<рудах> и Дн<ях>. –
4) Ввиду Ваших Арабесок (произведения гениального и столь цельного по замыслу, что сокращать его было бы эстетическим святотатством), я, конечно, не счел бы возможным отказать Яковенке в напечатании его статьи (разумеется, с моей правкою); я предпочел бы тогда уступить Вашим настояниям и вычеркнуть Ваше имя как редактора (тем более что конкуренция статей обоих Борисов и вызванный ею конфликт между редакторами наводят на печальные размышления о цельности и целесообразности Тр<удов> и Дн<ей>); но всему делу придан был иной оборот тем протестом против Яковенки, который заявлен был Рачинским и поддержан Петровским и Киселевым. Этому протесту в соединении его с Вашим я уже не счел возможным не внять[3222]. Решено было отклонить Яковенку, сохранить Ваше имя как редактора и (вследствие недоразумения с берлинским адресом, вызвавшим запоздание выхода №№ IV–V) выпустить тройной номер с Арабесками, может быть, оговорив их несколько от «группы сотрудников журнала». –
5) Однако конфликт усложнился благодаря тому, что Яковенко случайно прочел у Степпуна корректуру Арабесок (NB: я строго запретил давать корректуры кому бы то ни было, кроме автора, редакторов и корректора; полагаю, что нарушено было это распоряжение ввиду того, что Степпун собирался в Молодой Мусагет на чтение Вашей статьи и выпросил корректуру, чтобы приготовиться к обмену мнений. Я полагаю, только предполагаю, ибо письмо Яковенки получил только вчера сюда в деревню и не могу знать настоящей причины нарушения установленного мною порядка). Судя по письму, Яковенко глубочайшим образом потрясен Вашим выпадом против неокантианства, что не мешает ему, однако, восхищаться формою Вашей статьи. Письмо его – замечательно сочетанием огромного в ежовых рукавицах сдерживаемого темперамента и ярко выраженных типовых черт объективного теоретика[3223]. Он указывает между прочим на то, что прежде, чем печатать Арабески, где прямо обижен Гессен, следовало бы сообщить последнему их содержание[3224]. Его требования сводятся к тому, чтобы ему разрешили в нынешнем же году (NB!) в Тр<удах> и Дн<ях> написать большое возражение на Арабески, что иначе он выходит из Мусагета; особенно невыносимо для него оставаться в Мусагете ввиду того, что одновременно: ему отказывают в напечатании его статьи, где защищается его позиция от нападок религиозной философии, и в то же время помещают статью, где производится нападение с другой теософской позиции на его же позицию. Дальнейшее пребывание в Мусагете он считает contradictio in re[3225]. – «Меня бы, напр<имер>, совсем успокоило, если бы Донкихотство мое шло рядом с Арабесками. Это было бы признаком того, что я могу говорить в Тр<удах> и Дн<ях> своим голосом»… «Мое Донкихотство для меня случайная статья, и я за нее совсем не держусь»… Он хочет лишь, чтобы «Тр<уды> и Дн<и> были трибуною, открытою для обоих течений Мусагета». Всего же больше его смущает Гессен, которому «еще труднее будет оставаться сотрудником»… О Степпуне ни слова. Вероятно, Степпун колеблется.
6) Выход из этого нового осложнения чрезвычайно труден. Я вижу двоякий.
I. a) Снять Ваше имя как редактора, выставив причиною дальность расстояния[3226]; b) выпустить не тройной, а двойной номер (№№ IV–V); в нем напечатать Арабески; c) вслед за тем выпустить № VI с возражением Яковенки, подвергнутым моей правке.
II. а) Передать обе статьи (с Вашего согласия и с согласия Яковенки), т. е. и Донкихотство и Арабески, журналу Кожебаткина Мнемозине[3227], которая их, конечно, рядышком напечатает, ни в чем не сумлеваясь[3228]. b) выпустить теперь же тройной номер Тр<удов> и Дн<ей> без Арабесок, вместо которых Вы, м<ожет> б<ыть>, успеете прислать что-н<ибудь> другое. c) Ваше имя как редактора в тройном №№№ сохранить. Так как это письмо (за отсутствием точного мюнхенского адреса) может пролежать «до востребования» несколько дней, а ждать дальше просто неприлично (уже вторая половина ноября), то (если я не получу немедленного ответа по телеграфу) придется остановиться на первом выходе, т<ак> к<ак> я не знаю, согласны ли Вы сотрудничать в Мнемозине и, в частности, передать туда эту свою статью. – Выход, предложенный Вами (напечатание Донкихотства с Вашим возражением) теперь (после протеста Рачинского против Донкихотства и протеста Яковенки против Арабесок) – не есть окончательный выход, который удовлетворил бы всех. Я попробую, когда буду в Москве на этих днях, найти в связи с Вашим предложением третий выход, но думаю, что теперь от возражения на Арабески Яковенко едва ли откажется. Кроме того, остается вопрос, как быть с Гессеном?
7) Не удивляйтесь тому, что сняты имена ближайших сотрудников и они проставлены в общем списке[3229]. Вячеслав, вследствие неминуемого «сдвига платформы» (как он выражается), просит снять свое имя как «ближайшего»[3230]; заменить Вячеслава Эллисом и поставить рядом Блока и Эллиса значит констатировать «сдвиг», какой-то сдвиг; кроме того, надо запросить Блока и поставить его в неприятное положение, если он не найдет возможным стать рядом с Эллисом вместо Вячеслава; самое лучшее снять вовсе всех ближайших сотрудников.
8) Выскажитесь определеннее за или против Учебника ритма. Кроме того, пришлите весь посланный Вам на просмотр материал, пожалуйста, возможно скорее.
9) Хотя Вам и прислан был сверстанный материал (ввиду весьма понятной спешности), но «психологически» это не должно было действовать на принятие Вами решения. Сверстана каждая статья отдельно, так что выбросить статью или часть статьи ничего не стоит. –
10) Соотношение Вами терминов антропоморфизма, гуманизма, символизма и религии в том смысле, как это делаете Вы в последнем письме, меня крайне изумляет; 1) это нечто новое в Вас; 2) оно отчасти справедливо (и для меня приемлемо – Вы сами знаете это –), но здесь кажется неуместным, ибо Яковенко (конечно, гуманист и, конечно, религиозный человек и, конечно, настолько охотник, что знает неискоренимость антропоморфизма из гносеологии) снимает претензии Бердяева и потому термин антропоморфизм берет в одиозном смысле (есть другой и хороший антропоморфизм, см. Мод<ернизм> и Муз<ыка>, стр. 61–63[3231]). – Конечно, я объясню Яковенке Ваши основания к протесту; но он за протест только на Вас не обидится (тем более, что я не из-за Вашего только протеста отклоняю статью); обиделся он за сочетание протеста с выпадом против неокантианства. – Кончаю пока, т<ак> к<ак> хочу сейчас же отправить это письмо. Итак, возьмите у Эллиса мое письмо и прочтите. Эллису скажите, пожалуйста, что я ему при первой возможности отвечу.
Жму Вашу руку. Ваш Э. Метнер.
РГБ. Ф. 167. Карт. 13. Ед. хр. 6. Л. 28–36. Текст – в копировальной книге Э. К. Метнера.Ответ на п. 266.
268. Метнер – Белому
Траханеево на Клязьме 17/30–XI–912.
Дорогой Борис Николаевич! Только что отправил Вам München Hauptpostlagernd большое заказное письмо[3232] и вот сегодня сажусь писать Вам дальше, хотя это и убой драгоценного для меня теперь (лично) времени. Но не могу молчать! Помимо всех внешних недоразумений, в которых продолжаю считать себя невиновным (что берусь точнейшим образом доказать), обнаруживаются несогласия принципиальные. Вы сами восклицаете: «Мы глядим в диаметрально противоположные стороны»…[3233] Когда-то мы глядели в одну сторону, на те же зори и сражались у оврага с теми же врагами, защищая серебряный колодезь[3234]. М<ожет> б<ыть>, я и остановился в своем развитии… Ведь я старше Вас и раньше должен кончить «эволюцию»… Но видит Бог, я смотрю все туда же, так что «противоположная сторона» явилась от Вас и для Вас; вероятно, и раньше (в 1903 г. – Теургия; в 1907 г. – Против Музыки…[3235]) иногда бывало, что лучи нашего зрения расходились не надолго… Но теперь это словно фиксируется… Эта фиксация связана, м<ожет> б<ыть>, с личным раздором; я хочу сказать, что последний облегчает Вам (морально) выявление наших принципиальных разногласий, которые раньше Вы старательно ретушировали во имя личной дружбы; очень жаль, что принципиальное беспощадно не разграничивалось в период тесной дружбы; житейская мудрость велит поступать обратно: во время слития душ искать различие в духовном; во время душевного взаимоотталкивания не выдвигать духовного несогласия, а скорее цепляться за то, что соединяет две души в духе; иначе получается «эмоциональность» на высшем плане, которая профанирует последний. К сожалению, так как мы связаны общим делом, нас обязывающим перед обществом, так как Вы успели уже внести в работу над этим общим делом элементы, нас с Вами разделяющие, и внесение это аккомпанирует у Вас весьма прозрачною в своей отрицательности эмоцией, то я, уповая на остаток Вашего личного расположения ко мне и на факт затишья наших личных и чисто деловых схваток, решаюсь со всею осторожностью и добродушием, на кот<орые> только способен, коснуться принципиального. –
Когда Шпет («просто умный человек», как его назвал Эллис) появился в Москве[3236], он очень скоро выразил свое удивление, что два столь различных человека, как Вы и я, связаны столь большой дружбой. Мне это передала Елена Михайловна, жена Кали[3237]. – Конечно, мы очень различны, но тем ценнее и плодотворнее должна была бы явиться наша дружба. – Вы часто говорили и писали мне, что многому научились от меня; конечно, я научился у Вас еще большему, нежели Вы у меня. – Но если бы мы захотели точнее определить, чему именно мы друг у друга научились, мы не смогли бы. Но… тем ценнее результаты взаимного нашего обменного обучения… Теперь как будто пора этого взаимоучения прошла и началось какое-то взаимомучение… Надо и с этим покончить. Поэтому надо, забыв личную рознь, спокойно размежеваться в основных принципах. –
«Ты куда? Остановись, обернись» так не раз взывал и я «к благоразумию». Но так взывает с «черным хохотом» – «компания нибелунгов»[3238]. Следовательно, по-Вашему я – нибелунг[3239].
«В духе – не улыбаются, а вопиют, взывают, глаголят»[3240] – Но почему? Потому что не могут справиться с «душевностью»; вопиют «в духе», но не вопиет «дух». Не только Христос не вопил, но и Ницше и Гёте и Беме в высочайшие моменты не вопили, а «улыбались». Христос почти всюду «улыбчив». Главным же образом «вопят в духе», когда glwssaιlaleiu[3241] форсируется через искусственное импульсирование; «духи пророческие», говорит ап. Павел, – «послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира»[3242]. Не бушующие вопли ценны, а кроткая учительная струя; вопить надо в одиночестве, выжидая, когда все стихнет, и тогда – говорить. Конечно, если речь – на высшем плане.
«Тишайшие слова суть те, что приносят бурю. Мысли, которые приходят на голубиных лапах, управляют миром» (Тихий час. Т<ак> г<оворил> Заратустра)[3243]. «Поразило и Ницше мировое вращение» (XXVI арабеска – как вывод А. Белого)[3244].
Неокантианство – как паллиатив против порнографии! Я слишком мало учен, чтобы защищать неокантианство. Не «черт возьми Риккерт»[3245], которого призывает на помощь чуть ли не каждая страница Символизма![3246] Надоел – мы подымаемся ввысь, идем по спирали (т. е. эволюционируем в пустоту); долой круг – этот символ творческой законченности! Правда, немногие умеют выковывать кольца (умел это Вагнер); сомкнутие круга в Аверченке и в мантике[3247] доказательство не негодности круга, а только кружащихся; горе тем, кто начал Аверченкой; quod <ab>initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere[3248] – говорили непроизвольно-символично римские юристы.
Арабески 35-ая, 36-ая и т. д. до конца особенно выявляют жест и его характер и его направление. Он характерен, этот жест, в типично-«скрябинских» словах: «остается Заратустру отвергнуть… стать тем, кого ждал Заратустра»[3249], и направлен он против стоящих с мечом у ковчега (который объявляется бюстом и переплетом[3250], чем именно впервые и совершается «мерзость запустения») и против ходящих на ногах (двух ногах!), предпочитающих лучше спотыкаться на своих на двоих, нежели быть уносимым по спирали неведомо кем, нежели заноситься ввысь, рассматривая ковчеги, как ступени.
Не осуждаю я того, кто «неуклонно восходит»[3251], но думаю, что это уже – сверхкультурно; культурное же творчество именно в борьбе, именно в охране, именно в оценке. И я – «оценщик только оценщик»; но полагаю, что в моих оценивающих суждениях, которые охраняют и нападают (даже на Чандалу[3252] – и черная работа – почтенна), все же больше «творчества», чем в плохих стихах, картинах и композициях… К зачумленным прикасался Наполеон и тем бил по чуме; чумным не стал, а убил чуму, ибо поднял дух зачумленных… Вот почему «мы так делаем» (арабеска XXXV)[3253], предоставляя белоручкам спиралить на космическом дирижабле, внимая пленительному для них зову времени. Кто же рискует при этом без возврата и кто не боится умереть – покажет время. –
Арабеска XXXVII содержит точку на i: – «мы же голубя гоним», мы – «культуртрэгеры»[3254]; гонение голубя – мой сон, который я неосторожно рассказал; «культуртрэгер» – мой титул с 1907 г. (см. журнал «Перевал», ответ Белого на статью Вольфинга «Борис Бугаев против Музыки»)[3255].
Не «мирового» я «испугался»[3256], а плохих стихов Штейнера, в которых выражен «зов времени»[3257]. Старая штука – этот соблазн космическим полетом.
* / – полуударение, – ́ – целое ударение; за точность ∪ – не ручаюсь, это – спорно. (Примеч. Метнера).
24 Цитируется ария Изольды из 3-го действия оперы Р. Вагнера «Тристан и Изольда»: «В потоке волн, // В шумах и звуках, // В дыхании мира, // овевающем все сущее, // – утонуть, // погрузиться, // отрешиться – // высшее наслаждение!».
Этот, черт возьми, Вагнер, по-видимому, лучше прослышал о зове. Да и Гёте обладал хорошим слухом (но не на все зовы шел, NB!); так он однажды запел совсем по-вагнеровски:
25 Весь текст, который произносит Pater ecstaticus во 2-й части «Фауста» Гёте (действие 5-е, сцена «Горные ущелья, лес, скалы, пустыня»): «Вечное пламя блаженства! Горячие узы любви! Кипящая боль в груди! Пенящееся стремление к Богу! Пусть пронзят меня стрелы! Пусть сразят копья, раздавят камни! Пусть поразит молния! Пусть погибнет во мне все грешное и ничтожное, лишь бы сияли звезды, – зерна вечной любви!» (Фауст, трагедия Гёте. В переводе и объяснении А. Л. Соколовского. СПб., 1902. С. 297).
Беру первое, пришедшее в голову. А Новалис!! И вдруг гора из 37 арабесок, мечущих гром и молнию на бедных профессоров философии (на бедного прилежного Гессена, у кот<орого> не растет борода)[3258], на культуртрэгеров и занимающихся очищением авгиевых конюшень нашего антимузыкального, но зовущего и вопиющего (в обоих смыслах) времени, гора афоризмов, пригибающих гордую выю Ницше, дабы, встав на нее, можно было карабкаться по спирали дальше, эта гора родила мышь в виде строф Штейнера, в которых нет ни единого стиха, ибо это – полное отсутствие и ритма и рифмы – но зато изложено «общее» космическое «место», много раз спетое другими с подлинным вдохновением.
Если это – не проповедь штейнерьянства, то… тогда… это – неудачно законченная, хотя и гениально-дерзновенно начатая очередная статья для журнала, посвященного вопросам культуры.
Одним из основных наших принципиальных разногласий было и останется то, что, по-моему, надо вопить и брыкаться, когда речь идет об искусстве, науке, о пред– и предпредпоследнем, о Последнем надо или молча улыбаться, или, улыбаясь, спокойно и властно говорить. Я и Ницше не люблю там, где он вопит о Последнем; по-Вашему – наоборот: «любимые в охране не нуждаются»; «нападение на подножие есть падение»; «бить по чуме – стать чумным»; но о Последнем возопием дальше (что значит дальше?) «мы должны проклять Заратустру» – любимого (а не защищать его); должны его превратить в «подножие»; «стать дерзновеннее самого Заратустры»[3259]; по-моему: надлежит быть активным в жизни и для жизни здесь и о здешнем; и пассивным в ожидании конца; борьба в первом и упование в последнем.
«Закованный рыцарь застыл движением»[3260]. Вероятно, один из тех «толстокожих трехаршинных рыцарей», о которых мне писала Анна Алексеевна[3261]. Но я предпочитаю остаться застывшим и толстокожим, чем скользить по спирали.
Вы говорите о своем «расхождении с современностью»[3262]. Напрасно: Вы становитесь все современнее и современнее. Не разумеете же Вы под современностью только Аверченко, порнографию, неокантианство. Но Штейнер, но космический скрябинизм, но спиральные элеваторы духа, но преодоление во что бы то ни стало – все это современно и все это то в прекрасных благородных, то в уродливых и нечистых формах отвечает духу времени.
Эллис пишет мне замечательные письма; очевидно, он опять на пороге какой-то «переоценки»; я очень рад и заинтересован; что будет дальше. Хоть бы раз мне удалось тоже что-нибудь решительно переоценить. Говорю это без иронии. – Вероятно, оттого я отчасти и Napoleonträger[3263], «будучи чем-то» от него; это что-то – любовь к монументальности и неуменье переоценивать.
Если Вы действительно собираетесь писать о Коле[3264] (который тоже не умеет переоценивать), то напоминаю Вам, что дал Вам статью Сабанеева[3265] (для доказательства от противного) и некоторые ориентировочные мысли и что Вы сами некогда сделали выписки из рецензий, кот<орые> взяли у отца. С Вами ли они? Судьба сборников еще в воздухе[3266], но если у Вас сама собою напишется статья, то она может быть напечатана и в Тр<удах> и Дн<ях>.
Если увидите Эллиса, то сообщите ему то же самое по поводу статьи о Коле; я ему также дал те же ориентировочные мысли.
Если хотите – покажите Эллису это письмо. А сами не сердитесь на него и не упрекайте меня в химеризме, ибо Вы сами знаете (или не знаете), что в Арабески вплетены видимо и невидимо наши принципиальные расхождения.
Ваш Э. Метнер.
P. S. Привет Анне Алексеевне.
P. S. 20–IX / 3–XII 912. Сейчас перечитал письмо и вижу, что отрывочность его может возбудить недоразумение относительно круга и спирали. Дело в том, что я не стою ни за круг, ни за спираль. Защищал же частичную правду круга, как творческого кольца, и нападал на спираль, символизирующую в конической форме некоторую эволюцию и конец, если конус стоит на основании, или то же вечное возвращение, если (что уродство) конус стоит на вершине; символизирующую ту же эволюцию в пустоту неизвестности, если спираль цилиндрическая. Дело не в стереометрических символах, а в принципах мировоззрения и в ритме мироощущения. М<ожет> б<ыть>, Вы и правы со своею спиралью (кто это может проверить), но как Вы проводите свою правду, все, что создается вокруг этого проведения, в этом именно и заключается наше принципиальное и ритмическое разногласие. – Бобров предлагает свой перевод Сезона в Аду Римбо[3267]; книжка небольшая; гонорара не требует; но мне не понравилась эта вещь; т<ак> к<ак> я французов и не люблю и не понимаю, то, запрашивая Вас и Эллиса, поступлю сообразно с вынесенным Вами отзывом. Напишите, присылать ли рукопись или Вы знаете эту вещь и решите так, без нее. Ваш Э. М.
P. P. S. Не могу удержаться, дорогой Борис Николаевич, чтобы не спросить Вас как Вы толкуете ныне 19-ый афоризм из Нечто о мистике (Тр<уды> и Дн<и> № II)[3268]. Или я больше ничего не понимаю (а, м<ожет> б<ыть>, и никогда ничего не понимал), или для Вас теперь этот афоризм должен звучать так, как если бы его написал кто-н<ибудь> другой. И куда теперь девалась «иллюзия Ницше» – «иллюзия Апокалипсиса»? И не похожа ли «воронка Мальстрема» на конус, образуемый спиральным вращением?[3269] А все рассуждения на тему «In deinem Denken leben Weltgedanken»[3270] на «бум, бум» (см. афоризм 13-ый из Нечто о мистике)?[3271] Теперь я Вашими словами скажу о Вас. Андрей Белый «не понял, что старое и новое раздельно не существуют в категории времени; есть одно: старое и новое во все времена» (аф<оризм> 10), «Не преодолевать призваны мы; мы призваны сказать стой всяческому преодолению. Всякому глубиннику, специалисту по падению в им новооткрытую бездну должны мы сказать etc.» (аф<оризм> 11)[3272]. – Не обессудьте: судебный следователь продолжает исполнять свою обязанность.
Ваш Э. Метнер.
P. P. P. S. Целый ряд обстоятельств, дорогой Борис Николаевич, вынудил меня к тому, чтобы задержать отправление этого затянувшегося письма, прибавив к нему новый постскриптум.
1) Сообщаю Вам новое, на этот раз окончательное решение вопроса о выходе Тр<удов> и Дн<ей> в связи с конфликтами по поводу Ваших Арабесок и статьи о Бердяеве. Опуская все последние перипетии, формулирую: решено а) Снять Ваше имя как редактора (объяснив невозможностью редактировать издалека, да еще при частых переездах)[3273].
b) Выпустить №№ 4–5 отдельно (двойным) и вскоре вслед за ним № 6-ой, чтобы в нем могли быть помещены новые статьи: Ваша, Вячеслава, Эллиса[3274].
c) Поместить полностью Ваши Арабески, а затем сейчас же после них открытое письмо Степпуна на Ваше имя, подвергающее Ваши Арабески весьма почтительной, очень доброжелательной, но основательной (во многом) критике[3275]. В прошлом письме я упомянул, что Степпун колеблется. Его колебания были в зависимости от удачи написания ответа Вам. Ответ одобрен Рачинским, Киселевым и мною. Ответ, по мнению Степпуна, удовлетворит Гессена, кот<орого> Степпун берется умаслить. В VI № Вы можете отвечать Степпуну[3276]. В VI же № может быть помещен и ответ на Арабески Яковенки[3277] и других, кто пожелает. Так<им> обр<азом>, VI номер, выходящий отдельно, – необходим. Мое предположение (в прошлом письме) относительно того, как попали корректуры Арабесок к Степпуну, оказалось верным. Обстоятельство, что Арабески были прочтены в заседании Молодого Мусагета, является формальным основанием к тому, чтобы открытое письмо Степпуна было помещено в одном номере с Арабесками. Впрочем, помещение этого письма в том же номере есть conditio sine qua non[3278] дальнейшего сотрудничества логосцев в Тр<удах> и Дн<ях>.
d) Снятие Вашего имени как редактора (явно неизбежное) не означает, однако, что с Вашим мнением не будут считаться. В частности, прошу ответить решительнее об учебнике по ритму[3279] и возвратить немедленно (пожалуйста) все остальные статьи, имеющиеся у Вас на просмотре. Иначе VI номер тоже опять запоздает. –
2) Ваше последнее деловое письмо Ахрамовичу[3280] содержит целый ряд пунктов, кот<орые> он и доложил мне. Отвечаю только на один, ибо остальное считаю или само собою разумеющимся, или просто странным недоразумением. Впрочем, и этот один пункт, строго говоря, тоже недоразумение. Сначала я был против Вашего отказа от редактирования журнала; всякий выход такой является более или менее скандалом; Вы как литератор это должны понять; произнося слово «скандал», я и в мыслях не имел упрекнуть Вас в желании скандальничать, хотя и имел основание думать, что причиною отказа является не только дальность расстояния; я просто тогда пока не видел оснований к Вашему уходу; теперь вследствие конфликтов со статьей Яковенки[3281] и Арабесками Ваш отказ приемлем. С этими моими соображениями соглашались и Рачинский и Киселев. Упор Ваших Арабесок в Weltgedanken Штейнера и призыв услышать «зов времени», конечно, превращают Ваше штейнерьянство, которое Вы называете Privatsache[3282], в Gemeinsache[3283]; все это так и принимают; первый Вячеслав, кот<орый> просил снять свое имя, как ближайшего сотрудника[3284]. Дорогой Борис Николаевич, ведь Вы же не умеете или не хотите прятать от всех свои Privatsachen; так было всегда!
3) На письмо Анны Алексеевны[3285] я отвечу другой раз; упоминаю здесь о нем потому, что один пункт письма связан с главным содержанием этого моего письма. Я хочу сказать по вопросу о личной задетости. Всякий непредубежденный человек, прочтя все мои письма к Вам (и зная мое отношение к Вам), сказал бы: Эм<илий> Карл<ович> нападает на Бор<иса> Ник<олаевича> за то и за это, и это «то и это», вполне конкретное, им, Эм<илием> Карл<овичем>, ясно формулируется и доказывается. Т<ак> к<ак> эти нападения вызваны деловыми отношениями, то Бор<ис> Ник<олаевич> может и обижаться, но не вправе видеть в этом нападении желание обидеть. Прочтя же Ваши письма (начиная с того, которым открылась кампания; ибо Вы первый напали, и притом безо всякой причины[3286]) и познакомившись со всеми обстоятельствами дела, такой непредубежденный человек должен сказать, что, и нападая и защищаясь, Вы почти все время оперировали продуктами Вашего воображения, кроме того, нападали уже прямо лично и из личных соображений. Вот почему ведь я и заговорил о третейском суде. Можно разбить голову об стену, читая Ваши письма. Остается поэтому смешной, правда, в нашем-то быту выход: третейский суд! Так вот приблизительно то же самое и с Вашими Арабесками. Не увидеть в Арабесках личных намеков, значит быть слепым! Портрет Гессена нарисован мастерски двумя-тремя штрихами. Его все узнали. Мой сон о Голубе, рыцари, защищающие бюсты, культуртрэгерство[3287] и т. п., все это по моему адресу. Неужели мы все химеристы. Я на Вас вовсе не в обиде, но отрицать направление Вашего жеста на определенных лиц – смешно. Не увидеть в Арабесках защиты своей новой Privatsache тоже смешно. Итак, и здесь (конечно, с высокой точки зрения м<ожет> б<ыть> и вполне правильное, даже святое) опять нападение лично и из личных соображений. Когда я нападаю в своей книге Мод<ернизм> и Муз<ыка> на многих, то делаю это открыто, цитирую противника, иногда называю его имя и нападаю, только защищая дорогие мне бюсты. Вот почему попутно огульно и голословно опрокидывать целые течения, которые прекрасно могут двигаться себе дальше, не мешая устойчивости защищаемых мною бюстов, я не стал бы. Вы же обрушиваетесь на все кантианство (кот<орое> защищали несколько месяцев тому назад) только потому, что штейнеровская вода крещения смыла с Вас кантианство и что последнее прямо ненавистно Штейнеру. (Читаю сейчас еще одну книгу Штейнера, где ему приходится касаться Канта[3288], и то краснею со стыда, то негодую при каждой странице). –
4) Ваши заметки на полях присланных Вам корректур прочел с большим интересом и весьма тронут лестными отзывами о Wagneriana[3289]. Но удивляюсь, что многое там для Вас приемлемо после того, что Вы высказали в Арабесках. Я кладу оружие и отказываюсь спорить с Вами на эту тему письменно. Мой мозг не вмещает подобных противоречий. Мое мнение о Ваших Арабесках Вы знаете, и то, что я восхищен очень, и то, что я лично вовсе не задет (хотя и признаю, что камешек брошен в мой огород), и то, что почти во всем несогласен с Вами. Но ввиду Ваших отметок к Wagneriana я смущен, и прошу поэтому принять все мои вышеизложенные замечания к Арабескам как плод моих недоумений. Недоумений[3290], но не химер. Так и знайте, письмо, в котором я прочту слово химера, черт попутал, бес расстояния, демон переписки и т. п., я не дочитываю до конца и оставляю без ответа. Кроме того, если я услышу, что Вы или Анна Алексеевна продолжаете упрекать и подозревать меня в химеризме, я решительно потребую третейского суда. –
5) Последний пункт, который спешу Вам сообщить, – следующий. Вы получили от Блока письмо относительно Вашего романа[3291]. Имейте в виду, что факт основания издательства Сирин Терещенки первостепенной важности. Отец мой сказал, что Терещенко обладает многими миллионами. Мой искренний совет согласиться на предложение Терещенки, который, конечно, выкупит Ваш роман у Некрасова, не станет Вас погонять и ставить Вам условия и заплотит Вам больше, чем Некрасов. Кроме того, Мусагету совсем уже не обидно будет, что Ваш роман печатается у Терещенки, т<ак> к<ак> это не маленькое издательство, конкурирующее с Мусагетом, вроде Некрасова. Вообще имейте в виду, что Терещенко намеревается монополизировать всю ценную русскую литературу. Блок уже ушел к нему. Брюсов также. Сологуб (кажется) также[3292]. Но Терещенко, по всей вероятности, – эклектик (я говорю на основании слухов, надеюсь, что на этот раз буду свободен от упреков в сплетне); ядра он не создаст, или, во всяком случае, надо помешать ему создать ядро. Надо так размежеваться Мусагету и Сирину. Пусть Сирин издает все сочинения всех крупных писателей, но пусть он только останется издательством, а не литературным сообществом. Пусть он отымет у Мусагета Блока, Вас, Вячеслава, но отымет Ваши печатные труды, Ваши рукописи, но не Ваши души. Печатание сочинений сотрудников Мусагета в Сирине будет тогда только выгодно Мусагету. Теперь выслушайте, пожалуйста, мое мнение о том, как Вам следовало бы отнестись к дальнейшим (помимо романа) предложениям Сирина. Если Вы получите предложение издать собрание Ваших сочинений, то Вы дайте свое решительное согласие, но под тем непременным условием, чтобы Мусагету, по отн<ошению> к которому у Вас обязательства, был вполне возмещен наносимый тем ущерб. Напишите тогда Терещенке, чтобы он сам снесся с Мусагетом и по окончании переговоров уведомил Вас о сумме гонорара, который он может Вам предложить. Если Вы будете с ним вести переговоры помимо Мусагета, то от этого только проиграете, т<ак> к<ак> то, что Мусагет будет дорожиться Вами, только подымет сумму гонорара Вам и даст Вам в то же время возможность перестать себя считать денежным должником Мусагета.
Вот и все пока. Прибавлю только, что 1) тогда и Пут<евые> Зам<етки> могут быть напечатаны у Терещенки; 2) отдельно ему стихов Ваших не продавайте и скажите, чтобы он обратился в Мусагет, т<ак> к<ак> Вы и стихи и симфонии уже обещали.
Дорогой Борис Николаевич! Я не теряю надежды, что Вы поймете, что так дальше нельзя. Я устал. Больше не могу ни спорить, ни писать. Если Вы не понимаете меня, не способны признать, что мое положение совершенно отчаянное, что не могу же я, ясно видя, в чем прав, ясно видя, что и впредь не застрахован от Вашей нервности, дальше вести Мусагет. Иногда мне прямо хочется, чтобы Сирин взял и съел всё и всех. И оставили бы меня в покое. Вы видите, что я вконец опустошен. Избавьте меня от необходимости писать Вам неприятные для нас обоих вещи. Тогда, может быть, я и смогу вернуться к Вам. Ваш Э. Метнер.
РГБ. Ф. 167. Карт. 13. Ед. хр. 6. Л. 37–60. Текст – в копировальной книге Э. К. Метнера.
269. Белый – Метнеру
Scharlottenburg. Luther Strasse 27. Pension Wegner.Берлин 8 декабря[3293].
Отвечаю так поздно, потому что сейчас только получил 2 Ваших письма; они пропутешествовали из Мюнхена в Берлин, из Берлина в Мюнхен[3294]; и лишь сейчас я их получил по адресу.
Совершенно согласен со всем, что Вы пишете о «Тр<удах> и Днях» (ответе мне Яковенко, Степпуне, смещении меня с редактирования; меня это радует и нисколько не изменяет сути «Трудов и Дней», ни моего деятельного участия; мои априорные соображения о трудности редактирования в действительности возымели место; и – да будет!).
Глубоко скорблю, что «философутик» мой действительно вышел похожим на Гессена, но post factum я осознал это: что делать – в процессе творчества я просто не вижу эмпирического сходства. Намерения вывести Гессена у меня не было.
И пеняю Вам очень, что Ваш редакторский карандаш вóвремя не прошелся по этому месту.
О Терещенке, «Сирине» я ничего не знал; письма от Блока не получал[3295] (пять месяцев как я не получал от Блока писем).
Следовательно: все соображения о «Сирине», моем участии или неучастии там преждевременны.
Я и останавливаться на них не желаю.
Полагаю, что гармония в наших с Вами отношениях будет достигнута диетой письменных сношений и обилием личных свиданий. Те и другие – верю – обратно пропорциональны.
Оттого-то принципиально не поднимаю в письме вопросов, Вами затронутых.
Скажу только: когда обе стороны лично симпатизируют друг другу и серьезно пытаются прийти к «во здравие», а не к «за упокой», то избегают говорить в четвертый и в пятый раз о третейском суде.
А то ведь получается картина с Австрией и Сербией: Австрия мобилизирует пушки и 800 тысяч войска и, выставив жерла орудий на Белград, делает дружеское представление[3296]. Да не будут наши дружеские отношения стоять в зависимости от мобилизации аргументов и суда.
Примите уверение в моей преданности и уважении к Вам.
Борис Бугаев.РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 76.Ответ на п. 267 и 268.
270. Метнер – Белому
Москва 8/21–XII 912.
Дорогой Борис Николаевич! Очень рад и тому, что Вы, наконец, получили мои два письма[3297], и тому, как Вы на них реагировали. В общем Ваш ответ от 18/XII н. с.[3298] меня удовлетворяет. Если Вы не дополучили еще письма (Блок писал Вам и, кажется, неоднократно[3299]), то советую Вам отправить открытки во все города, где Вы были, Аn die Postverwaltung Vitzenau etc. Bitte höflichst alle Briefe und Postsendungen, welche an Herrn Boris oder Frau Anna Bugaëw (следует адрес, напр<имер> Vitzenau) adressiert sind, nach Charlottenburg etc nachzuschicken Achtungsvoll Boris und Anna Bugaëw[3300]. –
Теперь Вы уже знаете, что все было отправлено в Берлин на основании распоряжения Вашей супруги, Вами своевременно не отмененного.
Андрея Белого не смеет править ни один редактор в мире[3301]. Даже если бы встал из гроба Шиллер, который был гениальнейший из корректоров, превращавший средние статьи путем незаметных выпусков и вставок в статьи первосортные, и умел править статьи первосортные так, что авторы всему говорили да, что сделал его карандаш, – даже Шиллер не прикоснулся бы к Вашей статье.
Если Вы верите тому, что, поверх всех наших недоразумений, продолжает жить моя любовь к Вам, и если Вы доверяете моей деловитости, то прошу Вас уполномочить меня немедленным письмом на ведение переговоров с Терещенко (который желает со мною познакомиться) об издании Ваших сочинений в Сирине (разумеется, не о монополии: Мусагет и Путь останутся открытыми для Вас), а также, в частности, написать, находите ли Вы возможным (если Терещенко выкупит Ваш роман у Некрасова) передать рукопись Терещенке. Немедленно отвечайте потому, что наше свидание с Терещенко вопрос ближайшего будущего. Терещенко человек, по описанию Блока – очень милый и во многом нам близкий; он желает (как пишет Блок в последнем только что полученном письме) размежеваться с Мусагетом, быть не только в мире, но и в дружбе[3302]. Надеюсь, что Вы доверите мне предварительные переговоры; я же ввиду огромных средств Сирина выработаю (обменявшись соображениями с Блоком) приблизительные гонорары, конечно, бóльших значительно размеров, нежели те, какие Вы получали до сих пор. – Спешу отослать это письмо, а потому заканчиваю – прибавив лишь два пункта: 1) Взываю я к третейскому суду только с отчаяния, чтобы не стукаться головою об стену. Сравнение меня с Австрией неверно; еще менее верно – сравнение Вас с Сербией; скорее тогда уже – обратно. Но после этого Вашего письма я, в качестве Сербии, перестаю взывать к международному трибуналу. – 2) Очень прошу Вас все, что Вы имеете своего и чужого для последнего (VI) номера Тр<удов> и Дн<ей>, немедленно выслать; мы должны выйти 31 декабря. В особенности статью Скалдина[3303]. – 3) Прошу Вас написать мне о Вашем согласии быть сотрудником Сирина; Вам делается это предложение через Блока и через меня; необходим быстрый ответ, ибо выходит вскоре объявление об новом издательстве.
Жму Вашу руку.
Привет Асе.
Ваш Э. Метнер.РГБ. Ф. 167. Карт. 13. Ед. хр. 6. Л. 76–77. Текст – в копировальной книге Э. К. Метнера.Ответ на п. 269.
271. Белый – Метнеру
От А. А. Блока и от Вас слышал я о возникновении Книгоиздательства «Сирин» и о симпатичных заданиях этого издательства[3304]. От А. А. Блока кроме того получил я неофициальное уведомление о том, что К<нигоиздательст>во «Сирин» приглашает меня в число сотрудников. Мне остается благодарить К<нигоиздательст>во «Сирин» за внимание ко мне и согласиться[3305]. Но малая осведомленность моя о реальных ближайших целях издательства, а также трудность конкретно договориться о характере моей работы в новом Книгоиздательстве и о форме участия в оном вынуждает меня обратиться к Вам с покорною просьбою, оправдываемой отчасти нашею многолетнею дружбою и общей работою в общем деле – в «Мусагете»: в случае, если возникнут переговоры о характере моего участия в «Сирине» и об условиях этой работы, я поручаю Вам, дорогой друг, вести за меня эти переговоры с руководителями издательства и даю Вам (как знающему меня, мои условия работы и мои литературные обязательства) – полную carte blanche[3306] на ведение всех переговоров c «Сирином», как предварительных, так и деловых.
Только крайняя необходимость заставила бы меня на несколько дней оторваться от дел, задерживающих меня в Берлине, и приехать лично в Россию, буде такая необходимость налицо. Если возможно этого избежать, я бы был Вам, милый Эмилий Карлович, признателен глубоко.
Надеюсь на Ваше согласие и заранее крепко Вас за это согласие благодарю.
Остаюсь искренне любящий Вас и уважающий
Борис Бугаев.
Berlin. 26 дек<абря> (н. ст.) 1912 года.
P. S. Параллельно с этим письмом пишу Вам другое, подробно объяснительное и личное[3307].
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 77. Почтовые штемпели: Berlin. 27. 12. 12; Москва. 10. 12. 12; 11. 12. 12.
272. Белый – Метнеру
Берлин. 26 декабря н. с.
только что получил Ваше последнее письмо. И глубоко тронут Вашим безмерно добрым предложением говорить о Терещенке.
Поэтому, откладывая пока тему о наших с Вами недоразумениях, которые ликвидировать бы хотел единым махом, пишу главным образом деловое письмо (для разделения труда Ася Вам пишет об имении[3308]) о Терещенке и литературе.
Но сперва несколько слов о нас с Вами. Верьте, что все эти месяцы единственным моим горем (действительным, а не фиктивным) были наши письма друг к другу – и горем, настолько реально измучивающим меня, что неделями я хватался за голову, не умея предпринять ничего, чтобы трезво и четко распутать гордиев узел (для меня) нашей переписки. И скажу отчего.
Неужели Вы думали, что упорство, желание последним резюмировать предметы наших ссор или запальчивость только двигала мною: я знал – пока не перегорит в душе наша ссора, я бессилен что-либо реально выполнить в моей работе Доктору[3309]. Мне так легко было бы согласиться с Вами вполне, так легко было бы у Вас попросить извинения и словом покончить с недоразумением. Но я хотел, чтобы все, вмененное Вами мне в вину, было мне кристально ясно и очевидно (у меня масса недостатков, и все эти месяцы я в особо покаянном настроении относительно ряда окаянств, мною учиненных в жизни): но именно многое из того, что Вы мне вменяли в вину, я относил к недомолвке, недоразумению: и я мучался еще (кроме ссоры) и тем, что не могу отчетливо Вас понять; я хотел все мелочи наших недоразумений осветить сознанием; и многое мне тут так и осталось неясным. Сколько раз садился я Вам писать, с тем чтобы Вам высказать, что согласен с Вами, что беру вину нашей переписки на себя исключительно, но, задумываясь, с мучением я вскакивал и говорил себе: «Не могу, не могу словесно согласиться и в глубине глубин остаться при своем мнении».
К этому присоединялось нечто еще и внешнее: тон требования, чтобы я признал себя во всем виноватым (я себе говорил: Как можно требовать извинения, согласия на Ваши положения, когда все это свободно должно вытекать из моей инициативы, из моего почина («дух дышит, где хочет»…)[3310]). И всякая хорошая инициатива, лишь только она рождалась в моей душе, была подсекаема в корне при словах «третейский суд» или «возвращаю письма, не распечатывая».
Мне было бы легче всего во имя душевного нашего согласия не реагировать на периферическую «колючую изгородь» Ваших писем, под которою я слышал струю Вашего душевного благородства; но, особенно чувствуя Вашу правдивость, я не мог сказать на Ваши периферически-колкие выпады «Вы – правы», ибо это было бы насилием над моим Духом.
Ко всему этому присоединялась еще чисто внешняя нервность (ведь эти 4 месяца я переживал мучительную душевную операцию, которая лишь теперь позволяет не кричать от боли и первые благие последствия которой овевают душу предвестием «весенних зорь»); и особенно мне было больно в Вашем письме слова о «сдирающих кожу медитациях» (слова эти были обращены не к Вам, а к А. С. Петровскому[3311], и употребление их Вами в одном из писем, как «полемического аргумента» против чего-то там (чего бы то ни было), показалось мне невыносимым и несоответствующим Вашей обычной нежности и деликатности в отношении к друзьям: эта фраза заставила меня стиснуть зубы еще на ряд месяцев; я дал себе тогда почти слово: с Вами не говорить ни о чем интимном – никогда…).
Слова о «сдирающих кожу медитациях» показались мне вот какими: представьте себе – при виде мусульманина, молящегося на морском берегу на закат, турист европеец с кинематографом под мышкою стал бы, указывая пальцем на мусульманина, хохотать: «Молится… Ха-ха-ха… Молится…». Вот такою по отношению ко мне показалась мне Ваша фраза (я знал, что сознат<ельного> желания у Вас оскорбить меня не было – но все же психологически она в письме стояла для меня как оскорбление); я себе сказал: «Э. К. в таком состоянии запальчивости, что даже добрая, свободная инициатива моя протянуть руку примирения вызовет в нем лишь раздраженное «ха-ха», раз он может полемически воспользоваться фразой из письма не к нему о том, что есть для учеников розенкрейцерского пути дело, столь же интимное и важное, как молитва (слова о «медитациях, сдирающих кожу» стояли в том месте письма, которое Вам не предназначалось для чтения…). Ну тогда, оскорбленный до слез, я Вам ответил – простите, милый! – многими колкостями; «Арабески»[3312] вылетели из меня в ту эпоху не как статья, а как крик «до слез обиды» в пространство. У меня, ей Богу, было в те дни настроение стихотворения из «Золота в лазури»[3313] ‹…› по плану, предложенному Вами и который Вы мне пишете; что «Сирин» принципиально принимает обе рукописи[3314]. Блок написал с большой теплотой, но очень не реально, т. е. не ответив мне, как же мне с Некрасовым быть и удобно ли мне именно взять и отнять, так сказать, у него рукопись, полагаясь на его любезность[3315]. О «Путевых Заметках» же я ответил Блоку, что снесусь с Вами, как и о романе[3316] (тут случились три деловых дня, а я все собирался Вам написать).
Сегодня я получил Ваше письмо, которое так выводит меня из затруднения и за которое я Вам, дорогой, милый друг, благодарен безмерно. Вы пишете: «прошу Вас уполномочить меня немедленным ответом на ведение переговоров с Терещенко об издании Ваших сочинений». Милый друг, спасибо – никогда не забуду: все мои сомнения и трудности личного ведения переговоров через Блока, письма которого все же туманны в деловом отношении, – все мои сомнения Вашим благородным предложением сняты; с радостью присоединяю к этому письму еще официальное письмо к Вам, уполномачивающее Вас[3317]. Спасибо.
Мне тем более это все улыбается (в матерьяльном, лишь матерьяльном, смысле), что речь идет о собрании моих сочинений, а о них-то Блок не обмолвливается ни единым словом, заставляя меня думать, что речь идет о «Петербурге» или о «Путевых Заметках», передача которых обставлена сложностями всякого рода.
Спасибо.
Присоединяю к вышесказанному еще одно объективно-мрачное рассуждение о себе, как авторе (верьте, рассуждение это не от мрачности настроения, а от мрачности нашего положения с Асей, вопреки психической успокоенности все эти дни); все эти дни мы с Асей безмятежно спокойны и покорно-ясны тому, что нас ожидает в близком будущем; а нас ожидает нечто прескверное на физическом плане: месяца через полтора нам нечего есть, неоткуда благородно взять в долг, нечем отработать. И потому, что это так неизбежно-реально и в порядке вещей, мы даже ничего и не предпринимаем.
Вот в каком я положении: у меня 3500 долга «Мусагету», долг Блоку 800 рублей, долг Морозовой 1100 рублей (покроется по выходе романа), обязательство «Пути» (монография и статья – о поэтах)[3318].
2½ месяца моя миссия окончить «Петербург» (я могу лишь сказать, что он будет вдвое значительнее и зрелее «Голубя»); 2½–3 месяца следующих я работаю над монографией[3319].
Итого 6 месяцев, т. е. полгода я неработоспособен (ведь мы еще упорно, лично работаем Доктору, учимся: и эту работу полагаю я очень серьезной – без Доктора я уже протянул бы язык). 6 месяцев я все отработываю проеденное, оторванный от России, с психической невозможностью писать «фельетонишки», «рецензии» и с огромною жаждою больших фундаментальных работ: передо мной встает моя 3-ья часть «Трилогии», «Трилогия: Антихрист» (драматическая: нечто, меня преследующее всю мою жизнь с отрочества, мое «Hauptwerk»[3320])[3321]; пора ему приходит. Далее большая книга раздумья моего, нечто вроде соединения «Заратустры и Беме», книга, мысли к которой зреют и которые я не могу выжимать в статейную дребедень. Мой «Sturm und Drang»[3322] приходит к концу: мне 32 года – и все написанное мной стоит предо мной, как эскиз; я говорю «нет» этому эскизу, но вижу в нем контуры большого, большого полотна. С молитвою и в глубоком покое хотел бы я остаться с самим собой перед моими фундаментальными творениями: я ношу их в себе, я слышу их силу в моем немом, несказанном молчании и уже ради них я обязан сказать нет всякой житейской суете.
2½ года я разрывался суетою и мелочами, набирал заказы, отодвигал свои «Hauptwerken» на задний план, во имя такой-то и такой-то «книжечки».
Дорогой друг: все эти месяцы я себе говорю: «Ты должен иметь силу выйти из паутины заказов для работы над фундаментальным, или ты, как поэт, от усилия, не подогреваемого художественным императивом, сорвешься».
И я решил.
Или серьезно работать, или замолчать как писателю.
Трудность матерьяльная, лавина неоплатных долгов, растущая над нашими головами, последние месяцы вызывает во мне скорее не желание избежать ее, а наоборот, подставить ей голову; ибо я устал, ужасно устал, безмерно устал морально: а моральная моя усталость от невозможности успокоиться, от искания денег; едва обернешься, едва с величайшими треволнениями через голову ряда скандалов и моральных ударов выцарапаешь себе право на 3–4 месяца не думать о деньгах, едва успокоившись примешься за работу, как тебя со всех сторон начинают упрекать за то, что Ты должен тому-то, что Ты не исполнил данное обещание: словом – житейская суета. А там, глядь – прошли эти 3 месяца и опять грозный вопрос: а чем жить? а чем заплатить уже имеющийся долг? А во имя чего занять? А откуда?
Т. е. хочу я сказать: я уже не могу работать, когда самое человеческое право – право, без которого не только что работать, но и успокоиться нельзя, – право на кусок хлеба и обиталище стоит под знаком вопроса. Подумайте: я пишу «Петербург» – («Петербург» лучше «Голубя» – свидетельство В. Иванова, А. Толстого, Аничкова, Эллиса и мн<огих> др<угих> вплоть до Кузмина и Гумилева[3323]) – а как я пишу? Имел ли я душевное равновесие во время писания? Сколько сомнений, волнений я переживал за этот год из-за права писать «Петербург». Сначала, уродуя роман (все, что написано за этот период, я вынужден сызнова переработать), я в 2½ месяца отвалял 13 печатных листов[3324], густотою и насыщенностью которых удивлялись все петербуржцы; все не верили мне, что я в такой срок написал; срочность и быстрота написания сказалась в архитектоническом безобразии написанного (ее я вытравляю теперь): архитектоника мне изгадила уже «Серебряного Голубя»: будь у меня деньги и простор времени – таков ли был бы «Сер<ебряный> Голубь»?
Спешно пишучи «Петербург», я надеялся на единовременное получение 1000 рублей к Рождеству 1911 года. 1000 рублей изгадили мне 3½ главы, т. е. 13 печатных листов; кроме того: к Рождеству 1911 года я едва стоял на ногах от мозгового переутомления (существовал я за эти 2½ месяца писания долгом: я занял у Блока 500 рублей, ибо «Русск<ая> Мысль» не дала мне аванса. С Рождества 1911 года до февраля 1912 года – много горького, разбивающего нервы я пережил с историей с Брюсовым и Струве[3325]. Все это время до отъезда за границу я вместо того, чтобы отдыхать, мучился вопросом, как жить, и не мог работать над окончанием «Петербурга».
Наконец перед отъездом за границу появился стремительно Некрасов; я, не думая ни о чем, с отчаянием отдал ему роман[3326], ибо я без денег за роман не мог ехать за границу, а должен был бежать в тишину: неприятности, переутомление, разрывание на части в Москве превратили меня просто в медиумическое создание; и я должен был уехать: за границу или… в санаторию.
И вот: вместо того, чтобы в Брюсселе спокойно работать, там меня настигли сетования за роман[3327]; я от горечи необходимости писать и невозможности писать от тревоги душевной измучился.
И вот теперь: роман еще не кончен, а вызвавшие переутомление нервное 3½ главы, которые я писал под угрозою остаться без денег, я переработываю.
Роман, мое дитя, к которому я относился с вдохновением, требовал отгороженности от «житейских волнений»[3328]: и что же – самый процесс написания был окружен атмосферой ряда скандалов.
Я романа в грязь не уронил: он, может быть, лучшее из мной написанного: «житейскую суету» во время писания я откидывал, но… какою ценою?.. Эта цена (1100 полученных до сих пор за роман рублей, т. е. 4–5-месячное житье без думы о деньгах) с суммой скандалов такова, что я без горечи, а совершенно объективно себе говорю:
«Я так больше не буду работать над большими полотнами». Достоинства романа вопреки роя сует и беспокойств есть «Пиррова победа».
Это не фраза: поиски за деньгами Пушкина привели его к состоянию почти нервной болезни, вызвавшей дуэль; Достоевский весь скапутился благодаря денежной нужде. Гёте – не знал, что такое с величайшею душевною мукою месяц хлопотать о праве полтора месяца не думать о хлопотах.
И вот я себе говорю: у меня куча долгов; наивно было бы обманывать себя и других, что с долгами распутываешься, предлагая в счет закрепощения будущей свободы работать издательством темы <так!>, ничего общего не имеющие с твоими личными заданиями, ради права еще на 2–3 месяца отклонить от себя призрак голода и унижения.
Может быть, я не крупный художник, и может быть, мне суждено как художнику навсегда замолчать, но я должен сказать:
Более выбарахтываться из капута я не могу: я – устал, смертельно морально устал заявлять, что мне интересно писать, например, монографию о старце «Федорове»[3330], чтобы в долг получить от «Пути», «Сирина» или кого бы то ни было лишних 500 рублей, когда душа моя полна моим Hauptwerk’ом: все равно 500 рублей будут прожиты через 2 месяца, голод не устранится, Hauptwerk будет стоять и звать к написанию, и писать о старце Федорове будет для меня моральной мукою, ибо так же могу написать монографию об «оврагах», как и монографию о «Федорове»: тем и другим интересуюсь до известной степени, но вполне охвачен иным, фундаментальным. Такое существование на физическом плане есть не жизнь, а агония. Пишу это спокойно, ибо это – вывод 1911 и 1912 года. И отсюда-то при всей психической ясности, граничащей с легкомыслием, я формулирую мой пессимистический вывод о себе.
Вот хотя бы эта часть моего письма о себе: Вы думаете, мне легко писать на 6 страницах большого формата то, что есть для меня аксиома и что может даже близкому другу показаться «преувеличением».
Нет: «преувеличение» есть реальная правда.
4 месяца я жил надеждой, что залог у Вл<адимира> Кон<стантиновича> Кампиони даст мне право, расплатившись с частью долгов, морально отдохнуть от моей «эмпирической воли», подверженной действию холода, голода, чтобы, отоспавшись в покое, приняться за III-ью часть «Трилогии». Но треклятый призрак войны: и налаженное дело рухнуло. Радость быть независимым год, радость, без которой я уже не могу работать (поверьте, это сериозно), обернулась в всю ту же «Майю»[3331], превратилась в «пытку надеждой»[3332]. Но на этот раз я философски равнодушен.
Я готов на все.
Я от доктора не могу уехать еще с год (работа доктору не мешает мне ни отдыхать, ни работать литературно, наоборот: от «медитаций» ярче вспыхнули для меня стоящие предо мною литературные и поэтические задания: «теософию» проповедовать никакого желания не имею, ибо с «теософией» у меня почти и нет ничего общего); в Берлине мне жить будет дешевле, чем в России; мы здесь живем одиноко: и работать здесь, писать, в тысячу раз удобнее и плодотворнее.
Далее: как Ибсен в эпоху создания Бранта[3333], доведенный до полного отчаяния нуждой, вопреки своей гордости возопил свое «спасите меня» норвежскому королю (– в результате чего получил пенсию и стал работать над Hauptwerk’ами)[3334], так и я; подобно Ибсену я заявляю – не Вам, не друзьям – а всем русским людям, или, вернее, никому (себе и пространству): «Я стою на рубеже: я хочу работать над большими полотнами. Мне надо отмыться от вечного страха завтра быть без гроша; я не могу размениваться и уходить в майю долгов, невыполнимых обязательств и полуинтересных мне заказов того или иного издательства. Через 2 месяца я кончаю роман. Через 5–6 работу «Пути». Далее мне нужна пауза полной тишины, полного отдыха: и потом я принимаюсь за III часть трилогии». 2 года я должен быть обеспечен: это право мое, как человека: раз я родился на свет, я родился не для того, чтобы испытывать физический голод и холод. Далее: говорят, будто книги мои кому-то нужны и существование мое, труд мой, кому-то нужен и не бесплоден: я не знаю, так ли это (императив к творчеству в моей груди – но окружающие имеют право отрицать его). Если я нужен, если сознание моей потенциальной еще не выявленной в творчестве силы (все написанное мной – эскизы) есть правда, я обращаюсь в пространство и говорю: «Я устал, я не могу больше в поисках близкого хлеба затягивать петлю вокруг своей головы и в неинтересных заказах срывать свой голос „поэта“: стихи поднимаются и опускаются в моей душе, а времени для писания стихов – нет (ах – деловое письмо: ах – завтра нечего есть, ах – недоразумения с Брюсовым, ах – срок Некрасову). Я больше так не могу».
Ибсен писал королю: «Ваше величество; несмотря на то, что моя драма Брант обращает на себя внимание, несмотря на свое призвание драматурга, я чувствую, что должен навсегда оставить свое призвание, если Вы не придете ко мне на помощь…»[3335].
Так писал Ибсен.
Я пишу не королю, не Эмилию Карловичу, не друзьям: Душою говорю я это себе; душа моя устала:
Милый: через 1½ месяца я опять без гроша: на этот раз ни к кому не обращусь, ибо периодическое откладывание на 1, 2 месяца матерьяльного кризиса есть не жизнь, а агония.
И представьте себе, какое обратное действие такое состояние оказывает на оккультную работу.
Я лучше всех знаю, что оккультист должен пережить все; и я, через год, закалюсь в хладнокровии. Но есть особый путь: путь форсированной, чрезвычайно накладываемой работы, путь быстрого ведения; этот путь в первой, подготовительной стадии подобен взрыву котла паровой машины: Доктор ведет до взрыва; и потом уже начинается период закала.
И я знаю подлинно: доктор сейчас нас ведет особенно форсированно, бурно; я показывал одной замечательной оккультистке часть моих отчетов Доктору (эта оккультистка – голландская дама Эллиса[3336]), и она сказала: «То, что представляете Вы Доктору с Madame Assja, совершенно исключительно, невероятно по быстроте и подвинутости в одном смысле, но страшно опасно в другом: вас нужно на ½ года спрятать на необитаемый остров, а то могут произойти непоправимые вещи. Скорей уезжайте к Доктору, а то, если до встречи с ним преждевременно вы (это строго между нами) выйдете из себя (т. е. сознательно, не во сне, скинем физическую оболочку), то я не знаю, что может произойти: Доктор Вам дает испытание: сколько Вы оккультно можете вынести: это путь исключительный…» (Слова нашего друга, очень подвинутого).
Милый, пишу это Вам по праву Вашему знать обо мне все (между нами это): только 4 месяца упорной оккультной работы, а мы уже с Асей на пороге реального выхождения из себя (т. е. того, что испытывается во время реально переживаемой смерти); это случается и вообще не со всеми и во всяком случае это бывает после многомесячного, а иногда многолетнего пути. В этот период реально перестраивается кровообращение, дыхание; сам Доктор мне сказал: «Будьте мужественны: надо теперь Вам пройти через это» (т. е. через борьбу тел и сознательное выхождение из физ<ического> тела). У нас с Асей оказались особые способности к особому виду пути (самому дикому и странному для людей века сего); и нас надо сперва прогнать сквозь строй ада, и очищения в астральном странствии, а потом уже застопорить и медленно укреплять житейское и суетное.
Суета, треволнения, ссоры, все это на нас действует так, как срывание повязки с живой операционной раны.
Пишу это, чтобы Вы, вспомнивши Ваши слова о «сдирающих кожу медитациях», о шатании основ моей личности: поняли, что Вы, будь Вы даже и справедливы, говорили это человеку, как бы лежащему на операционном столе перед событиями реальными и потрясающими душу до дна…
Пишу это все еще и потому, что Доктор повернут к нам совсем не так, как к Алеше или Мише[3337] или многим другим: у нас свой, особый «путь». И даже захоти мы сейчас уехать от Доктора, нам еще ряд месяцев уехать нельзя, ибо Доктор нас не отпустит: ради нас. Он постоянно следит и контролирует нас и нашу работу.
Наоборот: работать, писать, творить – могу и хочу.
Но два я-да сейчас для нас с Асей настоящая гибель: отъезд вынужденный от Доктора = сердечной болезни, нервному расстройству, или какому-нибудь в этом роде сюрпризу (так мы стоим: еще не утвердились там, и полувыходим отсюда); через год, полтора мы можем быть, как все, а сейчас невозможно.
Милый, вникните: если я эти два года буду так из месяца в месяц тревожиться – ни Бориса Николаевича (с достоинствами и недостатками), ни Андрея Белого не будет, а будет – «жалкий уродец». И взываю: «Войдите в наше положение». И дайте слово: обо всем написанном никому.
Опасности для нашей жизни реальные (это между нами): мы сами вломились туда, куда, может, нам было рано. У меня я знаю, отчего это произошло (от неправильных медитаций Анны Рудольф<овны>[3338] и от вынужденного окк<ультного> голода с января 1910 года до начала работы у Доктора). Доктор лишь оформил уже имеющееся в потенции: и отсюда чрезмерная быстрота нашего движения в сторону миров иных (которая после одного этапа сменится, наоборот, возвращением ко всему внешнему).
Ради Бога поймите, что все это реально: а поняв это, Вы поймете и сериозность нашего положения, и серьезное для всей будущей жизни и творчества: «Быть или не быть».
Повторяю, это не касается самой работы творчества, а покоя и возможности жить и дышать, не думая о завтрашнем дне.
(Доктор особенно настойчиво подчеркнул: «Не отходить от творчества. Быть в символизме. Но… – не уезжать в Россию, и главное: совершенно успокоиться»). Относительно моих припадков нервности он сказал Асе: «Оставьте его: это все борьба пробуждающихся тел. Тишина: и он справится сам со всеми нервностями, но при условии покоя…».
Милый друг: а покоя на физическом плане нет. Остается одно: легкомысленно игнорировать надвигающееся и не верить «Сирину». «Сирин» хочет издать собрание моих сочинений: не верю; это опять «Майя», как с имением.
И пессимизм мой законен: он ограждает меня от разочарования.
Разве уж если «Сирин» меня обеспечит на два года? Тогда есть чему радоваться; иначе: 500 рублей гонорара лишних, т. е. отсрочка на 2 месяца, т. е. опять агония.
Не верю.
И все же, спускаясь в область «Майи», я спрашиваю дружески Вас: «Собрание моих сочинений» + «Петербург» или без? И далее: милый, спросите возможно дороже, и так, чтобы в случае, паче чаяния это удастся, то нельзя ли сумму, мне следуемую, разложить на 2 года по 3<00> рублей в месяц, начиная от февраля, + часть денег на уплату хотя бы 1500–2000 тысяч <так!> «Мусагету» и 500 Блоку.
Если же Вы найдете возможным, чтобы я «Сирину» запродал всю Трилогию (с обязательством представить и III-ью часть «Невидимый Град»)[3339], то можно было бы все это продать за гораздо более дорогую цену. А я тогда дружески Вам обещаю хорошую, хорошую книгу, ничем не уступающую «Трилогии»: «Мусагету». Если бы мне 2 или 3 года выплачивали бы право жить, я за это бы время написал и III часть «Трилогии», и Первую часть «Антихриста», и книгу стихов (ведь, ей Богу, стихи не пишутся от «суеты»: в два бы года набежала большая книга стихов и Первая часть «Антихриста» (драма): для «Мусагета»).
Реально я бы ожил и все бы совместилось: большие полотна, Доктор, и Андрей Белый; все недоразумения рассеялись бы.
Но этому я не верю, милый: не верю. И построив картину возможной идиллии, я спокойно разрушаю ее.
Это – Майя. И вот что обидно: из глубин губит «Майя». Губит «Майя»… просто отсутствия в нужный момент нескольких тысяч.
Милый друг, вопреки недоразумениям я многое тут написал слишком «голо» и «интимно» (особенно о себе и Докторе); раз я это написал: верьте – я уже где-то, вопреки всем видимым факторам наших разногласий, сказал Вам: «если в чем виноват, простите». В чем и насколько, это мы установим объективно и справедливо при личном свидании.
Остаюсь глубоко любящий и верящий в нашу дружбу
Борис Бугаев.
P. S. Адрес: Berlin. Scharlottenburg. Luther Strasse. 27. Pension Wegner. Если что нужно будет экстренно телеграфировать, то с 28 – до 3 января нов<ого> стиля мы на обязательном для нас курсе в Кёльне (где, вероятно, будет и деловое свидание с Доктором)[3340]. На эти дни адрес: Köln. Postlagernd.
РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 78. На конверте надпись (рукой Н. П. Киселева?): «Из этого письма вынута записка о романе (стр. 2)». Опубликовано (с купюрами) Л. К. Долгополовым (Андрей Белый. Петербург / Изд. подгот. Л. К. Долгополов. Л., 1981. С. 512–515 («Литературные памятники»)).Ответ на п. 270.
273. Метнер – Белому
Никакой «Майи» тут нет, и Вы, конечно, будете надолго обеспечены[3341]. Если переговоры и подписание контракта затянется больше, чем на 1½ месяца, то Мусагет пока даст Вам еще взаймы. – Надеюсь, что если я сумею что-либо придумать для Вашего имения, то Вы тогда передадите мне это дело[3342]. Пока о нем можно забыть. – Еще раз до свиданья, дорогой Борис Николаевич! Вы представить себе не можете, до чего я устал. – До чего в Москве все тяжело и сгущенно. И идет всюду какая-то вакханалия. Посылаю Вам характерные объявления с низин.
Ваш Э. М.РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 11. Заключительная часть письма на обрывке листа. Предыдущие листы с текстом письма утрачены.Ответ на п. 272.
274. Метнер – Белому
Траханеево на Клязьме 18/31–XII–912.
Дорогой друг! Спешу (опять спешу и очень) вкратце формулировать результат нашей полуторачасовой[3343] беседы[3344]. NB говорили мы вообще о Мусагете и Сирине, затем о Блоке и о Вас.
1) Ваше сотрудничество в Сирине означает следующее: а) Вы обязуетесь в условленный срок подготовить собрание своих сочинений – стихов, романов, статей и т. п. b) Вы обязуетесь отдавать Сирину все свои крупные произведения: книги статей, книги стихов, монографии (выходящие из размеров небольшой брошюры), романы и т. п., сохраняя за собой право печатать отдельные стихотворения, отдельные статьи в органах других издательств.
2) Книги, уже обещанные Вами другим издательствам, т. е. Некрасову и Пути, Вы разрешаете Сирину выкупить, Сирин же, в свою очередь, обещает Вам совершить эту сделку выкупа таким образом, чтобы издательства, перед которыми Вы обязались, не понесли от этой операции никакого материального ущерба и остались вполне довольны, переуступив свои права на Вашу работу. Сирин готов переплатить (разумеется, не за счет Вашего гонорара) Некрасову, лишь бы выкуп Вашего романа не оставил после себя неприятных моральных ощущений у Вас. И вообще Вам вовсе не нужно вмешиваться в это дело; Вы дали свое согласие и будьте спокойны: Некрасов останется доволен сделкой. Вам даже не нужно самому писать Некрасову. О Вашей книге для Пути рано говорить, ибо она еще и не написана[3345]; но, поверьте, и Маргарита Кирилловна[3346] не обидится на Вас и уступит свое право Сирину, ибо дело Сирина столь грандиозно, что оно «вне конкуренции», задачи его слишком широки для того, чтобы преследующие более узкие специфические цели Мусагет или Путь могли чувствовать себя обиженными, обойденными тем, что их сотрудник печатает крупное произведение не у них, а у Сирина.
3) В ближайшем будущем Сирин желает выпустить Ваш Петербург, выкупив его у Некрасова, и Ваши Путевые Заметки. Любопытно, что последних Терещенко совсем не знает, но берет их без размышлений на основании наших с Блоком отзывов о них. Но… относительно Путевых Заметок есть не маленькое но. Оно заключается в том, что Сирин не будет принципиально издавать книг с иллюстрациями, портретами, заставками и т. п. Отсюда затруднение: как быть с рисунками Аси? На эту тему мы не успели поговорить. Вижу два выхода: или надо уступить и оставить рисунки втуне, или (с согласия Сирина) издать избранные места из Путевых Заметок с рисунками, но уже в Мусагете. Тогда, разумеется, за Мусагетское издание будет выплачен гонорар только Асе за рисунки. Последнюю комбинацию я выставляю предположительно на тот случай, если Вы будете на ней настаивать и если Сирин с нею согласится. Ибо, конечно, как бы ни было досадно, что рисунки Аси остаются без воспроизведения, но рушить все дело из-за этого было бы рискованно.
Об этом я спишусь с Михаилом Ивановичем Терещенко, но предварительно жду от Вас совершенно искреннего беспощадного мнения, ибо понимаю, что Вам не может не быть досадно из-за Аси, да и я (совсем откровенно) жалею, что осуществлению этой глубокой «книжки с картинками» все время ставится судьбою одно препятствие за другим. Быть может, осуществить эту прекрасную затею Мусагет окажется в состоянии впоследствии, когда издание Пут<евых> Заметок Сирина будет наполовину распродано и публика, благодаря рекламе (кот<орая> у Сирина будет поставлена на широкую ногу), будет сильно заинтересована книгой; тогда, б<ыть> м<ожет>, избранные места с рисунками как роскошное нумерованное издание будет иметь полную raison d’être[3347]. Итак, друг, не стесняясь, выстреливайте быстрее Ваше решение.
4) По поводу Вашего долга Блоку говорить с Сирином неудобно. Думаю, что Блок настолько близок с Вами, что откровенно скажет Вам, ждет ли он возвращения этого долга теперь вскоре или может ждать. Ведь Сирин заплотит Блоку большой куш за собрание сочинений[3348], и едва ли Блок нуждается сейчас в отдаче этих 800 р… Что же касается Вашего долга Мусагету (3664 рубля), то тут Терещенко сам от себя настаивает, чтобы все денежные обязательства его будущих клиентов до конца были ликвидированы Сирином, дабы эти клиенты не чувствовали себя под психологическим давлением каких-либо долговых обязательств и могли спокойно работать крупную работу, не отрываясь для замазывания долгов. Так Терещенко поступил и с долгами Ремизова и Сологуба Шиповнику[3349] и другим. Это он мне конфиденциально совершенно напрямик заявил, сказав при этом, что отдача этого долга совершенно не отразится на гонораре в смысле отодвинутия его выплачивания. Для Мусагета, конечно, выгодно покрытие долга (это прямо выручает нас из почти безвыходного положения: вспомните список подлежащих изданию книг, Вам присланный в одном письме). Но и для Вас эта расплата выгодна, и притом не только в «психологическом» отношении; именно раз Вы совершенно расплатились с Мусагетом, то, во-первых, Вы получаете гонорар за статьи в Тр<удах> и Дн<ях> вместо того, чтобы его (как это до сих пор делалось) вычитывали из долга; во-вторых, в крайних случаях (вроде нынешним летом) Вы всегда можете взять аванс; в-третьих, если бы даже вдруг Блок потребовал от Вас возвращения Вашего долга, то и это частями можно было бы сделать из сумм Мусагета, раз Ваш долг Мусагету покрыт вполне; вмешивать же Сирин в Ваши долговые обязательства не учреждениям, а частным лицам, не следует; это мое мнение; прибавлю, что, насколько я понял Терещенко, он отклонил бы сам для себя такое вмешательство; другое дело, если по заключении контракта с Сирином Вы напишете Терещенке, чтобы контора Сирина выплатила Ваш долг из причитающихся Вам сумм Блоку; это – Ваше право; но условие Сирина таково, чтобы долги авторов учреждениям были ликвидированы до заключения с ними контрактов. Кстати скажу, что по окончании всех переговоров Вам будет представлен для подписания письменный договор, который, разумеется, предварительно будет проанализирован мною и Николаем Петровичем Киселевым.
5) Теперь о гонораре. Точно пока он не установлен. Знаю только, что роман Ваш Петербург (22 листа) предположительно оценивался в 4400 р. Ввиду преобладания в собрании Ваших сочинений элемента статей и рассуждений сейчас пока трудно установить общую цифру гонорара, но, конечно, она будет превышать все, что только когда-либо могли бы дать Вам все другие издательства. Я все время говорил о Вас с Терещенко в таком тоне (а это не трудно мне, ибо я искренно – и Вы это знаете – восхищаюсь Вашим дарованием), что возможность деградирования Вашего гонорара по сравнению с гонораром Брюсову и другим совершенно исключена. Постараюсь по выяснении некоторых деталей договориться о гонораре окончательно, а пока могу только Вам сообщить следующее, что с момента подписания договора Вы начнете получать свой гонорар ежемесячными взносами по 333 рубля в месяц, т. е. 4000 р<ублей> в год. Думаю, что Вы таким образом надолго обеспечены. Сумма в 4000 р. в год установлена мною (она может быть несколько уменьшена или несколько увеличена по Вашему усмотрению) так<им> обр<азом>: по моим расчетам за Ваше отсутствие из Москвы Вы в ¾ года истратили 3000 р. на жизнь (не считая путешествия из России) ибо 1000 + 1200 (Путь и Марг<арита> Кир<илловна>) + 600[3350] (Некрасов) + 400 (Мусагет) = 3200. Дорогой, Вы не примите этого расчета за критику! Я только должен был приблизительно установить месячный взнос, ибо Терещенко предпочитает выплачивать гонорар помесячно[3351], и сумма 333 р. его вовсе не смутила.
6) Терещенко, говорят, не понравился очень Брюсову; мне он понравился. Он вполне русский и вполне европеец, т. е. русский европеец, а я люблю таких. Конечно, он слишком русский и слишком европеец для Брюсова, который и недостаточно русский и недостаточно европеец; не знаю, говорит ли Вам что-л<ибо> этот мой схематизм? Положиться на капитал Терещенки можно вполне (у него 15 миллионов); убежден, что и на честность его и благородство тоже можно положиться.
Спешу кончить. О медитациях, сдирающих кожу[3352], Вы писали и мне, хотя и не совсем в этих выражениях; простите, если я, цитируя, обидел Вас; помнится, мысль моя была в том, что нельзя при таких медитациях быть вполне ответственным за то, что пишешь и говоришь. Мне не хочется сейчас рыться в копировальной книге и отыскивать это место. Оставим все это в стороне. Прошу Вас не обижаться на статью Степпуна; она должна была быть напечатанной[3353]; Вы можете ему ответить! Но он Вас очень любит и страшно высоко ценит. А теперь пока до свиданья! Поздравляю Асю и Вас с наступающим Рождеством. Пишите кратко и формулятивно (а главное, до конца откровенно) о сделанном мною в этом письме докладе. Обнимаю Вас. Ваш любящий Э. Метнер.
РГБ. Ф. 167. Карт. 13. Ед. хр. 6. Л. 83–94. Текст – в копировальной книге Э. К. Метнера.
275. Белый – Метнеру
Берлин. 8 января (н. с.).
Простите, что не отвечал долго: был в Кёльне[3354]; а Ваши письма пришли в мое отсутствие. Что ответить? Я растериваюсь: я глубоко, глубоко благодарен Вам, дорогой Эмилий Карлович, как за Ваши слова ко мне, так и за все те услуги дружеские и хлопоты, которыми Вы, знаю, полны из-за меня. Все, что Вы пишете, меня сказать – радует (не скажу): выручает – выручает неожиданно: да. И прежде всего конфузит безмерно: верьте: я никогда не забуду Вашей любви ко мне и Ваших добрых чувств. И верьте: происшедшее за эти 8 месяцев между нами и положу на сердце себе, как урок, постараюсь сызнова все пережить, и сумею найти сызнова путь к Вам. Я буду стараться, чтобы глубокая борозда, проведенная судьбой в 1912[3355] году между нами, претворилась лишь в этап новой дружбы и нового союза.
И знаю: я это сумею сделать.
Милый, старинный друг – пусть Вы ушли от меня: я приду к Вам и постараюсь Вас найти; если не сумею, это будет моей виной, моей кармой.
Но довольно: буду на днях лично много писать Вам, а пока спешу ответить лишь на деловое: делайте, как найдете возможным со всеми моими делами. Да, конечно, я на все согласен. Единственный пункт сомнения и печали: как же мои большие книги – они не будут в «Мусагете»? Милый, снимите с меня тяжесть, а то я боюсь, что Вы, желая меня выручить, так охотно сбываете меня «Сирину». Все, что Вы пишете, прямо является спасением для меня: но при мысли, что это спасение в ущерб мусагетской моей деятельности, страшусь. Скажите же, что это – ничего. В случае осуществления обязательств с «Сирином» в том виде, в каком Вы мне это рисуете, буду же много, много, много писать в «Трудах и Днях».
Теперь только формально
1) Я согласен на условия «Сирина».
2) Я согласен на то, что будущие книги будут печататься у него.
3) Я не знаю, какую сумму заплотит мне «Сирин» за собрание сочинений, но, конечно, моей мечтой было бы прожить обеспеченно года два.
4) 333 рубля в месяц (как жалованье) меня выручает безмерно. Получая 4000 в год, в 2 года я должен получить 8000 тысяч; принимая во внимание выкупку романа 1100 + 3600 «Мусагету» + 1100[3356] Маргарите Кирилловне[3357] в счет романа, т. е. в счет суммы Некрасова это составит Терещенке 8000 + 5900 = около 14 тысяч. Так ли я понимаю? Я обещаю в течение этих двух лет третью часть «Голубя» – «Невидимый Град»[3358], за который по справедливости можно будет взять 3000 рублей; итого 13 900 будет стоить «Сирину» уплата моих долгов + 2-годовое содержание; 3000 из этих 13 900 будет стоить мой роман «Невидимый Град». Тысячи 3000 «Петербург», около 1000 «Путевые Заметки». Итого 7000 три больших новых моих книги уже входят в эти 2 года. Так что считаю, что все доселе появившееся в печати, то есть
1) 4 «Симфонии»,
3 «книги стихов»,
«Серебряный Голубь»,
3 книги статей, и книжечка рассказов
(Куст, Адам, Световая сказка, еще сказка, «Пришедший» + кое-что)[3359], т. е. 12 уже видевших свет книг как собрание сочинений продаю за 7000 рублей.
А за собрание моих сочинений полное 12 напечатанных книг и 3 больших новых (если с монографией «Пути» устроится[3360], то и 4 новых книги), т. е. от 15 до 16 книг если бы я просил 15 тысяч рублей, то, право, было бы не дорого. Эти 15 тысяч распределились бы так.
1913 год мне – 4000
1914 год мне – 4000
-8000
Долги:
«Мусагету» 3600
Некрасову 1100
М.К. Морозовой (за
2-ую часть гонорара
«Петербург») 1100
Блоку 800
-Итого 6600
8000 + 6600 = 14 600
14 600 за 15 книг → право, это можно было бы… Это считая долги. А если Терещенко, как явствует из Вашего письма, не считает сумму долгов за счет гонорара, что кажется мне неправдоподобным и уже совершенно фантастичным, то, право, в этом случае, быть может, и 1915 год мог бы он мне обеспечить. Тогда, невзирая на колоссальную сумму долгов (6600 р.) я получил бы за
1913 – 4000
1914 – 4000
1915 – 4000
Эта 3-летняя свобода бы окрылила меня, скажу прямо: спасла бы меня, как художника.
В сумме эти 15 книг (включая «Невидимый Град», за который примусь после «Петербурга») заключали бы не так-то уж мало художествен<ной> прозы. Смотрите.
5) Серебряный Голубь (том)
6) Петербург (том)
7) Невидимый Град (том)
8) Пепел (том)
9) Золото в лазури + Урна (том)
10) Путевые Заметки (худ<ожественная> проза) том
Десять томов была бы художественная проза и стихи.
И далее статьи.
11 и 12) Арабески + Луг зеленый + будущие статьи. 2 тома.
13) Символизм (без ритма)[3361] том
14) Ритм 1 том.
Я не знаю размер тома у «Сирина», но вот предлагаемые 14 томов большого формата (каждый том в этом виде равен приблизительно № «Логоса»[3362]). Из этого собрания сочинений 10 томов падают на стихи и худож<ественную> прозу и лишь 4 на статьи.
1) Том «симфоний» (с приложением рассказов, Пришедшего и т. д.) будет не менее 300 страниц большого формата.
2) Том «Серебряного Голубя» не менее 250 страниц.
3) Том «Петербурга» не менее 300 страниц.
4) Том «Нев<идимого> Града» не менее 300 страниц.
5) Том «Пепла» будет меньше (страниц 150).
6) Том «Золота в лазури» + Урна + последние стихотворения не меньше 250 страниц.
«Путевые Заметки» (не меньше 300 страниц).
Арабески + Луг зеленый + последние статьи по 300 страниц (2 тома).
Том Ритма (с примечаниями) 260 страниц; том «Символизма» до 350 страниц.
Видите: томы основательные; при меньшем формате эту массу можно разбить и на 20 томов: все дело в формате. Я предлагаю принцип естественного деления[3363].
Я не знаю, если у Брюсова долги, входит ли 20 000 тысяч <так!> гонорара в покрытие долгов, если 20 000 помимо долгов, то справедливо в таком случае мне за эти томы 12 000 тысяч <так!> помимо долгов (т. е. 3 года свободы и работы); если же долги мои вычитают у меня из общей суммы, то предлагаю так; за 14 больших томов 15 тысяч, т. е. расплату долгов и 2 года свободной независимости и работы, обязуясь в 2 года написать «Невидимый Град» и, может быть, Первую часть трилогии «Антихрист» (за последнее не ручаюсь: она, быть может, и не поспеет через 2 года)[3364]. За «Нев<идимый> Град» – ручаюсь.
Пишу это, милый, лишь Вам платонически, а не реально: безусловно Вам верю и безусловно не могу стать на реальную почву, не зная ни «Сирина», ни своей цены. Одно знаю: 333 рубля очень хорошо в месяц. Между нами (хотя бы год, полтора так пожить).
Не удивитесь цифре (300 рублей): эта цифра есть наша с Асей цифра. Вам она кажется большой, но опыт (Африка, Брюссель и т. д.) показал, что фактически это наша средне-хорошая жизнь. Можно жить нам на 200 рублей, очень терпя нужду и без возможности переездов, на 250 рублей не терпя нужды и без возможности переездов. Наконец, 300 рублей, не терпя нужды и с возможностью переездов.
Чтобы Вы не подумали, что это – мотовство, представляю Вам средний бюджет нашей жизни.
В Берлине нам с Асей по закону жить нельзя: следовательно, мы устроились благодаря содействию хозяйки, которая, конечно, отчасти пользуется нашим положением; перед полицией мы freulein Turgeneff и B. Bugaïeff. Перед жильцами Herr und Frau Bugaïeff[3365] (хозяйка посвящена в наш modus vivendi)[3366]. За это: приходится платить за комнаты (две), сообщающиеся, 130 марок в месяц без отопления и освещения. Отопление, освещение и кофей марок 40. Итого:
Обед (вегетарианский, следовательно не готовый, а по карточке → вегетарианская столовая от нас у черта на куличках) – обед от 5 до 6 марок в день, т. е. в месяц 150 марок.
За границей страшно дороги папиросы, а мы – курящие: мы курим по 25 пяти <так!> папирос в день, т. е. 50, т. е. 100 на два дня. Дешевые папиросы здесь отравлены морфием. Неопасные папиросы 100 штук – 3 марки.
В месяц мы курим
100 × 15 = 1500, т. е. папиросы обходятся 45 марок.
Две-три газеты (французская и русская) 40 пфеннигов. 40 × 30 = 1200, т. е. 12 марок.
Ужин к вечеру + хлеб от 1,5 до 2 марок.
2 × 30 = 60 марок.
Итого: не стесняя себя в элементарном → вот уже какая сумма:
Теперь: каждая публичная лекция Доктора нам стоит от 3 до 4 марок. В месяц от 2 до 3 лекций, итого марок 10.
Передвижения (немного).
Прачка в месяц (5 марок в неделю) 20 марок.
Зубной порошок, мыло, чай, сахар, мелочи, сладкое – марок 20.
Опыт показал, что каждый месяц обнаруживается какая-нибудь необходимая покупка (то сапоги, то та или иная статья белья, то Асе, то мне); на это непредвиденное уходит марок 25 минимум.
Итого
522 марки, живя сносно, тихо и абсолютно не бывая в театрах, не покупая книг и т. д. 250 рублей (кроме того бумага, марки почтовые и др.).
Теперь: как ученики Доктора мы должны посещать большие циклы Доктора, должны же от времени до времени покупать себе цикл.
Итого: железная дорога, гостиница, циклы, цена за курс (так за 5 лекций курса кельнского с нас взяли по 7 марок, т. е. 14 марок). На все это мы кладем 50 рублей в месяц (поездка не каждый месяц, но поездка вдвоем, конечно, берет более 50 рублей). Вы видите, что, живя скромно, нигде не бывая, но и не терпя нужду в элементарном, включая поездки, наш нормальный бюджет, а не максимальный, есть 300 рублей, т. е. по 150 рублей на человека.
И оттого-то для спокойной и правильной жизни и работы нам 333 рубля в месяц есть справедливое жалованье (живи мы на квартире, оседло, устройся надолго – сумма расходов значительно сократилась бы, но ведь квартиру в Берлине снять мы фактически не можем (Вы знаете, почему).
Конечно, я могу не покупать газет, не курить, таскаться через весь Берлин к черту на кулички в вегетарианскую столовую, сидеть без циклов, и страстно стремясь на цикл, не попасть туда (а без цикла – пропадает самый быт нашего странничества: ученики Доктора – Wanderer’ы[3367], с котомкой за плечами: Доктор строго настаивает на пользе атмосферы странствий для его учеников). Но из суммы всех этих маленьких лишений создается докучно-досадная аура. Вот почему лучше я согласился бы получать 333 рубля в месяц полтора года, чем 250, например, два: от каких-нибудь 50 рублей зависит столь многое в нашем быту.
Может быть, мы – моты: но право же: мы месяцами сидим без книг, без музыки, без театра; и ни на что не тратимся. Мы только спокойно и скромно живем.
Поэтому во всех переговорах с Терещенко поддержите, дорогой, комбинацию 4000 тысяч <так!> в год, хотя бы она укорощала срок получения. Нам здоровее и важнее 1½ года жить тихо, в покое, не лишаясь доктора, чем, например, 3 года лишая себя необходимого.
Вот, дорогой, мои соображения из Берлина к Вашему сведению. Стремительно обрываю письмо и бегу на почту.
Несколько пунктов и о «Тр<удах> и Днях» пишу на днях в личном письме.
Дорогой друг, с новым годом, воистину да будет он нам всем Новый и Светлый. Почему-то верю в него. 1913 год изгадил 1912. 1913 году всё будут внешние тучи, а внутренняя атмосфера, верю, разрядится. Слышу весенний воздух уже, а в душе где-то тихие зори.
И хочется милую зорю не спугнуть: тихо в сердце взрастить.
Обнимаю Вас крепко! с Новым Годом и… счастьем! Всем Вашим глубокий привет.
Ася Вас сердечно приветствует и просит передать, что нам обоим очень улыбается Ваше предложение с «Путевыми Заметками» (интимное иллюстрированное издание).
Ну Христос с Вами.
РГБ. Ф. 167. Карт. 3. Ед. хр. 1.Ответ на п. 273 и 274.
276. Метнер – Белому
Траханеево на Клязьме 29/XII 912.
Пришел мой черед из инертной, но истеричной Москвы направить Вам сердечный новогодний привет в шумный своими стогнами Берлин! И «мне нечего писать»[3368], и по той же причине, по которой в январе 1909 г. – Вам. И у меня есть одно нечто весьма «тяжелое», которое особенно «волнует» меня именно теперь. – Все остальные «невзгоды», даже наша распря, отнявшая у меня столько сил и здоровья, – ничтожный пустяк (сравнительно!) перед тем основным, «начертанным судьбой самой»[3369] срывом моей жизни, который должен быть мною одиноко и безо всякой помощи извне преодолен.
Привет от меня Асе. Коля и Анюта[3370] кланяются. Надеюсь, что мое большое письмо о разговоре с Терещенко Вас удовлетворило и успокоило[3371]. Спешу кончить, чтобы не слишком запоздать с своими новогодними пожеланиями. Обнимаю Вас, старинный друг, крепко.
P. S. Не очень сердитесь на Степпуна[3372].
РГБ. Ф. 167. Карт. 13. Ед. хр. 6. Л. 95. Текст – в копировальной книге Э. К. Метнера.
1913
277. Метнер – Белому
Траханеево на Клязьме. 4/17 I 913.
Ваше большое, наполненное цифрами письмо, дорогой друг, я только вчера вечером успел пробежать глазами, т<ак> к<ак> все время у нас гости. А гости в деревне редки, но зато метки: ибо приезжают на целый день, и себе уже не принадлежишь вовсе. (Вчера целый день провел у нас Скрябин). И сейчас я не хочу подробно заняться Вашими цифровыми соображениями, откладываю пока это и прямо отвечаю Вам на важное по существу.
1) Печатание всех Ваших больших книг и собраний Ваших сочинений Сирином не есть уход из Мусагета, если Вы продолжаете принимать близкое и руководящее участие в Мусагете. Другое дело, если бы Вы печатали все это не у Сирина, а у Некрасова или в Скорпионе. Сирин – столь грандиозное предприятие, что нелепо с ним конкурировать; русский писатель, который, будучи приглашен в Сирин, уклонился, тем самым, если он еще не популярен, нанес себе жестокий урон, потому что как гонорарные условия, так и рекламирование и организация сбыта, вследствие огромных средств Сирина, не могут быть нигде доведены до такой высоты требования. Следовательно, раз конкурировать с Сирином немыслимо, надо ему уступить большую дорогу, а самому выбрать себе свою тропинку. Надо уступить Сирину так, чтобы использовать его в то же время и для Мусагета и для мусагетцев. Уступая, надлежит компенсировать это: 1) влиянием на направление Сирина (что именно и возможно через вступление в Сирин мусагетцев: Вас, Блока); 2) рикошетной рекламой, которую делает Сирин Мусагету тем, что издает его авторов, ибо заслуга Мусагета не уменьшается, а увеличивается от того обстоятельства, что тяжелый почин сделан Мусагетом, а провести авторов в большую публику Мусагет предоставляет огромному, на коммерческую ногу поставленному предприятию. – Вы знаете, что я был огорчен Вашей продажей романа Некрасову[3373], но в данном случае «сбываю так охотно» Вас Сирину потому, что эта сделка морально (а вовсе не материально[3374]), выгодна Мусагету: Вы остаетесь интимно в Мусагете и мусагетируете Сирин. –
2) Сирин готов переплатить Некрасову и, разумеется, не за счет Вашего гонорара. Но уплата долга Мусагету (и Пути, если Вы об этом долге заявите), конечно, сократит гонорар, но не отодвинет его выплачивание. Почему Вам самому выгодно, чтобы Мусагету долг был выплачен; об этом я Вам подробно писал. Только получив Ваш долг, Мусагет сможет впоследствии авансировать Вас, если бы это внезапно понадобилось.
3) В двадцатых числах русского января я буду в Петербурге, где и состоится окончательное совещание мое с Сирином об уступке Мусагетом Блока и Андрея Белого. Приводимые Вами цифры предположительного гонорара я к тому времени взвешу с Ахрамовичем (кот<орый> знает о договорах с другими писателями) и приму их во внимание в разговоре с Терещенко.
4) Что касается Вашего заграничного бюджета, то и без детального его показания ясно, что меньше 300 р. Вам не обойтись при двух комнатах, при вегетарианстве и при частых переездах.
5) «Интимное» иллюстрированное издание избранных мест Вашего Путешествия в идее меня очень привлекает и занимает, и принципиально я выговорю себе право осуществить этот план, когда буду говорить с Терещенко, но, конечно, приступить к печатанию можно будет, когда полное издание Путевых Заметок будет Сирином хотя бы на ⅓ продано.
Спешу отправить это письмо, а потому кончаю приветом от всего сердца Асе и Вам. Все наши теоретические разногласия призваны лишь изукрасить нашу дружбу, сделать более полной и содержательной гармонию нашей связи. Наши житейские распри стали серьезной угрозой продолжению дружбы, но раз она устояла теперь, то впредь ей нечего бояться никаких бурь. И, конечно, мы найдем дорогу друг к другу даже при полном удалении наших мировоззрений. Обнимаю Вас крепко, милый друг. Ваш Э. Метнер.
РГБ. Ф. 167. Карт. 13. Ед. хр. 6. Л. 98–101. Текст – в копировальной книге Э. К. Метнера.Ответ на п. 275.
278. Белый – Метнеру
Дорогой, старинный друг – с новым годом, с новой крепостью, со светом!
Тяжел был 12-ый год. Но если после него в наших отношениях все же не произошло ничего радикально меняющего их, если с полной радостью, с легким сердцем я опять называю Вас милым, старинным другом, то значит дружба, настоящая дружба есть: она есть источник веры и бодрости.
С новым, воистину с новым годом, старинный друг!
Я не знаю, конечно, что реально волнующее Вас теперь стоит перед Вами: я чувствую всеми фибрами души, что такое волнующее есть; не чувствуй я этого, я был бы гиппопотамом; и потому, родной Эмилий Карлович, я прошу Вас от всей души простить мне, что вольно или невольно я входил в Вашу душу болью за этот период времени; виноват или не виноват я пред Вами (я знаю, что виноват – может быть, не так, не в том, в чем Вы определили бы мою вину перед Вами) – все равно: вина моя еще в том, что самолюбиво отгрызался я на Ваши укоризненные письма; и тем вносил лишнее смятение в и без того смятенную Вашу душу. Вина моя – слепота, слабость, эгоизм. И пока что, не входя в детали наших недоразумений, я прошу Вас простить меня.
Я не знаю, конечно, что реально волнующее стоит перед Вами, но я помню, как встречал я 1909 год, когда без веры, без надежды в объективно блещущий луч Света, изнемогший, окруженный извне литературными скандалами, с душу сжигающим воспоминанием бывшего со мной прежде, без Аси, окруженный неприветливой домашнею обстановкою, без физических сил после операции в 1907 году[3375] (доктор говорил мне в Париже, что последствия операции будут органически чувствоваться еще года три), без личной цели жизни я писал Вам в Берлин[3376]; и не знаю как, не знаю чем, Вы меня поддержали нравственно; чем же мне поддержать Вас теперь, сейчас? Как сказать Вам, Вольфинг, что Вы не Вольфинг. Более, чем кто-либо, знаю я тщету теоретических утешений; слова «мужайтесь, дорогой друг» со стороны производят обычно обратное действие; и нет, не скажу я их Вам.
И все же, да не покажется, милый, Вам это дерзостью, у меня есть какая-то отчаянная надежда когда-нибудь, если не скоро, Вам в чем-то помочь, и надежда эта коренится отнюдь не в средствах увещания, или внешней словесной поддержки; эта надежда – факт наших отношений; более того – факт провиденциальной, кармической связи каких-то мы друг с другом; кто эти мы, я не смею точно утверждать; знаю и то, что и Вы, и я в эти мы входим; что эти мы кармически связаны, явствует хотя бы из того, что раз колеблется что-то между общею совокупностью этих каких-то нас, происходит нечто совершенно безобразное; так, когда отношения наши шатаются, я испытываю ни с чем не сравнимое чувство безобразия: я не могу спокойно жить, работать, думать. Так: за эти 8 месяцев я совершенно измучился – а от чего? От того, что Э. К. Метнер рассорился с Б. Н. Бугаевым. Ну что ж такое? Б. Н. Бугаев имеет много друзей, Э. К. Метнер тоже: одним другом больше, одним меньше – что ж такого? А между тем мои бессонные ночи, мои мигрени, моя ни с чем не сравнимая злость на себя и на Вас одновременно мне доказывала и ночью, и днем, что тут речь не о дружбе, а о чем-то несравненно более важном, о пути, о нарушении клятвы какой-то на мечах и т. д.
То же самое я наблюдал в Эллисе. Факт нашей переписки заставил Эллиса в Брюсселе еще чуть ли не разболеться[3377]. В горячих выражениях он заклинал меня скорее оставить нашу ссору, говоря, что мы все погибнем, если мы окончательно друг с другом разорвем, что будет разбито нечто драгоценное.
Более того: в эпоху нашей переписки в сентябре и октябре, когда мы с Асей были в Базеле и Фицнау, я – это между нами – вел Доктору дневник виденного физическими глазами[3378]; из того, что я видел в то время, многое оказалось впоследствии почти вполне объективным; из этого явствует: оккультная работа бурно шла во мне; а из этого явствует еще и следующее: более, чем когда-либо, должен я был держаться всяческой гигиены (выдержка, контроль мыслей и т. д.); более всего я хотел мира с Вами, но некие «злые вихри», буквально как что-то постороннее входили в меня, и я жаловался Асе, что я не могу справиться с мыслями, что мысли мои стали сами себя мыслить и что, когда мысли эти становились дисгармоничными мыслями (мысли о наших неладах), то я испытывал такое ощущение, что мысли эти, как стая орлов, кидались на меня и раздирали на части; у меня были минуты, когда я чуть не плакал оттого, что злые мысли сами собою мыслятся и что чем более я хочу от них воздержаться, тем сильнее они кидаются на меня (прежде этого никогда не было со мной); в этот период я писал «Арабески»[3379]. Вечером же среди видимого мною я видел всегда неприятные существа (золотые, звездовидные многоножки, обливающие меня теплом: одну из зарисованных картинок этого рода я показал Доктору: и Доктор приписал к картине: Attake, Luftdämonen[3380].
Все эти дни на меня шла атака демонов воздуха; но связи между золотыми многоножками, виденными в ту пору всегда ночью после медитаций, и душившею, в меня входящею злостью, я не испытывал. Объяснения Доктора пролили свет[3381].
Видите, милый: кармическая связь нас до такой степени явна, что когда мы пытаемся потрясать основы той связи, мы можем сделаться (как было со мной в Vitznau) объектами воздушных атак и т. д. Когда из Vitznau мы переехали в Штуттгарт[3382], то Эллис мне опять сказал: «Если Ваше недоразумение не кончится, то я не знаю почему, но… все погибло»[3383]: и первый тактически стал писать в «Тр<уды> и Дни», Вам, чтобы положить начало какому-то примирению.
Все это я пишу, чтобы подчеркнуть, как кармическая связь существует между всеми нами и как вредно для всех нас подвергать испытаниям эту связь.
И обратно: эта связь обнаруживается в помощи друг другу – я не сумею опять сказать, где, в чем бывает эта помощь, как она реально проявляется (все это относится к полуосознанной сфере): но помощь чудесная друг другу есть, она бывала.
Она была мне в тот день, когда Вы подошли ко мне и шепнули на ухо, что тема 2-ая Сонаты Н. К. все о том, об одном[3384]; она была, быть может, Вам в факте моей 2-ой Симфонии; опять-таки она была мне от Вас в Нижнем[3385]; и опять-таки она была Вам от меня весной 1909 года; и далее она была мне от Вас в факте «Мусагета». То, что за мной долг какой-то поддержки Вам, какого-то слова, преисполняет меня чудесной надеждою, что раз долг есть, то в будущем сумею, сумею его заплатить.
А как сумею, что я сумею – разве я знаю? Может быть, будет это тогда, когда мы вместе посмотрим на новые зори: зори с нами; и небо – небо всегда над головой; когда в небе нет туч, в час заката, оно «милое, вечное, старое и новое во все времена»[3386]; нужно только отметить это и как-то шутливо на «сей факт» подмигнуть, посмеяться этому, а для этого надо вместе выйти в поле, полюбоваться закатом, понюхать воздух, прочесть текущую в небе «Летопись мира: последние вечерние приложения». Потом взять камни: и метать в овраги, уничтожая врагов.
Отнято ли у нас небо? Нет: оно еще пока над нашими головами, или оскудели знамения и все кругом тускло и мертво? Нет: никогда атмосфера не была столь напряженна; Европа стоит покрытая стальными штыками; всемирно-исторические события гремят. И это – утешение.
И тяготы безымянные, жизненные положения, которым нет названия, не есть ли это все то же, что еще испытывал покойный Вл. Соловьев:
Ведьмы порой обречены на тяжесть, которой нет названия: «В те дни будет скорбь, какой не было от создания мира»[3389]. Эта скорбь, конечно, выражается не в отвлеченном начале; с этою скорбью бывает и подбор событий в нашей жизни; у меня этого подбор событий был на рубеже между 1908 и 1909 годом. У Вас – теперь; но наша связь – гарантия к тому, что скорбь эта моментами разрешается в невыразимейшую сладость (черта, общая нам всем):
«Голос все тот же», «желанное» – вот что нас соединило, связало. И пока существует союз наш, смерть одного из нас есть поражение всем; но и: радостное упование одного есть несомненная поддержка всем.
Я пишу все это вне закона достаточного основания, т. е. просто без оснований; но без всякого основания мы когда-то подмигивали на зорю: безосновное однако не раз ложилось в основу чего-то; с основанием теперь мы ссылаемся на то, чему никогда не было оснований. И оттого-то без всякого основания, вопреки всему я говорю Вам, милый: чуется мне, что «голос все тот же» между нами; он «дышит, где хочет, и его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит»[3391].
Для Вас, сейчас, этот голос ушел неизвестно куда; для меня с весны он «опять возвращается»[3392] – голос все тот же:
И зная кармическую связь нашу на основании прежнего, безосновного, безосновно легшего в нашу дружбу, я говорю: или мы разбиты, разъединены, или моя безосновная надежда на то, что «возвращается», должна так или иначе Вам, в Вашем, отдаться как Свет: если не сейчас, то впоследствии.
Но тут Вы мне можете возразить: «Пути наши разошлись. Вы – с доктором Штейнером, а я – с Вагнером; и оставьте меня: с меня достаточно Вагнера; байретская «медитация и концентрация» несочетаема с бездарными общими местами мистерий[3393], монистическими, схоластическими циклами: нельзя одновременно идти двумя путями…» (пародирую Ваше письмо мне в Мюнхен)[3394].
И только теперь отвечаю на все это. Чтобы ответить Вам на Ваше мюнхенское письмо, мне надо пропеть ответ, ибо это всё деликатнейшие темы; и не сердитесь, что в эпоху полемики нашей я Вам вовсе не ответил ни звука; так что признайтесь: Вы нигде, ни в чем не имели случая слышать от меня моего определения своей позиции у Штейнера. Просто Вы стоите перед фактом: был Б. Н. Бугаев поэт-символист, клялся, что он не склонит головы перед теософскою схоластикою, что путь для него начался еще в «старом и новом во все времена и в музыке Н. К. Метнера», поехал этот Б. Н. Бугаев за границу да и стал вдруг теософскою теткою[3395]; погодите, Б. Н., уж встретим мы Вас за это в колья! Вот что прозвучало в Вашем письме мне в Мюнхен.
И так как я еще не утратил последних искр разумения и последней любви к «многострунной культуре»[3396] и «символизму», то комический образ полемически во-ображенного Вами Б. Н. Бугаева и поставленного перед носом настоящего Б. Н. Бугаева оскорбил настоящего Б. Н. Бугаева, который в эту эпоху сказал себе: «Черт возьми, надо было по крайней мере сперва лично справиться, что такое произошло с Б. Н. Бугаевым – у Б. Н. Бугаева, прежде чем расстреливать Б. Н. Бугаева-тетку». И обиженный на то, что в Москве при известии о моей поездке к Доктору первый жест был мобилизоваться против моей воображаемой теософии вместо естественного жеста, оправдываемого многолетнею нашей дружбою: «объясните же, что Вы вынесли от Штейнера и что означает Ваша перемена фронта»? Но этого вопроса не было, да не было даже вопроса для друзей, что Б. Н. Бугаев, не раз в жизни проявлявший оригинальность поступков, мог оригинально подойти и к Доктору Штейнеру (он подошел, например, к Доктору Штейнеру, как к почтенному декаденту и символисту, а не как к схоласту).
Вот на это-то Б. Н. Бугаев (теперь он только кается) обиделся насмерть (Б. Н. Бугаев иногда непростительно зазнается): «смели» заподозрить его «оригинальность», смели заподозрить, что автор «Симфоний» и «Символизма» подошел не симфонически и не символически к Штейнеру, а так подошел, как подходят художественные «скопцы». Каюсь теперь в этой обиде, но так как она отошла в область истории уже, я считаю нужным о ней сказать, ибо отсюда у Б. Н. Бугаева появился тон обиды и тон озорства: «Да, вот: я – символист; и нате – выкусите: я есмь теософская тетка». (Ведь писал же мне Ахрамович такую чепуху, как: он де боялся, что погиб мой талант; но, прочтя мои статьи, он кое-что понял в моей штейнериаде). Теперь, когда опрос свидетелей может установить, что мои отрывки из романа (свидетель В. И. Иванов, которому я читал свеженаписанные отрывки)[3397] не уступают, а превосходят написанное до Штейнера[3398], авось начнут признаваться, что А. Белый все еще символист, и что Штейнер есть эпоха для него «пятой симфонии»[3399], а не схоластики (почему-то на риккертианство мое не качали головами, а на штейнерьянство качают)[3400].
Видите: пролегомены эти только к пародируемому отрывку Вашего письма мне: «Пути наши разошлись. Вы – с доктором Штейнером, а я – с Вагнером; и оставьте меня: с меня достаточно Вагнера» и т. д. Я утверждаю: пути наши не разошлись, если «старое, милое, вечное» соединяет еще нас, старинный друг; но, дорогой: естественно А. Белому, писавшему об Орлецах, Хандриковых, «возвращающемся», стремиться вступить уже в личное общение с орлецами, стариками, Орловыми, ибо, милый: «Хандриков – я, Орлов – Доктор»[3401]. То, что я нашел своего Старика[3402], что связь моя с Доктором по чину Орловки и что на наших свиданиях мы разговариваем о «колпачниках»[3403], а Доктор оглушает меня сюжетами из «симфоний», что и медитации наши с Асей носят характер «старинных дел мастерства» и «симфонических» упражнений – об этом никто и не подумал.
Итак: может быть, Э. К. Метнер сказал «нет» персонажам творчества А. Белого, это другой вопрос: но что А. Белый у Доктора именно потому, что он автор Симфоний – этого продукта имагинации; и образы, реально посещающие этого Белого, есть та же имагинация, т. е. Симфонии, им написанные, – это Вам говорит сам Белый; ведь не для изучения же номенклатуры циклов он сидит у Доктора; самая эта номенклатура есть сознательная схема, не касающаяся реального, вызываемого проведением в жизнь схемы, а Доктор – не сухой педант, а совершенный безумец, сшибающий с ног слона иными из своих заявлений à la «Симфония». Я не виноват, что к теткам доктор Штейнер повертывается теткою, к рационалистам – рационализмом; я только свидетельствую, что к нам с Асей Доктор повертывается «символистом и декадентом», ибо он действует сообразно слову апостола Павла[3404]: «Для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых закона – как чуждый закона… для немощных как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых»…[3405]
Так как большинство вокруг Доктора немощны, то он и дает им безумие свое в схеме: но за схемою для ученика Доктора не умозрение, а факт, событие странное, Орлов, Орлец… Между нами: Доктор однажды сказал: «Циклы – это что: чучелы, сделанные из соломы, стоящие лишь как вехи того, что скоро будет не теорией, а действительностью»…
Когда при мне оспаривают то или иное теоретическое положение Доктора, то я смеюсь: поймите, теоретическое положение Доктора отстоит от Доктора так же далеко, как мой реферат, читанный некогда профессору Зографу по зоологии[3406], от меня. Ибо поймите же: «Я – кто? Натуралист? Химик? Критик? Или писатель?» Да, но я мог бы в гимназиях преподавать физику.
Доктор считает нужным читать введения к некой положительной науке: «Geheimwissenschaft»[3407]. Если Вы думаете, что он всего-навсего Geheimwissenschaftler, то Вы глубоко ошибаетесь. Доктор ведет к новой церкви, к церкви Розы; религия – вот основа его деятельности, тактически прикрытой извне. А потому: чему же, милый, Вы удивляетесь в одном письме, что я, скажем, в феврале 1912 года писал о религии (§ 20-ый моей статьи о мистике)[3408], а в мае того же года стал штейнерьянцем: несколько раз я перечитывал мою статью «Против мистики» и говорил и Асе, и А. С. Петровскому в Мюнхене (спросите Петровского): «Я согласен с каждым словом моей статьи». Более того: я высказал лишь положение Доктора, что нам сейчас мистики не надо: так же как я покрывал извне символизм, как realiora[3409], покрышкою из Erkenntnisstheorie[3410], и обрушивался на дурную метафизику, так Доктор свою религию извне покрывает Geheimwissenschaft, обрушиваясь на философию.
Все, написанное мной о религии, остается в силе для меня: Вы мне написали: «Перечтите § 20 Вашей статьи „Против мистики“, если Вы и с ним согласны, то я – ничего не понимаю». Согласно Вашему предложению, я открыл § 20-ый, прочел и сказал себе: «Ничего не понимаю в непонимании Э. К.: ну да, более чем когда-либо я за религию против мистики».
Д. С. Мережковский некогда чаемую им религию противополагал всем бывшим, как религию Конца, основанную на Апокалипсисе. Доктор Штейнер провозглашает смерть национальным религиям с Голгофы, ибо Христианство олицетворенный синтез религий и далее с религией в прежнем, историческом смысле идти некуда: нет – есть куда; надо идти к религии действующего Хр<истова> импульса[3411]; («Христовство» в противоположность христиан-ству); это действенная религия, религия притягивания будущего (путем теургического творчества) есть религия Конца, религия эсотерическая с «Апокалипсисом» в центре; к ней-то и ведет розенкрейцерство; о ней-то и будет говорить грядущий за Доктором (это между нами) Хр<истиан> Розенкрейц[3412], которому он сейчас лишь расчищает путь, ставит вехи; через 36 лет первое появление Антихриста; к этому сроку уже будет первая ячейка апокалипс<ической> церкви – церкви розы (все это стоит в центре движения): но и циклы уже извне намекают на это (см. «Von Jesus zu Christus», «Ев<ангелие> от Иоанна», «Апокалипсис»[3413] и мн. др.).
Удивляюсь, родной, что Вы можете думать, что я отказался для Доктора от 2-ой «Симфонии», Трилогии «Восток и Запад»[3414], Вл. Соловьева, Мережковского и всего – бýди, бýди[3415], что говорили мы на зоре. Именно все это особенно, сызнова, реально меня привязывает к Доктору (и «бýди, бýди», и «Толстой и Достоевский», и поэзия А. Блока, и «Три разговора»[3416], и Соловьев, и Христовство, и «старое и новое во все времена», и «2-ая Симфония», и «Новалис», и зори, зори).
Я удивляюсь, что все это мне надо еще разъяснять, будто со мной какой-то кризис теперь, когда в 1912 году замкнулось 10-летие и все, что жило до 1902 года (включительно), сызнова ожило, а чад, смрад («ждали Утешителя, а надвигался мститель»[3417]) стоит как измена юношеской весне. И если в 1902 году встала из зори наша дружба, наш без слов разговор, то как же теперь, когда 1902-ой год стоит предо мной огнем зори озаренный, когда «Предчувствую Тебя, года проходят мимо»[3418], как же мне сказать тому, с кем стоял я рядом в 1902-ом году: «Я теперь у Доктора Штейнера: наши пути – разошлись».
Нет – тысячу раз нет, наоборот: «По-новому сходятся, по-новому сойдутся, ибо – опять возвращается: леопардовая шкура догорает на западе»[3419].
Тот факт, что Вы, по-моему, не так видите Доктора Штейнера, не играет никакой роли, ибо разве о людях тут, о суждениях: разве сами люди, суждения не знаки того, что бархатной грустью подкатывается к сердцу, что заставляет смеяться в зорю, с зорей…
Все это, как солнце, стоит в центре моего духа, а поверхностнее, в душе, недоразумения, усталости, сдирающие кожу медитации[3420]; все мои душевные недомогания очень остры, и я, не скрываю, на волосок от «срыва». Но разве я пошел бы на все это механически, методически, разумно, мертво, скажу прямо – оккультически, если бы в духе моем не звучал милый голос:
«Весь горизонт в огне! И ясен – нестерпимо»[3421].
И вот с нестерпимой, бездоказательной ясностью я могу Вам сказать: «Зная кармическую связь всех нас, видя зорю пред собою, и имея опыты прошлого за собой, я могу, положась на нечто совершенно безосновное, но телеологически всегда выносящее в будущее, свидетельствовать: озаренность моего духа есть первое веяние какого-то грядущего озарения каждого из нас, связанного друг с другом в глубочайших и немых тайниках Духа:
«Пусть все поругано веками преступлений и т. д.
…Мы вечны: с нами Бог».
Вл. Соловьев[3422].
Пишу на днях деловое; скоро шлю в «Тр<уды> и Дни» статью о Ник<олае> Карловиче[3423]. Денег хватит лишь до русского 1-го февраля. Если с Терещенкой наладится, нельзя ли мне с февраля уже получать жалованье. Впрочем, не смею верить. Получили ли мое длинное чисто деловое письмо (оно должно было прийти 28, 30, 29 декабря) в Мусагет, там мои соображения[3424]; если нет – телеграфируйте: я повторю их сызнова; по Вашему новогоднему письму не вижу, что получили. Если не получили письма, очень жаль; я подробно там пишу обо всем деловом и очень важном для меня.
Итак с новым годом, старинный друг!
Приветствую с новым годом Николая Карловича. Приветствую Анну Михайловну[3425]. Ася приветствует тоже.
Крепко жму Вашу руку.
Остаюсь любящий Вас Б. Бугаев.
P. S. На Степпуна лично не сержусь, но официально обижен: там в письме есть совершенные неприличия[3426]. Степпуна поздравляю с новым годом.
РГБ. Ф. 167. Карт. 3. Ед. хр. 2. Датируется по почтовому штемпелю. Штемпель получения: Москва. 8. 1. 13.Ответ на п. 276.
279. Белый – Метнеру
В сущности всякая голова – голова Медузы: змеевидные мысли, как ветром волнуемые волоса, разлетаются во все стороны от любой головы, вызывая сравненье с Медузой. (Из лекции в Берлинской ложе. Январь. 1913 года)[3427].
Мы еще недостаточно оживили свое эфирное тело; оживи мы его, мы пульсацию этого тела, многообразные его истеченья, движенья переживали бы и в физическом теле, как движенья, как пульсации внутри наших физических ощущений; и эфирные ощущения были бы ведомы нам не извне – изнутри. (Из лекции в ложе. Январь 1913 года).
Впрочем, в одном пункте совершенно пронизаны друг другом эти тела: в голове; и пульсация эфирного тела изнутри нам знакома (как вещь в себе): это – пульсация мысли, ибо самый процесс мышления – вот одно только из многообразных движений эфирного тела. (Из той же лекции. Январь 1913 года).
Если бы мы воскресили все части нашего эфирного тела и работали ими в соответственных центрах тела физического, то во всех частях тела нам изнутри бы открылись движенья, соответствующие тому, которое в голове ощущаемо в мысли. И мыслили б руки. (Из той же лекции. Январь 1913 года).
Физический мозг так относится к эфирному мозгу, как выкристаллизованный в воде кусок льда к ней самой; в обоих мозгах – максимум приближения тел этих друг к другу; в руках уже есть расхождение; эф<ирный> мозг является гораздо более неловким органом, чем эфирные руки; эти последние вводят в познание высших миров. Эфирные руки – нечто весьма интересное… (Мюнх<енский> курс. Лекция II-ая. 1912 г.)[3428].
Эфирные руки и внешне иначе протягиваются к добру, иначе к злу. (Мюнхенский курс).
Полезное оккультное упражнение (Доктор складывает руки на груди и смотрит перед собой в пространство): с неподвижными физическими руками вызывать самостоятельное движение эфирных рук. (Лекция в ложе. Январь. 1913 года).
Работою следует пробуждать свое эфирное тело кусок за куском; иначе будешь видеть в эфире все то же и то же. (Мюнхенский курс. 12 г.).
В физическом теле – чередование сна и бодрствования; в элементном теле (эфирном) – сон и бодрствование одновременны; тот кусок видит и бодрствует; этот – ничего не видит и спит. (Не спит мозг и спят руки). (Мюнх<енский> курс 12 года).
Когда человек может чувствовать свое эфирное тело, ему сперва начинает казаться, будто ширится он в мировые дали пространства; испытание страха, тревоги не минует тут никого; оно гнетет душу: будто ты закинут в пространства; под ногами – нет почвы. (Мюнх<енский> курс. 12 года).
В обычной душевной жизни человек говорит: «Я – чувствую, я – мыслю»… При жизни в эф<ирном> теле является чувство: «Мысли думают себя». Сам человек погашен: вещи думают, чувствуют и хотят вокруг него. В той мере, в какой себя чувствуешь в расширении, распространении, в той же мере глушится сознание, знание: чувствуешь себя отданным мировой объективности. (Мюнх<енский> курс 12 года).
Есть случаи, когда из физического тела выпа<да>ет эфирный мозг; это случай – интуиции. Иногда выпадает эф<ирная> гортань – инспирация; иногда сердце – имагинация. Есть особый случай имагинации: из эфирного плана западают вещи чрез солнечное сплетение; попадая оттуда в сердце, они тускнеют в тумане субъективизма. (Из беседы Доктора со мной и Асей)[3429].
Древние индусы ходили с эфирным капюшоном вокруг головы: эфирный мозг их значительно расширялся за пределы физического; и отсюда их развитое эфирное зрение; то, чем отличаются от нашего способа изображения природы древнеиндийские памятники искусства, являют печать эфирного зрения. Индус видел двумя зрениями; оттого-то для него одно из зрений (физическое) рисовало лишь Майю пред ним. (Из курсов).
Культура Индии – культура эфирного тела. (Из курсов).
В наше время эфирный мозг налагается на физический; в прежнее время границы обоих мозгов не совпадали; человек нормально ходил как бы с выпавшим мозгом. Центр мышления перемещался в зависимости от предмета мышления; при высоко настроенном мышлении, при предмете высоком центр перемещался за пределы физической головы; не голова вовсе думала: думало ее окружение в то время, как физический мозг молчал. Древние люди говорили тогда: «Я надел на себя праздничное платье». Соответствующее эфирное ощущение при эфирном мышлении называли «праздничным платьем». (Кёльнский курс 1913 года)[3430].
Физически такое перемещение ощущалось, как будто бы физическая голова открывалась в темени; и что-то над теменем приподымалось; человек сам приподымался над собой: эфирный над физическим; ощущал себя в новом теле. Но новое тело бросало как бы свою тень на тело физических ощущений; физическое тело при этом в ощущении казалось громадным чрезмерно и удлиненным – до невероятности; телесно ощущали себя слитым со всем земным шаром, врастающим в центр Земли; физич<еские> ноги казались при созерцании короче чем следует, потому что казалось, что они продолжаются змеиным хвостом до центра Земли. Так себя ощущал человек. (Кёльнский курс 1913 г.)
Земля (чертеж Доктора)
Человек ощущал себя змеей; а вещество тела – змеевым веществом. Обыкновенно говорили тогда: «Во мне зашевелилась змея: я пришел в змеевое состояние»… Это было понятно всякому – более или менее. (Кёльнский курс 1913 г.).
Характерно: среди всех народов вдруг прошлась легенда о змееборце, свернувшем голову змее. Например: греческие легенды. Что это значило? Во время старого способа ясновиденья человек ощущал себя привставшим над собою самим на змеевом хвосте. Это был старый способ ясновидения. Христос окончательно пресек этот способ, выгнал змею из человека («Семя жены сотрет главу Змию»). Христу предшествовала реформа: Кришну стер приподнятую эф<ирную> главу; эфирный мозг был введен в физический; возможность змеевого состояния без помощи Иоги пресеклась. Границы миров совпали. (Объяснение, как это было сделано, опускаю). (Кёльнский курс. 1913 года).
Надо было нечто праздничное и в этом смысле новое ввести в обыденную мысль; при совпадении границ мозгов, это влившееся в мозг новое в физическом мозге впервые себя осознало, как логика в нашем смысле: Empfindungseele[3431] стала Bewustseinseele[3432]. (Кёльнск<ий> курс).
Это и было убиением змеи: внелогической, дологической мудрости: змея вошла в тело; в будущем она выйдет из тела под нашими ногами и опустится в землю. (Кёльнск<ий> курс).
В эпоху убиения змеевого состояния появилось два лагеря людей, не понимавших друг друга: люди с чем-то новым в мозгу (логикой в нашем смысле) и без всякого ясновидения (сократизм); и люди с остатками старого ясновидения и без логики в нашем смысле. Эпоха – Verständnisseele[3433]. (Кёльнск<ий> курс).
Образы высокой Гиты[3434] провиденциальны: так, там говорится о загадочном дереве, растущем вверх корнями, ветвями вниз, листья которого – сладкая пища Вед[3435] для ученика. Что это значит?
Вот что.
Объективно установимо: самосозерцание мозга с позвоночником и нервами отпечатлевается в эфирном, развивающемся зрении, как световой, далекий центр, от которого на созерцателя идут световые ветви-лучи; это и есть древо, вверх корнями растущее; корни – световой центр – кажутся в мировых далях; ветви – лучи от центра – падают на медитирующего ученика; образы эфирного плана возникают между ветвями (в лучах); эти образы – сладкие листья Вед; а сам человек при этом, испытывая змеевое состояние тела, есть как бы змея на тех познанья листах. Он – змея на древе познания добра и зла. Если бы образ этот применить к библейскому, то следовало бы тут сделать еще ряд оговорок. (Кёльнск<ий> курс).
Первое действие развивающегося эфирного зрения – ви́дение растительнообразных, световых форм: дерева, цветы, лучевые хризантемы и т. д. (Трюизм для всех учеников Доктора).
Все мифологическое о древе, рае, саде, дубе и т. д. есть воспоминание об утраченном (сравнительно недавнем) зрении на эфирный план. (Из курса, кажется: «Апокалипсис»[3436]).
Будхи[3437] как бы дает отзыв в эфире: сознание растений всегда в будхи; душу растений ясновидящий уже замечает в эф<ирном> плане сравнительно на ранних стадиях ок<культной> работы. (Слова Доктора).
Человек при начале развития в нем имагинации на эфирном плане начинает видеть ряд образов; сперва он думает, что это всё – Wesen’ы[3438]; но часто он видит имагинативно, т. е. символически части собственного эф<ирного> тела. Так: самосозерцание в эфирном плане гортани дает имагинат<ивный> образ то совы, то лебедя в нимбе; позвонок – иногда золотой орел; печень – крылатый бегемот; живот – змея. И т. д. (Слова Доктора Асе)[3439].
Эфирное тело – тело воспоминаний; колебание его в голове – «мысли мыслят себя»; при потрясениях, опасностях эф<ирное> тело частями выскакивает наружу; и врачами отмеченный факт, что вся жизнь проносится в воспоминании в минуты смертельной опасности, есть следствие частичного выхождения эф<ирного> тела. (Из курсов).
В древности культурою иоги посвящаемые готовились к отделению эф<ирного> тела; воспоминание всей жизни, вся жизнь в новом свете – проносилась пред ними; отсюда – душевное потрясенье от эфирного сотрясенья; отсюда κάϑαρσις[3440] пред мистерией.
И это вéденье вынес на площадь Креститель. Он революционно демократизировал методы пробуждения эф<ирного> тела – в Крещении, чтобы спешно приготовить народ к появленью Спасителя. Что происходило?
Обстановка Крещения потрясала: погружались с головой в воду и держались долгое время под водой с риском захлебнуться: под водой крещаемый переживал состоянье утопленника, состоянье смертельной опасности: часть эф<ирного> тела отрывалась от физического; мгновенно вся жизнь проносилась в воспоминании, по-иному; сотрясенный крещаемый видел нечто по-новому, в первый раз. Сотрясение вело к душевному потрясению. Иные умирали, иные сходили с ума. Совершенно иначе, чем нам, звучали крещаемым слова: «Покайтесь: приблизилось Царствие Небесное»[3441]. (Слова Доктора).
Сущность медитации есть сосредоточенье в образах, ничему будничному не адекватных; образы медитаций суть символы; во всяком символическом образе, т. е. в образе, соединяющем в себе нечто неотобразимое в действительности, лежит уже начало медитативное (мой вывод: символизм – свободная, инстинктивная медитация); а задача медитации на первых порах вытянуть из глубины души нечто самостоятельное, что не связано с дождем повседневных, обычных представлений; сперва это достигается сосредоточиванием на символическом представлении, далее слитием с ним; наконец, жизнью в символическом представлении; переживающий медитацию приходит далее к самостоятельному творчеству медитативных образов, к творчеству целого мира представлений и образов, к соединению мысли и образа в одно; наконец, к ви́дению этих образов. Эта первая стадия ясновиденья есть имагинация[3442]. (Публичная лекция).
Если бы знали, что многое из обычных наших ощущений и переживаний уже есть рудимент к переживанию в более высших телах, то стали бы внимательней относиться к духовной науке, ибо минимальное реальное знание ее открывает и объясняет нам многие субъективно переживаемые и ощущаемые, но словами невыразимые факты душевной жизни. (Слова Доктора).
Р. Штейнер.
Довольно: устал…
Вот, дорогой друг, ряд сентенций Доктора, частью лично слышанных на интимных лекциях, частью вычитанных из курсов. Для чего я привел их Вам? Вот для чего.
Вы представитель того распространенного мнения, что Доктор есть сухо-рассудочный человек, что у него все дело в мозгологической номенклатуре, что символистам, художникам, людям сочным и красочным, нечему учиться вялым схемам Доктора; всё у Доктора рассудочно, а безумию творчества чужда схоластика оккультизма.
В pendant Бердяев полагает, что Доктор неоригинален, неталантлив, преследует творчество и в нем мало оргиастического безумия[3443].
Я не старался подбирать.
Я собрал лишь ряд сентенций Доктора, сгруппированных вокруг одного пункта «эфирного тела»[3444]. Говорят: ох уж эта номенклатура, эта сухая схема «тел». Вот я выбрал одно из тел, чтоб Вы высказались откровенно.
1) Сухую ли схему я представил Вам или нечто, ведомое изнутри и пережитое?
2) Где Вы во всей истории мистики хоть раз встретили нечто, адекватное этому заряду прессованных безумнейших узнаний и переживаний? Или все это подлинная тайна, и тогда Доктор есть единственный в мире посвященный, зовущий открыто к себе? Или он – талантливейший из когда-либо бывших мистиков?
Ну признайтесь: где Вы встретите нечто подобное «змеевому состоянию», «эфирным рукам», «голове Медузы» и т. д. Можно было бы нечто, как реально узнанное, найти у Ницше, у Гёте и т. д. Но чтобы построить на «таком» громадное знание и сознательно заставить «такое» извне номенклатурой, чтобы при случае с тонкой улыбкой обмолвиться «змеевым состоянием» и т. д. Ну сопоставьте талантливые рассуждения Эккарта (в сущности до чтения Эккарта мы многое знаем), все эти рассуждения о горьком и кислом у Бёме, сопоставьте гениальных мистиков истории с сухим схоластом, неталантливым, нелюбезным «геккелианцем» д<октором> Штейнером[3445], и справедливость заставит признать Вас, что неталантливый Штейнер говорит вещи, которые не говорились – нигде, никогда…
Я Вам привел серию сентенций более практического характера (к сведению учеников), сказанных вскользь, мимоходом, в разное время. Но эти «вскользь», «мимоходом» пестрят всюду слова Доктора; никакого бум-бума на них Доктор не строит: они тихо усмехаются из-под номенклатуры, а сам Доктор из-под номенклатуры только и делает, что без слов усмехается и подмигивает ученикам. Говоря о голове Медузы (помните Ваш «медузин ужас»), Доктор посмотрел на нас, как бы говоря: «Да, да, да – медузина голова» и т. д.
Вместо вскользь замечаний об эфирном теле я бы мог привести вскользь замечания об астральном теле или Христе, или Христиане Розенкрейце, или, наконец, о том, почему нужна номенклатура и почему «вскользь замечания» брошены только вскользь. Если Вы беспристрастно вчитаетесь в приведенные «вскользь замечания» и поверите, что и самая-то номенклатура для сколько-нибудь зорких учеников, кое-что опытно узнавших, есть стеклянная лишь поверхность, пропускающая всюду сквозь себя не стекольно-номенклатурный, а творчески-живой, заставляющий подчас вскрикивать реальнейший, а не схоластический смысл. И Вам станет понятнее, почему не идиоты все же Эллис и Белый попали при Докторе в идиотическое положение учеников.
Да, если бы мы с Эллисом не были символистами, если бы «змеевое состояние» звучало бы нам абракадаброй, если бы мы более интересовались головными конструкциями философского творчества и писали реторически-философическую бездарность à la Степпун, Штейнер ударился бы о нас – как горох о стену.
Но поелику мы символисты, поелику стоим на границе между подлинным ясновиденьем и буднями (на пороге имагинации), потолику и имагинация Доктора звучит нам, как исконно ведомое, позабытое, старое и новое во все времена[3446]: и не доктора Штейнера учимся мы понимать, а учимся понимать себя – у себя на старинной, забытой родине.
Со времени моего появления у Доктора я просто ничего не понимаю: мне описывался какой-то оккультический тип, мне несимпатичный, – педант оккультизма: а в личном общении со мной встал предо мной – Заратустра, плясун легконогий, при случае то повертывающийся словами более новыми, чем вся новизна, то повертывающийся старинным египетским гиерофантом, то поющий мне «о старом и новом во все времена» (рождественская лекция о любви).
Вместе с тем за этот период времени почему-то меня считают чему-то изменившим, тогда как я именно не ушел, а вернулся, боятся за мою свободу и т. д.
Ничего не понимаю.
Только потому и пишу Вам все нижеследующее, что в моем представлении представление о Вас, себе и Докторе до такой степени смещается с места, что я предполагаю с Вашей стороны следующий вопрос: «Хорошо, допустим, что все это хорошо: а Вам-то, Вашему творчеству какое до этого дело?»
А вот какое.
Вы знаете: у меня в произведениях есть многое, мне самому непонятное, как реальное переживание; всю жизнь хожу и говорю себе: «Кто мне объяснит, что такое это, когда „предметы сходят с мест“ (Симфония), когда „дети бредят“, когда все „то, да не то“; кто объяснит мне, что такое „опять возвращается“ и т. д.[3447] То, что производит впечатление безумия на одних и таланта на других, что есть реальнейшее содержанье меня самого, входящее в коренное осмысливанье моей личной жизни, – все это всегда мне объяснялось по одному и тому же: „Нервы, болезненность“ – говорили одни. „Талант“ – говорили другие».
Но то и другое – не объяснение.
Теперь: я берусь за книги; Ницше, Ибсен говорят мне лишь то, что многое моего было и у них; а мистики всех времен и народов лишь благо-рассуждают о сладчайших Иисусовых и не Иисусовых переживаниях в Духе.
«Этого мне мало», кричу я всю жизнь про себя: «эстетизм» и «мистицизм» не про меня; и строю концепцию «символизм» (заметьте) мимо философизма, эстетизма и «мистицизма».
Мне нужно реальное знание, реальное уразумение: религия этого, т. е. связь меня во мне с вне меня-смыслом.
А вот Доктор первый мне меня объясняет; и не только объясняет, но и дает реальный путь продолжения и раскрытия меня – в моем: то же, что есть для меня подлинное начало творчества, созидания в себе того, о чем до сих пор я лишь писал, как «о» чем-то внешнем – это подлинное начало творчества опять-таки рассматривается, как заблуждение.
Что же мне – всё писать «о» и самому по мере писания книги за книгой отходить от этого «о», т. е. становиться тенью себя, выжатым лимоном себя?.. Ведь вот что мне советуется осуждением моего пребывания у Доктора. Хорошо: что же Вы нашему теперешнему пути противопоставите, как реальный эквивалент? Вы отрицаете Доктора, а что Вы полагаете? Я шел, шел, шел и вот до-шел прямо до Доктора; а мне говорят, что я куда-то свернул. Если я свернул в закоулок, то начало сворачивания – в 1902-ом году, т. е. я должен был бы в пластично-классической форме описывать пластично-классичные образы вместо того, чтоб лепетать о закатах. Поймите, в этом лепете о закате уже сидит то, что внешне может быть названо оккультизмом. Или: почему же 1909 год, когда мы оба, заметьте, говорили об оккультизме, мне не поставить в вину? Ведь мое «да» есть уже опасное отклонение, мой приход к Доктору есть лишь повторение «да» сказанного в 1909 году и пригрезившегося в 1902-м. Вопрос мог быть лишь в том, что Доктор не то, что это мое «да» в 1909. Но Доктор именно это, квинт-эссенция этого. Почему сейчас мальчишка Степпун с треском вещает ко мне «берегитесь», а в 1909 году не вещал[3448].
Полноте, дорогой: будто я изменил Канту. Это – неправда: в 1909 году я писал в «Символизме» теоретически то, что сказал в 1912 году афористически (резкость выражений есть лишь прием выражения). Сопоставьте мою статью «Песнь жизни» (сборник «Арабески»), написанную и прочтенную публично в 1908 году: по адресу неокантианской схоластики там сказано то же, что и в 1912 году в «Арабесках»[3449]. А возможность понимания Риккерта так, как я его хочу понимать в Символизме (как формулу перехода к новоплатоникам), я продолжаю утверждать и теперь. И опять-таки в иных случаях я готов отстаивать неокантианство, где оно право (например, в полемике с эмпирио-критицизмом). Нужно наконец меня понять и основываться на всем написанном мною, понять, что «Песнь жизни», «Символизм, как миропонимание», «Эмблематика Смысла» суть фрагменты все той же в моей душе сидящей системы, которую случайно мне еще не удалось написать (но не более меня написали «свои системы» Яковенко и Степпун). Как-никак у них мировоззрение – школьников: своих мировоззрений пока что они не дали; а у меня это мировоззрение есть, разбросанное в статьях, многосложное, многоярусное, не систематизированное, правда, но в себе цельное, основы которого
1) Единство: Воплощение, т. е. Слово-Плоть (т. е. sui generis[3450] гностика христианства).
2) Раскрытие этого единства формальное, негативистическое в методах (между прочим и риккертианских): «Эмблематика Смысла».
3) Раскрытие его реальное, в материи: символизм, как теория творчества в эстетике; теургизм, как раскрытие его в религиозной практике.
Я пишу разными стилями, разными методами, то негативистически, то реально. И поэтому школьному мальчишке, Степпуну, меня изловить в кажущемся противоречии, прием неблагодарный (изнутри) и чрезвычайно благодарный, как жест у авансцены – жест философа, ловящего глупого поэта (я, например, не ловлю философов в незнании точной науки, а ведь, как бывший естественник, Doctor Naturwissenschaft[3451], мог бы).
А вот мальчишка и в области оригинальности мысли, и в самой философии менее меня сделавший, – пользуясь авансценным жестом, пишет в дружественном журнале меня оскорбляющие слова, будто я (?) оповещаю (??) ежегодно (?!?!) о смене убеждений (???)[3452]. Ведь это – наглая, циничная ложь, оправдываемая разве что – жестом общественного позора: жест в духе Серг<ея> Кречетова. Повторяю, дорогой, я не сержусь на Степпуна, но… отвечать на такого рода письмо считаю невозможным[3453].
Ну не будем об этом. Я ведь только отсылаю Вам эти мысли Доктора. И факт их присылки Вам – строгая тайна от всех. Я ужасно Вам доверяю; более того: считаю нужным этими отрывками из Доктора нечто сознательно приоткрыть, о чем-то намекнуть.
Никому об этом, пожалуйста: ни даже «ортодоксальным» штейнерьянцам (мы ведь с Эллисом в Москве считаемся не ортодоксальными, хотя и бóльше Доктора знаем, и на многое слышали «да» самого Доктора). Получили ли мой большой ответ на Ваше новогоднее письмо?[3454]
Христос с Вами.
Борис Бугаев.
«Ортодоксальные» штейнерьянцы возопиют, что я сообщаю запретное. Но у меня внутр<еннее> чувство говорит за посылку Вам этих фрагментов. Я тоже посылал Бердяеву нечто из циклов. Потом признался Доктору и получил от него разрешение.
Только Иванову (Вячеславу) Доктор не разрешил абсолютно: про Иванова Доктор сказал: «Не сомневаюсь, что человек он замечательный; только… к этому не у всех талант; тут нужно нечто особое; и думаю, что циклы были бы Иванову вредны…»[3455]
Терещенко еще не был[3456]. Милый, если в принципе возможно, нельзя устроить с ним до февраля?
Присоединяю это письмо к, оказывается, непосланному.
Вслед за двумя огромными письмами (ответом на Ваше новогоднее письмо и письмом с выдержками из Доктора) пишу это краткое и очень важное – для меня.
Прежде всего, дорогой друг, не сердитесь на мое ворчанье по поводу Степпуна; и не говорите ему, что я Вам ворчал: я на Степпуна не обижен ни капли; понимаю трудность его положения и естественную запальчивость. И очень люблю его, как и всех логосов. Во вторых: действительно – выдержки из Доктора только для Вас и строго между нами. Я вправе послать их Вам, но если бы они разошлись в московском нашем общем кругу, то право мое обернулось бы против меня.
А теперь о деловом.
Сегодня, кажется, 8 января; это письмо придет, вероятно, в Москву не раньше 14-го. В двадцатых числах Вы едете в Петербург[3457]; в случае, если состоится продажа моих собр<аний> сочинений, вероятно она состоится не ранее февраля (начала, середины, конца) – пока совершится выкуп романа и т. д… На все это, знаю по опыту, уйдет более времени, чем предположительно. Дорогой друг, между тем пока денег у нас лишь до первых чисел русского февраля, вернее до 1 февраля; и мне хотелось бы знать, не мог бы «Сирин» в случае, если уладится со мной, к 1-ому же февралю выслал <так!> первую порцию денег, или: не выслал ли бы «Мусагет» в счет долга, который он ведь в случае благоприятного исхода получает в момент совершения условия. И не черкнете ли по этому поводу теперь: февраль у нас не обеспечен никак.
С нетерпением жду ответа и на деловое, и на личное: у меня какой-то духовный голод Вам писать, не на тему о наших недоразумениях. И есть многое, многое сообщить.
Да, кстати: Блок мне писал, что сообщит мой адрес Терещенко, и что Терещенко заедет в Берлин ко мне (в десятых числах); признаюсь, мне это скорей неприятно; ведь я не au courant[3458] Вашего разговора и в случае, если бы Т<ерещенко> захотел со мной говорить о гонораре, продаже и т. д., я боюсь, что напутаю[3459].
Будете ли проездом в Берлине, и когда? Сейчас Доктор в Австрии[3460]; говорят, что в начале марта большой курс в Амстердамме[3461].
Как хорошо бы Вас увидеть в Берлине!
Остаюсь глубоко преданный и любящий
Борис Бугаев.
От Аси привет. Всем Вашим привет.
РГБ. Ф. 167. Карт. 3. Ед. хр. 3. Датируется по указанию Белого в тексте: «Сегодня, кажется, 8 января». Почтовый штемпель отправления: Berlin. 22. 1. 13. Штемпель получения: Москва. 12. 1. 13.
280. Белый – Метнеру
Посылаю Вам это чисто деловое письмо. Не знаю, застанет ли оно Вас в Москве.
Сообщаю Вам наши ближайшие планы. Мы в Берлине до 15-го марта, т. е. до 2, 3-го марта по новому стилю. Далее нам необходимо по внутр<еннему> долгу и по внешнему долгу пред Доктором быть на курсе в Гааге, который продлится до 2-го апреля[3462]. После второго апреля мы месяца на 3 едем в Волынскую губернию отдыхать, работать до Мюнхена. Так что: ровно 15 марта нов<ого> стиля мы вовсе уезжаем из Берлина, ровно 4 апреля мы в Боголюбах месяца на 2½.
Теперь. Денег у нас ровно на 14 дней. 1-го февраля (сег<одня> 29 января) мы должны сделать взнос за месяц (помещение); и после этого взноса у нас остается ровно до 15 февраля, 2-го февраля ст<арого> стиля.
Как с Терещенко?[3463] И если с Терещ<енко> еще не улаживается, то… как вообще нам быть? В случае, если бы даже Мусагет мог помочь, то… все-таки: к 15 марту мы должны обладать суммой денег для 1) помещения сундуков в Берлине, 2) для поездки в Гаагу, 3) для взноса за слушание лекции, 4) для обратного путешествия из Гааги в Боголюбы.
Если возможно, выдвиньте все это Терещенко, чтобы по возможности нам определенно знать, а то, зная по прошлому опыту, какие неожиданные случайности возникают на почве запоздания на 2 дня денег, мы все время будем в полной неуверенности. 2) Милый друг, поскорее ответьте: как нам быть с февралем; ведь мы абсолютно в феврале без гроша; и достать не у кого; Терещенко так и не заезжал ко мне.
Опять тревожусь.
Остаюсь искренне любящий Вас и преданный
Борис Бугаев.
P. S. Всем Вашим привет.
P. S. Зная по опыту, как все «проблематично» с возникновением издательств, и будучи проучен только что с надеждами на «имение»[3464], я опять внутренно охвачен ожиданием, что получу печальную (но не неожиданную) новость, что с Терещенко что-нибудь не так. И есть ли, вообще, Терещенко.
Если предположение мое, что с Терещенко не все ладно, имеет какое-нибудь реальное основание, ради Бога напишите мне тотчас, ибо Вы понимаете, до чего для меня этот вопрос есть вопрос «быть или не быть». И обратно, если нет оснований для беспокойства, то нам заранее уже нужно знать сроки получения денег в виду ближайших для нас очень реальных и существенных перспектив.
Милый друг, напоминаю: сегодня 29 января нового стиля.
1-го февраля – платеж (120 марок). 15 февраля недельная плата за обеды и далее в буквальном смысле слова ни гроша.
15 февраля нового стиля, а не старого.
РГБ. Ф. 167. Карт. 3. Ед. хр. 4. Почтовый штемпель отправления: Berlin. 30. 1. 13; штемпель получения: Москва. 19. 1. 13.
281. Метнер – Белому
Москва 18/1–913.
Дорогой друг! Надеюсь, Вы получили мой ответ на Ваше длинное деловое[3465]. После этого я получил от Вас еще два больших письма[3466]. Но не успел, да и не успею сейчас ответить Вам, т<ак> к<ак> еду в Петербург, где будет Колин концерт[3467] и где я встречусь с Терещенко. Первое Ваше письмо я прочел, второе только вчера вечером мне передали. Его я даже не пробежал, увидев сразу всю кардинальную важность написанного. Поверьте, что я с полным и благоговейным вниманием отнесусь ко всему, что Вы из такой глубины мне пишете. Постараюсь в след<ующем> письме хотя бы кратко сказать свое мнение. Сейчас скажу, что разделяю строго две вещи: Ваше развитие, Ваш рост, Ваш путь, с одной стороны, и то, как это выявляется в Вашем творчестве, то соприкасаясь, то отклоняясь от тех или других идей, с другой стороны. В целесообразность и органичность первой стороны всего явления «Андрей Белый» я верю, но в другой стороне вижу известную прерывность движения и скачки в сторону, которые Вы и должны обосновать. К Штейнеру у меня двойственное отношение, и не думаю, чтобы оно стало когда-либо цельным и вполне положительным. Пусть это «тем хуже» для меня. Стало быть, не суждено мне быть посвященным.
Некрасов оказался очень большим жилою. Требует даже проценты за выданный Вам гонорар[3468]. Это – пустяки, и Терещенко не постоит за этим, но… характерно. Кроме того, он требует, чтобы ему возместили издержки по печатанию первых 9 листов, кот<орые> он уже (без Вашего разрешения) напечатал; говорит, что Вы его обманули, пропустив все сроки, и он счел себя вправе печатать[3469]. Между тем, Вы ведь начало переделали[3470]. Пусть все это Вас не волнует, т<ак> к<ак> все уладится. Сообщаю только для характеристики Некрасова.
Пора кончать. Нашли ли Вы те заметки о Коле, кот<орые> я Вам дал для статьи?[3471] Если Вы их использовали, то пришлите их как-нибудь в письме мне назад, а то у меня нет копии (ее я дал Эллису), а между тем тут нужно для предвар<ительной> заметки. Впрочем это не важно, если Вы это затеряли. Обнимаю Вас крепко. Привет Асе.
Ваш Э. Метнер.РГБ. Ф. 167. Карт. 13. Ед. хр. 7. Л. 1–2. Текст – в копировальной книге Э. К. Метнера.
282. Белый – Метнеру
Получил от М. И. Терещенко телеграмму; жду его сейчас[3472]. Очень волнуюсь: хотел бы не касаться деталей и даже плана моего издания в «Сирине», предоставляю все Вам и заранее благодарю.
Пишу это письмо лишь для одного: просить Вас, если Вы не получили моего маленького делового письма[3473], как-нибудь сделать, чтобы выручить нас за февраль; через несколько дней (дней через 10) у нас – ни гроша. Если это возможно, прошу меня уведомить, дорогой друг.
Буду скоро опять Вам писать много. Сейчас с лекции Доктора[3474] – и мы с Асей совершенно пьяны, ибо то, о чем мы все когда-то мечтали, это Доктор назвал Антропософией.
Вот ход мыслей; была София; о ней пели поэты (напр<имер>, Данте); в нее влюблялись греч<еские> философы; она была «милая». Период развития Bewustseinseele[3475] превратил Ее, милую Софию, в философию; период этот кончается, «милая София» в философии умерла, чтоб воскреснуть в человеке и стать антропо-софией. Лейт-мотив всей лекции:
Милый друг, ради Бога не забудьте уведомить о деньгах; крепко обнимаю. Б. Б.
РГБ. Ф. 167. Карт. 3. Ед. хр. 6.
283. Метнер – Белому
Петербург 21/I 913.
Милый Борис Николаевич! Сейчас заметил, что Вы в письме беспокоитесь о феврале[3477]. Конечно, так или иначе Вы получите месячный оклад своевременно. С Терещенко Вы уже, вероятно, виделись[3478]. Помнится, я писал Вам, что его визит будет совершенно личный и ни о каких делах Вам вовсе нет надобности говорить с ним, если Вы этого не хотели бы. Вчера был у Блока весь вечер: мы были совсем одни и досыта наговорились[3479]. Он – прекрасен. Через час будет концерт Коли[3480]. Записки, о которых я Вам писал в прошлом письме, оказались бы полезными для одной предвар<ительной> заметки перед московским концертом, кот<орый> будет 9 февраля[3481]. Третьего дня был на религиозно-философском собрании, где было очень скучно и говорили Поликсена Соловьева (поверхностно) и какой-то рыжий путаник[3482].
Ну, до свиданья, дорогой мой.
Очень спешу. Привет Асе.
Ваш Э. Метнер.РГБ. Ф. 167. Карт. 13. Ед. хр. 7. Л. 3. Текст – в копировальной книге Э. К. Метнера.
284. Метнер – Белому
Траханеево на Клязьме 29/I–10/II[3483] – 913.
Дорогой Борис Николаевич! Снова и опять пишу о внешнем. Внешнее (и не только Ваши дела) заполонило временно меня и сделало неспособным к приятию и к разбору тех внутреннейших вопросов, кот<орых> Вы касаетесь в Ваших письмах. Даже мои работы (о Вагнере[3484] и др.) застряли. Масса дел. Реорганизация Мусагета в отношении управления, сбыта и т. п. Переговоры с книжными складами. Ликвидация хозяйничанья Кожебаткина[3485]. Инструкции Ахрамовичу. И, наконец, переговоры с Сирином. Вот о них-то и буду только писать сейчас. Эти переговоры продолжаются, а потому 333 р. 33 к., котор<ые> Вы, надеюсь, получили, отправлены Вам из мусагетской кассы и будут присчитаны к долгу. Обратите внимание на следующие пункты.
1) Сирин, подобно Мусагету, имеет тайный комитет, в кот<орый>, вероятно, входят след<ующие> лица: Михаил Иванович Терещенко, его сестра[3486], Разумник Васильевич Иванов[3487], Блок, Ремезов <так!> и, м<ожет> б<ыть>, еще другие. Брюсов, по-видимому, нет. Все вопросы решаются этим комитетом, которым конституционно ограничивает свою власть Терещенко.
2) Принципиально желают Вас издавать полностью, но для формального решения необходимо, чтобы все члены ознакомились со всеми Вашими сочинениями. Обе рукописи (роман и Путевые Заметки) должны быть прочтены сообща в ряде заседаний. От этого порядка не отступают никогда, кто бы ни был автором рукописи.
3) Гонорар для всех один и тот же, именно 25 % с номинальной стоимости книги. Следовательно, гонорар колеблется лишь в зависимости от количества отпечатанных экземпляров. Если Ваш гонорар будет меньше, нежели гонорар Сологуба, то только потому, что Вас будут печатать, м<ожет> б<ыть>, 3000 экз., Сологуба же 5000 (кажется). – Кроме этого процентного гонорара за книги (или томы собрания сочинений) есть еще фиксированный гонорар за помещение главы романа или отдельной повести в Сборниках, которые будут выходить спорадически и довольно часто; этот гонорар – очень велик: именно 200 р. за 40 000 букв. Когда Терещенко говорил со мною в Москве и сказал, что за 22 листа романа Вы получите 4 400 рублей, он имел в виду провести Ваш роман в Сборниках; если бы, кроме того, издали собрание Ваших сочинений, то Вы получили бы еще около 1600 за тот том (или 2 тома), в кот<орый> вошел бы Ваш роман. Говоря о 4400 р. (или около того), Терещенко не сказал мне, однако, что это связано с Сборниками; мы вообще тогда не успели договориться до гонорарного вопроса.
4) В Петербурге я имел продолжительное совещание в редакции Сирина обо всех вопросах[3488]. (Терещенко передал мне Ваше письмо[3489] и привет Аси. Он рассказывал о Вас, найдя Вас очень бодрым и энергичным, чему я порадовался). – Терещенко не мог присутствовать все время совещания, которое после его ухода продолжалось между мной и Разумником Васильевичем. – Так как я не мог остаться еще день в Петербурге (я и без того застрял там из-за того, что Терещенко запоздал с своим приездом в Петербург), то я (по совету Блока) написал Терещенке мое окончательное решение о Вашем деле.
5) Оно сводится к следующим пунктам: а) по крайней мере одна из рукописей (или роман, или Путевые заметки) должна быть проведена в Сборниках по 200 р. за лист.
b) Необходимо объявить подписку на издание полного собрания сочинений Андрея Белого в 18–20 томах.
c) Оба пункта a и b должны быть решены и приняты вместе, а не раздельно и притом по возможности в непродолжительном времени.
d) Я беру на себя труд вступать с Вами в переговоры относительно выпуска или переработки той или другой статьи, которая Комитету Сирина представится не вполне приемлемой[3490].
Ad d NB: этот пункт есть результат одной из частей нашего петербургского совещания. Дело в том, что многое в Символизме (а отчасти и в Арабесках) кажется Терещенке балластом для собрания сочинений, недоступным даже образованному и нередко неприемлемым. Терещенко даже вскользь заметил, что, может быть, можно издать только художественные произведения. Я сказал (и подтвердил в письме), что согласия на это дать не могу, т<ак> к<ак> считаю это (ввиду издания полного собрания Брюсова) совершенно неприемлемым для Андрея Белого и что если Комитет не согласится издать все, то пусть редакция обратится лично к Вам за разрешением издать с выключением теоретического и критического. – Вам скажу, что это невыгодно; в особенности если окажется, что и роман и Путевые заметки пойдут только в собрании; ибо тогда за роман Вы получите не больше, чем бы Вы получили от Некрасова; гонорар за симфонии, стихи и Голубя пойдет на уплату Ваших долгов; остается только одна выгода: более скорое издание Пут<евых> Заметок (без рисунков), нежели это в состоянии сделать Мусагет. – Сирину так сильно хочется печатать Вас, что не надо до поры до времени уступать; пусть он сам уступит. – Смущает Терещенко (кажется, и его сестру) Ваша философия и критика в двух направлениях: риккертьянском и штейнерьянском. Он изучал Риккерта и других неокантьянцев в Лейпциге, и ему кажется несколько произвольным <так!> Ваша интерпретация. (В критике он находит кое-что резким). Кроме того, Терещенко боится, что Вы потребуете, чтобы и все будущие Ваши теоретические сочинения также вошли в собрание. Между тем, эти сочинения вдруг окажутся штейнерьянством, а оба Терещенки страшно боятся теософии. Я думаю, что пункт о штейнерьянстве отпадает, т<ак> к<ак> либо Вы не будете писать о штейнерьянстве, либо, пиша об этом в Тр<удах> и Дн<ях>, не станете требовать, чтобы эти статьи вошли в собрание. Что же касается риккертьянства, то я по поводу Вашего философствования написал Терещенке письмо, где доказываю, что Вы самостоятельный мыслитель, что и Дейссен не безгрешен в толковании Канта, а между тем профессорствует в Киле, что Ваша философия тесно связана с Вашим искусством и т. д. Думаю, что мне удалось рассеять его сомнения. – Почему вдруг возникло сомнение, подойдет ли роман для Сборников? – спросите Вы. Ответить наверняка трудно. М<ожет> б<ыть>, напортил Брюсов, который недавно был в Петербурге и наверно говорил что-н<ибудь> о романе Разумнику Васильевичу. М<ожет> б<ыть>, эти подозрения и напрасны: просто роман слишком велик для сборников; поэтому я и предлагаю одно из двух, ибо Путевые Заметки, конечно, пожалуй, удобнее разбить на отделы для нескольких сборников. Вот и всё пока. Терещенко был очень мил и любезен. Надо надеяться, что мы победим. – Концерт Коли[3491] сошел блестяще. Почти все билеты были проданы. Огромный успех. Отличные и даже восхищенные рецензии (если не считать язву Каратыгина)[3492]. Надо надеяться, что мы победим. Обнимаю Вас крепко, дорогой друг. Привет Асе. Коля и Анюта[3493] кланяются. Надеюсь, что в конце февраля все выяснится окончательно.
Ваш Э. Метнер.РГБ. Ф. 167. Карт. 13. Ед. хр. 7. Л. 11–17. Текст – в копировальной книге Э. К. Метнера.
285. Белый – Метнеру
Не знаю, где Вы, но беспокоюсь. Завтра первое февраля[3494]: денег нет; далее: ничего не знаю о Терещенко; как, что, на каких условиях я продаю ему книги; и главное, очень существенное для нас сейчас; с какого времени и до какого времени я буду получать регулярно от «Сирина», если состоится продажа. Дорогой друг, все это мне нужно знать сейчас, ибо: через 5 недель мы должны предпринять сложную операцию с передвижением. 17-го марта мы должны быть на курсе Доктора в Гааге[3495]; курс озаглавлен «Влияние ок<культной> работы на физич<еское>, эфир<ное>, и астр<альное> тело», т. е. курс, специально нам важный; кроме того; на днях Д<окто>р уезжает в турне[3496] и вряд ли сможет принять нас до Гааги, а нам свидание необходимо, ибо мы после Гааги должны ехать в Боголюбы (тотчас же); уехать без свидания и даже разрешения при нашей работе нельзя; и поэтому нам в Гааге следует быть по двум причинам: 1) взять отпуск (Доктор при таких отпусках дает совершенно иную работу: нас нельзя с нашей работой далеко от Доктора отпускать), 2) прослушать курс.
К чему я, собственно, об этом пишу? да – все к тому же, к материальному; зная, как иногда все зависит от своевременного получения, где 2–3 дня запоздания при сложности рассчетов причиняют ряд беспокойств, действительно досадных, я хотел бы заранее знать, уже сейчас, могу ли я рассчитывать, что «Сирин» к первому марту вышлет порцию в 333 рубля, ибо, если он вышлет, скажем, 6 марта (русского), а не первого, то все очень важные для нас планы безнадежно запутываются. Чтобы смочь попасть на курс, заранее записаться на свидание с Доктором и далее, своевременно попасть в Боголюбы, чтоб захватить там Сережу и Таню[3497], с которыми должно у нас быть свидание (а они 20–22 марта русского должны уехать из Боголюб), – для всего этого надо нам уже теперь знать наверное 1) устроилось ли с Терещенко, 2) вступает ли в силу с 1-го марта право получать гонорар 333 рубля, 3) есть ли уверенность, что действительно к первому марту мы 333 рубля получим?
Ведь мы ничего не знаем, а недели летят за неделями; Доктор уезжает из Берлина надолго, и надежда выяснить вопрос с Боголюбами отсрочивается до Гааги; между тем; 14 марта, т. е. 1-го русского марта, мы остаемся с minimum денег; и если своевременно не вступают в реальность мои отношения к «Сирину», мы на ряд месяцев запутываемся. Если с «Сирином» не выходит, то мы уже упустили драгоценное время получить возможность ехать в Боголюбы и там переждать денежный кризис.
А то может статься: наступает 1-ое марта; денег нет, хозяйка уже сдала с 1-го марта наши комнаты, и вот мы, согнанные с комнат и без всякой цели и смысла должны ютиться в неприятном Берлине, одни. Мотивирую, почему 1-го марта необходимо иметь 333 рубля. 1) Для того, чтобы ехать в Гаагу, заплатить там за курс, прожить 2 недели и вернуться в Боголюбы, т. е. экстренная поездка в Голландию, жизнь в гостинице 2 недели и обратно, поездка в Россию с риском на границе заплатить не то 30, не то 60 рублей за просроченные паспорта (не знаю правил) + дожить до 1-го апреля (но это не важно: в Боголюбах денег не надо).
Итак.
Ответьте, милый друг, сейчас же: можно ли рассчитывать 1) на «Сирина», 2) на точность «Сирина» в сроке.
В противном случае, уведомьте заранее, пока еще есть время что-либо предпринять.
О Ник<олае> Карловиче отвечаю на днях[3498]; все эти 10 дней было Generalversammlung, приходилось с утра до вечера жить в Architektenhaus[3499]; кроме того, видеться с русскими мюнхенцами; измучены ужасно; кроме ряда докладов был курс Доктора[3500] и ряд лекций extra (его же).
А теперь: истекают последние наши деньги; завтра 1-ое февраля; ради Бога, если деньги не посланы, пошлите по телеграфу, а то у нас хозяйка такая, что если чрез неделю не заплатить по счету, то очень, очень неприятно будет.
Остаюсь нежно любящий Вас Борис Бугаев.
P. S. Лично пишу на днях; Ася приветствует.
РГБ. Ф. 167. Карт. 3. Ед. хр. 5. Почтовый штемпель отправления: Berlin. 12. 2. 13. Штемпель получения: Москва. 1. 2. 13.
286. Белый – Метнеру
Огромное спасибо за деньги. Отправил письмо[3501]; и дня через 2 получил. Спасибо; грустно мне одно: что я все еще не мотивированно на шее Мусагета[3502]. Так что, дорогой друг, продавайте меня «Сирину», даже если условия будут не подходящие сравнительно; мне важно одно: чтобы долги были уплачены и чтобы в итоге освободилась бы сумма безмятежно жить и работать (я и не мечтаю о двух годах), дай Бог, год или хотя бы 8–9 месяцев. А то: я повторяю то, что писал Вам в декабре[3503]. Я не могу жить и работать, трепеща от месяца до месяца. Это не жизнь, а torture par l’espérance[3504]. Я слишком психически устал, начиная с историей моего написания романа и обмана «Русской Мысли»[3505].
Теперь приходится жить в таком внутреннем темпе, так заново учиться, как я не жил уже 10 лет (со времени окончания Университета); ведь жизнь у Доктора Университет, где через два месяца буквально сдаешь себе экзамен, где и внешнее обучение и внутреннее берут массу усилий и творческой деятельности; но я тут не только не унываю, но, наоборот, окрыляюсь. Устаешь смертельно, но устаешь бодро, осмысленно; и работать литературно я не только могу, но, что главное, – в будущем я буду работать удвоенно. Ведь писал же я между экзаменом физики и ботаники «Симфонию драматическую».
Но вот чего я не могу: это совместить работу литер<атурную>, оккультную с тревогой денежной неизвестности, переговорами, точно так же, как разлагали меня наши дисгармонии. Только оттого, от присоединения еще ингредиента полной неуверенности + сложность сроков передвижения совершенно меня лишает энергии.
Милый: поймите психическое мое настроение. 3, 4 тысячи в руки для работы, внутр<еннего> спокойствия мне важнее 50 000 в небе; и знать заранее, что я обеспечен на 3–4 месяца, важнее, чем грядущая (когда-то) обеспеченность 3–4 лет.
Вот отсутствие этой-то уверенности деморализует.
И потому: милый, помните: мне важнее уверенность обеспечения ½ года сейчас, чем эта томительная многомесячная, изнуряющая неизвестность.
В декабре я писал Вам вовсе не крик, не истерику, а сериозно; я знаю: я должен отдохнуть (не от работы) от чувства неуверенности в завтрашнем дне; отдохнуть хотя бы ½ года. Ведь вот: получил Ваше письмо сегодня; у меня на столе бумаги, чтобы скорей работать над «Петербургом». Получил письмо: сложил бумаги. Работать не могу. Я теперь должен безмятежно, с постом и молитвою работать над тем, чтобы «Петербург» был действительно сериознее «Голубя». А слова Вашего письма о кознях Брюсова ссаживают меня с работы сегодняшнего дня. И так будет, пока не освободится поле хотя бы 5 месяцев свободы…
Смотрите: все это время от начала августа до февраля я жил в атмосфере такого чувства: откуда достать денег? Почтовая путаница в августе, неделя беспокойства и безденежья в Базеле; в итоге мое взволнованное письмо Вам[3506]; в итоге – да: три обеспеченных месяца, но… наша 2-месячная ужасная осенняя переписка; и далее неопределенность с декабря до сих пор. И та же неопределенность впереди: как март? Как Гаага?[3507] Как совместить окончание для «Сирина» же романа с неопределенностью «Сирина», денежными затруднениями, необходимостью быть в Гааге и потом с переездом в Боголюбы… В итоге: 3 предстоящих недели (свободных), которые я предназначил для переработки глав в «Петербурге», могут оказаться неплодотворными и т. д.
При мысли, что «и так далее» может оказаться perpetuum mobile[3508], переговоры с «Сирином» естественно могут растянуться на 4 месяца, во время которых будешь 4 месяца клянчить, тревожиться, а когда придет время «Сирину» платить, то 4 месяца бесплодной тревоги съедят гонорар; лучше 4 плодотворных месяца сейчас, чем 4 бесплодных, полных неизвестности сейчас, а там опять та же тревога и бесплодица.
Зная все это вперед, я опять-таки говорю себе: «Руки опускаются так работать». 2 вещи могу совместить: литер<атурную> + окк<ультную> работу, но при условии, что та и другая в покое.
Иначе я опять возвращаюсь к тому, что мне раз навсегда прозвучало у Ибсена: его вопль к норвежскому королю, что ему придется оставить литературу[3509].
Не думайте, что это письмо – «нервы». С «нервами» обстоит дело прекрасно; с июля месяца я все полнею и в физ<ическом> смысле самочувствие превосходное; а «сдирающие кожу медитации»[3510] лежат глубже, за «нервами», в чисто реальных, а не «нервных» опасностях, усилиях, достижениях; вообще, завзятые оккультисты вопреки всем потрясениям здоровее и крепче здоровых, нормальных людей. Терещенко прав, что нашел меня бодрым; я вообще очень крепок и бодр (не правда ли, в письмах этого не видно – но мое несчастие, что письма мои, стиль моих писем всегда и был, и есть «вопиющий»; вопиял я в письмах всегда); и потому-то мое утверждение о невозможности работать в атмосфере вечных литературных и денежных инцидентов, желание выйти из «литературы» для серьезного творчества – все это не настроение минуты, а холодное, объективное и очень реальное утверждение.
Я готов и могу собой опрокинуть ходячую мысль, будто искусство и оккультизм несовместимы; только я могу это доказать в известных условиях.
Литература и приискивание ежедневного заработка до известной степени совместимы; литература и оккультизм совместимы; оккультизм и бедствование – даже очень хорошая и полезная школа.
Оккультизм, тревога о хлебе насущном и масса литерат<урной> работы – несовместимы.
До Рождества же я совмещал: 1) учение личное, 2) огромные тетради личной работы Доктору, 3) огромная переписка, 4) многочисленные «сдирающие кожу медитации», 5) неприятности между нами, 6) забота о будущем, 7) порциями работа над романом. И пережитые месяцы «сентябрь – октябрь» стали для меня чем-то столь красноречиво ясным, что в декабре, еще не зная о «Сирине», я написал сначала Ахрамовичу[3511], а потом Вам: «Лучше сесть сложа руки и покорно ожидать[3512] своей внешней судьбы, чем это верчение „белки в колесе“…»
В итоге я сознал: добывание каждый месяц куска хлеба на месяц + литература + ученичество: несовместимы. Будет отсутствовать либо хлеб насущный, либо литература, либо оккультизм. До сих пор волей судьбы доставалось литературе (между тем руки чесались писать → кстати: ведь по «Арабескам»[3513] не видно же, что оккультизм убивает бойкость и легкость пера?). Я и сказал себе: впредь пусть достается «хлебу насущному», ибо и от литературы, и от Доктора – нет, дудки!.. Об этом просто я в декабре и сказал. Тогда сказал в темпе «нервном»; сейчас я лишь хочу повторить это, милый друг, чтобы Вам было ясно, что синица в руки мне важнее журавля[3514] и чтобы, если «Сирин» будет отказывать в некоторых пунктах, то, быть может, можно ему уступить при условии, что к 1-ому марту он пришлет мне 333 р. 33 к.
Милый друг, в заключение этой деловой части позвольте Вас обнять и расцеловать за огромную, огромную, огромную услугу, за хлопоты, отношение ко мне, – за все, все. Верите ли, что я, когда думаю обо всем, что Вы сделали для меня чисто житейского, человеческого, – я прихожу в волнение. Мне даже трудно писать об этом Вашем отношении ко мне (трудно писать о том, что слишком в сердце), трудно касаться этого…
P. S. Милый друг: еще прошу Вас, нельзя ли просить «Сирина» к 1-ому марту в счет чего бы то ни было, собрания сочин<ений>, «Путев<ых> Заметок» и т. д. 333 рублей, ибо нам необходимо быть в Гааге: курс чисто практический, читаемый для таких, как мы с Асей, т. е. для «реальных» учеников, недавно ставших «реальными» учениками, а не для – «истов», т. е. «штейнеристов» (кстати: штейнеристов мало, а есть дяди и тетки и ученики; дяди и тетки не штейнеристы, ибо, чтобы быть истом, нужно иметь теоретический Standpunkt[3515], элементарное философское образование и т. д.; а дяди и тетки (я их люблю) – это простосердечные мужички и крестьянки культуры (простые, набожные, часто прекрасные и чистые люди); «ученики» же Доктора не понимают, что это значит «штейнеризм», ибо у них нет ника<ко>го – изма; для студентов-химиков, пользующихся при занятиях в лаборатории «Основами Химии» Менделеева[3516], нет «менделизма», а есть только химия; странно было бы, если бы теоретически оспаривали атомные веса серы, азота, водорода; Менделеев, Оствальд, Рамзай могут написать разными приемами свои химии, но основы их химий суть химии, а не оствальдизмы, рамзаизмы, менделеизмы. Рамзай, Менделеев, Оствальд согласятся, что атом серы весит 32 по сравнению с водородом; и это есть проверяемый на опыте факт; номенклатура этих фактов скучна одинаково, т. е. она не обсуждаема, а она есть то, что она есть; ее надо принять и уже вытекающее из нее критиковать на почве самой номенклатуры; Максуэлл (физик) написал гениальную книгу парадоксов[3517] (оспариваемых другими физиками); напиши он учебник физики, этот учебник излагал бы то же, что и учебник физики Краевича[3518], т. е., что вес тела в воде становится легче настолько, сколько весит вытесненная им вода, и т. д. В этом смысле, например, часто в опубликованных Штейнером окк<ультны>х книгах нет ни капли штейнеризма (т. е. Максуэлла – автора парадоксов), а есть опытная Wissenschaft[3519] (т. е. Максуэлл – автор учебника «Основы физики»). И поэтому я вообще не понимаю, как можно говорить «штейнеризм», например, о книге «Wie erlangt man…»[3520], когда это не штейнеризм, а учебник «Основы иоги» и притом учебник, приноровленный к пользованию в церковно-приходских школах, откуда сознательно изъято все реальное, могущее повредить любителю оккультных импровизаций, и оставлено все формальное, чтобы показать, что тут идет речь не об «-изме» (менделизме), а опытной науке (химии). Пиши Гельмонт, Парацельс, Агриппа не в XV, XVI и т. д. столетиях, а в начале XX века, они должны были бы написать почти то же, что Доктор. Ученики Штейнера почти не могут спорить с не учениками, ибо этот спор напомнил бы спор теологов, нападающих на Коперника: «Я проповедую не „коперникизм“, а устанавливаю проверяемый[3521] факт», – ответил бы Коперник на возражение теолога, что вращение Земли вокруг Солнца оскорбительно для славы Божией; я не виноват, что атомный вес серы равен не 33 и не 31, а – 32, – ответил бы Оствальд незнакомому с химией, быть может и гениальному П<ублию> Овидию Назону, если бы этот последний стал упрекать Оствальда в схематичности за опубликованный «учебник химии». Когда говорят о штейнеризме (я, между прочим, 5 лет так говорил) с точки зрения Джемса, Бергсона, Гегеля, Канта, то часто штейнеризмом, схоластикой называют какой-нибудь атомный вес какого-нибудь не обучавшегося ирреального тела. «Если строить химическую систему, то можно было бы для красоты системы и переменить числа атомных весов», так сегодня не скажет гегелианец Оствальду, ибо поймет, что Гегель и химия находятся в плоскостях несоизмеримых. Но тот же гегелиянец это скажет Штейнеру: гегелизм противопоставит себя пресловутому «штейнер-изму» (которого нет). Это потому, что во время Публия Овидия Назона не было химических лабораторий, а во время нео-гегелизма лаборатория такая есть во всяком университетском городке. Гегелианец, будучи не знаком с химией (ибо и тут sui generis[3522] посвящение в метод эксперимент<альной> работы), суеверно не станет опровергать, что атомный вес серы = 32, ибо он на веру примет, что основы химии суть основы науки, а не «менделизма»; но он же опрокинется на главу в «Wie erlangt man» о развитии цветов лотоса («почему лотос у сердца имеет 12 лепестков, а не 15? Какая схоластика»)[3523], потому что в университетском городе рядом с химической лабораторией не отстроена лаборатория оккультическая; а понять, что приборы для опытной проверки того или иного положения штейнер-изма столь же точны, сколь и приборы химической лаборатории, что формальный путь построения этих приборов (цветов лотоса) и излагается в данной главе, этому не поверит «-ист» любой философии, если он только философ; не поверит он и <в> то, что штейнер-изм до такой степени опытен, эмпиричен, а не теоретичен.
Периодическая таблица элементов выглядит либо отвратной схоластикой (если допустить, что она – продукт философского творчества), либо она алогична, как всякая научная формула. Химия есть объект вытверживания назубок (без занятий в лаборатории), либо химия есть живая, таинственная наука, где формулы – только знаки реально протекающих процессов.
И вот: многое от «штейнеризма» для учеников Доктора отвлеченный знак в них живо протекающего процесса. Тогда – «изма» и нет.
Я – химик. Как химик я знаю красоту таблицы Менделеева; знаю, какое обилие прекрасных творческих парадоксов можно извлечь из группы 4-ой элементов, построенной по схемам ХН4 и ХО2; знаю, до чего огненны прозрения в ХН4; но и знаю, что понять это можно, лишь пользуясь ежедневно таблицей, зная ее назубок и зная научную базу ее.
Вместе с тем для всякого не химика извне таблица выглядит… но вообще: разве на взгляд весело выглядят таблицы? Ключ к таблице всегда до известной степени закрыт от широкой толпы… И таблица может выглядеть – «измом»…
Когда Максуэлл потрясал ученый мир гениальными физическими прозрениями, говорил о молекулы сортирующем «демоне», энтропии, то надо было знать твердо молекулярную теорию того времени, термодинамику, знать твердо, что есть «энтропия». Без этого знания самая гениальность Максуэля для не физика либо схоластика, либо абракадабра.
И повторяю: в учебнике физики гениальный Максуэлл совпадает с Краевичем. Мой папа написал учебник «Арифметики»[3524], и учебный округ ему предпочел учебник какого-то учителишки: что же – учителишка был талантливее отца? А выходит так, когда заходит речь о штейнеризме…
Штейнер (до 20 раз я его слышал публично, до 36 раз интимно, прослушал 5 курсов, изучил 4 курса (кроме того)[3525], крохи из того или иного в курсе лично переживаю, прочел внешние книги Штейнера, наконец ношу ему архи-декадентские, архи-не«изматические», а хандриково-беловские схемы, рисунки, чертежи, картинки и получаю архидекадентские и Орловские наставления[3526] – следовательно: долю понимания Штейнера Вы должны признать за мной) – и вот он печатает «основы учебников», номенклатуру: в курсах для освоивших номенклатуру говорит гениальности в пределах номенклатуры (образец – у Вас)[3527], в личном обучении снимает всякую номенклатуру; ибо и курсы, и книги – бóльшие или меньшие указательные пальцы на «заноменклатурное содержание» столь живое, столь безумно-алогическое, творчески-огненное, сжигающее (каждый год у Доктора случаи сумасшествия людей со слабо развитым Ich), что надо всю силу железности, сухости, педантизма, почти схоластичности, чтобы держать в границах сознания то, что может овладеть душой (пример: Минцлова не справилась); так что за штейнеризм спасибо Доктору: этот метод проведения сквозь сознание столь непонятен для неученика и столь понятен для ученика (мало-мальски просунувшего нос за дверь – «изма» и ставшего «виды видавшим», для которого – «-изм» есть строгое «осади назад», а то «сойдешь с ума»)… А все эти «вопияния» к «алогичности творчества», к «жизненным родникам души» в противовес «штейнеризму» (в этом вопле глупый мальченок Степпун сливается с «дядей» Бердяевым) – простите: они – жалкая схоластика; эти вопли о целокупности творчества у творчески бесплодных Степпуна и Бердяева, все эти защиты творчества от штейнеризма – верьте: это-то и есть громадный «-изм» теоретической оторванности от творчества, нападающий на «эмпирическую данность фактов». Это полемика Спинозы с «таблицей мер и весов». «Таблица мер и весов» очень полезная вещь, а философия Спинозы – гениальная вещь: только они нигде не встречаются друг с другом, как не встречается нигде химия Менделеева с художественным творчеством; помню даже: в моей душе они встретились – во времени: я держал экзамен и писал «Симфонию»[3528]. Что же: отразилась химия Менделеева (я всегда был поклонником Менделеева) на «Симфонии»?
Но Вы скажете: почему же Вы склонны сливать символизм с оккультизмом? На это просто ответить: не изм с измом сливаю я, а утверждаю, что факты переживаний оккультных и эстетических настолько встречались в моем творчестве искони, что самая форма «симфоний» была лишь попыткою найти форму для этой фактической встречи… Примеры: помните мое описание пирамид и Сфинкса (на лекции)[3529]; Вам оно понравилось; оно столь же искусство, сколь протокольная запись того, что испытываешь после первого месяца добросовестной работы Доктору. Так что, если я не художник, тогда напрасно «Сирин» хочет издавать мои не чисто художественные произведения («Голубя», «стихи», «симфонии»); а если «Сирин» находит, что упомянутые произведения суть художественные, то… пусть издает, но –: очень жаль, что «Сирину» не ясно, что в тот день, когда то, что порождает во мне стихи или «худ<ожественную> прозу», я осознаю, как момент чистого эстетизма в своей душе, я перестану и вовсе быть художником. Так что, или я до встречи со Штейнером был «антропософом», и ни то, ни другое…
Когда же я говорю, в какой мере имагинация относится к инспирации[3530]; инспирация к символике, символизму, то это теоретические вопросы о «измах»; и если мне допускалось писать об разных «измах», «вундтизме»[3531], «нео-фихтеанизме», «психологизме» в отношении к символизму, то почему же уяснение символизма к имагинатив-изму (вот так слово!) и инспиративизму есть ересь. В не штейнеристских кругах борются за свободу выявления личности; почему же дух подлинной свободы отсутствует там? Здесь у Доктора я не только не скрываю свой символизм, я даже не стараюсь подчеркнуть, что я символист, до такой степени было бы смешно отстаивать около Доктора свое, ибо присутствие своего, творческого, индивидуального есть высшая радость Доктора: как он силится вдохнуть дух самостоятельности во всем. (Я мог бы написать статью по поводу всего того, что Доктор говорил о символизме; например: на одной лекции «символизм» под рубрикой «внутреннего чувства» доктор приветствовал, как рудимент культуры «manas’a»[3532] (культуры грядущего) в нашу эпоху Bewustseinseele[3533]; Доктор долго говорил о том, что такое «голубые звуки», «цветной слух»; что было бы это с точки зрения философии Самкьи[3534]; и что означает рост этого в наши дни: Эллис после этой лекции говорил справедливо, что Рембо, Верлэн в своем «новом» просто какие-то академисты, а что Доктор «папа декадентов 6-го Zeitraum’a[3535]». И опять-таки: то, что я таскаю к Доктору, конечно, не показал бы Рачинскому, ибо он бы меня совершенно изничтожил, сказал бы: «безумие». А вот сухой Доктор Штейнер иначе. Ему скажешь самое дерзновеннейшее. Он и глазом не моргнет, улыбнется да и ответит так, что рот откроется от изумления).
Вот этого духа свободы я не вижу почти нигде. Успокойте «Сирина» относительно моего «штейнеризма»: «штейнеризм» окрыляет меня вернуться к статьям à la «Маски», «Окно в будущее»[3536], столь любезным для «Скорпиона» и столь шокировавшим представителей «-измов». Боюсь, как бы представитель какого-либо из «-измов», доктор Лейпцигского Университета[3537], не стал бы прибирать в ежевые рукавицы «вунд<т>изма» или «кантианизма» (почем я знаю) мою лирику, как прибирают в ежевые рукавицы школьной схоластики молодые поборники «целокупности и алогичности» творчества – Ф. А. Степпун и К°.
Простите, милый, этот желчный тон (только теоретически желчный: пишу же благодушно). Я ровно ничего не понимаю, когда мне говорят, что «я штейнерист», что я изменился: в чем? Да, я подписываюсь подо всем символизмом и под всеми арабесками. Что я допускаю лично терминологию Geheimwissenschaft[3538]; это есть полезная и в некоторых отношениях удобная номенклатура. Чтобы раз навсегда между нами было понятно, что я ни штейнерист, ни риккертианист, Бога ради прочтите мою «Эмблематику Смысла» и рассмотрите пирамиду[3539]; риккертианство для меня есть формула перехода, диалектическая стадия той тропинки, которая ведет к символизму; раз эта стадия искания «чистого смысла» изжита, преодолена, то ей я советую замолчать; и как змее, укусить себя за хвост; то, что сказано афористически в «Круговом движении», в терминах теоретических и «с отданием должного» совершается в «Эмблематике Смысла». В одном случае я говорю просто и выразительно «неокантианству»: «На Ваганьково!»[3540] А в другом случае говорю: «Так сказать, с позволения себя теоретически отрицающей, как теория, теории, воздав должное, похороним ее» (Эмблематика смысла).
Нужно быть тупоголовым Степпуном, чтобы хвалить меня за «Символизм» (как в рецензии «Логоса»[3541]) и кричать теперь: «Вы меняете свое философское credo» (посылаю ответ Степпуну[3542]: не взыщите за резкость → вспомните: скандал в Кружке у меня был за то же: Тищенко сказал: «Декаденты выскочки и позеры»[3543]. Степпун en toutes lettres[3544] написал: «Вы – на авансцене своей личности»[3545]. Единственная разница: Тищенко кричал и кидался на меня, а Степпун пишет «Дорогой Борис Николаевич»[3546].
Но суть – та же.
В многообразных лекциях и еще более в ответах на положенные записки Доктор выказал себя для меня кроме всего (это все другое и есть 999/1000 его значения) еще и человеком громаднейшей образованности; он специалист математик; и в частностях, ответах на вопросы, встает еще и изумительная полемическая ловкость; ну так вот: во всех этих лекциях и ответах одно и то же: «Geheimwissenschaft» есть не рационалистическая теория, не философия, не дурная метафизика, а Wissenschaft, т. е. наука опытная; и надо начинать ее, слагая все рационалистическое, только рационалистическое; путаница получается, когда ученый, отвлекаясь от своего опыта, не желает признать объект Geheimwissenschaft и вламывается с чуждой методологией в эту область или начинает отвлеченно рационалистическим способом (от «-изма») критиковать; Доктор пытается доказать (как я пытался в свое время доказывать относительно эстетики), что точность метода тут вовсе не в том, что из механики, скажем, перетаскивается метод в Geheimwissenschaft; точность метода характеризуется именно sui generis методом; а Доктора обвиняют в монизме (в Геккелианском смысле); часто доктор берет модель из химии (скажем) и показывает, что аналогичное нечто бывает в оккультизме; но все естественно-научные экскурсы суть аналогии, эмблемы; нигде не синтезирует он методов естествознания с методами оккультизма, ибо так поступать значит, по его словам, дурно смешивать; но соответствия всюду есть; correspondаnce[3547] Доктора смешивают с объединением естествознания и тайнознания. Но возможность «Эмблематику смысла» изложить в терминах риккертианской философии – это мое утверждение наивно смешивают с моим якобы риккертианством и потом утверждают: он де извращает Риккерта, когда я беру Риккерта и говорю: если влагать в субъект познания смысл метафизический, то получится не Риккерт, а Платон; а наивный мозг Степпуна и Терещенки (мозг школьников, а не самостоятельных мыслителей) превращают мое сознательное переведение Риккерта в иную тональность мысли (из гносеолог<ической> к метафизической), переведение, мне нужное, в буквальное и ошибочное понимание Риккерта: но повторяю – пусть Степпун и Яковенко раскроют страницы «Эмблематики», где я не эмблематизирую Риккерта, а беру его таковым, каковым он является в «Gegenstand der Erkentniss»[3548], и пусть они скажут: соглашаюсь я с ним или нет. Право же мое переносить эмблематически из «∆» в «∆» (смотрите мою пирамиду) дисциплины, т. е. право конструировать по тени предмет, по архитектуре музыку и обратно – это право мое есть Grundpunkt[3549] всей системы, встающей из всех моих статей и примечаний «Символизма». Можно, конечно, говорить всякую неправду (вроде Степпуна), но надо эту правду или неправду вещественно (по пунктам и цитатам) доказывать, а не бросать недоказуемое, припахивающее передержкой: «Борис Николаевич, вы – лирик». Я все только слышу, что я наделал какие-то колоссальные погрешности в «Символизме». Пусть мне это докажут, где и какие; и докажут «логически, гносеологически», а не лирично, не экивоком, не голословным утверждением. Если я сделал ошибки, я, как философ, стремящийся к истине, скажу: «Да, построение ложно: и вот почему». Но в разговорах я слышу ничего не говорящие комплименты, или молчание, или откровенную зевоту, или шепот за спиной («не философ»); в спорах же со Степпуном я утверждаю: Степпун мне только сдавал позиции.
«Гносеология им гарантирует ценность в жизни не прежде, нежели они умертвят жизнь; рассказ о трудности их положения, однако, не мешает им сохранять веселье; остается думать: или трагедия познания фиктивна и познание не слишком стоит за свой примат; или же заигрыванье с жизнью – опасное заигрыванье… Молчание –…выход для гносеолога, желающего остаться вполне последовательным; другой выход – шутка над своим нелепым положением в этом мире психологизма»[3550]. (Инкриминируемая мне «Эмблематика Смысла», в которой я де был риккертианцем, и от которой де отказался… Стр. 142).
Эта фраза – вывод одного долгого спора со Степпуном, причем Степпун окончил спор признанием «трагизма своего положения»… В трагизм положения Степпуна тогда я верил; теперь вижу, что, хотя положение их трагично («желто-пергаментные руки» Яковенко), но Степпун тут не причем: просто Степпун – Хлестаков от философии; «трагизм положения» – «поза у авансцены своей личности». Уличить бедного идиота-поэта (дешевый способ уличать философски афоризмы), став на сцене философии.
Но мне это не нравится: Хлестаковых нужно драть за уши; но с Хлестаковыми спорить нельзя.
Я утверждаю: Степпун или идиот, или Степпун не читал «Эмблематики Смысла», или Степпун шарлатан, в мутной воде (попользоваться насчет недоказательности афоризма) ловящий рыбу (свою философскую «значимость»). Чего Доктор – лейпцигский доктор Терещенко, я не знаю; и пока лейпцигский доктор не внесет «ценного вклада в науку» или не даст гносеологического разбора всей моей концепции – голословные утверждения его о моем извращении Риккерта мне доказывают одно: он не читал «Эмблематики Смысла»; а если читал, то ничего не понял.
Прилагаемая статья[3551] есть, конечно, не ответ Степпуну, а уличение в фактическом незнании моих произведений, в обидном возмутительном утверждении меня как шута горохового, ежегодно меняющего убеждения[3552]. Пока Степпун не даст объяснения, что значит эта фраза, я ни в какую полемику со Степпуном не вступлю; но ежели пожелают разбирать несостоятельность моего символизма «Эмблематики Смысла», то я готов и логически, и гносеологически спорить[3553]. Выбираю судьями спора Вас, защищающего меня перед лейпцигским доктором, и оного доктора, пока что не внесшего «ценного вклада в науку», впрочем очень милого (он мне очень понравился, Терещенко).
Я пишу так категорически и долго о вещах для меня пред-пред-пред-последних (Вы пишете о затруднениях «Сирина» по поводу моих двух -измов риккертианизма и штейнеризма: ни того, ни другого – нет!); правда, есть христосизм, христология, учителизм, благоговениизм и прочие страшилищи, увы: благоговениизмом личным к Доктору (не к Штейнеру) я отличаюсь, благоговениизмом страдаю к соловьизму (не к соловьизму теоретическому, а к соловьизму трехразговоризмическому[3554]), ницшеанизму и христианизму, ибо считаю втайне себя учеником Ницше, Соловьева, Доктора и исповедую Христа распятого, погребенного, воскресшего; не будет ли мой трехразговоризм с христианисизмом тоже большим идеологическим препятствием к тому, чтобы где бы то ни было свободно высказываться; соловьизм, учителизм, ницшеанизм, символизм (как предпоследнее этого моего последнего), всем этим я страдал, страдаю, буду страдать. Статьи с 1903 – до 1912 года мои грешат этим. Прочтите мою литературную статью о Гоголе (страницы о том, где я имею несчастие говорить об Алайе, душе мира[3555]), ведь тогда все эти места моих статей считались центральными местами для меня; теперь: как же рассматривать их; как досадные «теософские» или «антропософские» догматичности? Как посмотрит лейпцигский доктор Терещенко и фрейбургский доктор Степпун[3556] (со страниц «Трудов и Дней») на мою катастрофоантропософическую статью «Апокалипсис русской поэзии» 1905 года[3557]. Под какую рубрику измен она подпадет (она выражает собою идею Соловьева о воплощении Софии и идею доктора Штейнера о воплощении этой соловьевской Софии в человека, чего зарей есть вечное антропософии; если бы лейпцигский и фрейбургский Докторы прослушали лекцию Доктора Штейнера на Generalversammlung[3558] о Софии, милой Софии, фило-софии и о возвратном приближении Софии и встрече ее антропософическим движением, то оба названных Доктора сказали бы: «Андрей Белый пишет под чужой указкой; лейпцигский Доктор исключил бы «Апок<алипсис> русской поэзии» из списка моих собр<анных> сочинений. А фрейбургский Доктор Степпун написал бы в «Трудах и Днях»: «Берегитесь! Вы говорите с чужого голоса…»
Увы, я должен сознаться, что Christus-Impuls зарисован мной в статье «Священные Цвета»[3559], о русской душе (лекция для русских в Гельсингфорсе[3560]) у меня сказано в «Луге Зеленом», о праве эмблематизировать в терминах естествознания тайное искусств в статье «Принцип формы в эстетике»[3561] и т. д. – словом, чужой голос, голос из суфлерской будки, голос д<окто>ра Штейнера преследует мои статьи с 1903 до 1912 года. Сказать бóльшего в духе Доктора я, конечно, не скажу (надо только уметь читать меня не импрессионистически, а сериознее и реальнее, а Доктора не схематологически только, и тогда встанет явное: либо д<окто>р Штейнер у меня плагиировал, либо я у него; но д<октор> Штейнер не мог читать меня, я не мог знать его интимных циклов. Увы, что тут мне делать. С 1903 года я «антропософ», ибо я соловьевист-трехразговорист, либо антропософия не антропософия.
А что такое «штейнеризм», – милый друг: убейте, не знаю.
Но Вы спросите меня: «Неужели антропософия есть открытие в человеке Софии, сказки, королевны, Прекр<асной> Дамы, – „старого и нового во все времена“?..»[3562]
Да: таким лейт-мотивом Доктор открыл антропософическое общество на другой день после крутых слов по адресу теософического о<бще>ства и выхода из оного германской фракции[3563].
Лейпцигский доктор, может быть, придает значение формуляру и кличке; так скажите ему: «Я не теософ, ибо я в Теос<офском> О<бще>стве не состою» (конечно, я это в шутку).
Но довольно шутить, милый друг: 6 месяцев я слышу голоса: «Пропал, пропал, пропал, погиб, погиб, погиб: под указкой пишет, под указкой; не смей соединять символизма с оккультизмом: штейнеризм, штейнеризм, штейнеризм»… То раздастся голос фрейбургского доктора, то лейпцигского. И поколику я от моего пути никогда не отказывался и этот путь прямо привел меня к антропо-Софии, или к тео-Софии (всегда с большой буквы, ибо слышу «У царицы моей (Софии) семигранный венец, в нем без счету камней дорогих»[3564]), остается мне или говорить: 1) нельзя теоретически только говорить о том, чем зацветает душа (в данном случае что поет сквозь Доктора), либо 2) всегда я был антропософом, а не художником, но этого не видали (не видали, что Орел, сказка, Голуби[3565] и т. д. были реальностями, сложившими мою жизнь, а не «аспектами эстетич <еского> созерцания»); а теперь, когда все вдруг заговорили, что я стал теософом, когда стали выискивать («эге, не проведешь») следы влияния и т. д., мне стало очень трудно не только писать о своих мыслях, но и просто петь (поют в атмосфере доверия, а не контроля). Я, конечно, ввиду нужды в деньгах готов на всякую чистку своих статей, но я утверждаю: раз искать следов моего штейнер-«изма», то эти следы 2/3 того, что я до сей поры написал.
Либо я ничего не понимаю в Докторе Штейнере: но, может быть, я и не понимаю тут ничего, как в свое время не понял Риккерта, Вл. Соловьева, Ницше. Я просто бедный Пьерро из «Балаганчика»[3566].
В таком случае встает вопрос о праве моем и вообще высказываться в печати.
Не упрекайте меня, милый: это все – шарж, но шарж, выросший на почве всей суммы мнений о себе, выслушанных мною за 1912 год.
Вот день и прошел, а я не работал. Буду о делах продолжать на днях.
Б. Бугаев.
Дорогой, милый, простите, продолжаю это письмо на днях, ужас, как устал. И тревожно… Дорогой друг, не сердитесь ли на меня? Не сердитесь: весь пафос моего письма – теоретическое непонимание на теоретическое непонимание меня Степпуном и Терещенко.
РГБ. Ф. 167. Карт. 3. Ед. хр. 7. Почтовый штемпель отправления: Berlin. 17. 2. 13. Штемпель получения: Москва. 7. 2. 13.Ответ на п. 284.
287. Метнер – Белому
Траханеево на Клязьме 7/20 <февраля> 1913.
Дорогой Борис Николаевич! Опять только деловое в ответ на Ваши опасения. Надеюсь, Вы получили мое письмо от 29/I–10/II и от 21/I (из Петербурга), а также 333 р. 33 к. из кассы Мусагета? Наконец, письмо от 18/I?[3567] Если получили, то я не понимаю, чего Вы беспокоитесь? Надо терпеливо ждать окончания сделки с Сирином. Если Вы не надеетесь на благоприятный исход, то ищите себе пока иных источников дохода, уезжайте в Боголюбы, но не требуйте, милый друг, чтобы чужое издательство принимало во внимание Ваши интимные обстоятельства и спешило больше, нежели ему это удобно, с решением столь важного дела, как прием к изданию писателя, у кот<орого> около 20 томов. Вы пишете: «Если с Сирином не выходит, то мы уже упустили драгоценное время получить возможность ехать в Боголюбы и там переждать денежный кризис». Почему упустили и чего Вы можете ждать в Боголюбах, я не понимаю, но знаю лишь одно, что я не советовал Вам оставаться в Берлине и вовсе не обнадеживал Вас, что дело с Терещенко все равно что покончено! Я не скрывал, что предстоит ряд переговоров, что надо ждать: Брюсов по поводу своих сочинений ездил в Петербург раза три. Такие дела не скоро делаются. Я формулировал свои требования. С них я не сойду. Если хотите, уступайте сами – но я слагаю с себя ответственность: я считаю для Андрея Белого неприличным отказываться от издания полного собрания, когда издаются в полном собрании Брюсов и Блок[3568], которые, как теоретики, младенцы по сравнению с Вами.
Разумеется, Мусагет не может продолжать высылать Вам сириновскую предположительную месячную сумму, но я получил от Сирина письмо, где обещают дать ответ не позже половины русского февраля[3569]. Что скажете о Некрасове? Напишите, имел ли Некрасов право отпечатать девять листов романа[3570]. Кстати, Некрасов тоже с нетерпением ждет и грозит выпустить в свет 9 листов романа. Обнимаю.
Ваш Э. Метнер.РГБ. Ф. 167. Карт. 13. Ед. хр. 7. Л. 20–21. Текст – в копировальной книге Э. К. Метнера.Ответ на п. 285.
288. Белый – Метнеру
Заканчиваю длинное письмо, отправленное уже[3571] (перервала его мигрень и усталость). Милый друг, я в отчаянии: я просто потопаю в бумагах и предметах; среди десятков коробочек, ящичков все еще не нашел рецензий о Н<иколае> Карловиче[3572]; и мучусь, куда бы они могли пропасть.
Должен просить извинение и за то, что так медлю со статьей о Н<иколае> К<арловиче>. Напишите: есть ли материал для сборника (музыкального); если есть и сборники набираются, я все бросаю и пишу; если же статья для «Тр<удов> и Дн<ей>», то вот в чем дело: я Терещенке обещал, что в июне вышлю ему окончание романа. Теперь у меня 2½ недели работы над переработкой (коренной написанного); и если я не использую эти 2½ недели для романа, то я страшно свяжу себя. А потому: тогда бы я статью о Ник<олае> Карлов<иче> закончил после Гааги[3573] (в Боголюбах, если Доктор отпустит нас), а сейчас всю энергию направил бы на роман (приходится расплавлять главы на атомистические рудименты написанного и снова сплавлять: работа страшно кропотливая и требующая огромного напряжения → работа головой, чувством, клеем, ножницами + работа переписки; труд и моральный и даже физический, не окончив который не могу продолжать романа; я бы до Гааги это закончил; после Гааги написал статью и потом уже с легким сердцем дописывал бы остаток романа). Итак, не сердитесь за промедление с статьей. Примите во внимание, что на днях Доктор (мы были у него[3574]) нам сказал, что нам можно будет уехать лишь в случае, если эти 3 недели приведут к какому-то результату; что пока он ничего не может сказать, что 7 марта (н. ст.) у нас будет обстоятельный разговор, и по нашему отчету и самочувствию можно будет решить, возможно ли нам ехать в Россию. (Видите, дорогой, с нами дело обстоит серьезно, если Доктор, такой мягкий и уступчивый, пока говорит надвое: очень уж мы под большим давлением: паровоз, развивший скорость, не может без толчка для всего поезда сразу изменить темп езды, а отъезд на весну в Россию есть крутая перемена в темпе, т. е. непременный толчок; и вот тут в зависимости от нашего успеха, неуспеха (я не знаю подлинно, от чего) зависит наша возможность или невозможность уехать. А при ок<культной> работе бывает всяческое; два месяца тому назад у Аси был сильнейший сердечный припадок, длившийся 2 часа; по признакам этого припадка (есть такие признаки) я знал почти наверное, что это с точки зрения физической – ерунда (у Аси сердце здорово), что это неминуемое, чрез что почти каждый должен пройти, но все-таки до решительного подтверждения Доктора, что сердце Аси совершенно здорово, я побаивался бы уехать; а ну как не только это от развития эф<ирного> сердца, а и что-либо чисто физически-болезненное. И многое, многое может быть с нами сейчас такого, что без физической близости Доктора может нас, неопытных, привести просто в ужас; путь, указываемый Доктором, напоминает многоверстную дорогу, которая то – приятное шоссе, то – вся размытая, в колдобинах; дальше – опять шоссе и т. д. Наш отъезд от Доктора или присутствие в значительной степени зависит от того, на каком участке дороги мы в данную минуту едем. Мой немногий опыт мне показал, что тут доверие к Доктору есть единственная гарантия не заплутаться; А. Р. Минцлова много тут путала, на многое не так педантично смотрела; и все с ней бывшее – просто колдобина; коляска подпрыгнула, и А. Р. не усидела в коляске. Поэтому-то так дорого, что Доктор требует анализа, сознания и даже огромного критицизма ко всему нутряному, кажущемуся. Без сухости тут разорвешься.
К вопросу о Терещенко[3575].
На днях подсчитывали приблизительно количество печатных листов моей худож<ественной> прозы и стихов. Вышло около 100 печатных (даже можно считать сто), включая «Петерб<ург>» и «Пут<евые> Заметки» (за которые я очень стою); по 100 рублей за лист = 10 000 р.; теперь: статьи; не считая примечаний к «Символизму» и допуская (увы!) выбор и выкидывание (страниц на 300), получается от 40 до 50 печатных листов; допуская за печатный лист статей ½ гонорара, т. е. 50 рублей, эта приблизительная сумма = 2500 рублей; итого 250 печатных листов дают при 20 томах том в 12 печатных листов, а считая печатный лист в 20 страниц, получаем 20 томов по 250 страниц. Сумма же за это проблематическое собрание сочинений равна 12 500 рублей; 4000 из этого:
1) «Мусагету» – 4000 тысячи <так!>
Морозовой – 1100
Блоку 800
_______
5900
Допустим 6000.
12,500
– 6000
________
6 500
При такой комбинации 6 тысяч рублей мне бы освободились, т. е. 1½ <года> свободной жизни; за 1½ года была бы готова III часть «Трилогии»[3576], т. е. минимум 22 печатных листа, т. е. 2000, а то (если печатать в «Альманахе»[3577]), 4000 тысячи <так!> рублей, т. е. 2, 2½ года вольного существования.
Если же «Сирин» откажется от статей, то и то 4000 могли бы освободиться от худож<ественной> прозы, т. е. год существования. До чего, родной, мне нужно вздохнуть свободно для плодотворности работы, для моих широких проектов, для того, чтобы в ок<культной> работе стать на ноги; и до чего тревога от месяца и до месяца меня изнуряет, накладывает печать утомления и вялости на самую работу, Вы и представить не можете: нет, можете → Вы же чувствуете, знаете сами, как иной раз трудно писать; и чем лучше у Вас выходит работа, тем мука творчества (не словесная, а реальная) острее… Ведь когда Вы пишете что-либо значительное, Вы как больной в постели; Вы во многих жизненных положениях, в жизненной борьбе беспомощнее не творящего, а борящегося с жизнью активно человека; творящий всю силу своей активности сосредоточивает на детище своем, а потому он и открытее внешним ударам, хлопотам. Представьте себе больного, готовящего себе пищу (куриный бульон и т. д.), когда доктор велел ему лежать спокойно в постели; ясное дело: выздоровление (рождение детища) затягивается; болезнь (жар творчества) не разрешается, а затягивается хронически; в результате на всю жизнь человек в лихорадочном состоянии (полубольной, полуздоровый: полутворящий, полуприискивающий себе поденную работу и т. д.). Если Вы это понимаете (а Вы понимаете), Вы поймете, что я с напряженной тревогою (полуповеривши, что с «Сириным» что-то такое устроится) жду результата (до свидания с Терещенко я просто как-то не верил в «Сирин», и все реальные сообщения о нем бессознательно откидывал, говоря себе: «Просто это новая версия с устройством (верней, неустройством) кавказского имения…»[3578] А вот поверил и, поверив, лихорадочно жду: жду своей свободы, или рабства в плену у тревоги, как быть.
Это для меня вопрос: «Быть или не быть предопределенным к творчеству»…
И еще о марте: 1-го марта могу ли от «Сирина» получить 333 рубля; в Гааге быть надо: ведь Доктор всегда читает курс для реального; а такой курс «Влияние ок<культной> работы на физ<ическое>, эф<ирное> и астр<альное> тело» есть курс насущной, житейской необходимости; представьте себе авиатора, который знает, что ему, хоть тресни, придется летать на аэроплане; и вот опытный авиатор открывает курс практических советов для никогда не летавших авиаторов; вопрос в присутствии на этом курсе = вопросу о том, сломаю я себе голову или нет при полете (ведь сознательное путешествие Ich в астрале с точки зрения самосознания в физическом теле есть путешествие человека, доселе ездившего только в поезде, <а не?> на аэроплане; в поезде не заботишься: тебя везет машинист; с аэропланом другое дело: все дело в самообладании «Ich»… А ведь такое путешествие в один прекрасный день наступает для всякого реально идущего; у Доктора много путей: одни идут медленными обходными дорогами, другие только дорогою чистки; иные только путем чистки сознания; иных же при соблюдении общих обязательн<ых> условий Доктор гонит на путь ок<культного> эксперимента; и вот нас с Асей, кажется; ибо еще в Мюнхене я пытался окольным путем разузнать у А. С. Петровского, знает ли он то, что есть «α» экспериментализма; и с совершенной наивностью Алеша выказал полное неведение того, что в реальном есть азбучность; это только показывает мне, что у Доктора (да так и есть) самые друг на друга не похожие пути. И то, что для нас с Асей полно захват<ывающего> трепета и реальности, соседом на лекции понимается отвлеченно-холодно; и обратно: то, что для соседа полно ему изнутри ведомой значимостью, мы можем воспринять лишь теоретично; все, что Доктор говорит, например, на лекциях в Берлинской ложе, имеет многосмысленное значение: 1) это – лекция, 2) она представляет теоретический интерес, 3) она есть худ<ожественное> произведение, 4) она еще, кроме того, говорится лично для А, для В, для С (в этом месте), для M, N, O в другом, ибо Доктор свою интимную аудиторию знает (каждого знает, его путь, его место в пути в данную минуту и т. д.). Множество раз Доктор лично нам отвечал с кафедры на те события странные, которые случались как раз в это время с нами; и каждому ученику он часто так отвечает, отвечает иногда и потому, что видит в данную минуту все изменения в ауре присутствующих, т. е. читает, как в открытой книге все достижения или падения сегодняшней недели у ученика. Важны не только свидания с Доктором, важно вообще присутствие при нем; сó-бытиé в одной комнате есть всегда для ученика собы́тие между ним и Доктором. Итак: гаагский курс предпринят Доктором для той серии, к которой мы с Асей уже реально принадлежим; и потому мы знаем: там нас ждут ответы на лично наше, и ответы пространные, которые не получишь на свидании, где центр тяжести уже в другом…
Видите, как я волнуюсь из-за 1-го марта; ведь в первом случае нас ждет + событие, во втором случае – «минус» событие; если 1-го марта (русского) мы денег не получим, мы без курса; если заранее в течение конца февраля не запишемся, не пошлем в Гаагу письмо, то можем оказаться в углу залы (что при напряжении слушания немецкой речи ужасно неудобно).
И т. д.
Видите, какие сложности; как все эти отдельные штрихи в сумме своей составляют сложность нашего бытия у Доктора бóльшую, о которой Вы и не подозреваете в Москве; ибо в Москве в 100 раз теоретичнее и схоластичнее воспринимают, что касается Доктора; и даже – даже самого Доктора называют схоластом; между тем вот пример несхоластичности Доктора: в ушах у меня навязло слышать: «эти графики, рубрики в Geheimwissenschaft[3579] лишены творчества, все это отвлеченно…» И вот: недавно мне читали серию лекций ложи (не выйдущих даже интимным циклом): «Saturn, Sonne, Erde und Mond». Что же: Доктор здесь дает ключ к пониманию соответственной главы «Geheimwissenschaft»[3580]; он говорит, что Сатурн, Солнце, Месяц, Земля лежат в пластах душевного переживания; и, концентрируясь на том-то в душе уголышком духа, действительно перелетаешь на Солнце, Луну, Сатурн. Весь цикл есть сплошная симфония: сызнова из ничего создается мир; прием этого воссоздания: «Архидекадентские», архи-наши с Вами переживания, как первая ступень, на которую приглашает доктор; далее он ведет к тому, чего ни один символист в мире пережить не может (а с Доктором переживаешь); вывод: так вот что было, когда Ἀρχαι[3581] были людьми на Сатурне; и ты реально в эту минуту ангел ἀρχή[3582] сидишь в Сатурне… Но доктору сперва надо, чтобы изучили назубок ноты; оттого и схоластика преподносится сперва; далее Доктор требует: чтобы понять меня, ты сам-ка теперь разбери эту вот партитуру; читанный мне цикл есть не лекция в ложе, а коллективная медитация.
Дорогой друг, чувствую, что никогда не кончу. А надо кончать: Вы простите меня, что я так путаю в этом письме деловое с психологическим, но я все хочу представить Вам серьезность мотивов 1) так или иначе хотя бы на год отдохнуть от тревоги за ближайшее существование, 2) знать заранее, что сложная операция передвижения Гаага – Боголюбы обеспечена. А не напиши я, почему мне важно то-то и то-то, ведь можно сказать: блажь, роскошь; ну зачем ему в голландскую Гаагу, сидел бы в Берлине и т. д. Я убедился, что «психология» все-таки как-никак влияет на дела.
Милый, предупреждаю Вас, что больше не буду писать о 1-ом марте и т. д., ибо знаю, что в нескольких письмах все это и высказал, и мотивировал; и теперь, что бы ни было, засяду работать; и уже не буду писать, объяснять. Ибо иначе опять сорвется работа; итак: я сказал, а там уже воля «богов», как выйдет. Милый, еще раз простите за докучливое, привязчивое письмо.
Два слова об ответе Степпуну[3583]. Если найдете резкости, вычеркните; одно прошу: «цитаты» все из «Символизма» и «Арабесок» сохраните[3584]; я мог бы привести в 4 раза больше цитат: и привел минимум; мне надо, чтобы читатель «Тр<удов> и Дней» видел, что Степпун лжет, говоря о смене моих убеждений, ибо это действительно так: определения мудрости, антропософии даны у меня в «Символизме», где сказано, что отношение Христа к Софии отражается в искусстве, как отношение Аполлона к Музе, а антропософический характер Музы явствует из моей статьи «Апокалипсис в русской поэзии» (прочтите ее внимательно теперь и Вы удивитесь, сколь она в духе сегодняшних наших прей (ей Богу, напиши я ее сейчас, и все принялись бы меня упрекать в измене позиции, а она написана в 1905 году…)
Дорогой друг, если я резок в ответе, то резкость моя от действительно несправедливого вменения мне какой-то несамостоятельности. Несправедливость эта естественная; и она от двоякого рода заблуждений. 1) Все забыли, что я вообще писал, ибо никто меня не перечитывал (читали на протяжении 10 лет мои разрозненные статьи, и содержание их естественно забывалось; в собрании моих статей отдельные штрихи соединились в внушительную картину того, что есть мое главное и что побочное; Степпун если не читал моих статей, то не имел нравств<енного> права писать о заведомо ему неизвестном; а если читал, то он – л-г-у-н; а на л-о-ж-ь отвечают не полемикой, а приведением к истине. 2) Все составили себе фигуру какой-то нереальной сухой, педантичной, рационалистической «Geheimwissenschaft» и столь же мертвую фигуру Geheimwissenschaftler’a[3585], Штейнера. От этого даже нет догадливости сопоставить образную лирику А. Белого 1903 года с интимными курсами «немецкого Geheimwissenschaftler’a»; если бы сопоставили, то и поняли бы, что не ми-ро-воз-зре-ни-е, не ми-ро-о-щу-щение, не устремле-ние мое изменилось, а личное отношение мое изменилось к личности Доктора. Так: я могу любить или не любить Брюсова, и изменение моей любви или не любви не изменяет ни капли моего отношения к русскому символизму, который я извне в 1904–5 году пытался обосновывать психологически, а в 1906–1912 гносеологически; это не значит, что, меняя подход к символизму, я менял отношение к нему; и личное мое отношение к Доктору никого не должно касаться в печати; если оно инспирирует слова, печатно ко мне обращенные («берегитесь, берегитесь»[3586]), то для меня оно есть столь же неприличный поступок, сколь было бы неприличным перенесение нашей осенней переписки на столбцы «Тр<удов> и Дней». Последнее письмо Степпуна (в «Тр<удах> и Днях») мне показало, что душевно он «хам». С чем и буду считаться уже во всех последующих сношениях со Степпуном.
Впрочем, я нисколько на Степпуна не сержусь; он меня вовсе и не думал обидеть; более того: он думал, что заступается за Гессена (Гессена же я [3587], а если вышел Гессен, то… так же, как Дарьяльский превратился непроизвольно в Сережу, сказка в Марг<ариту> Кирилловну, куст в Блока, Катя в Асю и т. д.[3588] И подобно тому, как в Кате лишь внешнее сходство с Асей, так и в философутике с мне приятным Гессененком лишь случайное совпадение (уверяю Вас). И если бы обойти все это молчанием и поверить мне, что я не пасквилянт, то «философутик» прошел бы незамеченно; но воздух Москвы любит сенсацию, сплетни, скандалы: и первый, кто заметил сходство (Гр<игорий> Алекс<еевич>, или даже Вит<ольд> Фр<анцевич>[3589]), конечно, счел нужным обежать всех и рассказать; ну и пошло, и пошло; и уже всем стало ясно, что я сознательно захотел оскорбить ни в чем не повинного человека; и уже на другой день Кожебаткин рассказывал в «Праге»[3590] и т. д.
Но допустим: невинного, милого Гессена я действительно оскорбил; но ведь Гессен является, как коллективно-составленный неокантианец; и формально никто не смеет мне тут ничего вменять; формального оскорбления не было (не было и реального, ибо я не думал о Гессене и теперь страшно смущен). А ведь Степпун 1) явно за кого-то заступившись, вместо того, чтоб замять мою оплошность, раздул все[3591], 2) он лично мне нанес оскорбление (авансцена личности[3592]).
И в этой защите, и в тоне его развязности, кучерской разухабистости (он думал, что он афористичен) сказалась его натура: «хам-ство», сказался «Сергей Кречетов» на эстраде Кружка[3593]. На хамство не обижаются, но от хамства отстраняются, уходят в другую плоскость: то, что я не желаю полемизировать, а отвечаю цитатами, есть именно мой жест отстранения. А потому, дорогой друг, смягчите, если что найдете резким в тексте (но не в цитатах из «Арабес<ок>» и «Символизма»). Цитаты должны быть неприкосновенны.
Ну Христос с Вами, дорогой, родной друг: когда-то увидимся. Приезжали бы в Гаагу на интимный курс. Можно бы устроить так, что пустят помимо всякого вступления в члены; а Вам надо видеть и слышать Д<окто>ра на интимном курсе, т. е. прожить 10 дней в этой нарастающей атмосфере. Крепко обнимаю Вас.
Борис Бугаев.
Привет всем Вашим.
РГБ. Ф. 167. Карт. 3. Ед. хр. 8.
289. Метнер – Белому
Москва 11/24–II–913.
Ваши толстенные письма получил и еще не прочел; высмотрел в них лишь, пока что, имеющее насущный интерес дня. Спешу ответить. Я потому не хочу сам уступать Сирину, что, боюсь, Вы впоследствии станете говорить (и, м<ожет> б<ыть>, не без основания), будто я «Вас» продал слишком дешево и легкомысленно допустил собрание одних худож<ественных> произведений. Но если Вы даете слово мне, что ни сами не станете впоследствии меня упрекать, ни позволите этого другим, то я, конечно, возьму на себя дальнейшие переговоры. Скорее присылайте те части рукописи романа, которые у Вас имеются, ибо Некрасов уперся и не выдает рукописи, чем задерживает заседания Сирина, на кот<орых> должен быть прочитан Ваш роман. Кроме того, Некрасов грозит в случае проволочки выпустить в свет отпечатанные 9 листов. А это Вам будет неприятно, т<ак> к<ак> Вы началом романа были недовольны и его переделали[3594]. Бросьте искать мои записки и статью Сабанеева; все равно из музык<альных> сборников, вследствие лени и бездарности музык<альных> критиков, ничего не вышло, и я бросил эту идею и буду печатать случайно собравшийся материал в Тр<удах> и Дн<ях> (см., напр<имер>, статью Шагинян о Рахманинове[3595]). – Не терзайте себя поэтому необходимостью или даже срочностью написания статьи о Коле[3596]. – Степпун крайне смущен Вашим личным письмом; письмо открытое он принял спокойно. – Я думаю, что что-н<ибудь> из Сирина да выйдет. – Роман должен быть напечатан в Сборниках по 200 р. с листа[3597]. Но на всякий случай имейте в виду, что теперь уже выяснились крайне стесненные финансовые обстоятельства Мусагета, и дальнейший аванс никому абсолютно не мыслим. Логос более не издается (в 1913 г.) на средства Мусагета[3598]. Все идейное Ваших писем ждет меня, когда явится досуг. Пока нечто отчаянное со мной происходит в смысле загнанности всяческими делами, что в связи с бессонницей совершенно опустошило меня. Обнимаю. Ваш Э. Метнер.
РГБ. Ф. 167. Карт. 13. Ед. хр. 7. Л. 22–23. Текст – в копировальной книге Э. К. Метнера.Ответ на п. 286 и 288.
290. Белый – Метнеру
Спасибо Вам за письмо. Отвечаю лишь сухо и деловитым образом (лично напишу скоро).
Спасибо Вам.
Я ведь вовсе не хочу, чтобы с Терещенкой было скоро все решено. Для меня вопрос другой.
Вы напрасно думаете, что мы сидим в Берлине по своей охоте. Тут всё большие сложности.
На основании двух больших моих писем[3599] Вы знаете 1) без разрешения Доктора в Боголюбы мы не поедем.
2) Доктор пока что сказал надвое. Ранее 8 марта мы не узнаем, можем ли мы уехать.
3) Курс в Гааге[3600] очень, очень важный.
4) Пока надежда на «Сирин» не потеряна, мы не можем, нарушая все, стремительно броситься в Боголюбы (быть может, вопреки желанию Доктора).
Голландия, свидание с Доктором не глупости.
Из всего же этого вытекает: чтобы попасть в Гаагу и из Гааги в Боголюбы, нам нужно минимум 250 рублей 1-го марта.
Попав в Боголюбы после 1-го марта, мы можем спокойно с малою суммою денег ждать 3 месяца переговоров[3601]. Деньги нам нужны лишь к первому (русскому) марту.
Денег этих мы ниоткуда не можем достать, кроме «Сирина» или «Мусагета». Из «Мусагета» просить, Вы сами знаете, как мне стыдно: но если бы «Мусагет» мог прислать 250 рублей 1-го марта, все для нас было бы и спокойно, и ясно; с переговорами я не торопился бы.
Стыдясь еще просить помощи из Мусагета естественно: я и предлагал уступить «Сирину». Но если бы «Мусагет» мог прислать нам к 1-ому русскому марту 250 рублей, то для нас надолго ряд очень сложных насущных проблем бы решился.
Если «Мусагет» прислать не может, то я очень бы просил уведомить меня уже к 8-му здешнему марту, ибо тогда мы бы сказали Доктору, что не едем в Голландию (увы, для нас это очень важно); и отправились бы в Боголюбы. Я прошу не ежемесячной субсидии, а лишь на март, ибо, повторяю, после у нас 3 месяца где мы можем спокойно ждать…
Итак, можем ли мы рассчитывать на 250 рублей 1-го русского марта?
В этом весь и вопрос; нужно, чтобы мы знали это немедленно, теперь же (ибо все это мы Доктору должны сказать 7-го–8 марта нового стиля. После этих чисел нет надежды увидеть Доктора здесь; после этих чисел с ним можно встретиться лишь в Голландии. Вот корень моего беспокойства). Обнимаю Вас крепко. Борис Бугаев. Жду ответа.
P. S. Поймите, дорогой друг, что не в нетерпении моем сейчас суть, а в 1-ом марте. Ввиду очень, очень больших сложностей мы должны знать точно и теперь же. Можем ли мы надеяться на 250 рублей первого марта. Все остальные мои беспокойства суть вообще беспокойства; а вопрос о 1-ом марте есть вопрос кровный. И мы должны знать точно, едем ли в Голландию для соответственного заявления Доктору на свидании, которое у нас будет 7–8 марта нового стиля. Желательно до этих чисел получить Ваш ответ.
РГБ. Ф. 167. Карт. 3. Ед. хр. 9. Датируется по почтовому штемпелю отправления: Berlin. 24. 2. 13. Штемпель получения: Москва. 14. 2. 13.Ответ на п. 287.
291. Белый – Метнеру
В предыдущем письме Вы писали: «Ну чего Вы волнуетесь»…[3602]
А в сегодняшнем письме пишете: 1) «Сирин» требует всю рукопись, 2) Некрасов не дает и грозится, 3) выяснились… обстоятельства «Мусагета» и дальнейший аванс никому абсолютно не мыслим.
В предыдущем письме Вы писали: «Ну чего Вы волнуетесь…»
А я волновался ужасно – и писал ровно месяц тому назад о первом феврале и первом марте (могу ли я рассчитывать получить деньги)[3603]. Я писал о Гааге и 1-ом марте 1) в письме, которое разошлось с Вами, когда Вы уехали в Петербург, 2) в первом (большом письме), 3) во втором большом письме, 4) в небольшом (не заказном письме)[3604].
Во всех этих письмах я выяснял необходимость 1) знать о том, могу ли я 1-го марта получить деньги, 2) могу ли об этом я знать заранее, 3) о том, чтобы Вы решительно сказали «на 1-ое марта не рассчитывайте» или «рассчитывайте». Многие подробные «психологические» страницы моих писем к Вам, дорогой друг, были лишь мотивацией, почему это так ввиду сложности нашего положения у Доктора.
Вы мне отвечали «чего Вы беспокоитесь». А я, зная необходимость заранее знать все о марте уже в конце февраля (н. ст.), все писал об одном и том же.
И вот, кажется, я получил ответ, ибо вычитываю Вашу фразу «аванс никому абсолютно не мыслим» и вместе с тем другую, что с «Сирином» (значит сейчас – ничего) что-нибудь (может, а не выходит) выйти. Вот потому то, что 1 месяц тому назад вопреки благополучной атмосфере всех доходящих до меня сведений о «Сирине» мое беспокойство о 1-ом марте имело же смысл; я в пяти письмах добивался только заранее знать одну фразу «1-го марта выслать не можем», или «1-го марта выслать можем»; и на все вопросы, все пространные мотивации («психологические») я этого решительного «да», «нет» не получил, а мотивации, вероятно, Вы не имели времени прочесть.
Наоборот: в предпоследнем письме Вы писали: «Чего Вы беспокоитесь». (Еще бы не беспокоиться, ведь тут для меня вопросы, мало сказать, долга или необходимости: вопросы здоровья). А следующее письмо звучит на прямо поставленный вопрос «да» или «нет» ответом непрямым «нет». У Вас в письме сказано не следующее: «1-го марта Вы на „Сирин“ не надейтесь, а „Мусагет“ на март не вышлет». У Вас сказано следующее: «дальнейший аванс никому (отчего не прямо Вам и 1-го марта) абсолютно не мыслим».
Зачем неопределенно в 3-ьем лице и в последнюю минуту «нет», когда в пяти письмах кряду я пишу в совершенной тревоге: «Да или нет?»…
Как это важно, почему именно я выясняю подробно (мотивирую), но, вероятно… Вам не было времени прочесть.
Далее: я только и получал оптимистические письма о «Сирине», продаже собрания сочинений, и долго, долго не верил… Наконец поверил… Вспомните: 3 месяца тому назад я писал просто: «через 2 месяца я без гроша, достать неоткуда: ну – брошу литературу»…[3605] Это звучало с-е-р-ь-е-з-н-о.
Вы знали, что достать мне н-е-о-т-к-у-д-а на март вне «Сирина». И все же Вы писали еще недавно: «Чего Вы беспокоитесь?» (Да я мало беспокоился: я думал, имей я серьезные основания беспокоиться, я был бы вовремя предупрежден).
Сроки, планы, соображения, очень сложные комбинации, почти необходимость – все влекло меня в Гаагу, и уже я почти так сообразовался: теперь все бросаю и по телеграмме Блока бросаюсь в бегство в деревню[3606]. Хорошо еще, что заручился свиданием с Доктором[3607] (кстати: он еще не знает, можем ли мы без вреда для себя уехать); а то: мы могли бы на болезнь и гибель себе быть вынужденными бежать в деревню без необходимейшего свидания.
И все оттого, что на ряд вопросов о 1-ом марте я не получал категорических ни «да», ни «нет» (не получил и теперь: получил неопределенное нет; но слава Богу, что хоть вóвремя получил: получи бы его через 6 дней, и мы оказались бы в ловушке: в необходимости без Доктора (Доктор уехал бы) бежать в деревню с медитациями, которые без Доктора, вдали от него немыслимы. (Извиняюсь, что удручаю опять Вас подробностями «психологическими», дорогой друг: Вам нет времени их прочесть.)[3608]
Теперь о романе. Вы пишете, чтобы я тотчас выслал «Сирину» всю рукопись. Увы: 2 месяца тому назад я писал Вам подробную опись романа[3609], где было сказано (как и Блоку[3610]), что копий с 4-ой и 5-ой главы у меня нет, а, следовательно, есть только некрасовская рукопись. Стало быть, если Некрасов не даст рукописи (т. е. этих именно глав), я в руках у Некрасова; если «Сирин» на основании 3-х глав, которые вышлю ему[3611] (кстати: у меня нет адреса «Сирина» (никто не сообщил)) – не решится принять моего романа, то я ни-че-го не мо-гу по-де-лать. О главах (единственном списке рукописи) писал уже Вам прежде, писал и Блоку; но, конечно, Вы этой мелочи не могли помнить.
О собрании сочинений или полном собр<ании> сочинений – не знаю ни-че-го.
Стало быть, все только – в отдаленном будущем, т. е. романа не кончу.
Вся надежда была на собр<ание> сочинений (как прежде на продажу имения – еще прежде: на журнал «Пет<ербургский> Вестник», еще прежде – на «Русскую Мысль»[3612] и т. д.). И впредь будет то же[3613].
Уезжая от Доктора, который для меня – всё (отец, путь, надежда, за которого все отдам, от всего откажусь, ибо не могу уже, не хочу вернуться на пыльные стези) – уезжая от Доктора, я ни на что не рассчитывал и, вероятно (с «Сирином», конечно, все лопнет – без сомнения), надолго я лишаюсь его, но – я знаю одно: я в Москву не вернусь никогда, если я не вернусь к Доктору: в Москву, Петербург, в пыль и копоть болтовни, сплетен и всего этого ужаса – степпуненья и пыленья словами – не вернусь, пока не пройду школу у Доктора, которого вырывают у меня обстоятельства. Работать по стрекам у жидков тоже не стану: буду пасти свиней, поселюсь в курной избе, а <в> Москву, Петербург, города, цивилизацию и «культуру» я не вернусь: это у нас с Асей давно решено.
Но простите: опять я распространяюсь.
Я хотел только уведомить Вас, что требуемой рукописи у меня нет, «Сирину» не навязываюсь, а неопределенное «Мусагет выслать аванса не может» понимаю совершенно определенно: «1-го марта денег не будет». Если бы знал это точно за 2 недели, теперь бы уже сидел в Боголюбах, ибо упросил бы Доктора 2 недели тому назад (он – уезжал) разрешить нас к отъезду.
Обнимаю Вас, дорогой друг.
Борис Бугаев.
P. S. Мой привет Николаю Карловичу и Анне Михайловне[3614]. Ася приветствует Вас. О перемене адреса своевременно извещу: пока адрес старый; если уедем, будут пересылать по новому адресу.
РГБ. Ф. 167. Карт. 3. Ед. хр. 10. Датируется по почтовому штемпелю отправления: Berlin. 1. 3. 13.Ответ на п. 289.
292. Метнер – Белому
Траханеево на Клязьме 17/II–2/III 913.
Только что получил Ваши два письма, коротких, но полных беспокойства (весьма понятного). Некрасов получил все 17 или больше листов. Издать он хочет первые 9, рассматривая их совершенно произвольно как I часть романа[3615]. Утаивать рукописи он не собирается, но не выдает ее, пока не получит деньги, а Сирин требует сначала рукопись, а потом только собирается расплачиваться. Чтобы покончить эти споры, я написал решительное письмо Терещенке, но тот выехал за границу на несколько дней и неизвестно куда; по возвращении (оно, вероятно, уже состоялось) я получу ответ[3616].
На второе Ваше письмо о 250 р. ответить не так-то легко. Мусагет в нынешнем году имеет еще меньшую субсидию, нежели в прошлом, между тем отпадает только одна книжка Логоса, ибо в прошлом году вышла только одна (в 1913 г.[3617] Логоса мы не издаем больше). Мусагет близок к банкроту, ибо урегулировать денежные дела в один темп с печатанием неожиданно готовых и давно заказанных рукописей страшно трудно. Дорогá каждая копейка… Что делать, решительно не знаю. Хочется Вас выручить, но боюсь посадить Мусагет окончательно на мель. Ведь таких авансов не выдавало ни одно издательство. Кроме того, отчет же я должен представить издателям, и новые авансы надо как-нибудь оправдать. Вы скажете: почему не печатали Ваших Заметок[3618]; но Ваш аванс есть сумма, превышающая гонорар за Заметки + расходы по их печатанию. Ну, я перестану хныкать и рассуждать и скажу прямо: если с Сирином еще не выяснится к 1 марта и он не пошлет Вам денег, то, конечно, придется сделать это Мусагету, но я все-таки прошу Вас попытаться занять хотя бы половину (125 р.) у Марг<ариты> Кирилловны[3619] или у Вашей мамы. Лишь в самом крайнем случае и безусловно в последний раз всю сумму 250 р. вышлет Мусагет. Если это мое письмо запоздало – не моя вина: я получаю письма лишь один раз в неделю, когда бываю в городе. На этот раз я их случайно получил здесь и позднее, вследствие сдвига моего посещения Москвы. Отсюда отправить в тот же день не мог. Снежные заносы, и почта на станцию редко ходит. Это письмо отойдет лишь завтра, т<ак> к<ак> Коля[3620] едет в Москву. Кончаю, т<ак> к<ак> поздний час и я страшно устал. Не думайте, что я отказываю или упрекаю Вас, дорогой друг. Лишь крайняя нужда требует от меня этого, чтобы я предложил Вам попытаться занять хотя бы половину у кого-нибудь другого.
Обнимаю Вас.
Привет Асе.
Коля и Анюта[3621] кланяются.
Концерт Коли и в Москве сошел блестяще при почти переполненном зале[3622].
РГБ. Ф. 167. Карт. 13. Ед. хр. 7. Л. 30–32. Текст – в копировальной книге Э. К. Метнера.Ответ на неизвестное нам письмо и на п. 290.
293. Белый – Метнеру
Перечитываю Ваше письмо…[3623] Совершенный кошмар: ничего не понимаю. На 5 умоляющих писем[3624] ответить о первом марте, ибо (как я уже 5 раз писал) эти числа для нас роковые и (как опять-таки Вам это известно) у нас с марта 1) денег ни гроша, 2) мы не знаем, можем ли без осложнений уехать, 3) мы лишаемся огромной важности нас лично касающегося курса – на пять умоляющих писем Вы пишете (в предпоследнем письме) «успокойтесь», а в последнем «Мусагет не может авансировать»[3625] в третьем лице – не то что «Вам не может 1-го марта прислать, ибо и вообще не может»; Вы, дорогой друг, пишете «не может в принципе авансировать».
Если в принципе не может, то и не может мне 1-го марта, это я понимаю, но все-таки это мой личный вывод, ибо прямого ответа на 5 писем, написанных в течение месяца, нет, что произошло с «Сирином», я не знаю. Если с «Сирином» ничего не выходит, тем самым «Мусагету» еще менее оснований мне помочь сейчас, ибо «Мусагету» я остаюсь должен; если же вопрос в месяце, неделях, то – извините, милый (прочтя 5 моих писем внимательно, Вы поймете колоссальную важность категорического ответа о 1-ом марте и прямо измучивающее впечатление ответа неопределенного) – но неужели же «Сирину» нельзя было объяснить, что, ввиду особой важности для меня субсидии к первому марту, он мог бы в счет «Пут<евых> Заметок» (рукопись, по слов<ам> Ахрамовича, уже у Сирина[3626]) прислать. Если б Вы прочли внимательно 5 моих писем, Вы поняли бы, почему еще месяц тому назад (даже, кажется, полтора) поднял вопрос о феврале и марте, но… Вам некогда было прочесть мои письма. И против этого падают мои «внутр<енние> мотивации», ибо они относимы Вами не к вопиюще важному для меня пункту, а к «литературному обсуждению вопросов теоретических».
Тогда скажу: 1) уже 2 недели назад должен был бы я знать, что на 1-ое марта надежд нет, 2) и ответ следовало бы написать, обращаясь ко мне, «Вы (а не вообще x, y, z) не получите 1-го марта» (а не так: «в принципе Мусагет не может авансировать»)…
Ввиду крайности срока, нам уже нет времени ждать от Вас дальнейшего разъяснения, что де да «вообще» надо понимать – «в данном случае», т. е. первое марта. И мы иного и не можем вывести: «1-го марта денег ниоткуда не получим: в Москве это знали и, несмотря на неоднократную почти мольбу предупредить заранее, не предупредили. И в этом смысле бессознательно мы оказались в положении очень тяжелом и сложном (не только финансовом, но, главное, в другом, для нас еще более важном).
Сегодняшнее Ваше письмо заставило пережить очень трудные минуты; все планы, к которым мы полтора месяца готовились, – насмарку. И даже: может быть, вопреки внутр<енней> возможности (ко вреду для себя) уехать (почему это так – подробнейшим образом мотивировано в 5 письмах к Вам, дорогой друг.
Но мы с тяжелым сердцем уедем (сундуки оставим в залог в Берлине на хранении: если судьба не позволит вернуться, что мы не допускаем, пусть лучше пропадут вещи, чем теперь же укоренится мысль, что мы надолго от Доктора).
Мы уедем. Ответ Ваш на это письмо уже, верно, нас не застанет (уезжаем через неделю).
Единственно, о чем сетую, что я еще две недели тому назад не знал уверенно, что это так, а следовательно, предполагал обратное (ведь не мог же я полагать, что первое по важности для меня извещение будет прислано к последнему сроку).
Хорошо: но если я понял превратно и «вообще не может авансировать» не вполне касалось 1-го марта, или, если 15-го марта[3627] «Сирин» уже может кое-что прислать, верьте: это было бы невероятно обидно для нас; и неопределенность сегодняшнего письма для меня и бедненькой Аси оказалось бы издевательством судьбы.
Ибо повторяю: 1-ое марта формулировано мной в виде вопроса давно, а внутренняя важность этого Вам неизвестна (ибо у Вас не было досуга ознакомиться с сод<ержанием> писем).
Милый друг: я вполне понимаю, что это все досадное недоразумение и не сетую, а тихо горюем мы; и в этом письме, дорогой друг, нет упрека и, верьте, нет той естественной нервности, которая сказалась в моих базельских письмах и которая привела к тому, что Вы сообщили мне, что будете не распечатывать впредь мои письма[3628].
Я только подчеркиваю, что еще в декабре 1912 года серьезно сказал, какие сложности будут у меня в феврале 1913 года. И теперь, в марте 1913 года лишь сетую, что я вовремя не был предуведомлен. Обнимаю Вас,
Борис Бугаев.
P. S. Что наш внезапный отъезд наносит нам ущерб непоправимый, это, надеюсь, понятно Вам, ибо Вы поняли некогда психологию Эллиса, когда он, вернувшись из Христиании[3629], превратно понявши Ваши слова, лежал больной 3 дня, а мы трепетали за него во Франции и писали о нем в Россию. Что имело место для Эллиса, то случилось для нас; но для Эллиса все устроилось в свое время, ибо он понял превратно.
Мы же не имеем основания понять превратно Ваши слова, ибо понимаем слова «с Сирином что-нибудь да выйдет» и «Мусагет не может субсидировать» текстуально: первую фразу понимаем так: «С Сирином дело обстоит плохо; в лучшем случае, авось, месяцев через пять что-нибудь да будет»… а вторую фразу понимаем: «1-го марта Мусагет ничего не пришлет».
Мы еще более, нежели Эллис, связаны с Доктором; Эллису было тяжело за себя (он три дня болел); мне тяжело и тревожно вдвойне и за себя, и за Асю (ибо она более меня в schulung’е[3630], и вынужденный отъезд в мрак неизвестности может отразиться на ней).
Оттого-то 3 месяца назад я написал такое тревожное письмо Ахрамовичу (потом и Вам)[3631]; я приходил в ужас заранее от того, что может случиться; и все мотивировал Вам (хотя иное из мотивации, верьте, было мне тяжело писать); но Вы мотивацию отнесли к литературным разговорам; и, вопреки мольбе моей вовремя предупредить, высказались неопределенным «нет» лишь в последнюю минуту.
Судите же: было отчего в декабре писать Ахрамовичу вопиющее письмо.
Я все знал заранее; знал, что чтобы точно все знать заранее, надо отправить за 3 месяца дюжину писем.
Дюжина писем отправлена мною, и на дюжину писем еще недавно Вы писали «не беспокойтесь».
И вопреки «не беспокойтесь», вопреки «дюжине» писем, вопреки за три месяца предуведомления все случилось по самой ужасной формуле.
Расположили деньги, время, планы, работу, ученья, жизнь по одному плану, и когда почти уже ничего нельзя было изменить, пришлось все начать сызнова.
Ну какая же тут возможна работа.
P. P. S. В пятницу – субботу на этой неделе (пишу в воскресенье) мы уезжаем (это ужасно)[3632]: наш адрес: Луцк (Волынской губернии). Лесничему Владимиру Константиновичу Кампиони. Мне. Будем там безвыездно, хотя бы пришлось просидеть года; в Москве не будем. Нам и нельзя с нашим режимом.
ГЛМ. Ф. 7. Оп. 1. Ед. хр. 32. Письмо не было отправлено адресату.Датируется по указанию в тексте дня написания – «воскресенье», – предшествовавшего запланированному на пятницу или субботу (22 или 23 февраля (7 или 8 марта) 1913 г.) отъезду из Берлина в Россию.
294. Белый – Метнеру
Я ужасно извиняюсь, что удручаю Вас сложными, Вам неинтересными деталями моей жизни. Но, дорогой друг, полная моя беспомощность позаботиться о себе из-за границы, а также Ваши письма, столь благородные и трогающие меня о том, что Вы просите меня успокоиться – поймите, только это заставляет меня Вам писать. 3 месяца назад, когда выяснилась моя беспомощность, я написал письмо Ахрамовичу (личное и очень горькое по тону)[3633]; Вы узнали об этом письме и сетовали, что я не к Вам обращался. И вот теперь, когда я было понадеялся на что-то, я и не могу не выдвинуть Вам разные инциденты, вырастающие на почве нашего внезапного отъезда.
Мое сетование. 3 месяца тому назад мне нужно бы сказать: «Да, Ваше положение трудное, но… мы тут не причем»… За три месяца мы могли бы подумать о нашей судьбе.
Но нас успокоили.
Теперь, не получая категорического нет по поводу 1-го марта и основываясь на тоне писем из Москвы, мы построили наш план ехать в Гаагу[3634].
Теперь. Лекции в Гааге начинаются 20 марта. Мы могли бы ехать от 15-го до 19 марта в Гаагу, т. е. март месяц (мы плотим помесячно) мы должны заплатить вперед 130 марок.
Получи мы категорический отказ Мусагета помочь нам мартовской высылкой (на случай, если с «Сирином» еще не закончены переговоры) две недели назад, т. е. 14 февраля, то: 1) мы категорически просили бы Доктора сказать свое «да» на наш отъезд, т. е. теперь мы бы были уже в Боголюбах. Но: мы провели без доктора две пустых недели в ужасном, «отвратительном» Берлине, бесцельно проживаясь (в ожидании свидания 6–8 марта[3635] и далее в ожидании Гааги), ибо, не получая категорического «нет», мы все же думали, что в Москве приняли к сведению и мое письмо к Ахрамовичу в декабре, и мои вопросительные письма о первом марте.
Ибо то, что случилось, мы не ожидали н-и-к-а-к, даже принимая во внимание рассеянность москвичей. Первого марта пришло Ваше письмо с неопределенным ответом[3636]. И это был день, когда уже мы обречены платить за весь март 130 марок[3637]. Приди Ваше неопределенное нет за 2 дня, 130 марок были бы у нас в кармане. Сегодня 3-ье марта: мы думали, что хозяйка будет к нам милостива, но… оказалось: 130 марок за весь март таки мы должны заплатить, что в свою очередь нас совершенно подводит, ибо вырывает из суммы, ассигнованной на отъезд и неопределенно долгий срок жития в Боголюбах, где все же хотя и маленькие траты – но траты есть.
Когда я писал о категорическом ответе, я знал, что писал; и неопределенное Ваше «нет» в последнюю минуту отражается во всех смыслах для нас ужасно.
Нас еще, чего доброго, ограбят, вменят там какое-нибудь пятно чернил на ковре или подведут еще каким-нибудь образом (подлее берлинца – я не встречал типа). Но и так: мы подведены на 130 марок; и этот подвох, дорогой друг, я вменяю Вам прямо[3638].
Все, что я писал 3 месяца назад, как устрашающую мысль, свершилось, вопреки Вашим успокоениям («чего Вы беспокоитесь»).
Вы вообще, Эмилий Карлович, понимаете нас как-то упрощенно. Сидят две птицы небесных; можно им в последнюю минуту черкнуть что угодно, и с легкостью поразительной без всяких житейских тревог (счетов, квартирных соображений и т. д.) небесные птицы слетают с места…
И вот на Ваш отказ в третьем лице («Мусагет авансировать абсолютно не может»), который я благоговейно принимаю (о чем же у меня шла речь в письме 3 месяца назад, что мы – банкроты[3639], и к чему это Вы утруждали себя нас успокаивать?..), тем не менее я очень прошу хотя бы в счет «Пут<евых> Заметок», отданных Сирину, ссудить нас 130 марками, которые мы бросили на ветер (не предупрежденные вовремя) и которые из нашей кассы без всякой вины с нашей стороны (мы всё сделали, чтобы нас уведомили заранее) отнимают у нас большой куш.
Простите, дорогой друг, за «житейскую прозу», которой я нарушаю Вас досуг.
P. S. О перемене адреса я своевременно извещу.
РГБ. Ф. 167. Карт. 3. Ед. хр. 11. Датируется по указанию даты в тексте и по почтовому штемпелю отправления: Berlin. 3. 3. 13. Отправлено адресату вместо п. 293.
295. Метнер – Белому
Траханеево 21/II–6/III 913.
Получена следующая телеграмма от Терещенки:
«Сирин, подробно обсудив, не может теперь издавать собрания сочинений Белого. Предлагаем следующий выход: теперь же взять путевые заметки, уплачивать Бугаеву с первого марта гонорар по 333 р. и немедленно по получении черновика романа от Белого решить вопрос о напечатании. Совсем не читая решить затрудняемся. Блок Белому телеграфирует. Терещенко»[3640].
1) Обращаю Ваше внимание на слово «теперь», мною подчеркнутое. Надежда не потеряна. А мы с Блоком будем налаживать и постараемся изгладить то впечатление, которое, вероятно, произвел на Терещенко разговор с Брюсовым[3641].
2) Должен сказать, что по московскому разговору с Терещенко[3642], казалось, не было никаких принципиальных сомнений в полнейшем «переходе» Вашем в Сирин; лишь во время петербургской беседы возникли кое-какие сомнения, о которых я Вас тотчас же и уведомил; в середине между московским и петербургским разговором[3643] произошло свидание Терещенки с Брюсовым и с Вами[3644]; не имея основания думать, что Вы не понравились Терещенке, следует предположить наговоры Брюсова.
3) Советую Вам написать Михаилу Ивановичу Терещенке, что никакого черновика у Вас нет (я ему об этом уже дважды сообщал) и что Вы попытаетесь уговорить Некрасова отправить на неделю рукопись романа; далее предложите сам от себя издание Ваших поэтических произведений (без теории[3645]); я лично ни за что не могу взять на себя ответственности за такую неприятную уступку.
4) О том, чтобы гонорар был прислан не позднее 1 марта, я написал Сирину.
5) Ваше письмо, полученное в Москве 18/II ст. ст. и привезенное мне сюда сегодня[3646], я отказываюсь понять по след<ующим> причинам.
I. В Вашем письме, полученном 8/I ст. ст., Вы просто сообщаете, что денег хватит только до 1 февраля[3647]. В письме, полученном 12/I ст. ст. (Вы дат не ставите в своих письмах), – ни слова о деньгах[3648]. – В письме, полученном 20/I ст. ст.[3649], Вы хотя и говорите о Гааге, но просите успокоить Вас на февраль (что я и сделал почти немедленно). В письме Вашем, кот<орое> мне передал Терещенко[3650], Вы опять-таки говорите только о феврале, не о марте; наконец, в письме, полученном 1/II ст. ст.[3651], Вы впервые говорите о Гааге решительным образом, но опять-таки ставите вопрос о получении к 1 марта денег не из Мусагета (ясно, по-видимому, понимая, что Мусагет не может), а от Сирина. Но это письмо я пишу Вам 7/20–II, где не скрываю некоторых затруднений и сомнений, но прошу потерпеть и принять во внимание сложность дела и то, что чужое издательство нельзя заставлять вникать в интимные обстоятельства. Перечитайте это основное письмо, а также и от 18/I, 21/I и 29/I, и Вы увидите, что я… отнюдь не заслуживаю упрека в небрежении, умалчивании, подавании несбыточных надежд и т. п. – Поддерживать же Ваш пессимизм к Сирину я находил (и нахожу и теперь) излишним. Вы не ребенок и вдобавок оккультист: Вы могли сами решить в своем Ich, следует ли слушать своего пессимистического δαιμων'а или относительно-оптимистически настроенного преданного и аккуратного друга. – Наконец, в своих двух больших письмах, полученных около 6/II ст. ст.[3652], Вы снова говорите о возможности или невозможности получения к 1 марта от Сирина (а не от Мусагета) и только в письме, полученном 14/II ст. ст., Вы ставите вопрос о возможности получения 250 р. от Мусагета[3653], на что я Вам ответил 17/II ст. ст.; еще раньше написал Вам 11/II в ответ на деловые части Ваших двух предшествующих больших писем. Вся эта корреспонденция рисует весь ход дела вполне отчетливо и не дает повода ни к каким недоразумениям. У меня все копии писем, отправленных Михаилу Ивановичу Терещенке, и я при случае могу показать Вам их, чтобы Вы видели, как я вел все доверенное Вами мне дело.
II. Несмотря на вышеизложенное, Вы в своем последнем сегодня полученном письме (в Москву оно пришло 19/II ст. ст.) рисуете все дело так, как если бы Вас обнадежили, а потом оставили с носом. –
III. Вы, словно ребенок, повторяете одно и то же несколько раз, почему Вам не ответили «1 марта выслать можем» или «1 марта выслать не можем». Но как же я мог Вам категорически отвечать за Сирина? За Мусагет я ответил Вам: в феврале вышлем; и выслал; о марте относительно Мусагета Вы не поднимали и речи и я не поднимал речи, полагая, что ясно, что Мусагет может; повторяю: колебательность положения с Сирином стало <так!> Вам известно с конца русского января, а следовательно, Вы могли все взвесить и поступить, как лучше: ехать в Гаагу или в Боголюбы. – Вы прямо упрекаете меня в том, что Вы не были «вовремя предупреждены»…
IV. Мое письмо от 17/II–2/III является ясным ответом на теперешний Ваш вопрос, почему я написал «дальнейший аванс никому абсолютно не мыслим» (письмо мое от 11/24–II); т. е. в III лице, а не «Вам»; ясно, что этим я молил Вас устроиться как-нибудь иначе, но не хотел (из любви к Вам) отнять у Вас 1/100 надежды, что выцарапаю для Вас деньги из кассы Мусагета. Впрочем, в предшествующем письме от 7/20–II я пишу решительнее: «разумеется, Мусагет не может продолжать высылать Вам сириновскую предположительную месячную сумму, но я получил от Сирина письмо, где обещают дать ответ не позже половины русского февраля»… Итак, если Вы уж хотели жестокой правды, то могли, опираясь на это письмо (и ввиду своего пессимизма в отношении к Сирину) две недели тому назад покинуть Берлин и ехать в Боголюбы. – Письмо от 7/20 II, где Мусагет… не может… Вам, Вы не могли не получить, ибо цитируете оттуда мою фразу «чего Вы беспокоитесь». Следовательно, напрасен Ваш упрек, почему я Вам не написал: «1 марта Вы на Сирина не надейтесь, а Мусагет на март не вышлет»; мой оптимизм частично оправдался, ибо 1 марта Вы получите от Сирина 333 р. 33 к., а «Мусагет на март не вышлет» стоит черным на белом в письме от 7/20–II: «разумеется, Мусагет не может etc. – » (см. вышеприведенную цитату). –
V. О какой телеграмме Блока, бросившей Вас в бегство в Боголюбы, Вы говорите, я не знаю[3654], но надеюсь, что та телеграмма Блока, о которой говорится в телеграмме Терещенки, успела застать Вас в Берлине и бросит в Гаагу, необходимую для Вашего пошатнувшегося здоровья.
VI. Ваше письмо с подробностями состава рукописи романа[3655] у меня хранится особо и проштудировано[3656] мною и Ахрамовичем. Когда я писал Вам, предлагая выслать рукопись Сирину, я, конечно, имел в виду какие-н<ибудь> случайные эскизные черновики и наброски как дополнение к тем девяти отпечатанным листам, которые имеются у Сирина.
VII. Прошу извинения, что в переписке забыл дать Вам адрес Сирина; но Вы могли бы сами напомнить мне раньше и, наконец, написать в Мусагет для передачи Сирину. – [3657]
VIII. Вы перечисляете свои неудачи (имение, Пет<ербургский> Вест<ник>, Рус<ская> Мысль и т. д., теперь Сирин) и потом говорите: «и впредь будет то же». Если Вы думаете, что неудачи зависели от Вас, то, стало быть, Вы не надеетесь исправиться; если же от судьбы, то Вы не надеетесь (вопреки оккультному учению) стать над роком; кроме того, Вы, ученик Штейнера, не знаете, что позволяете себе грубое нарушение, говоря так «и впредь так будет»; Вы, писавший о магии слов!
Как смеете Вы, знающий, «припечатывать» себя на будущее словами отчаяния; в то время, когда Вы их писали, вокруг Вас высовывались языки из астрального мира и радостно щелкали зубы. Ваше отчаяние в будущем гораздо хуже моего ропота о прошлом, ропота, которого в более светлые моменты я глубоко стыжусь. Примите этот упрек от меня – бессознательного и вольного оккультиста. –
IX. В своем письме Вы четыре раза упрекаете меня в том, что «мне не было времени прочесть» Ваших психологических мотиваций о необходимости для Вас Гааги и получения 1 марта 333 р. 33 к. Поводом к этому упреку послужила моя неосторожность, с которой я раза два отвечал Вам на чисто-деловое, не прочтя «мотиваций» (и сознаваясь в этом); поступал так, чтобы скорее удовлетворить Вас по существу. Выводить отсюда, что я этих мотиваций и впредь не читал, это – явный акт недоверия к моей дружеской участливости.
Я не знаю, понимаете ли Вы, насколько обидно должно быть Ваше последнее письмо, несмотря на титулование меня «дорогим другом». Да, чтобы «дорогой друг» не превратился в титул вроде «любезного брата», с которым обращаются друг к другу государи воюющих между собою держав, чтобы не окончательно заглохла между нами былая любовь, я считаю, милый старинный друг, совершенно необходимым раз навсегда не вступать с Вами и не иметь ради Вас с другими никаких деловых отношений. Вы можете писать в Трудах и Днях, печататься в Мусагете; я надеюсь, что, если судьба улыбнется Вам, Вы не забудете отдать Мусагету Ваш долг, который отчасти может быть покрыт и II изданием Ваших первых трех симфоний или собранием стихотворений (к чему, в случае, если осенью вопрос об издании Ваших сочинений Сирином решится отрицательно, Мусагет приступит непременно), но с Сирином толкуйте дальше сами, а меня увольте с Вашей недоверчивой доверенностью. Говорю это совершенно спокойно, ибо чувствую, что вылечился окончательно от (казалось) неисправимого своего оптимизма, с которым я отвергал следующую не раз приходившую мне в голову мысль: «чтобы быть с Б. Н. в дружеских отношениях, не надо стоять с ним в деловых отношениях».
Простите.
Любящий Вас Э. Метнер.
P. S. Я целыми часами изучал и обдумывал все, что Вы мне написали об антропософии. Если я не отвечаю Вам на это, то только потому, что пришлось бы исписать стопы бумаги. Лучше об этом поговорить. Все, что Вы сочтете возможным и необходимым и впредь мне сообщить, я приму с благодарностью.
P. P. S. Траханеево 22/II / 7/III 913. Сегодня Ахрамович привез сюда два письма: одно Ваше[3658], другое от Аси. Все три письма – эти два и Ваше, полученное 18/II[3659], которое я выше разобрал, настолько обидны, что при малейшем удивлении Вашем на мою обидчивость мне придется дать их прочесть всем нашим друзьям. Нового материала «обвинений» во вновь пришедших письмах очень мало. Меняются и крепнут лишь выражения; («подвох» и т. п.). –
В письме Аси ряд возмутительнейших неточностей[3660].
1) Я нигде не писал, что Мусагет будет выплачивать все время, пока дело не решится с Сирином. Я не мог этого написать. Я давно уже, еще осенью или в конце лета, указывал подробно в письме, обращенном Эллису и Вам вместе[3661], на стесненное положение Мусагета в 1913 г.
2) Ваше предположение о том, что я не читал Ваших «мотиваций», у Аси перешло уже в твердую уверенность. «Или Вы думаете, что от безделья Боря Вам столько писал». «Остается пожалеть, что Вы их не прочли».
3) В том же самом письме от 7/20–II, где стоит фраза «Чего Вы беспокоитесь» и где в то же время указывается, что «Мусагет не может высылать Вам сириновскую сумму», я пишу: «знаю лишь одно, что я не советовал Вам оставаться в Берлине и вовсе не обнадеживал Вас, что дело с Терещенко все равно что покончено». «Я не скрывал, что предстоит ряд переговоров, что надо ждать». Из этого две недели тому назад написанного письма (вполне «заблаговременного», чтобы решить, чтó делать) Ася усвоила себе только одно, будто я написал (и притом чересчур поздно) «не я же Вас задерживал в Берлине и искали бы себе деньги сами». На такое искажение буквенной фактической и смысловой стороны моих писаний я не знаю даже, что сказать. Замечу лишь, что к подобным грубым оборотам «искали бы себе деньги сами» я бы никогда не имел духу прибегнуть даже теперь, когда снова обижен Вами обоими. –
Гомерический хохот раздался бы среди нормальных людей (не взвинчивающих себя преждевременно на высшие планы), если бы после прочтения всех моих писем Вам и Терещенке прозвучали бы упреки Аси в «неясности» и «нечеткости» моих письменных заявлений. –
РГБ. Ф. 167. Карт. 13. Ед. хр. 7. Л. 49–61. Текст – в копировальной книге Э. К. Метнера.
296. Белый – Метнеру
Верьте, я глубоко благодарен Вам за Вашу помощь в деле с Книг<оиздатель>ством «Сирин».
Зная по опыту, как тягостны подобные дела, я никогда не забуду Вашей дружеской услуги и помощи.
Я не считаю возможным отвечать Вам на Ваше последнее письмо[3662], так как ответ мой мог бы вызвать опять бесконечно сложную и изнурительную переписку, нарушающую мирное течение наших жизней, нужное мне столь же, сколь и Вам (особенно в эти месяцы, ибо я должен к маю закончить роман[3663], т. е. писать решающие и ответственные места его, а в таких случаях мне особенно нужна душевная гармония). Согласиться же и принять все места Вашего письма без насилия над собой, с естественностью, не могу.
А душой кривить не хочу.
Надеюсь, что при личном свидании все разъяснится.
Я написал в «Сирин» о возвращении 333 рублей февральских «Мусагету». Обо всем деловом, касающемся и «Мусагета», и «Сирина», напишу В. Ф. Ахрамовичу.
Еще раз спасибо – от души.
Примите уверение в совершенном уважении и преданности.
Борис Бугаев.
Боголюбы. 1913 года. 20 марта.
P. S. В Москву вряд ли приеду. Здесь, вероятно, до середины лета[3664]. Всем Вашим привет.
РГБ. Ф. 167. Карт. 3. Ед. хр. 12.
297. Белый – Метнеру
Радости, счастья и – всего, всего светлого.
Борис Бугаев.Ася.РГБ. Ф. 167. Карт. 3. Ед. хр. 13. Датируется по почтовому штемпелю.
298. Метнер – Белому
Траханеево 23–IV / 6–V 913.
Дорогой Борис Николаевич!
Отзываюсь так поздно, потому, что письмо Ваше не сразу получил, сидя в деревне, и ввиду случайности и редкости почтовых сношений со станцией не тотчас мог ответить. Желаю и Вам с Асей всего светлого.
Ваш ответ (на мое последнее письмо от 21/II)[3666] оставил без возражений, так как и сам думаю, что, если нам суждено понять друг друга и поладить, то не через письма, хотя вообще я лично не одного с Вами мнения о переписке и полагаю, что согласие, водворенное путем обмена письмами, прочнее, нежели путем устной беседы, всегда валкой в формулятивном отношении и потому годной лишь для уже согласных. Думаю же сейчас иначе, ибо хочу верить вопреки всему.
Ваш Э. Метнер.
P. S. Так был занят и расстроен, что никому не писал специально к празднику.
РГБ. Ф. 167. Карт. 13. Ед. хр. 7. Л. 76. Текст – в копировальной книге Э. К. Метнера.Ответ на п. 296 и 297.
299. Метнер – Белому
Траханеево на Клязьме 8/21–V–913.
Алексей Сергеевич, кот<орый> передаст Вам это письмо[3667], сумеет, конечно, и передать Вам весь контекст к нему; он 1½ дня проговорил со мной перед отъездом, да и раньше мы с ним касались всех «животрепещущих» вопросов; я твердо убежден, что с комментариями Алексея Сергеевича это мое письмо не покажется Вам сухим и недоброжелательным. Его краткость и канцеляризм только от усталости и от недосуга. Имею два пункта.
1) Чтобы раз навсегда решить в своей совести по крайнему своему разумению вопрос о своем подходе к Штейнеру, я перечитал все, что он пишет о Гёте[3668], ибо для меня это – пробный камень; отвергающий или лжетолкующий Гёте не может быть моим водителем на высших планах, т<ак> к<ак> я считаю Гёте величайшим человеком нашей планеты, средоточием и идеалом человечности, воплощением человеческой мудрости. Если бы я считал Христа человеком (я считаю его сыном Божьим), то сказал бы, что после Христа Гёте, а все остальные гораздо меньше обоих. – Штейнер совершенно не понял центрального в Гёте и в своих сочинениях просто использовал его для своей идеологии. – Штейнерского Гёте не приемлю и испытываю чувство, словно читаю о Христе Давида Штрауса[3669]. Чтобы зафиксировать только что пережитый важный момент своего духовного развития, я написал брошюру о Гёте по поводу взглядов на него Штейнера[3670]. Чтобы показать друзьям и недругам своим и чужим, какого мнения держится один из членов Мусагета о проблеме Гёте – Штейнер, чтобы показать, что Мусагет вовсе не всецело штейнерьянский, как кругом все начинают думать; чтобы показать, что наступил момент, когда надо выдвинуть Гёте, как критерий тому, что делается и положительного и отрицательного в современности, я бесповоротно решил свою брошюру немедленно напечатать. Вместе с тем думаю, что эта брошюра явится испытующим ударом по нашему соединству, именуемому Мусагетом. Если оно расколется, то Мусагет погиб; но это – неважно; выяснится, что никакого соединства не было, а была лишь иллюзия; окажется, что не было такой несказанной идеи, которая, вопреки всем разногласиям, объединяла Вас, Эллиса, меня и других. – Если же Мусагет от этой брошюры не расколется, то, стало быть, он более прочен, чем все мы это думаем[3671]. – Разумеется, я предоставляю Вам и другим мусагетским теософам право ответить мне брошюрой или статьей в Трудах и Днях. – И вообще допускаю, что брошюра о штейнерьянстве, не имеющая характера прокламации, а трактующая вопрос хотя и с горячей симпатией к Штейнеру, но дельно строго, вполне возможна в Мусагете после моей брошюры. –
2) В конце текущего года можно было бы издать Ваши стихотворения (по крайней мере, Пепел) и первые три симфонии[3672]. Это покрыло бы хотя отчасти Ваш долг, о котором ввиду отчетности я не могу умолчать перед издателями. Я прошу Вас выяснить решительно вопрос с Сирином об издании хотя бы художественных Ваших произведений уже теперь. В противном случае, если Сирин не намерен вовсе или откладывает, мы приступим к изданию при первой возможности. Вас прошу приготовить в свободное время, но не откладывая очень, стихи и симфонии, о чем снеситесь с Ахрамовичем. –
Надеюсь, что Вы получили мое письмо от 23–IV / 6–V 913? Что Вы, вопреки своему убеждению (которого я, как знаете, не особенно так придерживаюсь) и вере в магичность устной беседы, решили не заезжать в Москву, меня несколько удивило. На днях я выезжаю за границу до июля, так что мы увидимся нескоро. Желаю Вам и Асе всего лучшего.
Любящий Вас Э. Метнер.РГБ. Ф. 167. Карт. 13. Ед. хр. 7. Л. 86–89. Текст – в копировальной книге Э. К. Метнера.
300. Метнер – Белому
Pillnitz – Elbe Am Hausberg 27/VII–9/VIII 913.
Надеюсь получить от Вас в скором времени статью[3673] для Тр<удов> и Д<ней>, покинутых двумя из их основателей, Вами и Вячеславом[3674].
Кроме того, очень прошу приготовить к печати хотя бы первую и вторую симфонию. Или Вы предпочли бы начать со стихов?[3675]
Жму Вашу руку.
Ваш Э. Метнер.
P. S. Едва написал это, как пришло письмо Петровского, где он впервые сообщает мне о Терещенке[3676]. Очень прошу Вас немедля решительно запросить Сирин о том, будет ли он печатать Вас и сколько он даст Мусагету «откупного»; иначе (если он не ответит сейчас же) придется к набору симфоний или стихов (что сначала?) приступить нам, т<ак> к<ак> надо хоть отчасти оправдать аванс.
Жму Вашу руку.
М.РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 11.На обороте – карандашные записи Белого (указания адресов в Норвегии): «Ljan Fran Helmguiden. Hôtel – pension Hammer. Doktor Moenichen Midtsluen Holmenkollen. Anne Kures <?> Sanatorium Voksenkollen».
301. Метнер – Белому
Пилльниц 1/IX–19/VIII 913.
Несколько недель тому назад я отправил Вам (через Мусагет, ибо не знал Вашего адреса и думал, что его знает Ахрамович) письмо, в котором прошу Вас как можно скорее выяснить вопрос о том, будет ли Сирин теперь уже издавать Ваши художественные произведения[3677]. Повторяю свою просьбу, настойчивость которой объясняется тем, что по весьма сложным деловым соображениям редакции необходимо как можно скорее знать о решении этого вопроса Сирином, вследствие чего, думается мне, можно было бы и поторопить Терещенко. – Кроме того, прошу Вас ответить мне, можете ли Вы уделить часть времени на приготовление к печати симфоний (I, II, III) и стихов, на новые предисловия, правку и т. п., уже начиная с осени? Далее, в случае приступа к печати Ваших произведений в Мусагете, желательно знать Ваши намерения относительно шрифта, бумаги, формата. (Обложек, конечно, не будет, т<ак> к<ак> это – вторые издания). Спасибо за сердечный привет от Вас, кот<орый> мне привезла Мариэтта Сергеевна[3678]. Эта странная и даровитая девушка как-то особенно глубоко поняла все существенное, что мне удалось намеками дать в моей книге[3679] и в моих статьях. Ее отзывы (устные, письменные и печатные) обо мне вскрыли большую близость ее подходов ко многим вопросам с тем, как смотрю я. Обнимаю Вас. Привет Анне Алексеевне. Ваш Э. Метнер.
P. S. Уведомьте меня о Ваших последующих адресах.
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 11.Отправлено по адресу: München. Schellingstr., 87. Pension Pinakothek.
302. Белый – Метнеру
У нас и у Маргариты Васильевны[3680] одновременно пришла мысль послать Вам телеграмму; мы как-то были почти уверены, что Вы не приедете к нам; но, все-таки, если бы у Вас был досуг и настроение приехать, мы были бы чрезвычайно обрадованы; мне давно, давно страшно хочется Вас видеть, хотя бы только для того, чтоб пожать Вам руку и сказать, что, несмотря ни на какие идейные и житейские расхождения (деловые), я Вас люблю, уважаю; и не было за это время дня, чтобы я внутренне не говорил с Вами (соглашался или, наоборот, спорил); что бы ни было между нами за эти два года, я измеряю отношения наши не этими двумя годами, а десятилетием. Да и кроме того: я ставлю на одну чашку весов все незабываемое, что было вместе пережито, познано, обсуждено, а на другую бросаю несколько десятков писем и вижу, что перевешивает первая. Словом, я очень, очень Вас люблю. Вы пишете, что постараетесь со мной повидаться[3681]; я спешу прийти Вам на помощь; мы едем в Христианию[3682], откуда вернемся либо в Берлин, либо в Базель в середине немецкого октября; Вы, вероятно, к тому времени вернетесь в Россию. И стало быть: мы опять на год разъедемся. Между тем, мы проедем чрез Дрезден; и стало быть, всего удобнее встретиться нам в Дрездене (остановиться на день, два и увидеться с Вами)[3683]; уезжаем мы послезавтра, утром; в Дрездене, стало быть, будем мы в воскресенье к вечеру[3684]; тотчас же телеграфируем Вам оттуда. Или еще лучше – так: мы выезжаем из Мюнхена в 7 часов утра или в 8 ч. 25 минут утра с поездом, идущим в Дрезден через Регенсбург. Стало быть, часа от 1 до 2-х мы будем в Дрездене (посмотрите в путеводителе); может быть, Вы встретите нас на Мюнхенском вокзале или пришлете на вокзал телеграмму, где нам встретиться; в случае, если письмо это до воскресенья не поспеет дойти, мы тотчас телеграфируем; мы можем пробыть в Дрездене maximum 2 дня[3685].
Остаюсь сердечно любящий Вас Б. Бугаев.
От Аси привет.
РГБ. Ф. 167. Карт. 3. Ед. хр. 14. Датируется по почтовому штемпелю отправления: München. 5. IX. 1913.
303. Белый – Метнеру
Спасибо Вам за те радостные два дня, которые мы провели вместе[3686]. Они мне многое рассказали из такого, что я бы вовсе не понял из писем. Вместе с тем я невольно задумался над тонусом Вашего противления Доктору и его идеям. Верьте: тонус этого противления, хотя я его, конечно, не могу разделить, я понимаю, принимаю и уважаю; он звучит благородно и из внутреннего источника. В той же мере, в какой нападения на Д<окто>ра Рачинского, Булгакова мне отдают изуверством, нападения Бердяева – хаотизмом, Мережковского → слепотой злого холода, Блока – «оставьте вязнуть меня в трясине» или что то же: «меня надо повесить» – в той же мере из всех противлений Д<окто>ру Ваше противление мне понятнее, ближе всех, хотя бы уже потому, что многое из того, что Вы говорили, я переживал и подчас переживаю сам. Только я научился объективировать мои бунты, запросы, требования и т. д., раз навсегда учтя, что их перевешивают непередаваемые в словах мои доверие и, главное, любовь к Д<окто>ру и вера в его провиденциальность. Стало быть, Ваш язык нападений мне радостно-близок; и до каких бы Вы резкостей не доходили по адресу Вам несимпатичных штрихов штейнерианства, я теперь понял: они будут варьяциями, преувеличениями того основного тонуса, который я скорее почувствовал, чем понял, когда Вы заговорили об элементах и об отношении к элементам. Если случится у Вас досуг, напишите мне Ваше отношение к тому, что Вы называете элементами, или развейте в статье, письме, черт возьми, книге то, что Вы называете элементами.
Милый, милый: когда в «Валькирии» звучала тема Вольфингов[3687], я был с Вами, думал о Вас – Вы ли Вольфинг! И ответ был «хотя отчасти, но… нет»: судьба Ваша в Ваших руках. О, сколько у Вас потенциально сил еще (может быть, через несколько лет это изменится, и тогда – Вольфинг, может быть – наоборот: и тогда – открыватель путей); вот ведь в чем сила: Вы – нужный; и не только нам, друзьям, а и вообще всем лучшим людям: объективно нужный; и не Вы, Эмилий Карлович Метнер, а то, что как lebendige Kraft[3688] подымается в Вас, и что есть «старинный друг», а также «Христианство без Христа шло с севера на юг, когда Иисус шел с юга на север». Северные снежинки в октябре – лейт-мотив, сопровождавший наше общение в 1902 году и мне на всю жизнь нечто открывший: «христианство шло с севера на юг» и → первая тема ненаписанной сонаты: «Старинный друг, к Тебе я возвращался»[3689]; вторая тема: «уйдете вы в свои могилы оба»[3690]; наконец, соприкосновение тем: «Гроб распахнулся: завизжала скоба…[3691] Две ласточки к Спасителю на плечи уселися…»[3692].
Это было до явления в Палестине; это было всегда.
Если было, то будет; если будет, то есть: вот миру всем.
Абсолютно приватно[3693]:
Да: Вы – культура; культура же – вот что такое; когда в 12 столетии наметилась трещина между миром и пока еще святыми будущими францисканцами, когда кристаллизировалась св. Кровь в Граале и причастие, как ens realissima[3694], превратилось в силу этого лишь в символ, перестало быть магическим актом, то Христиан Розенкрейц[3695] вышел после совета белой ложи в мир с попыткою в последний раз перекинуть мост между крестом и миром; и – распустилась Роза; появились трубадуры, лирика, роман, словом, милое и вечное во все времена[3696]; и вот: кто-то первый услышал весть розы в месте, обреченном на гибель; между нюренбергским монахом, припугивающим Железной Дамой, и пьяницей бюргером (в Нюренберге старинные кабачки) вдруг возник кто-то: и сказал: «Э, позвольте!» Дело не так просто; тогда-то между кабаком и дыбами св. Инквизиции возникло третье; это третье – было культурою, т. е. той землей, куда мог Хр. Розенкрейц посадить розу, цветок («Gefunden» Гёте[3697]). Роза хотя и чахло, но привилась; черта между двумя половинками мира: Кабак | Дыба превратилась в землю культуры; с точки зрения психологии кабатчика, как и монаха, – с точки зрения обоих произошел скандал: оба попали на задворки, отступая перед третьим:
В центре этого третьего еще может раскрыться Роза.
Что бы мог сделать Христиан Розенкрейц, если бы между кабаком и дыбами кто-то первый не воскликнул: «Э, позвольте: еще не все решено, не все спасено, не все сожжено, не все пьяно, еще много радостей осталось для людей…»[3698]. Этот, кто «ging im Walde»[3699] и относительно кого впоследствии можно будет сказать, что он «Gefunden» – т. е. тот, к кому протянуты руки Хр. Розенкрейца, – этот первый культур-Schöpfer[3700] есть Э. К. Метнер, «старинный друг» с его «христианство шло с севера на юг»; а lebendige Kraft есть предвкушение эликсира жизни; пока в мире есть Метнер, мир не провалится: Метнер нужен, от его судьбы зависит судьба истории.
Милый друг, простите за этот набор слов.
Наш адрес или: Norwegen (Norce). Kristiania. Herrn Boris Bugaïeff (до 6 октября н. ст.). Или: Norwegen (Norce). Kristiania-Ljan. Pensionat Heim. Herrn Dr. Boris Bugaïeff.
Ася шлет сердечный привет.
Б. Бугаев.
Fr. Hedwig’е[3701] наш привет и уважение.
РГБ. Ф. 167. Карт. 3. Ед. хр. 15. Датируется по почтовому штемпелю отправления: 13. <нрзб>. Над текстом карандашная помета рукой Метнера: «после дрезденского свидания (сентябрь 1913)».
304. Белый – Метнеру
Льян[3702]. 22-го сентября 1913 года.Норвегия.
В. Соловьев[3703].
- «И злую жизнь – насмешкою незлою
- Хотя на миг один угомони!»
С радостью прочел Ваше письмо[3704]; спасибо! Спасибо за оттиски статей; жду все благоприятной, свободной от обязательств полосы, чтобы основательно приняться за разбор Ваших произведений; все, что Вы пишете, имеет большой удельный вес; и – не так-то легко писать о Вас. Мысль написать большую статью или небольшую монографию давно не дает мне покоя – не как долг, а как движение сердца, как заглазный разговор с другом – у себя самого, за письменным столом. И именно оттого, что хочу давно писать на затронутые Вами темы, не писал ничего о Вашей книге; хочется писать комфортабельно и уютно, из свободы, досуга и лени; хочется статьей справить пир, а не… «строчить разбор»; оттого и не пишу; Ваша книга будет предлогом к этому моему пиру[3705].
Спешу Вам сообщить следующее: получил телеграмму от «Сирина». Вот текст ее: «Извиняемся опозданием ответа; Сирин охотно переиздаст стихи и роман; вопрос о симфониях просим отложить до выяснения издательских обстоятельств будущего года»[3706]. Итак: Симфонии охотно готов перепечатать в Мусагете. Что касается романа, то не понимаю, о каком романе идет речь: «Голубе» или «Петербурге»? Пересмотрю симфонии (все три имеются у меня[3707]) по возвращению из Норвегии (с собой здесь их нет).
Вот – о делах.
Милый друг, когда Вы мне предложили написать о мистериях Доктора[3708], я в душе отказался 1) по причине их трудности, 2) глубокомысленности, 3) спорности их значения для «Тр<удов> и дней», 4) нетактичности с моей стороны, как ученика Д<окто>ра, разбирать то, что надо понимать wörtlich[3709], а даже не символически[3710]; и в самом деле: пути Страдера, Капезиуса, Иоганна, проходящие через 4 мистерии[3711], суть типично-конкретные пути; и когда мы подходим к окк<ульти>зму, то мы вступаем на путь конкретно, реально, или склоняясь к линии Страдера, т. е. стремясь соединить geistige Wesenheiten[3712] с пульсом жизни, или, как Капезиус (Ницше), через сказки Фелиции[3713] музыкально вживаемся в миры вопреки умственным устремлениям; или, как Иоганнес Томазиус, вживаемся воображением. И мне, действительно имеющему что-то общее с Иоганном Томазиусом и кое-что пережившим из его оперы, как-то конфузно чернить критическим пером сообщения Мейстера[3714]. Вот почему я и морщился при мысли о написании статьи о мистериях. Конечно, писать по их поводу на оккультные темы граничит с Scharlatanerei[3715] и Spiеlerei[3716], ибо слишком все там реалистично; например: сцена солнечного храма[3717]; если бы Вы знали, что есть солнечный храм, и главное, как он есть (что есть – само собой разумеется: все, что есть в мистериях, – есть), то Вы бы поняли невозможность существенных касаний пером многих пунктов мистерий. Но, подумав, я увидел, что у меня есть право и, главное, интерес к другого рода касаниям; я могу коснуться архитектоники, стилистики мистерий; и думается мне, что я мог бы реально показать – по пунктам и цитатам, что они и художественно прекрасны во многом.
Вас это удивляет? Не верите?
Позвольте же мне привести Вам несколько примеров из первой мистерии (которую – между нами[3718] – мне приходится заново переводить, ибо перевод Эллиса – ниже всякой критики[3719]); я приведу их для того, чтобы Вы увидели заранее тональность моей статьи и откровенно сказали бы, желали бы Вы видеть оную в «Трудах и Днях» (тем у меня много: и навязывать штейн<ериан>ство в «Тр<уды> и Дни» нет особой охоты: не обижусь, если откровенно выскажетесь против).
Степпун называет приведенную мной в статье строчку банальностью[3720]: «Глас, пошлый глас, вещатель общих дум»[3721] слышится ему из этих слов; но слышится ему лишь то, что в некотором смысле он сам есть; пошлость сидит в его восприятии; ибо если бы он потрудился проследить на протяжении 3 мистерий, как leben Weltgedanken в Denken, то он увидел бы, что это как столь оригинально, что, пожалуй, этого как он не встретил бы в образчиках мировой литературы, да и мысли; дело в том, что приведенную мною строчку он пожелал воспринять, как провозглашение новой истины, тогда как я приводил строчку, апеллируя к музыкальному слуху, к инструментовке, которую проворонил Степпун, ибо он лишь показал свое неумение читать стихотворные строчки конкретно, во плоти; пошлость-то оказалась не в выражении, а в восприятии.
В самом деле; привожу на память из второй мистерии это место.
Итак далее…
Остановимся на инструментовке.
1) Гласные
2) Aллитерация 1-ой группы (W – ff)[3725]
И «d» первой строчки на главных ударениях[3727]:
2-ая группа аллитераций (m – n)[3728]
3 группа аллитераций («l»)[3729]
Симметрия слов[3730]
Наконец внутренняя рифма
Вот пример инструментовки; равны ей только мировые памятники литературы; что это не случайно в мистерии, доказывается хотя бы тем, что иные места ее возглашаются по-диаконски: тут подлинные чары древней рунической поэзии; и если Степпун не разобрал красоты, пленяющей меня, как стилиста и поэта, тут прицепившись лишь к обструганной мысли без «как» этой мысли, проведенной по всем 4-м мистериям, что весь разбор мой он просмотрел, то это оттого, что он, а не Доктор – «глас, пошлый глас, вещатель общих дум»[3731], слишком носорожистый, чтобы в словах услышать тихоструйные струи рун.
Или: разве тихий шелест рун не струится из следующего словосочетания (речь Бенедикта); Бенедикт говорит Иоганну:
И далее – руны струятся: i– e – e– e– e– e– e– a– u– a– e – i, т. е.
** Повторяющиеся литеры воспроизведены соответственно красным, синим и зеленым цветами; дополнительно скобкой выделены повторяющиеся er и be.
18 Неточная цитата из той же картины; в оригинале вместо 2-й строки: «Durch Raumesweiten, // Zu Füllen die Welt mit Sein» (Steiner Rudolf. Vier Mystheriendramen. S. 67). В переводе Белоцветова:
Что по этому поводу можно сказать? Бездну.
а) Движение света сверху вниз в пространство:
es – ich – es – e – en – es – en
или
b) трение света в пространстве[3733]
er – ersch – a – e – urch – rau
c) распространение света в пространстве:
ei – en – el – ein,
вуалированное согласными
w – w – s… (bbc…)
То же и благословляющая любовь:
действие ее:
er – erw – ar
И далее:
zu – ru → en, en, el, en, en – ru
Пишу теперь эту музыку в словах, подчеркивая красными чернилами фонетическую магию[3734]:
Des Lich – tes Webend W – e – s – en es erschtralet
Durch Raumes Weiten die Welt mit sein
Der Liebe Segen er er – w – armet
Dir Zeiten Folgen
Zu r – uf – en aller W – elten Off – enbarung
Или проще; пишу
** В автографе – синими чернилами.
e + n – зелеными[3735].
И еще[3736]:
Тут ряд внутренних рифм:
1) Wesen, Segen (явная внутренняя рифма)
3) Lichtes, Liebe – s (egen) (адекватное рифме словосочетание)
4) es – er, er – er (рифмоподобные образования)
Аллитерация (w – f)
Наконец ритмический перебой:
** В приводимой далее схеме элементы, выделенные красным, набраны полужирным шрифтом.
То есть
В последнем смысле (ритмически) у Доктора чудеса смелости; например: ямб «∪–,∪–» вдруг перебивается следующим магически влияющим на ухо перебоем
И при этом опять ход: 1) ei – ei – á – ú – ú 2) á – á – á – á – é – 3) é – é – á
19 Цитата (Голоса духов за сценой) из той же картины; в оригинале другая разбивка на строки (Steiner Rudolf. Vier Mystheriendramen. S. 67). В переводе Белоцветова:
Голос совести берется со сцены andantissimо и fortissimо с басу вверх, достигая почти визга ветра, и последние ноты «in Schemen leben» подхватываются pianissimo скрипок очень странной мелодии; на фоне ямба это место звучит потрясающе а) ритмом, b) руническими струями звуков[3737]:
Инструментовка гласных[3738]
Или подчеркивая носовые звуки[3739]
Ритмически – крылато; инструментовочно – звучит, как руны; по смыслу – всё модуляция темы in deinem Denken.
* Фрагменты, выделенные зеленым, воспроизведены полужирным шрифтом.
Через все проходит звук носовой «мен – ен»; с правой стороны строчек нападают «шшш»; с левой – защищаются ольты и эльты (не кельты ли?).
Вы думаете, что я особенно выбирал отрывки? Да, нет же.
Открываю мистерию; и →
1) Geblenden bin ich wieder in den blinden Seele[3740]
Geblenden bin ich wieder in den blinden Seele
* Фрагменты, выделенные зеленым, воспроизведены полужирным шрифтом.
21 Строка из того же монолога (Steiner Rudolf. Vier Mystheriendramen. S. 51); в переводе Белоцветова: «Чужих миров алчбу и похоть злую» (Штайнер Рудольф. Драмы-мистерии. С. 138); в переводе Белого: «…непонятный мир // Порывами глухими вспыхивает в мысли» (Литературное обозрение. 1995. № 4/5. С. 69).
22 Фрагмент из того же монолога (Steiner Rudolf. Vier Mystheriendramen. S. 51); в переводе Белоцветова: «Что лишь обманности туман // Ужасный образ мой // До сей поры от глаз моих скрывал» (Штайнер Рудольф. Драмы-мистерии. С. 138); в переводе Белого: «Как мглистый образ морока // Чудовищный мой лик // До времени в своих глубинах скрыл» (Литературное обозрение. 1995. № 4/5. С. 69).
Erden Wesen, Erden – Werden, Welten – Weiten, lebt und webt, sprissende sprossende, Zeiten – weiten, fühle Fesseln, Menschen Meinungen, Weisheis Wesenswort… и т. д.: вся мистерия пульсирует странно-дикими, пленительно магическими словосочетаниями; и надо от словосочетаний идти к смыслу. Ритм у Доктора своеобразен, дико-богат, непривычен в перебоях и может казаться непричесанным от перегруженности, подобно «Танталу» В. Иванова[3741]. Но такие словосочетания, какие бьются в мистерии, – встречаются лишь у крупного, самобытного таланта.
Приведенные мною строки, вроде
не встречаются у наших лучших поэтов; это – чудо, магия, руны. Чтобы раскидать ворох подобных перлов, надо 1) или владеть магией слова, 2) или быть изощренным «Стефаном Георгом», 3) или дико-талантливым.
Вот и пусть теперь упрекает в банальности Доктора: банальность, и
Ритмически Доктор невероятно богат:
24 Фрагмент из цитированного выше монолога Иоанна Томазия (Steiner Rudolf. Vier Mystheriendramen. S. 49); в переводе Белоцветова: «Что о природе элементов, // О душах и о духах, // О времени и вечности» (Штайнер Рудольф. Драмы-мистерии. С. 136); в переводе Белого: «…сила, // Которую струят // Стихии, души, духи, // Разбег времен и вечность» (Литературное обозрение. 1995. № 4/5. С. 69).
То есть
Метрически многообразен, ибо метр
сменяется:
и т. д. Или
и т. д.
В пределах самого метра «∪–´∪–´» вся оригинальность 1) в пульсации длинных строчек с короткими 2) и с частыми окончаниями в ямбе «–´∪∪» вместо обычных –´, –´∪; пример пульсаций (нарастание стоп с падением строки последней окончанием –´∪∪):
26 Начальные строки (с пропуском слова в первой строке) цитированного выше монолога Иоанна Томазия (Steiner Rudolf. Vier Mystheriendramen. S. 49); в переводе Белоцветова:
Выписываю ход строк (1-ая мист<ерия> стр. 40; с 5-ой строчки с конца)
Und jetzt!.. es wird[3743]
27 Строки из того же монолога (Steiner Rudolf. Vier Mystheriendramen. S. 49–50); в переводе Белоцветова:
Прочтите последние 4 строки один раз; и вы скажете – «ах, коряво!». Протвердите их 5 раз наизусть; и – строки привяжутся; и дикость шелестящих между двумя ударами привяжется к Вам, и не отпустит Вас; ибо эта дикость – в нарочито диком месте, где Иоганнес переживает то, что «все предметы сходят с мест» (одно из многообразных следствий ощущения приближения Weltgedanken в своей голове из Welten-Weiten – подозревает ли это г-н Степпун?).
А вот бледная попытка перевести этот монолог Иоганна, не передающая и одной десятой подлинника[3744].
(Weltgedank<en> в e<so>ther<ische> плане)
Разве это так банально, плохо, смехотворно, пошло? Мне это скорей напоминает Кальдерона, Шекспира; и – я одного не понимаю; отчего люди, читая эти строчки, покатываются с хохота; изображено то, с чего начинается Gedаnkenleben[3761] в ок<культном> пути; и изображено точно, в исполненном содержания монологе, богатом ритмом, метром и словесной инструментовкой; и если для чтения такого монолога Рачинскому нужен диван, чтобы падать от хохота, то это оттого, что он пьет водку и еще никогда не хотел erkennen[3762] себя самого; вот тогда бы он увидел водку всех десятилетий на том, кто glotzt aus dem finstre Abgrund[3763] на него, т. е. на Wilde Wurm[3764] сброшенного тела; все здесь – чрезмерно просто и реально; и страшно своей реальностью; и – ей, ей: не до смеху; смеяться тут могут Степпуны, которые не способны понять, что реалистическое видение Wurm’a (Фафнера – Hüter’a[3765]) реалистически заключено в словах «in meinem Denken leben Weltgedanken» и лишь частность этого: вот Вам и «пошлая схема», г-н Степпун: состояние Иоганна не «сиреневая ветка мистики» и не писание статьи о «ценности состояния»… Есть состояния, г-н Рачинский, которые при всей неприятности an und für sich[3766] усугубляются, утрояются – удесятеряются при самопознании – водкой; и когда познаете Вы это, то скажете: «Над кем смеюсь? Над собой смеюсь??»[3767] Весь этот монолог проходит через несколько сцен во всех темах и образах в тональности обратной с рефреном «O Mensch, erlebe dich»[3768]; и это kennende Leben[3769] или lebendige Können[3770], тематически, оккультически и поэтически прекрасно проведенные в двух полярно противо<по>ложных, полярно-подобных сценах, повторяются затем еще раз сквозь призму Люцифера (O Mensch, erkenne mich! O Mensch, empfinde dich) и Аримана (O Mensch, erkenne dich, O Mensch, empfinde mich)[3771]; и это kennende Leben, расслоенные на сцену с erkennen и сцену с erleben, – вот она опять, преломленная сценами с заклинаниями Луны, Астрид, Филии[3772], чьими Schattenbild’ами[3773] являются наши Fühlen, Denken, Wollen[3774] – это kennende Leben искажается еще раз Люцифером и Ариманом и уже потом из многообразия клубящихся лейт-мотивов вырастает сперва робкое «in deinem Denken» у Капезиуса (2-ая мистерия)[3775], и лишь в 3-ьей мистерии гиератически, по-диаконски и победоносно возглашаются Бенедиктом: «in deinem Denken leben Weltgedanken»[3776]. У Степпуна, конечно, не было и переживаний приведенного монолога, он не знает Астрид, Филии, Луны, он не переживал себя; он даже не знает Люцифера и Аримана, ибо сосет соску за пазушкой у обоих, – где же ему понять, что такое тут разумеется под Weltgedanken; если бы хоть одна Weltgedanken не то что захотела бы leben, а так, спросонья чихнула бы у него в голове, верьте: в Мусагете произошел бы взрыв: разорвался бы снаряд в помещении редакции – голова Степпуна, и личные мысли прыснули бы и на Арбат, и на Пречистенский бульвар, и в «Прагу»[3777], и в Александровское – юнкерское – Училище, подобно Ameisen[3778]: Дмитрию[3779] пришлось бы много поработать…
Бедный Степпун:
Кстати: когда Иоганнес слышит слова, жалобно нараспев летящие к нему
И далее идут многообразные и колдующие вариации этих слов.
Тема моей статьи, не правда ли, намечается; о Степпуне, Рачинском, разумеется, я – ни слова; да и, вообще, никакой полемики я себе не позволю – ни с кем; полемика – это только в письме к Вам; но право же, когда слышишь на «leben Weltgedanken» ответ, что, мол, это знакомо (как будто и Доктор, когда писал, и мы, когда приводим эти слова, не знаем почтенного возраста и многообразных вуаяжей этой выспренной истины по мировой литературе), то становится столь же конфузно за возражателя, как, вероятно, становилось конфузно первым христианам, когда римский патриций с брюшком, обезьяна Петрония, любезно осведомлялся у своего раба: «Э, посюшай, мой друг: я, человек либеральный и не стану там вас осуждать – э, посюшай: правда, как это там у вас: пьют кровь детей и едят Бога…» Степпун, вероятно, полагает, что «In dein<em> D<enken> l<eben> We<ltgedan>ken» – это вот что такое: за черным кофе после сытного завтрака приятно думается; от пищеварения ли, от праздности ли всякое такое шевелится, из чего не мешало бы составить статейку, в которой привести мнение такого-то философа, у которого данная, пищеварительно взыгравшая (из чрева в голову) мысль облекается в «универсальную форму», которая приятно уносит фантазию, как «всеобщая форма»; и вот он, Степпун, приятно высказывая ее в Нижнем-Новгороде на лекции (предварительно протрясшись весь день на ваньке в специально налощенном рукавом цилиндре) – да: высказывая эту мысль на лекции, он, Степпун, патетически воскликнет: «Увы, эта мировая мысль, осознанная критической философией, как Всеобщая форма под вивисекционным ножом критицизма и формы всеобщего приобретает методологический характер; мы, критицисты, постулируя методологически свободу парений, в наших трезвых научных трактатах дерзновенно срываем покров несвободы с мировых мыслей». И закончив лекцию патетическим возгласом: «Zwei Seele<n> leben, ach, in meiner Brust»[3782], наденет цилиндр и удалится в кабак, где будет до рассвета предаваться словопроизводству мировых мыслей, вытаскивая их из нагруженного коньяком и безусловно иррационального (следовательно: мистически настроенного) желудка – органа метафизического творчества (и местопребывания «zweite Seele»[3783]), дабы вскоре окончательно реализовать продукты этого творчества путем двоякого извержения (вверх и вниз) в ресторанном ва… кл… те…
Нет: «In deinem Denken leben Weltgedanken» вовсе не то, а – вот что: язык иерархий; «идеология – язык иерархий» и не в переносном, а в буквальном смысле; и опять-таки буквальность этого смысла надо понимать правильно; неправильно было бы, например, толковать эту буквальность в том смысле, что, дескать, ангелы, архангелы, архэ[3784] и т. д. разговаривают с нами мыслями или что слова их – мировые системы; а так надо понимать слова какого-нибудь архэ, отраженные десятью мутными зеркалами: что они превращаются в совершенную неразбериху, подобно тому, как если бы мы слушали речь норвежца о философии Киргегоора на норвежском языке и из всей речи единственно поняли бы два слова «Grüss Gott» или «Mahlzeit»[3785]. Это «Grüss Gott» явилось бы нам, как философия, скажем, Платона; философия Платона есть обрывочно из гула глубин упавшее в ухо «Mahlzeit» какого-нибудь архэ; и в этом лишь смысле мысль Платона есть язык иерархий. Так что ангелы говорят не мыслями, но творчески-философские мысли так по форме своей относятся к словам соответственной иерархии, как форма печатной строки (в лирическом стихотворении) относится к лирической картине, вычитываемой из суммы букв, вытянутых в строку (это – слова Доктора); так я могу: прочитывать букву за буквой: зе, о, эль, о, те, о; я прочитываю все буквы и все-таки без особого акта разумения из суммы з + о + л + о + т + о не получится «золото» (нечто сверкающее в воображении); философия Платона будет лишь з + о + л + о + т + о, т. е. сумма слагаемых, а не сумма; и все же сумма «золото» (конкретизация суммы з + о + л + о + т + о) в своих неосмысленных звуках «з» «о» «л» «о» «т» «о» будет соответствовать «золоту», а не сумме «эм + ять + де + ерь» (не меди); пока я слежу глазами, как гоголевский Петрушка, за чередованием верно начертанных знаков к «золото»[3786], я имею eigene Gedanken[3787], которые в своем Еigenheit[3788] доходят до иллюзии Weltgedanken (Степпун думает, что у Доктора «das ist der Fall»[3789]), все-таки это будет сумма начертаний Ζ, Ω, Λ и т. д. Когда буква за буквой я буду произносить вслух «зззззееее», «ооооолллл», «ооооттт», «оооо», то эти звуки во времени «зззз» – «ооллл» – «ооотт» будут столь разниться от начертаний на плоскости, как Мадонна Рафаэля от рассказа о висящем в Дрездене полотне[3790]; это и будет «Imagination»; окк<ультисты> умеют, например, имагинировать Платона, Иоанна Богослова и т. д.; но имагинация есть переходная стадия от Ζ Ω Λ и т. д. через «ззз – ооолл…» к слову золото; при сложении этого слова вдруг мне блеснет «золото» (золото Рейна[3791], золото старинных облачений, солнце, лучи и т. д.); и опять-таки то, что блеснет, как реальность (при «золоте» я не вспомню, например, маринованных устриц), будет так отличаться от звуков во времени ззз – оооллл… как звуки эти отличаются от значков на плоскости: это и есть инспирация, идеофемия (Ψ Π Μ говорю), язык архэ:
Итак: 1) «Критика чистого Разума» = Ζ Ω Λ Ω Ψ Ω Eigene Gedanke; erscheint wie Weltgedanke[3792] (не → W<elt>g<edanke>). «Mahlzeit» неизвестно откуда.
2) Звуко – Душе – Образ, живущий во мне во время симфонии Бетховена: ззз – оооллл – ооот – оооо; Imaginatiwe Gedanken; вижу ослепительный образ ангела в schwebende Form[3793], что-то говорящего мне, но я слышу лишь Mahlzeit.
3) Ни с чем не сравнимое, живущее лишь в высочайшие моменты <в> высочайше согретых медитациях (в умном делании): золото; inspirative Gedanke; образ ослепительно вычерчивается в деталях и говорит: «Mahlzeit liebe Herr Medtner; ich möchte ihnen erzählen über Goethes sonstiges Leben in Geistesland; Goethe meint u. s. w…»[3794]
И четвертое: я сам есть говорящий ангел; мое Ich ходит на двух ногах; эти ноги – мысли; ходит он по гранитному материку (буквально) философии Платона, по берегу моря – бетховенских звуков (реально), омываемый воздухом фаворского света и света видения по Пути в Дамаск[3795]: это – интуиция (то, что в eigene Denken интуитивного, – жалкая пародия этого). И теперь я – Weltgedanke, т. е. со ангелами ангел в обители света; но – где мой мозг? Черная дыра где-то на горизонте фаворских пространств?
Итак: 1) жалкое Wahn[3796] Weltgedanken – философия Платона; (Denken)
2) Имагинация (из-за горизонта шум крыльев Weltgedanken: что это? Гром? Глас? И – образы, образы от громов: парообразование, тучи – великан Риза[3797]) (шесть существительных к прилагательным: старое, вечное и т. д. во все врем<ена>).
2) <так!> Инспирация: говорящий мне «старое, новое во все времена»[3798] Weltgedanken in Umgebung des eigenes Gedanke[3799].
3) Интуиция: Ты – белый камень в Храме Бога живого; Ты – старый и новый во все времена в приятельском кружке (не Рачинского, Бугаева и Марг<ариты> Кирилловны[3800]), а в кружке Света Святовича Ангела и Архай-Лучезаренки (да простите мне сие уподобление) Ты – не Метнер, а Злато-Лазуринский. Weltgedanken.
In deinem Denken leben Weltgedanken!!
Бедный Степпун!!
Самый же возглас «In deinem Denken leben Weltgedanken» – не Weltgedanke, а лейт-мотив 4 мистерий, звучащий людям, которые в чистке себя и в парообразованиях имагинации готовятся к тому, чтобы Weltgedanken приблизились к их Umgebung[3801]; но самая чистка в их denken, fühlen, wollen при помощи denken есть Denken, разительно отличающая от прочих Denken («как» этой чистки); и это как, взятое эмблемою пути к Weltgedanken, столь центрально, что среди прочих многих Denken оно более других Denken → Welt-Denken.
Кстати: was[3802] Weltgedanken есть ничто иное как Geistesland[3803] и потому was это познается на вершинах пути; и остается wie[3804]. Мысль «Бог – есть» еще более банальна, чем мысль «In dein<em> D<enken> l<eben> W<eltgedanken>». И потому-то только Сте – ппу – ну надо объяснять, что означенный возглас надо брать не в was, а в wie, а это wie – 4 мистерии. Бедный Сте (Erste Seele[3805]); я ее очень люблю, но ППу (zweite Seele lebt in[3806] «желудок») может погубить Сте постепенным врастанием в Сте: Сте – ппун; –те – пппун (или ти – пппун), и – ппппун; и даже: пп – пп – пун!! Ужасно!
Посоветуйте ему для более четкого восприятия Weltgedanken умерщвлять свою плоть: именно ту ее часть, которая ниже сердца.
Подумайте: три года воздержания, и добрая, милая честная Сте уничтожит свое «пе»; из прозванной «п» прольет «ун» (содержание желудка – zweite Seele) и будет Сте с приростом «iiii» духовности; и Сте станет Сите (Cité, т. е. град); всякое тело есть храм, град и только о – ппп – овение превращает благоуханное тело в «брюхо».
Милый, простите меня за ерунду: она безобидна, а доброго Степпуна я действительно люблю. И мои обидности лишь шалость слова.
Доктор сказал:
Так: Eiche[3808] – 4 мистерии; Samenkorn[3809] – «In d<einem> D<enken> l<eben> W<elt>g<edanken>». Мистерии Samenkorn – 30-ти циклов; 30 циклов → Samenkorn – occulte Leben; occulte Leben → Samenkorn + Weltgedanken; вместо такого понимания смысла Weltgedanken Степпун проглотил их буквально → фраза попала в желудок и отрыгнулась: вот ему и кажется, что она – пошлá; не она пошлá, а неприятна отрыжка. Не вина фиалки, если я вместо того, чтобы ее обонять, съем ее: объект обоняния – она прекрасна, объект завтрака – вызывает отрыжку.
Милый друг! Сегодняшний день я провел с Вами; хотелось многое, такое хорошее наговорить; и вместо всего – шутки над Степпуном!! «Язык до Киева довел»; и лучше – умолкну.
Пусть все же невысказанные слова скажутся (надеюсь – скажутся), а неуместные тарабары иссякнут без последствий в Вашей душе: замкните их; они – фонтан («Путник, если ты ночью проходишь мимо фонтана – замкни его: дай отдохнуть и фонтану. Прутков»[3810]). И я замыкаю фонтан; шутливые стечения мыслей гонят меня в обратную сторону от Weltgedanken. И – потому: до скорой новой беседы друг с другом.
Остаюсь глубоко и прочно преданный Вам
Борис Бугаев.
Ася приветствует Вас и Freulein Hedwig[3811], которая ей ужасно понравилась.
Мой привет и уважение ей[3812].
РГБ. Ф. 167. Карт. 3. Ед. хр. 16. Почтовый штемпель отправления: Lian. 24 IX 13. Штемпель получения: Pillnitz. 26. 9. 13.
305. Метнер – Белому
Pillnitz 15/28–IX–913.
Если бы я отличался суеверием, дорогой друг, и не был бы уверен (как никогда раньше) в Вашем безусловно искреннем расположении ко мне, то я бы сказал, что Вы сглазили меня (или оторвали кусок моего эфирного или астрального тела и взяли с собой в чемодан для okkulte Forschung[3813] в Христиании). После Вашего отъезда[3814] принялся за работу, и вдруг через несколько дней безо всякого внешнего повода напала такая неврастения, что я должен был бросить все и, как идиот, сидеть смирно и смотреть на воробьев; при этом полное отсутствие аппетита (при нормальном желудке), плохой тревожный сон и быстрое похудание. На днях уезжаю в Москву, где меня ждут страшные неприятности с агентурой Кожебаткина и вообще с мусагетскими непорядками, кот<орых> я не в силах устранить, т<ак> к<ак> у меня нет людей. Слава Богу, что Киселев согласился помочь[3815]. Согласитесь, что в таком состоянии я не в силах составить формулятивную записку для Штейнера, и сделаю это, как только смогу[3816]. – Сирин наверно переиздаст Ваш роман (т. е., конечно, Серебр<яный> голубь) и стихи. М<ожет> б<ыть>, и симфонии. На основании этого «м<ожет> б<ыть>» («вопрос о симф<ониях> просим отложить» etc.) Мусагет, конечно, в свою очередь, м<ожет> б<ыть>, издаст Ваши симфонии[3817]; изданы они будут во всяком случае, и поэтому, конечно, Вам надлежит заняться их пересмотром. Вы знаете, что симфонии принадлежат к любимейшему, что Вы написали, – для меня. Видеть их в мусагетском каталоге было бы более чем отрадно. Но Мусагет должен экономить и прежде всего выполнить все свои обязательства, т. е. напечатать уже обещанное или подо что выдан аванс. Поэтому в вопросе о симфониях играет огромную роль не только идейная, но и материальная сторона. По соглашению с Терещенко (когда он приезжал в Москву оккупировать Белого у Мусагета) было решено, что печатание Ваших вещей в Сирине не должно быть в ущерб интересам Мусагета. (Помните, я писал Вам тогда об этом?) В частности, Терещенко признал (ввиду Вашего долга), что права на Ваши произведения имеет Мусагет и что если Сирин будет печатать Вас, то гонорар (за исключением той суммы, кот<орая> необходима Вам для жизни), будет внесен в кассу Мусагета в уплату Вашего долга[3818]. Напоминаю Вам об этом только потому, что теперь обстоятельства изменились в двояком направлении: 1) 1913 год на исходе; обеспечен ли у Вас 1914 г., будет ли Сирин платить Вам 333 р. 33 к. и в 1914 г.? 2) Ваше имение наконец реализуется[3819]. 1) + 2) = X; т. е. возникает вопрос, как мне быть с Сирином; не можете ли Вы ему на досуге написать, намерен ли он, продолжая выплачивать Вам и в 1914 г. 333 р. 33 к. в месяц, уплатить хотя бы часть гонорара, следуемого Вам за второе издание Голубя и переиздание стихов, в кассу Мусагета в погашение Вашего долга. Если выяснится, что симфонии не пойдут в Сирине и в 1914 г., тогда мы напечатаем их по высшей допустимой расценке, и тем скинется еще значительная сумма с Вашего долга. А к тому времени окончится и с имением. – Итак, во всяком случае, займитесь симфониями. Вот – о делах.
Что касается Wagneriana[3820], то я отправил Вам их, т<ак> к<ак> мы с Вами как раз слушали Валькирию[3821]. До Вашей статьи обо мне – далеко, как и до моей о Вас[3822]. –
Что касается Вашей статьи о мистериях[3823], то я вовсе не определял ближе темы и был уверен, что Вы не забыли о своем праве писать, как и что хотите (раз вопрос не касается общей программы всего Мусагета, где, разумеется, необходимы взаимные уступки и предварительные соглашения). Если Вы думаете писать о художестве мистерий, то и это, конечно, будет напечатано. То обстоятельство, что я не вижу этого художества, роли не играет. Вообще пишите о чем хотите и что хотите, только, дорогой Борис Николаевич, пишите, а то выходит, что я Тр<уды> и Дни основал по Вашему желанию и по желанию Вячеслава, а Вы оба, занятые более важным, не пишете. Журнал теряет от этого[3824].
Что касается эскиза и плана Вашей статьи, изложенной в письме, то (помимо уже упомянутого выше согласия на такую статью) лично могу сделать нижеследующие замечания.
1) Ваша теория ритма (вообще поэтика) как теория an und für sich[3825] замечательна и по-бугаевски гениальна, но она все же – теория, а следовательно, одностороння, и ее односторонность (т. е. относительная узость и произвольность) выявляется при применении ее к Штейнеру.
2) Prius[3826] Вашей оценки Штейнера не в теории Вашей, а в Вашем непосредственном восприятии его поэзии как поэзии Вашего Мейстера и великого оккультиста.
3) Исходя из этого субъективного обаяния, Вы прикладываете теорию (т. е. относительно частично-верный критерий), причем у Вас пропадает центральное, т. е. die artistische Unbefangenheit (артистическое беспредрассудочное чувство); действует только стихийное обаяние и теоретический анализ.
4) То, что Ваша теория вскрывает интересного и ценного в поэзии Штейнера, есть не Штейнер, а немецкий язык и немецкая поэзия. Вы впервые как следует вплотную подошли и к тому, и к другому; у Вас еще отсутствует перспективное и ориентировочное чувство в определении высот, глубин и дистанций между немецкими поэтами. Язык немецкий после санскрита и греческого самый естественный богатый ритмичный и звучный, и немецкая лирика величайшая в мире (это – несомненно); языки не первичные вроде франц<узского>, англ<ийского>, италь<янского> etc. или славянские не могут соревновать с нем<ецким>; первые – лоскутные, последние, т. е. славянские, – восковые, русский – крепче всех. Штейнера несет стихия немецкого поэтического языка, как море плохого пловца (пока он не устал). Поверьте, что любой десятистепенный немецкий поэт походит на Штейнера формой (поскольку она может быть отвлечена от содержания). Ваше восхищение языком и звуками меня трогает, даже удовлетворяет мой «германизм», но ничто так мне не ясно, как то, что это восхищение – не по адресу; наоборот, язык Штейнера, как в прозе, так и в стихах, невероятно сер, бесцветен и малозвучен. Насколько Эллисовский и Ваш перевод лучше подлинника! Сразу чувствуется все-таки чисто-поэтическая рука. – Я редко читал книги крупного и современного немца, которые были бы написаны таким плохим языком; сравните только язык философии Штейнера с языком Макса Десуара или Христиана Бродерсена, а его поэзию (не говорю уже с вождями вроде Ст. Георге), а с Александром Шредером или со Стукеном (мистерия «Гаван»[3827]; вот где – ритмы).
Не сердитесь, дорогой; я прочел Ваше письмо с огромным наслаждением и пользой. Но по содержанию, кроме Вашей остроумнейшей критики всяческого степпунизма, принять пока ничего не могу из не интимного – обращенного ко мне лично. Штейнер для меня книга за семью печатями. – Для Вашего оккультного сведения (конфиденциально) сообщаю: до получения Вашего письма: 1) испытывал сдвиг предметов; пианино оказалось словно поставленным наискось; 2) среди тревожных снов один: я со своим трупом в одной комнате: труп мой на столе покрыт простыней, а я на постели под одеялом; некто стоит у трупа и говорит: надеюсь, что разложение не наступит так скоро и запах не помешает Вам эту ночь проспать в этой комнате. – Странная неврастения?? – До свиданья, дорогой; не негодуйте на меня. Ядвига[3828] кланяется Вам обоим, и передайте от меня мой привет Асе. Обнимаю Вас крепко; мы с Вами не только старинные, но и странные («по какому-то»[3829]) друзья. Горячо любящий Вас Э. Метнер.
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 11.Ответ на п. 304.
306. Белый – Метнеру
Не веселое это письмо. Я хотел бы, чтобы Вы воззвали в себе все миролюбие, чтобы выслушать мои слова в полном спокойствии, – и понять, что не поверхностное переживание мне его продиктовало, а ядро моей души. Если в жизни человека бывают случаи, когда понятие о долге перевешивает все личные чувства (дружбы, раздражения, любви, ненависти) и все личные отношения (отношения к друзьям, врагам, жене, родителям), то именно из этой сферы полного бесстрастия и вместе с тем решимости обращаюсь я к Вам с этим письмом.
Вы хорошо помните наш договор в прошлом году, касающийся нашего modus vivendi[3830] в «Мусагете». Договор, который я соблюдал бы и без всякого договора; а именно: я не буду касаться тем, близких мне, как ортодоксальному и убежденному штейнерианцу, и К<нигoиздательст>во «Мусагет» с своей стороны не касается тем, могущих особенно поранить меня неосторожным обращением с учением доктора Штейнера. Исключением из заключенного modus vivendi является Ваша книга[3831], которая опирается на печатные труды доктора и на которую я должен был отвечать Вам книгой или статьей. Так было решено. И я с радостью согласился на это, зная Ваше благородство. Но я полагал, что этим печатанием книги не нарушается наш modus vivendi и что в отношении к этому modus’у vivendi обе стороны должны быть на уровне благородства, терпимости и деликатности; и вот сейчас я получил известие, которое, верьте, кажется мне чудовищной нелепостью, которая опрокидывает передо мной все понятия о… человеческих отношениях. Я отказываюсь верить, и я – должен верить.
Оказывается, что в «Мусагете» на днях выходит книга Эллиса о докторе Штейнере, и я оказываюсь совершенно не в курсе дела[3832]. Я лишь слышал, что Эллис собирается что-то такое писать об оккультизме и, признаться, не придавал этому никакого значения, ибо Эллис собирается писать десятилетиями; не придавал значения и еще потому, что член Антропософического общества может, конечно, писать какие угодно книги об оккультизме («оккультизмов» много); но вот оказывается, что 1) Эллис демонстративно уходит из О<бще>ства[3833], 2) уходя, выпускает книгу против того, кого вчера он называл своим учителем, 3) обладая отсутствием представлений об элементарном такте и чести и обладая знанием многого количества циклов, запрещенных в продаже[3834], он, конечно, сопровождает свой низкий и некрасивый поступок критикой сведений, почерпнутых им из бесед с доктором Штейнером. Такая стремительность в связи с выходом из О<бще>ства, которому он был столь многим обязан, есть низость, а то утаивание своего поступка от всех нас, его, по его словам, близких друзей, показывает, что, вероятно, к этой низости присоединяется и подлость предательства, т. е. разглашение сведений, не допустимых в печати.
И это подлое дело, дело Иуды Искариота совершается при содействии К<нигоиздательст>ва, руководимого моими друзьями без своевременного уведомления меня, т. е. к подлому поступку, поступку предательства, я прикладываю руку (меня втягивают в подлость, т. е. Вы вольны как угодно смотреть на поступок Эллиса, а я, как ученик доктора, не могу не видеть его моральной гнусности, а своевременное не-уведомление меня, что книга печатается и на днях выходит, есть еще замешивание бессознательное меня в подлость, ибо я, член Редакции, принимаю моральную ответственность перед обществом, доктором Штейнером и русской публикой в поступке, который я квалифицирую, как член А<нтропософического> о<бще>ства, как подлость).
И вот: в последнюю минуту я это узнаю от посторонних лиц[3835], не имея даже <возможности?> ни своевременно опротестовать в печати свое неприкосновение к печатанию книги Эллиса, ни выйти из «Мусагета». И надеюсь, что мои антропософские друзья Петровский, Киселев, Сизов и Ахрамович не подозревают о выходе на днях книги Эллиса, т. е. разглашении в печати, иначе они своевременно заявили бы о том, чему обязывает их совесть, ибо тут объективно стоит или – или: или не быть членом антропософического Общества, или не иметь прикосновения ни внешнего, ни внутреннего к книгоиздательству «Мусагет».
Ибо поступок Эллиса есть подлость 1) перед д<октором> Штейнером, 2) подлость перед антр<опософическим> о<бще>ством, 3) подлость по отношению к друзьям, ибо он выпускает книгу украдкой, как «тать в нощи», вместо того, чтобы дать ее на просмотр нам, друзьям, ибо, зная свой темперамент и невольное тяготение к разглашению запрещенного к опубликованию, он, как порядочный человек, дал бы на цензуру книгу нам (цензуру не мнений, а затрагиваемого материала). Мы предложили бы ему на выбор, или печатать не в «Мусагете», или заблаговременно уйти нам из «Мусагета».
Вместо этого он тайком печатает пасквиль, «Мусагет», без предупреждения, без отдачи нам на цензуру произведения Эллиса печатает пасквиль. Получается очень грязная картина, т. е. мы (я, надеюсь и Петровский, Сизов) просто в грязном, в отчаянном положении, не говоря уже о том, что нарушается дружеское modus vivendi совершенно не мотивированным образом с нашей стороны.
Нет, есть предел терпению. И даже не терпению, а…
Слушайте, милый друг! Не верю, чтобы «Мусагет» так издевался над самым дорогим и заветным чувством души: целомудренностью и прямотой нашего отношения к доктору. И если это так, то остается мне в полном самообладании и с великою горечью поставить ультиматум.
Книга Эллиса никоим образом не выходит из печати: «Мусагет» ее не издает. Не появляясь в Мусагете, она может появиться в другом месте при условии, что рукопись поступает на просмотр нам, антропософам, причем мы выкидываем из текста все места, имеющие какое-либо касание циклов доктора Штейнера. В противном случае Эллис оказывается господином, которому я отказываюсь подать руку; и более: я с чувством великой горечи и внутренней боли должен буду всюду заявлять, где могу, что он – подлец. И полагаю, что и прочие друзья постараются спасти от позора и поругания дело доктора, именуя поступок Эллиса его собственным именем.
В противном случае нам всем, антропософам, имеющим какое-либо отношение к «Мусагету», прервать всякое отношение с «Мусагетом» (по крайней мере так мне диктует совесть); и, милый друг, с горечью должен заявить: мне придется сказать всем лицам, имеющим прикосновение к печатанию пасквиля: «Мы более не можем быть знакомы никогда, каковы бы ни были связи, соединявшие нас». Кто бы ни приложил руку к печатанию пасквиля, друг, отец, жена, брат, мы, мне кажется, не можем не реагировать разными способами. Я, по крайней мере, буду вынужден так поступить. Тут говорит не злость, не запальчивость, не боль даже, а что-то другое; и это заявление не клятва, не честное слово, а что-то более глубокое, объективное, что не стоит в связи с темпераментом, чувством и т. д. и т. д.
Никогда, никогда – ни с кем из приложивших руку к предательству Эллиса я не в состоянии буду ни встретиться, ни обменяться словом, ибо иначе было бы поругано во мне все святое святых во мне.
И вот: неужели это мое последнее письмо? Неужели жизнь нас на‐все‐гда разводит? Почему? За что? Но поймите: что дело это (с пасквилем Эллиса) в тысячу раз сериезнее, чем Вы в наивности (печатая украдкой) могли предполагать. Или то, что я узнал от Ан<н>енковой сегодня[3836] и что нас всех потрясло более, верьте, чем смерть родного отца, родной матери, – печатание пасквиля Эллиса без уведомления заранее, без цензуры, с нарушением всех дружеских статус-кво есть факт?
Мы все здесь поражены, потрясены: не верим. Я не смею никому взглянуть в лицо: «Это делает Мусагет?»
Не верю!..
Книга, конечно, не выйдет. Неужели книга разломает ряд интимных отношений, скрепленных годами. Но поймите: книга Эллиса – под-ло-сть. Если он не даст ее нам на предварительный суд – он подлец…
Неужели прощайте навсегда?
Жду телеграммы.
Борис Бугаев.
P. S. Я пишу так определенно, потому что Ан<н>енкова передала мне это сведение со слов Киселева.
Иначе, я не поверил бы, если бы мне известие это было передано, как слух[3837].
РГБ. Ф. 167. Карт. 3. Ед. хр. 18. Датируется по почтовому штемпелю отправления: Berlin. 20. X. 13. Штемпель получения: Москва. 9. Х. 1913.Письму предшествовала телеграмма, отправленная 6 (19) октября 1913 г. из Берлина по адресу «Мусагета»: «Книгу Эллиса не выпускать до письма – Бугаев» (РГБ. Ф. 167. Карт. 3. Ед. хр. 17. Текст – латиницей).Еще одна телеграмма была отправлена оттуда же по тому же адресу 8 (21) октября: «Задержка книги Эллиса для меня вопрос чести требую задержать – Бугаев» (РГБ. Ф. 167. Карт. 3. Ед. хр. 19. Текст – латиницей).
307. Метнер – Белому
Траханеево 12/25–X–913.
Если бы не наша встреча в Дрездене[3838], которая снова дала доказательство где-то в глубине кроющейся связи наших личностей, то я, конечно, мог бы реагировать на Ваше от 7/20–X письмо только красноречивым молчанием, долженствующим обозначить момент нашего окончательного разрыва. Ибо достаточно малейшего подозрения (в форме вопроса: «неужели», не говоря уже о форме решительного утверждения: «Мусагет печатает пасквиль» и т. п.), подозрения (несомненно во всех формах выраженного в Вашем письме) в том, что я конспиративно содействую подлому делу пасквилянта и ренегата (Вы понимаете или нет), что достаточно одного только подозрения меня в этом, чтобы автор этого подозрения перестал для меня существовать, кто бы он ни был. Никто никогда не ставил на пробу терпение и преданность своих друзей в такой невыносимой мере, как Вы. – Неужели оккультизм не научил Вас (если уж природа создала Вас столь… нетерпеливым и нетерпимым) сдержанности; почему Вы просто не написали: «Дорогой Эм<илий> Карл<ович>, что это за книга Эллиса, кот<орую> Вы печатаете?» – и не подождали моего ответа, а поверили какой-то там даме, принесшей Вам неверный слух из Москвы, которую Вы сами же клеймите гнездом сплетен? –
Вот обстоятельства этого дела: 1) После Вашего отъезда в Христианию[3839] пришла рукопись Эллиса; если бы до или во время, то, конечно, я бы ее показал Вам. 2) Рукопись небольшая; скорее крупная статья или маленькая брошюра; написана столь мелко, грязно и нечетко, что я (будучи больным) мог только прочесть из нее наугад несколько фраз в разных местах и, видя, что это – обычная католическая экспекторация[3840] Эллиса, ничего пасквильного не содержащая (на первый взгляд), отправил ее Киселеву (который заменил Ахрамовича (по болезни выходящего в отставку)[3841]), с предписанием внимательно ее прочесть и, если в ней нет ничего предосудительного, то сдать в набор (смотря по размеру) либо как брошюру, либо для Тр<удов> и Дн<ей>. – Поступил я так по двум причинам: во-первых, Эллис в довольно скорбном письме, где он жаловался на задержки в его литературной деятельности[3842], очень просил меня поспешить с печатанием этой рукописи; во-вторых, я считаю Киселева, члена антропософ<ического> общ<ества> и огромного знатока литературы по оккультизму, в то же время не ярого штейнерьянца, настолько беспристрастным судьею такой рукописи, кот<орая> все же касается острых вопросов, обострившихся вдобавок в Мусагете. – 3) Киселев[3843] конспирировал с рукописью по соображениям, по-моему, веским, не желая вызывать толки вокруг Мусагета, но о рукописи сказал Петровскому[3844]. Впрочем, обо всем этом его, Киселева, касающемся, он сам Вам напишет. Рукопись набиралась, когда я приехал двенадцать дней тому назад в Москву[3845], и потому я ее в корректуре сам еще не читал. Каким же образом могли бы с ней познакомиться раньше Вы или Петровский; знает ее только Рачинский, т<ак> к<ак> Киселев случайно встретился с ним и, кажется, кое-что прочел ему из рукописи; Рачинский, Киселев, я[3846] – за напечатание; Вы (пока, a priori) и Петровский (тоже a priori) против; три голоса против двух; литературный комитет (говорю a priori; посмотрим, что будет) явно высказывается, следовательно, за напечатание; кроме того, Эллис как-никак все же один из основных членов издательства, на которого как на такового Вы же в прошлом году опирались, ставя мне различные требования по вопросу о направлении издательской деятельности. – 4) На Ваши телеграммы мы ответили, что высылаем корректуру. Она будет готова в понедельник 14/27–X. Киселев пишет Вам. Это мое письмо, м<ожет> б<ыть>, задержится, т<ак> к<ак> не каждый день ходят на почту, а в Москве я не имел времени написать Вам. Как только я прочту в корректурах брошюру Эллиса окончательно, немедля дам Вам и окончательный ответ, будет ли она напечатана. Вас же прошу иметь мужество направить все те оскорбления, которыми Вы обдали Эллиса в письме ко мне, направить ему лично; м<ожет> б<ыть>, тогда он (с Вашей точки зрения) «образумится» и сам откажется от опубликования этого, как Вы называете, пасквиля.
Вот – обстоятельства этого дела, которое вызвало снова и опять столь необдуманное и обидное на меня нападение. Между прочим, Вы очень странно формулируете или толкуете наш договор: «я, Андрей Белый, не буду касаться тем, близких мне как ортодоксальному и убежденному штейнерьянцу, и Мусагет с своей стороны не касается тем, могущих особенно поранить меня неосторожным обращением с учением доктора Штейнера». Наш договор вовсе не имел столь субъективный и столь абсолютный характер. Да если бы это было так, то Вы бы со своими афоризмами[3847] явились первым, кто этот договор нарушил; нужды нет, что в них почти не упоминается буквально даже оккультизм, не говоря уже о Штейнере; но только слепой не увидит в этих афоризмах введения в штейнерьянскую проповедь. Все острие, все жало этих афоризмов штейнерьянское, а ницшеанское – только одеяние. Недаром alles ist zugespitzt[3848] к цитате из Штейнера[3849]. Если бы договор был таков, стал ли бы я предлагать Вам написать статью о мистериях. И решился бы я сам выступить с критикою псевдогетеанства Штейнера? – Нет, наш договор был внеличный и толерантный. Речь шла не о pro и contra Steiner, а о том, что наша платформа остается без изменения и что специфически оккультные темы не должны подвергаться обсуждению (как не подвергаются обсуждению темы по математике и естественным наукам), но допускается общая культурная оценка и критика оккультизма (в том числе и Штейнера), причем антитеософы и теософы мирно могут спорить на страницах Трудов и Дней, раз уже нельзя вовсе молчать (как это вскоре же оправдалось на Ваших афоризмах, на статье Степпуна[3850], на Мюнхенских письмах и Парсифале Эллиса (см. Wagneriana)[3851] и теперь на брошюре Эллиса). – В этом смысле о нашем договоре я оповестил тогда еще и Вячеслава, кот<орый> беспокоился, чем кончится вопрос об оккультизме в Мусагете[3852]. –
Книга Эллиса называется Vigilemus и вовсе не направлена прямо на Штейнера; тогда Ваши афоризмы – суть гласное и решительное коронование Штейнера. Эта дама вообще просто преждевременно… выкинула[3853]; вообще не слушайте никогда никаких дам. – О демонстративном выходе Эллиса из общества я ничего не знаю. – Эволюция Эллиса не есть a priori подлость; для меня, как для литератора, Бодлэр, Брюсов, Штейнер, Маркс, Данте все одинаковые мэтры Эллиса; если бы он написал книгу против каждого из них по очереди, книгу корректную, хотя бы и с темпераментом резким, я бы напечатал. Я не разделяю эллисовской быстроты эволюционирования, но считаю это – искренностью. Вы вольны думать иначе и поступать как хотите, но (если окажется, что априорное заключение Литературного Комитета совпадет с апостериорным), то правильно (с моей точки зрения) было бы уведомление Вами антропософического общества, что Вы подали голос против брошюры, но что большинство было за. Если брошюра Эллиса (которую пока хорошо знает один Киселев, ее вполне одобряющий) окажется корректной (в моих глазах и в глазах Рачинского), а Вы все-таки не сочтете возможным уступить и остаться в Мусагете, то это обнаружит только возмутительный папистский иезуитский догматизм и абсолютизм оккультной школы; Мусагет прежде всего – свободомыслие на высших планах (религиозный и оккультный либерализм); всяческий абсолютизм, взывание к цензуре, всяческая ортодоксальность, которая теснит неортодоксальность, непримиримы с идеей Мусагета; это Вы знаете; если ортодоксальное католичество Эллиса задумает теснить (вытеснять, а не нападать, что дозволительно) антропософов, я вступлюсь за последних. Все Ваше письмо свидетельствует об отсутствии внутренней свободы в той идеологии, которую Вы ныне разделяете. Впрочем, для меня это – не новость. Любая книга Штейнера дышит тем же абсолютизмом, тем же АНТИГЕРМАНИЗМОМ, что и Фома Аквинский. Арийство и не ночевало тут! Азия, Азия, теократическое малоазиатство. – М<ожет> б<ыть>, я и ошибаюсь, но тогда: 1) я не умею читать (вероятно, по глупости) Штейнера; 2) Вы же в Вашем письме просто тоже преждевременно… выкинули, уподобившись даме… Простите горькие и неостроумные шутки, но я совершенно теряюсь в догадках и перестаю понимать, что делается с Вами. – Я готов допустить в Мусагете и антипатичную мне линию, но лишь тогда, когда она не заявляет цензорских претензий, ибо отсюда не далеко и до диктаторских. Если нужна диктатура, то за нее взяться могу только я один, потому что я один из всех Вас внепартиен. Я один умею заставить молчать в себе и не определяться в своих решениях личными нотами, хотя бы и облекающими себя в плащ «общего дела». Это безо всякой гордости скажу о себе. – Если бы я слушал только эти мои интимные нотки, то 4⁄5 напечатанного в Мусагете похерил бы редакторским карандашом. – Вы в Дрездене повторяли: верю, верю, верю Вам, Вы не допустите изуверства в анти-теософских проявлениях. – Ваша вера (довольно, впрочем, как показывает письмо об Эллисе, маловерная) – именно и основывается на инстинктивном сознании, что я не следую слепо своим симпатиям и антипатиям, что я – свободен и толерантен (приходится хвалить себя!), а потому и могу быть диктатором. По-видимому, мне и придется им стать. –
Ваше ортодоксальное рвение заставляет Вас воскликнуть: «Книга Эллиса никоим образом не выходит из печати: Мусагет ее не издаст. Не появляясь в Мусагете, она может появиться в другом месте при условии, что рукопись поступает на просмотр нам etc.». Итак, не прочтя Эллиса, вы a priori требуете от Мусагета безусловного отказа печатать это не прочитанное Вами сочинение! Это ли не изуверство??!! – Это ли не деспотизм, не рабство мысли и чувства! Или Вы исказили свою природу, или я ошибался в Вас! Изуверство Эллиса («костры», «инквизиция», «папа») – все это романтические бирюльки в сравнении с Вашим «ультиматумом», обрекающим на молчание живого человека, по своему природному дарованию призванного быть в литературе. – Если же с Вашей стороны это – не изуверство, тогда невероятное легковерие: какая-то теософическая дама что-то сенсационное поспешила Вам рассказать, а Вы уже готовы взять перо и облить помоями двух своих друзей, товарищей по редакции, к которым Вы больше десяти лет близко стоите.
Когда Яковенко написал статью (очень справедливую, хотя и несколько резкую) о книге Бердяева, Вы, тогда возлагавший надежды на то, что «близкий» (так Вы его называли тогда) Бердяев станет антропософом, поспешили вступиться и потребовали, чтобы статья Яковенки не была напечатана. То же требовал Рачинский, и большинством голосов решено было возвратить статью Яковенке[3854]. Теперь «близкий» Вам Бердяев превратился в «изувера» Бердяева (так Вы его назвали в Дрездене)[3855]. Когда Эллис посылал свои (нарушающие Вашу формулу о договоре) пропагандирующие штейнерьянство мюнхенские письма, я помещал их и притом вычеркивал из них то, против чего, как против разглашения недолжного, протестовали Петровский и Киселев. Итак, я умею прислушиваться и уступать друзьям даже там, где бы мне не хотелось (напр<имер>, в случае со статьей Яковенки). Поверьте, и в данном случае поступлю конституционно. –
Кем одержим Эллис, это для меня, с литературной точки, – безразлично. Если Эллис написал нечто, вообще говоря, приемлемое, то я печатаю, ибо Эллис один из сооснователей Мусагета. Киселев знает Штейнера по циклам и знает вообще оккультную литературу. Он не нашел в брошюре ничего, что бы звучало пасквилем или провокацией. Петровский – очень против Эллиса, т. е. против его писаний принципиально, и мы с ним договорились до обмена следующими репликами:
Петровский. Я всегда был против писаний Льва на такие темы, кот<орые> затрагивают религию и т. п. Все равно, и когда Лев был штейнерьянцем, и когда он стал антиштейнерьянцем, и еще раньше, когда он был бодлэристом.
Я. Так стало быть, по-Вашему, Лев должен перестать быть в литературе? Что делать, когда он пишет только о том, чтó его волнует. Но ведь тогда Лев заявит мне, что не может пользоваться субсидией Мусагета, раз его не печатают; ведь и так он жаловался мне в письме, что ему зажимают рот и теософы, и антитеософы. Эллис выбрасывается на улицу.
Петровский. Ну так что ж?! Мусагет перестанет ему высылать субсидию, его поддержат другие. С голода он не умрет.
Я. Кто эти другие? В России? В Москве?
Петровский. Нет, в Германии. Антропософы.
Я. Итак, антропософическое общество хочет купить молчание Эллиса; Эллис непременно так и скажет и, конечно, откажется и от субсидии. Ему остается сначала умереть, как литератору, а затем и с голода. –
Итак, Борис Николаевич, в прошлом году (когда Эллис требовал изменения платформы синтеза символизма и оккультизма) Вы несправедливо писали мне в укор: Эллиса не слушают, с ним не считаются и т. д. – Теперь, когда Эллис перестал колебать основы Мусагета, а просто пишет, что думает, только потому, что он пишет против антропософии, Вы опять несправедливо укоряете меня в попустительстве и укрывательстве преступления, в факте совершения которого даже лично не убедились. Эллис должен быть подвергнут остракизму без права, кот<орое> дается каждому преступнику; т. е. не выслушав его показаний. –
Я не теряю надежды, что Вы возьмете назад свои слова и решения. Если же – нет, то, конечно, нам придется расстаться идейно, ибо лично мы можем продолжать (я – по крайней мере так думаю) наше общение. Идея Мусагета все крепнет и крепнет в моем сознании, и я всеми силами буду стремиться, чтобы духовная свобода (как ее понимал Кант и Гёте и как ее не понял Штейнер, написавший философию свободы[3856]), чтобы эта духовная свобода, как основной момент идеи Мусагета, не попиралась хотя бы и стопами «святых». –
Я бы написал Вам больше, если бы не был до сих пор так утомлен и разбит. Мое письмо Вам[3857] (в ответ на Ваше с анализом поэзии Штейнера) уже поставило Вас в известность о моем дурном самочувствии. Христиан Бродерсен – описка очень симптоматичная для моего переутомления[3858]. Боюсь, еще благодаря утомлению неясно изложил свои соображения об издании симфоний. Сейчас, конечно, подымать об этом вопрос снова преждевременно. – Еще одна мелочь. Эллис жаждет читать и писать[3859]. Вам было отправлено из Мусагета много книг, кот<орые> мы получили от издательств по обмену из Пути, Скорпиона, Некрасова и т. п. В свое время я распорядился, чтобы Вам написали, чтобы по прочтении Вы книги пересылали Эллису, кот<орому> отдельно посылать бы было невозможно. Очень прошу Вас переслать все полученное Вами Эллису: Stuttgart Degerloch Wilhelmstr<asse> 60. – Он хочет написать рецензии, для которых Вы в настоящее время ведь не имеете досуга.
Обнимаю Вас. Ваш Э. Метнер.
РГБ. Ф. 167. Карт. 5. Ед. хр. 30.Ответ на п. 306. В письме-дневнике, адресованном М. С. Шагинян (7–13 (20–26) октября 1913 г.), Метнер сообщал: «Новый бунт Бугаева. Предстоящий, по-видимому, раскол в Мусагете: уйдут, вероятно, Бугаев, Петровский, Сизов, Ахрамович. ‹…› По возвращении в деревню занялся двумя огромными письмами Бугаеву и Эллису» (РГБ. Ф. 167. Карт. 25. Ед. хр. 27. Л. 6).
308. Белый – Метнеру
Ввиду моего выхода из «Мусагета» и выхода членов А<нтропософического> О<бщества> Петровского и Сизова моя мотивировка отношения моего к брошюре Эллиса не имеет уже в «Мусагете» ни формальной цены, ни формального веса[3860].
Поэтому с течением времени я отправлю Б. П. Григорову для общего пользования членов «Мусагета» и А. О. целое досье, выражающее мое отношение к инциденту и с подробным разбором брошюры г. Эллиса и фактов, вызвавших мое решительное вмешательство.
Что касается того давления со стороны членов А. О., на которое жалуется г. Эллис, то должен решительно подчеркнуть. А. О. нет дела до г. Эллиса. Давление он испытывал лишь со стороны меня и только меня.
Инициатива, чтобы он вернул А. О. тетрадки с пометками доктора Штейнера – моя личная инициатива; требование задержать печатание брошюры исходило от меня же. Я действовал так, как лицо, которому до недавнего времени г. Эллис поверял все свои интимные планы, т. е. как ближайший друг г. Эллиса. Когда же я убедился, что он – лишенный чести человек, я, конечно, тотчас же воздержался от какого бы то ни было дальнейшего морального воздействия на него. Г. Эллис стал прятаться от меня с той поры, как летом я представил ему факты из его писем, заключающие клевету на А. О., не квалифицируя его поступков. После обнародования факта существования брошюры я г. Эллису ничего не писал, но писала моя жена г-же Пульман, выражая свое удивление поступком г. Эллиса. Так что систематическая игра в прятки, которую себе позволил г. Эллис со мною в Штуттгарте, не может быть мотивирована обидою, ибо я не писал г. Эллису ни слова с июня 1913 года; и поэтому оскорбляться ему было не на что. Просто о факте уличенности его в клевете на А. О. мною летом бездна лжи и притворства, обнаружившиеся при этом, и полная невозможность глядеть мне в лицо вынудили его принять позу благородного негодования и под этой позой скрыть эмпирический страх, охвативший его при моем неожиданном для него появлении в Штутгарте. Все это было мною высказано г-же Пульман в присутствии свидетелей г-на Пульмана и моей жены[3861]. Было высказано и то, что я прошу его выйти не для теоретических разговоров или пререканий, а для ознакомления с историей отсылки им брошюры; но он спрятался; тогда я выдвинул, что понимаю его уклонение от 5-тиминутного разговора как жалкий страх, и предупредил, что если он не выйдет, то я развязываю себе руки называть его лишенным чести перед всеми. Он – не вышел, но под телеграммой, составленной мною в «Мусагет», беспрекословно подписался, чтобы тотчас же после моего исчезновения снова приняться за лживое освещение всего бывшего между нами.
Поэтому довожу до Вашего сведения, что Ваше обвинение А. О. в насилии и иезуитизме лишено всяких оснований и опирается на лживое освещение г. Эллиса; «насилие», «иезуитизм» принадлежали мне и только мне до той поры, пока я не убедился в моральной ничтожности г. Эллиса, ибо это «насилие» называл я про себя дружеским воздействием и опасением, чтобы тот, кто называл вчера себя моим ближайшим другом, не умер бы для меня (всякая смерть близкого человека, как известно, переносится мучительно).
Что же касается до Вашего совета в лицо г. Эллису сказать про него то, что я высказал Вам о нем в письме[3862], то, как видите, я для этого совершил 12-часовое путешествие в Штуттгарт, но, увы, лицо г. Эллиса, пошедшего на все мои условия, ему поставленные (редактирование статьи, подпись под мной составленной телеграммой) позорно оказалось спрятанным за лицом г-жи Пульман, которая без возражения, но с опущенными глазами приняла точное наименование поведения г. Эллиса за последние месяцы[3863].
Поэтому, не касаясь субстанции брошюры, ее напечатания, я вынужден уйти из «Мусагета», ибо не могу там находиться в компании с г. Эллисом.
Остается факт чисто моральный: считаетесь ли Вы, Г. А. Рачинский и Н. П. Киселев со мною, как с личностью и писателем. В предположении, что считаетесь, я все же мотивирую сделанные мной выброски из статьи.
Если статья будет напечатана целиком, увы, мне придется сказать, что наши личные отношения есть для всех Вас звук пустой; и без ссоры просто отойти от Вас.
Примите уверения в совершенном почтении.
Борис Бугаев.
P. S. Краткое резюме предполагаемых выбросок высылаю на днях с краткою мотивацией (подробная мотивация впоследствии будет послана Б. П. Григорову). Предлагаю резюме не как редактор, а как человек, с которым, м<ожет> б<ыть>, Вы считаетесь[3864].
РГБ. Ф. 167. Карт. 3. Ед. хр. 20. Датируется по почтовому штемпелю отправления (указан Н. П. Киселевым): Berlin. 14. XI. 1913. Штемпель получения: Москва. 3. ХI. 1913.Ответ на п. 307.
309. Белый – Метнеру
Berlin. 14 November 13 г.
По соображениям очень трудно объяснимым и Вам непонятным я очень прошу Вас исполнить одну мою просьбу.
Тотчас же по получению этого письма или вернуть мне последнее мое письмо Вам, написанное из Христиании (с разбором ритма стих<отворных> отрывков доктора Штейнера), или немедленно уничтожить его[3865]. Верьте, что эта просьба моя не имеет никакого отношения к полемике и прочее. Она для меня внутренно важна. В упомянутом письме у меня проскользнули фразы, которые могли проскользнуть при нашем дружеском отношении друг к другу. Теперь, при натянутом отношении нашем друг к другу фразы эти могут вредно повлиять, как на Вас, так и на меня. Для Вас и меня необходимо, чтобы Вы мне вернули письмо из Христиании (с отрывками и разбором) или немедленно уничтожили его. Во всяком случае не показывайте его никому.
Извините за беспокойство.
Борис Бугаев.РГБ. Ф. 167. Карт. 3. Ед. хр. 21.
1914
310. Метнер – Белому
Девичье Поле 4/17–I–914.
Посылаю Вам мое возражение (в копии) на Вашу записку, кот<орую> я бы оставил без ответа, если бы она была адресована только мне; но на Ваше обращение к группе, в котором я выставлен в таком позорном виде, – разумеется, нельзя было молчать[3866]. Я совершенно болен и разбит физически и душевно от этой неожиданной и возмутительно-несправедливой бесчеловечной «истории», поднятой Вами. Да простит Вас Небо; у меня нет сил даже прощать. Наши пути очевидно разошлись навсегда. Осталось прошлое и будущее: настоящего – нет. Прошлое – это все хорошее личное, чтó было между нами. И вот я не понимаю, почему Вы вдруг не доверяете мне одного письма (где Ваш разбор поэзии Штейнера) и требуете его уничтожения?[3867] Есть о Штейнере у меня от Вас письма, куда более «компрометирующие»! (Кстати: неужели Вы в самом деле приняли мой ответ на Ваш разбор поэзии Штейнера за редакторский отказ в напечатании проектируемой статьи?[3868] Когда же я Вам в чем-нибудь отказывал??) – Если Вы настаиваете, я разорву означенное Вами письмо, но не понимаю Вашего недоверия. Оно еще прибавляет горечи ко всем оскорблениям, кот<орые> Вы нанесли мне. Это письмо – тоже прошлое, и я хочу сохранить все прошлое от Вас. В будущем наше отношение чисто формальное. Наше будущее пока – это ликвидация Вашего отношения к Мусагету. Ваш долг Мусагету по официальным книгам, кот<орые> ведет мой отец, простирается до 3.631 р. 50 к. (за вычетом причитавшегося Вам гонорара за статьи в Тр<удах> и Дн<ях>). Если Вы желаете подробную выпись из книг, то таковая может быть Вам доставлена. – Соблаговолите уведомить редакцию, в какой срок и через кого (т. е. через Вашего поверенного, ведущего дело по имению[3869], или через редакцию Сирина) Вы намерены погасить эту долговую сумму. Мусагет нуждается в деньгах. Ваше имение все еще не реализируется.
Сирину Вы не даете инструкций о том, какую часть причитающегося Вам за собрание сочинений гонорара он должен выплачивать Мусагету, который «уступил» ему свои права на Ваши сочинения. Далее, вопрос об издании симфоний тоже замер. Кто их будет издавать и кто получит за них гонорар? Ведь Мусагет теперь бы не мог издавать симфоний, раз Вы с такою глубоко всех нас «неверных» унижающею презрительностью о нем отзывались и показали, что идея его Вам никогда и не была ясна… Ведь Мусагет основывался для Вас, для Эллиса и для меня[3870]. Предполагалось, что нас, вопреки всем детальным расхождениям, соединяет одна невыразимая идея… Ведь только в таком предположении возможно было то меценатское отношение, которое выражалось, например, в печатании таких кирпичей, как Символизм и Арабески с гонораром за первый 700 р., за последние – 500 р., в неистовых авансах и т. п. Я лично не могу ни избавить Вас от уплаты Вашего долга, ни ходатайствовать об этом перед издательницей, именно в силу моей личной дружеской связи с нею; я раз навсегда с самого начала устранился от денежных дел, предоставив кассу – секретарю, дающему отчет казначею, т. е. моему отцу, кот<орый> и получает деньги от издательницы. Я сам беру себе в месяц 150 р. (первый год брал 200 р.); мои поездки за границу покрываются тем, что я в гостях у Фридрих и жизнь мне там ничего не стоит; наша жизнь втроем в деревне идет на счет общей кассы моей и Колиной[3871], причем, конечно, доход Коли крупнее моего; кроме того, мы почти нигде, ни в театре, ни в концертах не бываем; вот – секрет нашего домашнего обихода и жизненных средств… Вы видите, что я – «на жалованье», которое проводится по книгам и вносится в отчет так же, как и все вообще расходы по издательству; ничем особенным экстренным из издательских сумм я не пользовался; никакого аванса не брал; за Мод<ернизм> и Муз<ыку> взял гонорар 400 рублей, т. е. меньше, чем Вы за Арабески. Все это я пишу для того только, чтобы напомнить Вам наш modus vivendi[3872] в Мусагете и принцип отделения денежных дел от чисто редакционных. Я нарочно с умыслом поставил себя в денежном отношении под начало отца, кот<орый> ведет всему формально-бухгалтерские книги, служащие формально-юридическими документами, и составляет официальные отчеты для издательницы. Если бы Вы захотели отложить уплату своего долга или сочли бы себя вправе (говорю об этом примерно, делая даже невероятные предположения) вовсе не уплачивать этого долга, то обо всем этом Вы должны списаться с издательницей, т<ак> к<ак> я принципиально не стану вмешиваться в это дело. Пока я еще скрывал от нее, что Вы уходите из Мусагета, но дальше скрывать невозможно. Тогда последует запрос о том, как же быть с Вашим долгом; я ведь до сих пор оправдывал этот «аванс» как нечто нормальное ввиду того, что Вы органически связаны с Мусагетом и что все Ваши вещи принадлежат Мусагету. Продажу романа Некрасову и переход к Сирину я пытался представить, как действия для Мусагета не только безубыточные, но даже ускоривающие отдачу долга, а для Вас очень выгодные, т<ак> к<ак> Вы печатаетесь так<им> обр<азом> для большой публики, делаетесь скорее знаменитым, а это опять-таки косвенно рекламирует и книги Ваши в Мусагете. Но вот прошло больше года, и эти мои комментарии не оправдались. Теперь Вы и вовсе уходите, и я попал, как деловой человек, в самое смешное нелепое положение перед издательницей и в особенности перед ее деловитою и коммерчески опытной матерью, от которой главным образом и идут деньги. Оказалось, что я, давая аванс, не сумел (надеясь на неотделимость Мусагета и А. Белого) обеспечить его возмещение письменным условием о правах Мусагета на произведения Андрея Белого. – Одно горе, стыд, неловкость; провал всего; остается самому провалиться сквозь землю… Если Вы решите вступить в переговоры с издательницей о Вашем долге, то предварительно сообщите мне об этом намерении, т<ак> к<ак> я должен буду ее предупредить и подготовить к этому, конечно в Вашу пользу, ибо я вовсе не намерен усиливать Ваше огорчение Мусагетом еще денежными недоразумениями. Я понимаю, что Вам не может не быть тяжело от этого долга. Боюсь только, что все это кончится страшною неприятностью для меня. Причина разногласия и Вашего ухода (антропософия) отнюдь не способна мирно настроить издательницу и ее мать, ибо они обе (независимо от меня) – антиштейнерьянки, и я не раз защищал Штейнера, говоря с ними. Лично я могу только протестовать против издания Ваших сочинений Сирином или симфоний Некрасовым или Скорпионом и т. п., раз от этого теряет Мусагет, не получая хотя бы части гонорара в счет долга. Конечно, протестовать морально, т<ак> к<ак> юридически иск об авансе с наложением запрещения на гонорар, раз не было об авансе письменного договора, процессуально-сомнителен. Да я бы по своей инициативе и не подал бы на Вас в суд. – Повторяю: иск – сомнителен, т<ак> к<ак> получивший аванс может не только отрицать факт получки (что, конечно, вещь для него опасная), но просто сказать, что ему был прощен аванс или его поставили в невозможность отработать аванс и т. п. – От Терещенки я имею лично и устно им данное обещание не издавать Ваших сочинений к невыгоде Мусагета, но насколько можно верить этому обещанию, пока не знаю. Сообщите о Ваших с ним условиях; а также о деле с имением. Кроме того, как Вы рассматриваете свои и мусагетские права на весь материал, отпечатанный в Символизме и в Арабесках (и в брошюре[3873]). Ведь обе Ваши книги отпечатаны с такими расходами (гонорар, корректура, не говоря уже о нормальном расходе по печатанию) и цена назначена (ради скорейшего распространения) столь скромная, что даже если все будет продано (чего пока и ждать нечего), то мы потерпим значительный убыток. Все это было сделано для Вас исключительно; книги других, даже моя, Вячеслава[3874], печатаются на иных основаниях. Уходя из Мусагета, Вы лишаете нас возможности издать, напр<имер>, избранные Ваши статьи в небольшой книжке с Вашим предисловием; такая книжка могла бы скорее пойти и заинтересовать читателей, двинуть с мели застрявшие «кирпичи»[3875]; наконец, мы могли бы издать календарный Альманах к пятилетию Мусагета[3876] и поместить там пробы Вашего теоретического творчества. – Теперь же мы рискуем, что Ваши книги окончательно сядут. Обо всем этом, т. е. о том, чтобы Мусагет не потерпел ущерба от Вашего ухода, чтобы Ваш долг наконец-то начал возмещаться, я Вас прошу озаботиться. Надеюсь, что это мое письмо, написать которое мне стоило большого труда, не вызовет новых недоразумений. Надеюсь, что не произойдет сдвигов смысла вроде:
11 Цитата из п. 307.
12 Цитата из неизвестной нам «записки» Белого по поводу «Vigilemus!».
Сейчас перечитал копию своего письма от 12/25–X–913. Все там сказано, разъяснено, спокойно, хотя и не без горечи; а главное, фактически точно. Вы же в своей записке пренебрегли всем, что могло бы осветить дело о Vigilemus, словно Вы вовсе не читали моего письма. Ваша Записка – неуклюжая диалектика плохого адвоката и ничего больше. Но я прочту всем вслух мое письмо Вам от 12/25–X–913, чтобы выяснить мою роль в этом деле с самого начала. К своему «досье» я прилагаю Ваши два письма, кот<орые> касаются Vigilemus’а. (Будьте покойны: писем, компрометирующих Вас как антропософа, сообщившего мне «тайны», я никому никогда не покажу). – Набросок отчета Киселева и декларация Сизова, приложенные к моему «досье», будут и Вам на несколько дней высланы, когда их прочтут адресаты наших встречных разъяснений. Заключаю свое письмо снова просьбой переслать Эллису все книги Пути, Некрасова, Скорпиона, Грифа и т. п., кот<орые> были Вам высланы из Мусагета для рецензий, а также написать Вашей маме, чтобы она выдала все взятые Вами из библиотеки Мусагета книги тех же издательств, кот<орые> Вы взяли в бытность в Москве[3877]; т<ак> к<ак> мы хотим составить каталог библиотеки Мусагета. Эллис жаждет книг, а мы не можем покупать вдобавок книги, кот<орые> получали в обмен.
Ваш Э. Метнер.
P. S. Так как при ревизии мусагетской канцелярии Киселевым все более и более выясняется неисправность Ахрамовича, то возможно, что он своевременно не выслал Вам проекта домашних правил книгоиздательства Мусагет[3878]. Или он выслал (сейчас не могу справиться), но Вы не имеете этих правил под руками и станете еще по поводу этого вступать в пререкания. Поэтому я выписываю то, что имеет отношение к затронутому Вами в Вашей записке, и в сущности известное в главных чертах Вам и до составления означенных правил.
§ 7. При редакторе, в помощь ему состоит совет. Его составляют
1. Редактор, председательствующ<ий> на заседани<ях>.
2. Секретарь издательства, ведущий делопроизводство совета.
3. Четыре члена, избираемые редактором.
Этими четырьмя были: Вы, Рачинский, Киселев, Петровский: (А Вы все время упоминали о Сизове!)
§ 17. Собрание (общее всех членов Мусагета) считается состоявшим<ся> при наличности девяти членов (из 20-ти).
Но так как даже девять членов нельзя было почти никогда собрать, то приходилось обходиться часто без общего собрания, хотя и назревали вопросы, для решения которых важно было бы выслушать общее собрание. Но его заменило de facto, но без авторитетности частное совещание четырех-пяти-шести членов (как придется); вот здесь участвовал и Степпун и Сизов и Нилендер; но голосование этого совещания, конечно, только и имело «совещательное» значение. Но и <на> таком совещании Сизов высказался за печатание Vigilemus. Все Ваши рассуждения о нарушении конституции висят на воздухе. NB Совет (термин Киселева, составивше<го> проект) продолжал называться Литературным Комитетом. Вот и все. Надеюсь, что тут для Вас ничего нового не было. Или Вы под конституцией разумели нечто подобное фантастическому договору о том, что anthroposophi sacrosancti sunt?[3879] даже если надо для этого чтобы pereat Musagetes[3880]. Ведь если Вы смешали Совет (т. е. Литературный Комитет) с Общим собранием, то почему Вы не запросили, как голосовали Нилендер, Сергей Соловьев, Степпун? Вас интересовал лишь голос антропософа Сизова, который, однако, неожиданно для Вас оказался за напечатание Vigilemus. –
P. P. S. Я так разбит, уничтожен, опустошен, как никогда. Вы даже не подозреваете, что Вы учинили своею верностью антропософии. Я этого слова слышать не могу. К черту все идеи и всех учителей, раз совершаются такие бесчеловечные поступки, как то, что Вы позволили себе в отношении к Эллису и ко мне. 10 лет должно пройти, чтобы залечилась эта рана и чтобы мы могли снова спокойно посмотреть друг другу в глаза. А Эллису Вы уже никогда не сможете посмотреть в глаза[3881].
РГБ. Ф. 167. Карт. 5. Ед. хр. 31.
Бугаев обратился с подробной запиской по поводу «Vigilemus» к группе мусагетцев и антропософов. В этой записке, которая в особенности во второй части своей, обсуждающей обстоятельства, среди которых обострился конфликт Бугаева со мной, как с редактором, из-за брошюры Эллиса, столько искажений, недоразумений и, наконец, обид, как лично мне, так и Мусагету, что я вправе ожидать, что адресаты Бугаева сочтут себя обязанными прочесть нижеследующее мое возражение.
Прежде всего заявляю. Начиная с африканского путешествия[3882] возникшее неудовольствие Бугаева мусагетским режимом (по поводу внешних недочетов, действительных и мнимых) разразилось письмом из Волыни, написанным по возвращении из путешествия[3883]. В этом письме был выставлен целый ряд безусловно неосновательных химерических обвинений. Пораженный и огорченный этим письмом, я ответил на него подробною критикою[3884], в ответ на которую посыпались новые обиды. С тех пор время от времени Бугаев озлобляется на меня и на Мусагет. Иногда он раскаивается и берет назад все свои обвинения и оскорбления. Эти стычки и перемирия заключились дрезденским соглашением, которому я должен был верить, т<ак> к<ак>, желая примирения, Бугаев по собственному своему почину приехал в Дрезден[3885]. Если бы не это свидание, то я бы и не удивился на все происшедшее по поводу брошюры Эллиса. Чудовищным кажется мне, что один и тот же человек мог обращать ко мне такие речи, как в Дрездене, а немного спустя написать мне оскорбительнейшее письмо на основании донесения чужого третьего лица, вместо того, чтобы спокойно, помня о доверии и дружбе, скрепленной в Дрездене, запросить о беспокоившем его деле.
В один из моментов нашей более чем двухгодичной распри, доведенный до отчаяния совершенно возмутительной несправедливостью Бугаева, я предложил ему третейский суд[3886]. Не уклоняясь решительно от него, Бугаев своими извинениями вынудил меня не настаивать более на третейском суде. Ныне я подымаю снова тот же вопрос. Я утверждаю, что все факты нашей распри и сопровождающие обстоятельства изложены в записке Бугаева совершенно неверно. В дальнейшем я буду отвечать лишь на некоторые отдельные моменты, преимущественно относящиеся к делу о «Vigilemus». Иначе мне бы пришлось повторять сказанное уже мною в письмах за эти два года, как к Бугаеву, так и к Эллису. Но я предлагаю просмотреть адресатам сего, если они не доверяют решительным моим обвинениям Бугаева в неверной передаче (пусть bona fide[3887], по неосторожности и забывчивости) всех наших с ним недоразумений, весь материал нашей переписки за два года, т<ак> к<ак> у меня сохранены все письма Бугаева и копии с моих писем.
Совершенно необходимым я считаю прочтение адресатами сего последних писем, полученных от Бугаева и отправленных ему касательно «Vigilemus». Фальшиво цитируя мое последнее письмо, Бугаев дал мне право без спросу у него правильно процитировать его собственное, т. е. прочесть его вслух, после чего сами собой отпадут многие его сопоставления и критические замечания.
Впрочем, Бугаев одною мелочью подорвал сам доверие читателей его записки к критическому ее методу. Желая высмеять мой синтаксис, он спрашивает, кто гнездо сплетен – Анненкова или Москва?
А вот цитата из моего письма, которой не нахожу в своей копии: «на основании неверных слухов и сплетен, дошедших до Анненковой»[3888].
В сущности, такими недоразумениями преисполнена вся записка. Бугаев совершенно не умеет читать писем. Вопрос о диктатуре поднят мною теоретически. «Vigilemus» прошла конституционно. Другой пример. Я не отказывал Бугаеву в напечатании его статьи о ритме Штейнера, ни прямо, ни намеком. Я высказал только в письме свое личное мнение о неверности критики Бугаева[3889]. Никогда в отношении к Бугаеву я не играл роли старшего редактора. Впрочем, насколько Бугаев понял и оценил мое отношение к нему, видно из того, что он был удивлен, как он сам пишет, моим предложением написать о мистериях Штейнера и объяснил себе это моим желанием загладить какую-то мою некорректность в отношении к нему. Заявляю здесь, что ни единой некорректности в отношении к Бугаеву я себе не позволял и что в его признаниях усматриваю наивное обнаружение окончательного непонимания характера наших отношений.
Новостью является для меня утверждение Бугаева, будто я отстранил его от соредактирования со мною «Трудов и Дней» помимо его желания[3890]. Насколько грубо искажены здесь обстоятельства, станет ясно каждому, кто прочтет нашу переписку, относящуюся к тому времени. Впрочем, думаю, что знающие меня едва ли могут поверить этому утверждению Бугаева.
Несмотря на то, что в моем письме от 12/25 Х вполне ясно излагаются обстоятельства, касающиеся «Vigilemus», вплоть до момента получения ругательного письма Бугаева ко мне (на кот<орое> я в упомянутом письме и отвечаю)[3891], Бугаев в своей записке вместо извинения, кот<орого> я вправе был ждать, снова касается тех же обстоятельств, столь химерически освещая их, что можно подумать, что он вовсе не читал моего письма, а только вычитывал из него отдельные слова. Чрезвычайно трудно передать в связном изложении все моменты дела о «Vigilemus», если хочешь при этом коснуться и важнейших искажений, какие позволил себе Бугаев. Вот почему я и впредь, имея в виду, что хронология этого дела известна адресатам сего, позволю себе отрывочную передачу.
Конспирация. Искренность Киселева[3892], которому очевидно очень хотелось исполнить просьбу Эллиса и поскорее отпечатать «Vigilemus», не позволила ему умолчать о том, что единственно только и является реальным доказательством конспирации. Он сознался, в присутствии Петровского и Сизова, что подписал бы к печати брошюру, даже не отправив мне последних сверстанных корректур. Во-первых, однако, позволительно предположить, что он в последний момент опомнился бы и отправил корректуры не только мне, но и остальным членам литературного комитета, т. е. Рачинскому (кот<орому> он уже, впрочем, показал брошюру), Петровскому (кот<орому> он сообщил о нахождении в портфеле редакции брошюры Эллиса), Бугаеву – (NB. Сизов членом литературного комитета вовсе не состоял). Во-вторых, совершенно неправдоподобно, чтобы во время моего пребывания в Москве могла выйти в свет помимо моего ведома эта брошюра; мало того, я, конечно, напомнил бы Киселеву о том, что ее необходимо ввиду остроты темы показать членам литературного комитета и подвергнуть голосованию, чтó в конце концов и было исполнено. Киселев, Рачинский, я оказались за брошюру, Петровский и Бугаев – против. (NB. Если даже Сизов был бы членом комитета, то его голос присоединился бы к нам, т<ак> к<ак> на частном совещании он сначала высказался против напечатания, а затем по соображениям о компенсации поступка Анненковой настаивал на напечатании). Да вся эта констелляция, каковою она являлась в предварительном своем виде, описана мною в вышеупомянутом письме к Бугаеву. Но Бугаев писем не умеет читать.
За намерение конспирировать до конца я Киселева не одобрил, о чем и сказал ему в присутствии Сизова и Петровского. Мое выражение «Киселев конспирировал по соображениям веским»[3893], смутившее почему-то Бугаева, имеет тот смысл (вполне само собой разумеющийся), что правильно было не разглашать в более широких мусагетских кругах о печатании «Vigilemus». Повторяю, когда брошюра была выправлена, конспирация прекратилась. Запрос Петровского и Сизова, донесение Анненковой, телеграммы Бугаева только дня на два ускорили снятие конспирации. Где же другие доказательства конспирации? Что Киселев говорил «под секретом» Анненковой, не является доказательством, т<ак> к<ак> Киселев просто дразнил ее. Что брошюра была набрана, а не представлена на рассмотрение в рукописи, тоже не является доказательством конспирации по следующим соображениям. 1. Бугаеву отправлять рукописи опасно. 2. Рукопись была невероятно неразборчива, так что (о чем, впрочем, я писал Бугаеву в вышеупомянутом письме) я не в состоянии был прочесть ее, почему и отправил немедленно в Москву Киселеву для набора (NB. Продолжаю считать Киселева наиболее сведущим и беспристрастным судьею подобного произведения). 3. Доверие, которое Бугаев подтвердил мне еще в Дрездене, касалось именно антропософических тем. Напрасно Бугаев в своей записке теперь от этого отказывается. Об этом, впрочем, после. 4. «Vigilemus» – небольшая вещь, просто статья; отправляя рукопись, я предоставил Киселеву, смерив ее размеры, решить, печатать ли в «Трудах и Днях» или брошюрой. Об этом я тоже писал Бугаеву, но он не умеет читать писем. В своей записке он рассуждает о предрешенности (якобы) печатать «Vigilemus»; на основании сдачи в набор рукописи и связанных с этим небольших расходов едва ли можно говорить о предрешенности и конспирации. (Бугаев ссылается на «Путевые заметки» и на мое замечание по поводу чрезмерной корректуры[3894]. Это прямо смешно! Набор и разбор части «Путевых заметок» стоили 100 р. 45 к.; когда я Бугаеву указал на чрезмерную корректуру, он ответил мне тогда, что количество корректурных знаков не было оговорено редакцией; типография тогда заявила нам, что набор, разбор и новый набор будут стоить дешевле, чем корректура; и это безобразие Бугаев называет, не помню точно как, но, кажется, пустяком в сравнении с набором на риск брошюры, которая ведь могла бы быть во всяком случае напечатана даже с сокращениями и даже вне Мусагета). Повторяется та же история, что и со статьей Яковенки о Бердяеве[3895]. И она была набрана и представлена литературному комитету в корректурах. Большинством голосов было решено эту статью не печатать. Бугаев и тогда негодовал, полагая, что набор статьи совершен с умыслом, чтобы оказать давление или что-то в этом роде. (Кстати сказать, статья Яковенки о Бердяеве является доказательством, что сомнительные статьи в «Трудах и Днях», вопреки утверждению Бугаева, тоже подлежат рассмотрению и голосованию литературного комитета).
В заключение о конспирации должен сказать, что удивительно, как ухитрился Бугаев счесть меня виновным в конспирации, и притом «внутренно» виновным. Если уж я и виновен, то, конечно, внешне, именно в том, что, положившись на Киселева, я не запросил его по поводу отправления корректур членам литературного комитета. Внутренно я был бы виновен, если бы прочел брошюру в рукописи и в двусмысленных выражениях дал бы понять Киселеву, что хорошо бы конспирировать ото всех. Но ясно, что я хотел конспирации только от более далеких мусагетцев.
Договор об антропософии. 1. Этот договор был словесным, так что можно говорить лишь о том, чего безусловно в этом договоре не могло заключаться. Формула же Бугаева, против которой (приведенной им в его ругательном письме) я возразил (в ответ на последнее) и которую в несколько ином менее субъективном виде Бугаев повторяет в своей записке, именно и есть то, чего никоим образом в договоре быть не могло, ибо этим нарушена была бы свобода Мусагета[3896]. 2. Этот договор был не с Бугаевым, а с антропософами и с теософами. Никто почти не ставит Бугаева на такую высоту по его таланту, как я, но, однако, я, не задумываясь, подал бы голос за проведение какой-либо меры или за напечатание какой-либо статьи, раз эта мера или эта статья желательна, полезна, «мусагетична», несмотря на то, что Бугаев грозил бы уходом; свобода Мусагета, принцип либерализма на высших планах не может быть нарушен без измены основной идее Мусагета, с которой мы трое (Бугаев, Эллис и я) были согласны всегда и в особенности летом 1909 года. Потеря даже всех значительных сотрудников менее чувствительна Мусагету, нежели изменение его сущности. Итак, никакого договора с Бугаевым Мусагет не заключал. 3. О моих поправках к приведенной Бугаевым субъективной и абсолютистской формуле он не счел нужным даже упомянуть в своей записке так, чтобы моя точка зрения была ясна адресатам. 4. Таким образом, отправление «Vigilemus» Бугаеву на просмотр не есть вовсе исполнение договора об антропо-теософии и в особенности какого-то частного соглашения Мусагета с Бугаевым, а выполнение конституции, ибо Бугаев член литературного комитета. Заявление от редакции в № 4, 5 «Трудов и Дней» от 1912 года (составленное после обмена письмами с Бугаевым относительно его редакторства) гласит: Андрей Белый намеревается остаться за границей; поэтому, сохраняя за собой права и обязанности члена литературного комитета издательства «Мусагет», он вынужден отказаться от редактирования «Трудов и Дней», т<ак> к<ак> и т. д…[3897] Неотправление же «Vigilemus» на просмотр явилось бы, несомненно, моим промахом или промахом Киселева, в известной мере нарушающим конституцию, т<ак> к<ак> «Vigilemus» в противоположность, напр<имер>, «Наполеону» Тэна, «Ангелли» Словацкого, «Вибелунгам» Вагнера и т. п.[3898], несомненно является даже независимо от антропософических соображений предприятием, требующим коллективного обсуждения. Извинением, однако, для меня и для Киселева, если бы мы, не спросясь литературного комитета, напечатали «Vigilemus», могло бы служить 1) то обстоятельство, что Эллис – центральный член Мусагета, которому можно большее позволить, нежели постороннему автору, а во 2), то обстоятельство, что по существу «Vigilemus» на взгляд беспристрастный и непартийный является очередною католическою экспекторацией Эллиса с вполне достаточными расшаркиваниями перед антропософией и Штейнером. Но корректуры были отправлены, конституция не нарушена, а весь скандал, поднятый вокруг этой безобидной брошюры, поскольку в нем участвовал Бугаев, взошел на дрожжах психологизма, микробы которого давно пора вытравить в деловых отношениях. 5. Если бы даже договор был заключен только с Бугаевым и притом со мною лично, как с редактором, то доверие, которое подтвердил мне Бугаев в Дрездене (в сентябре нынешнего года), видоизменило бы означенную формулу, абсолютизм которой привел к воззванию о цензуре. «Верю, верю вам, что вы не допустите изуверства в обсуждении антропософии». Так приблизительно повторял Бугаев. В «Vigilemus» нет ни следа антиантропософского изуверства, а есть романтическое ультрамонтанство, горячее на словах, но никому не зажимающее рта.
Здесь кстати два слова о Бердяеве и изуверстве. Бугаев не понял того, что для меня не важно, назвал ли Бугаев Бердяева изувером, путаником или еще как-нибудь; мне лично помнится, что он назвал его (в разговоре в Дрездене) так именно[3899]; на мой вопрос, чтó он разумеет под изуверским отношением к Штейнеру, Бугаев заговорил о некоторых писателях и группах; речь соскользнула с изуверства на путаницу и недоразумения во взглядах на антропософию; в контексте этого разговора было упомянуто имя Бердяева. Но, повторяю, мне не важно, как именно назвал Бугаев Бердяева: в своем письме я отмечаю ведь только колебание в отношении и в оценке Бугаевым таких авторов, как Эллис или Бердяев, в связи с их и своим отношением к антропософии (прежде и теперь); отмечаю и связанную с этим колебанием партийно-тенденциозную защиту их и такое же на них нападение. Вот и всё по вопросу о Бердяеве.
О конституции и о редакторских полномочиях Киселева. Формально в дурном смысле этого слова конституция (под которой я разумею не первоначальное устное соглашение Бугаева и Эллиса со мною (между прочим, и о наших общих собраниях всех мусагетцев для решения некоторых важных и сомнительных казусов), а проект домашних правил книгоиздательства «Мусагет», составленный Киселевым и одобренный общим собранием) нарушалась беспрестанно. Строгое юридическое проведение всех ее параграфов было бы затруднительно для всех членов Мусагета и явилось бы новым балластом и без того медленного движения наших дел. Такое проведение имело бы смысл, во-первых, если бы все, в особенности главные, члены Мусагета жили в Москве бóльшую часть года, во-вторых, если бы все предприятие разрослось в очень большое дело, которое требовало бы более пристального внимания и бóльшего количества рабочих рук. Конституция, § 3 которой гласит, что редактор Мусагета является единоличным хозяином всего предприятия, и окончательное решение по всем вопросам принадлежит ему, явно создана среди друзей, к одному из которых питают неограниченное доверие, создана ему в помощь, а не как тормоз или узда. Утверждаю, что во всех действительно важных случаях, сомнениях конституция, о которой как бы забывалось при обычном течении дел, призывалась мною к действию. Фразы из записки Бугаева вроде: «следовательно, Метнер одобряет нарушение мусагетской конституции» – не имеют никакого смысла. Что же касается редакторских полномочий Киселева, то таковые были мною даны, чтобы сдвинуть скорее Мусагет с мели, на которую он сел за летние месяцы по болезни Ахрамовича; ибо сам я по нездоровью не был в состоянии немедленно приехать в Москву. Ни в какой специальной связи с «Vigilemus» эти полномочия не находятся. Пределы этих полномочий сами собою намечались теми заданиями, какие возникали за время моего отсутствия. Бугаев в своей записке отнесся к факту этих полномочий с такой придирчивостью, которая не к лицу члену дружеского сообщества, каковым является Мусагет, причем вдобавок достаточно напутал по этому вопросу.
Свобода в Мусагете. Я не знаю, что разумеет Бугаев под свободой, по крайней мере что он теперь разумеет под ней. Он утверждает, что «Vigilemus» – первый плод этой свободы. Чудовищно слышать это от человека и писателя, который является одним из зачинателей Мусагета, коего Символизм (не по содержанию, а по внешней книжной форме, столь невыгодной коммерчески, по грандиозному типографскому счету, вследствие неумеренных корректур) является первым плодом внешней стороны нашей мусагетской свободы. Пусть вспомнит Бугаев свои планы о Сборниках, где должна была царить свобода и синкретизм, сочетающий чуть ли не социал-демократов с эстетами[3900]. Я уже не говорю о той свободе, которою пользовался Бугаев по существу в проповеди своего мировоззрения. Статьи Пяста и Кузмина в «Трудах и Днях»[3901] – не в счет. Во-первых, статья Пяста, хотя и не понравившаяся многим мусагетцам (в том числе и мне), была однако напечатана. (Приведу сам еще один пример: статья Скалдина, которая очевидно и самому Бугаеву не нравилась и пролежала у него в портфеле чуть ли не целый год[3902]). Во-вторых, статья Кузмина, против которой никто ничего не имел, была только сокращена[3903]: в самом конце была выпущена одна фраза, в которой голословно утверждалось мастерство одних поэтов на счет <так!> других, не менее признаваемых Мусагетом[3904], в том числе как раз Бугаева и Бальмонта, заметка о юбилее которого непосредственно следовала за этой статьей[3905], чтó явно, в особенности ввиду отсутствия юбилейной статьи в «Трудах и Днях», было бы принято за неприязненную демонстрацию. (Кажется, не был упомянут, кроме Бугаева и Бальмонта, также и Блок). Чтобы не откладывать номера, решено было сократить статью без запроса об этом автора; но я немедленно написал ему извинительное письмо, в котором предложил ему дать статью для «Трудов и Дней» на тему вычеркнутого нами заключения его статьи[3906]. Случай с Кузминым – единственный и притом необходимый самовластный поступок редакции.
Требую от Бугаева, чтобы он взял назад свои насмешки над свободой Мусагета. В особенности потому, что он требует от меня, чтобы я взял назад свои упреки в дурном догматизме, абсолютизме и иезуитстве антропософии. После изложенного в записке Бугаева заявления госпожи Сиверс[3907], я снимаю подозрение в дурном догматизме, в давлении на образ мыслей членов с антропософического общества, если уж именно так хотелось Бугаеву понять мои упреки. Дело в том, что последние были выставлены условно: если… то… Беря охотно и с радостью свои слова назад, думаю, однако, что антропософия не в меньшей степени, нежели католичество, способна развить в неофитах вышеозначенные качества; инцидент с «Vigilemus» вполне дает право сделать такое предположение.
Бугаев пытается в своей записке дискредитировать «Vigilemus» с точки зрения Мусагета. К этому приему, впрочем, прибегли и другие мусагетские антропософы. Не верю в полную искренность такой защиты мусагетизма. Если же она искренна, то она проводится вследствие неосознанности изменения в своем образе мыслей. Так Бугаев возмущается, что «манифест Эллиса» не был показан ему «в рукописи». О рукописи было уже сказано выше, что же касается «манифеста», то за таковой считать «Vigilemus» совершенно невозможно; к тому же Бугаев знает, как отрицательно отношусь я ко всяческим манифестам и как трудно меня склонить к платформированию, а тем более к изменению раз уже установленной платформы. Неудачна и попытка Бугаева стать на защиту символизма. Всякий волен понимать символизм по-своему. Не во всем согласен Бугаев с В. Ивановым по вопросу о символизме. Лично я, говоря о символизме, не во всем схожусь как с Бугаевым, так и с В. Ивановым. Мусагет не может считать, как то полагает Бугаев, «экскламации Эллиса – голосом русского символизма», а просто отдельным голосом sui generis[3908] символиста, голосом, который вдобавок не без удовольствия выслушивался в течение десяти лет. Если же вдруг оказалось, что Бугаев никогда не считал Эллиса символистом и, следовательно (с его точки зрения), не имел с Эллисом ничего общего в основном, то я считаю себя возмутительно обманутым, т<ак> к<ак> то единение, которое было (или симулировалось?) особенно в 1909 году между нами тремя, являлось единственной побудительной причиной к тому, чтобы основать Мусагет, несмотря на то, что в то время мне лично было бы гораздо выгоднее посвятить ближайшие два года начатым занятиям моим в немецком университете[3909].
Жертва, которую я принес во имя дружбы, основывая Мусагет, гораздо крупнее, нежели думают мои друзья. Размеры ее даже на чужой взгляд должны казаться очень большими, если принять в соображение то, что основание Мусагета мне лично как «карьера», как возможность занять положение в обществе, приобрести литературное имя совсем не было необходимо, и что я и по сию пору не чувствую себя литератором по профессии.
О самой брошюре «Vigilemus» мне нечего сказать больше того, что было уже сказано мною в письме Бугаеву и на нашем заседании в присутствии большинства адресатов сего[3910]. Внимательное прочтение брошюры ни на иоту не изменило моего первоначального мнения о ней. Что же касается критики Бугаева этой брошюры, то кое с чем в ней я согласен; напр<имер>, святой Лойола возмущает и меня самого[3911]; кое в чем согласен с замечаниями Бугаева по поводу схоластики и мистики; но, во-первых, все это не является причиной отказать Эллису в напечатании брошюры; во-вторых, безусловных промахов в брошюре ни Рачинский, ни я, ни компетентный по средневековью Киселев не заметили; есть только тенденциозные натягивания; в-третьих, Эллис отвечает за себя, так же как и сам Бугаев, который тоже не без греха в научном отношении, как в своем Символизме, так, между прочим, и в критике брошюры «Vigilemus».
Что же касается предложенных Бугаевым сокращений брошюры (под угрозой в противном случае уйти из Мусагета с объяснительным письмом в газетах)[3912], то я затрудняюсь иначе квалифицировать требование Бугаева, как издевательство и над автором «Vigilemus», и над редакцией Мусагета. Если это издевательство сознательное, чего я не думаю, то… тем хуже для Бугаева; если же оно бессознательное, то… тем хуже для тех принципов, под влиянием которых возможно ставить такие требования. Впрочем, если есть третье объяснение к тому, я весьма рад буду его выслушать и постараюсь принять.
Если допустить, что антропософия, снимая антитезу веры и знания, являет собою некий синтез религии и науки[3913], то разумеется само собою негодование, возбуждаемое свободной критикой антропософии. Но в отношении к друзьям, казалось бы, надлежало спрятать негодование подальше, снизойти к их невежеству по вопросу об антропософии и сделать попытку уладить весь инцидент с «Vigilemus» мирно. Можно было бы уговорить Эллиса кое-что видоизменить, отказаться от марки Мусагета и т. п. Воинственное настроение мусагетских антропософов невольно заставляет предположить, не был ли ими уход из Мусагета предрешен, а «Vigilemus» явилась только удобным поводом. Если это не так, то мне опять-таки остается только радоваться, но тогда я жду объяснения, почему возник этот алармизм. Что касается Бугаева, то к его вспышкам мне не привыкать стать. Все мое отношение к нему стало портиться, когда у нас возникло общее дело. Двоякость отношения у Бугаева заменилась вышеупомянутым психологизмом. Он не хотел различать дружеское сношение и деловое. Отсюда, когда все шло гладко, воцарялся психологизм «домашнего», проявлялась уступчивость, забывалась критика ко вреду дела; как только возникало трение, чувствительное именно для Бугаева, – психологизм толкал его к официальной маске в сношениях со мной, причем обнаруживалось или тактически симулировалось полное непонимание моей личности. В первом случае казалось, будто мы без слов понимаем друг друга, во втором случае, будто мы все слова понимаем по-иному. Кто взял бы на себя труд прочесть все мои письма к Бугаеву, тот убедился бы, что оба момента «дружбы и службы» я всегда разделял. Неприятие этого деления Бугаевым явилось одною из причин наших распрей. Другая лежит наверное глубже, но о ней здесь не место говорить. Этот ответ на Записку Бугаева я по нездоровью диктовал Анне Михайловне Метнер в декабре 1913 г.
При сем прилагаю:
I. Письмо Бугаева от 7/20–Х–913[3914], по поводу которого главным образом и шла здесь речь. Ответ на него в моей копировальной книге я бы мог лишь прочесть вслух адресатам сего, т<ак> к<ак> коп<ировальная> книга заключает письма и к иным лицам[3915].
II. Письмо Бугаева от 1/14–XI–913, в кот<ором> Эллис продолжает быть наименованным «лишенным чести», «в компании с которым» нельзя «находиться» в Мусагете[3916]. Таким образом, первое письмо не является вспышкой, ибо состояние истерического раздражения, длящееся 24 дня, – уже либо болезнь, либо прочное озлобление.
III. Набросок отчета о заседании 23/Х ст. ст. 1913 по поводу «Vigilemus», сделанный Н. П. Киселевым[3917]. С этим отчетом я вполне согласен, хотя мог бы по некоторым частностям сделать добавления. «Секретация корректур» моей книги о Гёте и Штейнере[3918], конечно, не есть показатель ненормальности во взаимных отношениях; вообще корректуры не должны читаться третьими лицами (помимо корректора и редактора); раз же моя книга должна быть напечатана хотя бы и помимо Мусагета, то я вправе особенно настаивать на секретации, тем более, что чтение посторонними (хотя бы и близкими и единомышленниками без моего предложения) неоконченного сочинения влияет на настроение. Нет! Если бы я знал, что к Штейнеру отношение любовное, но не абсолютное, я бы все-таки настаивал на секретации, но показал бы в последней корректуре членам литер<атурного> комитета места, обидные для Штейнера, и по их совету изменил бы кое-что или выбросил. Но ввиду безусловного характера почитания Штейнера я решил (до истории с «Vigilemus») показать лишь в сверстанном виде и, судя по отзывам, либо напечатать свою книгу вне, либо в Мусагете. Да и теперь я еще не решил этого вопроса, несмотря на выход антропософов из издательства, т<ак> к<ак> вовсе не желаю явиться причиною, преграждающей им впоследствии возможность возвратиться в ряды мусагетцев. –
IV. Декларация М. И. Сизова и обмен мнений, им записанный[3919]. В этом документе я со многим, разумеется, не могу согласиться. Констатирование в Мусагете недопустимого «тона» в отношении к антропософии и моего «подсмеивания» я отношу к разряду явлений психологического надрыва, ведущего к галлюцинации слуха и зрения. Об утрировке в оценке «мракобесия» Эллиса было уже достаточно говорено. Об изменении отношения Мусагета к антропософии в желательном для ее приверженцев смысле не может быть речи, ибо это значило бы оставить от Мусагета звук пустой. Антропософы должны изменить<ся>, чтобы мочь войти опять в Мусагет. Ибо теперь симбиоз немыслим, т<ак> к<ак> если антропософия – не одна из тем, то она доминанта всей деятельности Мусагета, т. е. последний – антропософическое издательство, eo ipso[3920] – не Мусагет больше; антропософы напрасно скрывают сектантский характер своего исповедания; ведь в нем нет ничего дурного, но это идет вразрез с идеей Мусагета. Кто этого не видит, тот напрасно считал себя схватившим эту идею. За слова и извинения Н<иколая> П<етрович>а Киселева я не отвечаю и полагаю, что его личное мнение об антропософии не есть создание мусагетского «тона». Что Сизов тоже, как и Бугаев, говорит о некорректности Мусагета, я считаю не менее (если не более еще) чудовищным, нежели вопли из Берлина Бугаева. В азарте находились именно антропософы, и было бы смешно считать их лучшими оценщиками работы вроде «Vigilemus», чем, напр<имер>, Киселева или Рачинского, антиштейнерьянство кот<орых> не носит экскоммуникативного характера, проявленного штейнерьянством Бугаева. Но Сизов – не член лит<ературного> комитета; а брошюра должна была быть (и была, в конце концов) обсуждена не антропософами, а лит<ературным> комитетом. Предшествующее изложение содержит ответы на замечания по существу, сделанные в Декларации Сизова, почему я и кончаю свое возражение. Я прошу адресатов Записки Бугаева внимательно отнестись к моему возражению и к приложениям и возвратить последние по прочтении Ник<олаю> П<етрович>у Киселеву для хранения в архиве Издательства.
Э. Метнер.РГБ. Ф. 167. Карт. 9. Ед. хр. 11. Л. 1–22 – рукой А. М. Метнер, л. 23–25 – автограф Э. К. Метнера. Этот документ Н. П. Киселев обозначил как «Досье Э. К. Метнера о „Vigilemus“ на 25 лл.».Текст представлен также в копии (рукой А. М. Метнер), озаглавленной: «Копия ответа на записку Бугаева о Vigilemus» (РГБ. Ф. 167. Карт. 24. Ед. хр. 34. 27 л.).Написано в декабре 1913 г., адресовано коллегам по издательству «Мусагет».Опубликовано: Russian Literature. 2015. LXXVII–IV. C. 483–500. Подгот. текста и примеч. А. В. Лаврова.
311 а. Белый – Метнеру
Совершенно приватно.
мне чрезвычайно прискорбно, что мою просьбу уничтожить мое письмо Вы связали с нашими идейными расхождениями[3921]; просьба эта вытекает из совершенно иных оснований, хотя расхождение наше может побочно влиять на сохранение Вами именно этого письма; тут дело не в эксо– и эсо-теризме, а вот в чем: я сообщил Вам стихотв<орный> отрывок, начинающийся с «In meinem Denken leben Welt<gedan>ken» и т. д. не по тексту мистерии, а по другому варианту, не зная степени невозможности сообщения этого варианта[3922]; дело не в эсотеризме, а в особых условиях, безусловно запрещающих сообщать этот вариант; условий этих я не знал и сообщил Вам, и лишь потом узнал, что сообщенный и разобранный мною Вам вариант безусловно несообщаем; поэтому: я настаиваю на уничтожении не письма, а всего того в письме, что касается разбора места: «In deinem Denken leben Weltgedanken». В этой просьбе Вы мне не можете отказать[3923]; и потому-то Вы уничтожите в моем письме Вам все то, что касается ритмического разбора именно этого места. Если бы в Вашей книге[3924], случайно, оказались разборы мистерии, если бы Вы случайно ссылались на приведенный мною отрывок (в мистериях его нет), то Вы, без сомнения, вычеркните из книги его, ибо его в мистериях нет.
Если бы отрывок оказался вдруг медитацией, то обнародование случайное его обрекло бы меня на ряд непоправимых бед, как и тех, кому эта медитация (если это медитация) дана; вот чем обусловлена моя просьба, а не нашими спорами и ссорами, и мне обидно, что мою просьбу об уничтожении письма из Христиании (теперь уже не письма, а всего, связанного с указанным отрывком) Вы прочли совершенно предвзято. Надеюсь, что Вы исполните мою просьбу, т. е. 1) уничтожите указанное место моего письма, 2) никому не сообщите об этой личной моей просьбе, 3) да и мне не отвечайте на этот пункт (я же верю, что, после всего мною изложенного, Вы поймете степень внутренней важности для меня, чтобы этот отрывок был уничтожен (не уничтожить его, значит напасть из-за угла на беззащитного человека и уколоть его отравленным лезвием).
Приняв это все во внимание, Вы поймете, что просьба об уничтожении этого отрывка лежит вне плоскости наших идейных и мусагетских ссор.
Примите уверение в совершенном почтении и преданности.
Борис Бугаев.
P. S. О деловых Ваших письмах пишу особо.
РГБ. Ф. 167. Карт. 3. Ед. хр. 22. Датируется по почтовому штемпелю на конверте.
311 б. Белый – Метнеру
Копия.
Мне чрезвычайно прискорбно, что мою просьбу уничтожить мое письмо Вы связали с нашими расхождениями; просьба вытекает из иных оснований… Я сообщил Вам стихотворный отрывок, начинающийся со слов, встречаемых в мистерии: «In deinem Denken…». Я его сообщил не по тексту мистерий, а в варианте; всех условий, не позволяющих мне сообщить этот вариант, я не знал; и лишь потом узнал, что сообщенный и разобранный мною вариант безусловно несообщаем. Я настаиваю на уничтожении не письма, а этого места, где я привожу и разбираю данный вариант.
Если бы отрывок оказался вдруг медитацией, то обнародование его нанесло бы и мне, и другим ряд непоправимых бед (и на Вас отразилось бы очень плохо).
Надеюсь, что теперь Вы исполните мою просьбу и поймете, что дело не в эсо– и эксо-теризме, не в наших расхождениях и т. д. Эта просьба не полемика; это моя покорная личная просьба; и не исполнить ее после сообщенного Вы не можете…
Я, конечно, верю, что Вы ее исполните: не отвечайте ничего на это приватное письмо (просто уничтожьте часть моего письма, где я разбираю и привожу отрывок).
На все деловое скоро отвечу.
Остаюсь уважающий Вас и преданный
Борис Бугаев.РГБ. Ф. 167. Карт. 3. Ед. хр. 23.Краткая редакция текста п. 311 а.
312. Белый – Метнеру
Базель[3925]. Февраль 1914 года.
На Ваше письмо о возвращении моего долга К<нигоиздательст>ву «Мусагет» я извещаю Вас о нижеследующем:
1) Я уже обещал в этом году 1000 рублей К<нигоиздательст>ву «Мусагет»: этими 1000 рублей располагаю не я и не в моей власти достать их до залога имения моего, который имеет быть в этом году, как Вы, вероятно, уже извещены А. С. Петровским, которому я выяснил подробно мои планы о постепенном погашении долга.
2) Я имел предположения выделять из получаемой ежемесячной суммы в течение 1914 года ту часть, которая останется свободной путем экономии; но эта сумма для меня неопределенна, потому что не определенен еще гонорар из К<нигоиздательст>ва «Сирина».
Вот все, что я могу при наличных деньгах. К<нигоиздательст>во «Мусагет» знает, что я живу, так сказать, на жалованьи и что свободных сумм, кроме 1000 от залога, в близком будущем у меня нет.
Взяв 3000 рублей, предложенных мне К<нигоиздательст>вом «Мусагет» в 1910 году, я предполагал, что залогом погашения являются мои книги и мой труд. Труд мой не мог состояться в К<нигоиздательст>ве «Мусагет» ввиду непрерывных идейных недоразумений с Вами. А предложенные книги (стихи, симфонии, «Сер<ебряный> Голубь», роман «Петерб<ург>») либо систематически откладывались в долгий ящик в течение 1911, 1912, 1913 годах <так!>, причем Вы мотивировали это откладывание существованием ряда предположенных к изданию книг, из которых большинство еще объявлены и по сию пору и еще даже не печатаются, между тем мои сочинения были всегда готовы к печати[3926]. Должен сказать, что если бы К<нигоиздательст>во «Мусагет» в течение 1910, 1911, 1912, 1913 годах посвятило сериозно хотя бы час времени, чтобы создать мне удобные условия для погашения долга, то долг бы был давно погашен; но К<нигоиздательст>во «Мусагет» реально ничего не сделало для облегчения мне своевременного погашения долга (я же неоднократно предлагал свои книги в 1911, 1912, 1913 году); поэтому тон настоятельный Вашего письма (Вам хорошо же известны мои наличные деньги) – меня удивляет. Повторяю, я сделаю все возможное для постепенной ликвидации долга, но предупреждаю, что абсолютно не в состоянии быстро этот долг ликвидировать. Что же касается до предложения снестись с издательницей, то считаю его неуместным: я имею дело с конторой К<нигоиздательст>во «Мусагет» и с Редакцией оного: с издательницей К<нигоиздательст>ва «Мусагет» я деловых сношений не имел…
Примите уверения в совершенном почтении.
Борис Бугаев.
P. S. Мой адрес: Schweiz. Basel. Poste restante.
P. S. В случае дальнейшей необходимости препираться о сроках погашения моего долга, я предупреждаю, что буду просить Б. П. Григорова, с которым имел уже деловой разговор, снестись в Москве с Вами от моего имени для большего удобства и быстроты сношений[3927].
P. S. Позвольте мне откровенно сознаться: меня удивило, что К<нигоиздательст>во «Мусагет», не получив от меня ответа на предложение воспользоваться для погаш<ения> долга частью моего гонорара за стихи и «Голубя», само предложило наложить секвестр на эту часть К<нигоиздательст>ву «Сирин», между тем как гонорар этот есть хлеб насущный мой 1914 года. Я помню, Вы сделали мне такое предложение из Дрездена (когда я жил под Христианией), но я не мог ответить ни утвердительно, ни отрицательно, не узнавши точно суммы этого гонорара и времени печатания (при всем моем старании точно мне пока не удалось узнать ни то, ни другое); мое молчание на это Ваше предложение не было знаком согласия (я хотел предложить совсем другую комбинацию); К<нигоиздательст>во же «Мусагет», не уведомив меня, само предложило «Сирину» взять часть гонорара, на что К<нигоиздательст>во «Сирин» не могло согласиться, не уведомив меня и не получив от меня уведомления переслать в «Мусагет» такую-то сумму. Если бы даже К<нигоиздательст>во «Сирин» и поступило так, то могло бы оказаться, что я вдруг лишен месячного минимума для существования.
Неужели К<нигоиздательст>во «Мусагет» не подумало об этом?
Не дав возможности <в> 1911–1913 отдать часть гонорара путем напечатания моих книг (за стихи и симфонии 1500 рублей был бы не большой гонорар, что + 1000 рублей составило бы 2500 погашенного долга), К<нигоиздательст>во «Мусагет», невольно, разумеется, еще и лишило бы меня хлеба насущного, если бы К<нигоиздательст>во «Сирин» своевременно не отклонило сделанного Вами предложения.
Мой план был другой: выплачивать из месячной суммы «Сирина» в те месяцы, когда от этой суммы удастся съэконизировать; я хотел рублей 500 в год выплатить Вам в свободные сроки, посылая то больше, то меньше, то вовсе не посылая, то посылая, например, 100 рублей и т. д. Мы живем в разных городах, в разных условиях (жить то дешево, то дорого); мы то много переезжаем, то сидим на месте. Но повторяю: сперва надо было узнать, сколько получаю я в месяц; ни в сентябре, ни в октябре, ни в ноябре я не мог получить точного ответа; недавно лишь получил письмо, что точная сумма гонорара определится на редакц<ионном> собрании, а собрание состоится, когда соберутся отсутствующие в Петербурге члены Редакции.
Во всяком случае те 500 рублей сверх 1000, которые я мог обещать из особенного желания личного погашать долг, были бы для нас тяжелым бременем. Я и до сих пор сверх 1000 формально наверное не могу обещать эти 500 рублей.
ГЛМ. Ф. 7. Оп. 1. Ед. хр. 32. Оф 6325. Письмо (или только данный вариант его текста), по-видимому, не было отправлено адресату.Ответ на п. 310.
313. Метнер – Белому
Девичье Поле 25/II–10/III–914.
Оба Ваши письма об «инкриминируемом» месте одного из прежних Ваших писем я получил и просьбу Вашу на этот раз исполнил, замазав тщательно все, что Вы потребовали[3928]. Я не отвечал Вам только потому, что был все время (да и отчасти и теперь) страшно разбит, обезволен, уныл. Таких ужасных времен по самочувствию я не запомню. Мне надо делать неимоверные усилия, чтобы не уйти из жизни вовсе. Но –
как говорит маг в зингшпиле Лила (Гёте)[3929] –
Вы все так же incommensurable![3930] В письме от 14/XI 13 Вы пишете мне: «В упомянутом письме у меня проскользнули фразы, которые могли проскользнуть при нашем дружеском отношении друг к другу. Теперь при натянутом отношении нашем друг к другу фразы эти etc.».
А в письмах (полученных в Москве 19/I–914)[3931] Вы говорите: «Мне чрезвычайно прискорбно, что мою просьбу уничтожить мое письмо Вы связали с нашим расхождением» (а в другом письме: «с нашими идейными (??) расхождениями»). Далее: – «мне обидно, что мою просьбу об уничтожении письма Вы прочли совершенно предвзято». Из сопоставлений приведенных мест Вы видите, что основания у Вас и могли быть иные, более глубокие, но прочел я Ваше письмо именно не предвзято, а буквально. Или Вы (подобно Штейнеру) придаете термину предвзятость совершенно не тот смысл, который придается обычно. Кстати, unbefangen[3932] – любимое слово Гёте – и оно именно и толкуется вкривь и вкось Штейнером, кот<орый> под непредвзятостью разумеет теософскую пассивную догматичность. Lassen Sie sich von Theosophie befruchten[3933], т. е. будьте женщиной, оставьте мужественную активность… – Но в Вашем случае, как же иначе: непредвзято я должен был принять Вашу ссылку на «натянутые отношения», при которых вдруг сказанное мне Вами таинственно «может повлиять вредно как на Вас, так и на меня» (Ваше письмо 14/XI 913). Вы сами незаметно для себя смешали два мотива Вашей просьбы, но это ясно мне только теперь, тогда же, после 14/XI, я unbefangen (непредвзято) прочел, что было написано. – Мое ответное «досье» Вам – все еще путешествует по московским адресатам, так что обещанных приложений пока еще выслать Вам не могу[3934]. – Делового (обещанного Вами) ответа я еще не получал. Ваша мама была у нас, но ничего не говорила о моей просьбе относительно книг, взятых Вами в свое время для прочтения из Мусагетской библиотеки; очевидно, Вы ей ничего не писали[3935]. Отправили ли Вы книги Пути etc., кот<орые> Вам высланы были для рецензии из Мусагета, Эллису? Эллис жалуется, что ему нечего читать, а мы не можем покупать книги, в особенности те, кот<орые> были нам высланы в обмен. Об этом я уже два раза писал Вам в прошлых письмах. Нам надо знать положительный или отрицательный ответ. Если Вы потеряли все эти книги, высланные Вам за границу, а ключей от московского шкафа не оставили маме, то придется для Эллиса купить несколько книг. – Но это, конечно, – второстепенное, хотя и для Эллиса (да и для нас ввиду необходимости страшно экономить) – важное. – Что же касается главного, т. е. Вашего долга Мусагету и связанных с этим отношений, то тут я не могу, конечно, настаивать на немедленном ответе. Но прошу Вас, как только Вы выясните все положение дела, немедленно уведомить меня, т<ак> к<ак> неопределенность при крайне затруднительном положении Мусагета очень депремирует[3936] нас и связывает нам руки: мы не знаем, чтó мы можем себе позволить и чего – нет. Я не понимаю, отчего Вы теперь не можете ускорить дело с имением, а если действительно не можете, то отчего не выясните себе и нам беспощадно всего положения. Ведь это затягивание нервирует. Сирин тоже молчит. Пуcть бы уж лучше знать, что 3 631 р. 50 к. выброшены из кассы издательства и на их возвращение надо махнуть рукой. Тогда мне придется или закрыть Мусагет, или обратиться к издателям с повинной и просить их возместить этот «аванс», неосторожно мною выданный. – Горечь этих слов отнюдь не направлена на Вас лично, а только на все печальное, чуть ли не отчаянное положение. –
Ваш Э. Метнер.РГБ. Ф. 167. Карт. 5. Ед. хр. 32.Ответ на п. 311 а, б.
314. Метнер – Белому
Девичье Поле 12/25–IV–1914.
1000 р. и письмо Анны Алексеевны я получил[3937]. Свой адрес писал на конвертах. Вот он – Девичье Поле, Саввинский переулок, дом 12, кв. 6. – В третий раз запрашиваю Вас о судьбе тех книг (из Пути, Скорпиона, издательства Некрасова и т. п.), кот<орые> Вы брали в Москве из Мусагета и кот<орые> мы отправляли Вам за границу (для отзыва)? См. мои последние два письма[3938]. – 1) Это необходимо, т<ак> к<ак> Эллис молит о книгах, и не можем же мы покупать книги да еще досадно покупать те книги, кот<орые> были получены в обмен. 2) Киселев составляет Мусагетскую библиотеку, и нам важно знать, что мы имеем.
«Досье» только теперь может быть отправлено на прочтение Вячеславу[3939], так что приложения (Сизова и Киселева) пока Вам высланы быть не могут.
Что касается Ваших симфоний, то, во-первых, меня удивляет Гриф, кот<орый> в каталоге объявил второе издание Кубка Метелей[3940], кот<орый> далеко еще не распродан!! Если же – да, или если Скорпион разрешил второе издание, то все четыре симфонии должны были бы появиться в одном издательстве! Кто разрешил Грифу объявить второе издание? И какой гонорар Вы получаете за это? В свое время мы говорили с Вами об издании трех симфоний (а не четырех) в Мусагете только потому, что 4-ая – не распродана, и нельзя обижать Скорпион. – Ничего не понимаю. – Тем более, что Анна Алексеевна пишет мне, что за Мусагетом Вы считаете гонорар за симфонии; но что Мусагет может получить с Грифа?? Лично я не вижу ничего невозможного, чтобы Ваши симфонии появились в Мусагете (после Вашего ухода); ведь появится же Бёме Петровского только осенью[3941], т. е. почти год спустя после выхода Петровского из Мусагета? Ваши симфонии ведь могли бы уже находиться в наборе, когда разразилась распря! – Но, конечно, лучше, если симфонии будут изданы другим издательством, т<ак> к<ак> и надо с ними спешить, а у нас сейчас мало средств. Когда Вы выясните мне Ваше отношение к Сирину вообще и к Грифу по вопросу о четвертой симфонии, то я смогу приняться за пристраивание симфоний. В каком положении вопрос о переиздании Ваших стихов и Голубя?
Читаю Петербург[3942]. Восхищаюсь, ужасаюсь, тону, захлебываюсь (до губошлепства) – невыносимая вещь – хочется кричать: так нельзя! Постойте! Караул грабят! Украли человека! вынули человека, остались одни кальсоны![3943] И все-таки даже враги Ваши должны признать, что подобное (по стихийности) не напишет ныне никто в мире.
Ваш Э. Метнер.РГБ. Ф. 167. Карт. 5. Ед. хр. 33.
315. Метнер – Белому
Девичье Поле 9/22–VI–914.
12/25–IV – я отправил Вам письмо, кот<орое> пролежало два месяца и вернулось ко мне[3944]. Очевидно, перед отъездом Вы не зашли на почту и не оставили своего нового адреса. Пересылаю теперь Вам письмо. В добавление к нему могу сказать след<ующее>. «Досье» у Вячеслава[3945], и я Вам его вскоре вышлю. – О симфониях надо вопрос выяснять скорее, т<ак> к<ак> в связи с этим стоит наш план на сезон 1914–1915 г. – Чувствую я себя хуже, нежели когда-либо. Так мерзко, что теперь уже навсегда застрахован от Штейнера. Если я в таком отчаяннейшем самочувствии удержался и не пошел спасать свою душу, то, значит, я спасен от Штейнера. – Переживая, однако, в то же время довольно острые оккультные ощущения, я говорю Вам: бегите сломя голову от этого Клингзора[3946], пока не поздно; не слушайте ни друзей, ни жены, никого; слушайте только своего Гения, иначе он Вас оставит. Вот мое Вам последнее слово. – Очень прошу Вас ответить мне на деловые пункты моего письма. –
Всего хорошего.
Э. Метнер.РГБ. Ф. 167. Карт. 5. Ед. хр. 34.
316. Белый – Метнеру
Дорогой Эмилий Карлович, мне чрезвычайно лестно, что Вы обратили внимание на мой роман, несмотря на то, что вторая половина его написана уже почти не мною, а «членом антропософического Общества». Как член оного О<бщест>ва я могу так характеризовать обе части трилогии: «Голубь» – люциферическое переживание Дарьяльского («Ястребиный вышел у Голубя клюв»[3947]). «Петербург» – исследование по вопросу о химеризме (ариманизме), произведенное автором на основании ряда эмпирических фактов (т. е. окружающей действительности: действительность «богато» питала автора за эти 3 года нужными для его исследования фактами. Обе же части пока доказывают тезис нашей доктрины, что ариманизм (химеризм или материализм, что то же) есть следствие люциферического переживания[3948]: «Эгоцентризм» теоретически проглатывает мир, становясь солипсизмом, тогда практически «я» оказывается игрушкою иллюзий мира (внешней действительности). Над «Сер<ебряным> Голубем» царит Люцифер. Над «Петербургом» – Ариман. Оба образуют правую и левую сторону «игольного ушка». Остается III часть, т. е. проход сквозь игольное ушко; надеюсь, что «Невидимый град» (III часть)[3949], за эти два года начавший для меня очерчиваться, в нашем Bau сложится тоже из эмпирического материала, которого я так долго искал для завершения Трилогии, и который нахожу теперь в таком изобилии как один из строителей этого самого Bau.
Милый друг, я <c> волнением и любовью прочел Вашу приписку, советующую мне бежать от… «Клингзора»… С волнением и любовью, потому что приписка эта продиктована прекрасным чувством Вашего отношения ко мне; и на это чувство, как на чувство любви и расположения, я не могу не откликнуться с волнением: мною движет любовь к Вам. И если Вам понятно, что на любовь и расположение невозможно не ответить любовью же, и что в этой беспомощности, открытости любви и сочувствия непобедимость любви (на воина, поднимающего меч на воина, – воин отвечает обнажением меча: на простертые руки младенца только подлец обнажает меч, а любовь и симпатия – младенчески всегда), – если Вам понятна (а Вам понятна) непобедимость и ясность «беспомощной – детской» любви, то Ваши слова о «бегстве» теряют всякий смысл, ибо кто же бежит от любви своей, а Доктор – наша любовь: ибо когда же, странный Вы человек, поймете Вы, что между нами – «любовь», а где «любовь», там – нет страха. «Бегает» тот, кто не любит: любящие же, и погибая, спасаются, ибо они уже спасены: вот что сказано о любви у апостола Павла: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит; любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится…»[3950] И далее: «Достигайте любви; ревнуйте о дарах[3951] <На этом текст обрывается.>
ГЛМ. Ф. 7. Оп. 1. Ед. хр. 32. Оф 6325.Ответ на п. 314 и 315. Не закончено и не отправлено адресату.
317. Белый – Метнеру
Arlesheim[3952]. 9 июля н. ст.
Ужасно печально, что Ваше деловое письмо прогуляло даром; но я не мог предполагать, чтобы кто-нибудь послал мне на poste-restante, когда мой адрес точный был давно известен. Обычно я всегда уведомляю о переездах, но на этот раз действительно я не зашел на poste-rest<ante>, потому что был адски занят работами в Bau, приездом мамы[3953], беспомощней которой я вообще не знаю никого: ее приходилось водить, как маленького ребенка; наконец мы собирались тогда в Вену[3954]. Спешу ответить на деловые пункты письма: 1) по вопросу о книгах. Книги, присланные мне зимой 1913 года в Берлин и весной 1913 года в Боголюбы, находятся в запечатанном виде в одном из ящиков в Боголюбах: при нашей бродячей жизни мы не можем не жить налегке. И поэтому я ничего поделать не могу. Мне очень плачевно, что я воспользовался любезностью «Мусагета», но я, право, надеялся писать рецензии; дело в том, что все лето я просидел над третьей частью романа «Петербург»[3955] и поэтому не мог ничего иного, кроме беллетристики, писать летом. Я не знаю, как быть: в Боголюбах масса вещей, сундуков, ящиков ряда семейств; у нас там 5 запечатанных ящиков; сумеет ли их различить С. Н. Кампиони, тоже не знаю. Кроме того: один ящик (наш) с книгами при переезде в большой дом там пропал. Видите, как все это сложно. 2) По вопросу о «Симфониях». К<нигоиздательст>во «Сирин» при запросе его в 1913 году осенью ответило, что вопрос о симфониях оно откладывает, надеясь решить его через год. Через два месяца этот год истекает. Я позондирую почву. Вопрос о 4-ой Симфонии: для меня совершенно неожиданно намерение «Грифа». Никакой речи, насколько я помню, о 4-ой «Симфонии» не было. При первой возможности наведу справки.
Получил на днях письмо-рукописи Сизова и «Экспозэ»[3956]. Прочел[3957]. Высылаю обратно.
ГЛМ. Ф. 7. Оп. 1. Ед. хр. 32. Оф 6325.Ответ на п. 314 и 315. Не закончено и не отправлено адресату.
318. Белый – Метнеру
Я только что вернулся из Швеции[3958]. Спешу Вам ответить.
1) Книги, требуемые Вами для Эллиса, находятся в запечатанных ящиках в Боголюбах.
2) О «Симфониях» наведу справки в «Сирине». Ранее году после бывшего моего запроса мне неловко запрашивать «Сирина» вторично, ибо было решено, что вопрос о «Симфониях» решится в «Сирине» через год.
Спасибо Вам за хорошие слова Вашего письма. Желаю Вам всякого благополучия, здоровья и счастья.
Остаюсь искренне преданный Вам
Борис Бугаев.
P. S. С «Грифом» я никаких переговоров не вел: наведу справки, что это значит, что 4-ая «Симфония» объявлена в Грифе 2-м изданием.
ГЛМ. Ф. 7. Оп. 1. Ед. хр. 32. Оф 6325.Ответ на п. 314 и 315. Видимо, письмо не было отправлено адресату.
1915
319. Метнер – Белому
Zürich 9/II–15.
Очень, очень рад был, дорогой Борис Николаевич, получить от Вас письмо[3959]. Я только что возвратился от моей кузины из Уцвиля[3960], а потому хотел бы некоторое время остаться опять один. За пребывание в Цюрихе я привык к одиночеству и полюбил его. Так что после нескольких дней общения с людьми меня тянет подольше остаться одному. М<ожет> б<ыть>, это тяготение к одиночеству – временное, а м<ожет> б<ыть>, наоборот, репетиция к окончательному уходу. Во всяком случае относительно моего или Вашего приезда напишу через несколько дней. Что же касается Ваших планов о моей даче, то это так далеко, что не стоит пока об этом говорить; м<ожет> б<ыть>, я уеду из Швейцарии в Италию. Поэтому по поводу приватной части Вашего письма мне остается только Вас обнять и поблагодарить за ласковую заботливость. – Что же касается Света, Гёте, Доктора и т. д., то я позволю себе в след<ующих> пунктах наметить грядущие полемические (sachlich!![3961]) недоразумения, которые угрожают испортить Вашу интересную работу о моих Размышлениях[3962].
1) Уличать меня в незнании естественных наук значило бы столь же ломиться в открытую дверь, как доказывать, что Штейнер знает эти науки. Нигде я не говорю, что Штейнер не знает физики, и я совершенно открыто признаюсь в предисловии в своем невежестве по части естественных наук[3963].
2) Презрение к философской науке не может идти так далеко, чтобы отрицать возможность обсуждения идей, принципов, предпосылок, задач, целей в отдельных областях науки и творчества. Или в таком случае пришлось бы ставить на вид «фельетонизм» не только мне за обсуждение принципиально-философских вопросов естествознания, но и Канту, Шопенгауэру, Гегелю и другим мыслителям (да, наконец, самому Гёте и Штейнеру), вообще всем, кто говорит о музыке, не будучи музыкантом, о живописи, не будучи живописцем, и т. д. и т. д. и т. д. Это значило бы похерить философию и все-таки не избавиться ни от верхоглядства, ни от педантизма.
3) Издание Kürschner’а[3964] (где наход<ятся> означенные Вами статьи Штейнера) было у меня в руках только в Дрездене. Я «удосужился» однажды прочесть их, но убедился, что принять во внимание частности этого комментария значило бы донельзя усложнить мою работу, нисколько не делая ее в то же время более основательной. Общий же дух этого комментария, несмотря на некоторые несогласованности его с разобранными мною книгами Штейнера – тот же, что и в последних[3965]. Впрочем, в предисловии моем и в друг<их> местах книги я указываю, почему я счел себя вправе при анализе ограничиться G. W. и Aesth<etik>[3966]. Что же касается биологии (в связи с вопросом о витализме, органицизме и т. д.), то я использовал целый ряд брошюр Штейнера, и, правда, цитаты мною не подобраны. Наконец, я обратился за помощью к Пуанкарэ и к ботанику и философу и гетеанцу Ионасу Кону, о чем неоднократно упоминается в книге. –
4) Можно быть не только осведомленным в естественных науках, как Штейнер, но даже гениальным специалистом вроде Оствальда или Геккеля и в то же время беспомощно запутываться в принципах естествознания. Вы это сами знаете.
5) Наиболее неуязвимые места моей книги (если не считать главы об эстетике и симв<олизме>, ибо в этом вопросе Штейнер просто сел в калошу, т<ак> к<ак> не удосужился изучить эстетику Гёте) именно те, кот<орые> говорят о недоразумении между Гёте, строгой наукой и Штейнером. Можно будет указать на неудачные формулировки или ненужные, портящие дело придирки мои, но по существу мои доводы неотразимы, и отразить их (мнимо) можно, лишь прибегнув к искажению не принятого мною во внимание материала воззрений Штейнера в сторону правильного соотношения между Гёте и наукою, как оно понимается не мною одним, а целым рядом ученых, начиная с Гельмгольца и кончая Ионасом Коном. – Т. е. можно взять и все примирить: Штейнера, Гёте, Гельмгольца, Платона, Геккеля, Гегеля, Андрея Белого, Оствальда, Шиллера, Пуанкарэ, Ионаса Кона и Эмилия Метнера. Но от такого примирения остается зажать нос. – В стороне останется один Кант, которого не примирить с Штейнером, и этот Кант, который в Кр<итике> сп<особности> сужд<ения> первый и раз навсегда провел границы между точным естествознанием и всяческой плохой или хорошей натурфилософией, стоит перед нами непоколебимым свидетелем путаницы гетеанца Штейнера. –
6) Я не знаю, что Вы докладывали Штейнеру о моей книге, но если Вы ему сказали приблизительно то же самое, что и мне, то весьма непонятно, отчего он сказал про «пинок в спину»; ибо, раз все так, как Вы предполагаете, то к чему же, хотя бы и крайне добродушно, прибегать к хагеновскому удару в спину[3967]; ведь можно, сохраняя полное добродушие, стать лицом к лицу и дать щелчок по носу. Steiner hat sich versprochen[3968]; он невольно проговорился, ибо «знает», что ударить меня здесь, в этом случае, можно только в спину. – Вот мои пункты, а затем хорошо бы до окончания Вашей работы вообще не возвращаться к моей книге ни устно, ни письменно. Это мешает моим очередным думам. Скоро уведомлю, когда встретимся. Сейчас не могу сообразить. Не примите этого письма ни как огорчение, ни с огорчением. Обнимаю Вас. Привет Асе. Ваш М.
Очень важная опечатка в моей книге: стр. 523 след<ует> читать: «P. S. к стр. 48–50, 274–275, 314–327». Фальшивые страницы должны заставить недоумевать, к чему тут Эрда[3969].
РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 11. Почтовый штемпель получения: Dornach. 9. II. 15. Адрес отправления: Herrn Dr. Boris Bugaëw. Dornach. Haus Thomann (Baumalerei). Kanton Solothurn.
320. Метнер – Белому
Zürich 10/IV–15.
То обстоятельство, что Ася сказала мне уходящему вслед: «Вы, конечно, придете через ¼ часа» – только показывает лишний раз, что моя природа ей, да и Вам, совершенно чужда[3970]. Вы думаете, что я впал в истерику и разозлился; на воздухе мог бы очухаться и возвратиться. Но у меня этого не бывает. Я сержусь (так, как я рассердился у Вас) один-два раза в год. И это проявление гнева стóит мне очень многого. Явившиеся причиною этого гнева не могут рассчитывать на скорое со мною свидание. То, что я во время разговора не справляюсь со своим темпераментом (так же, как и Вы) и потому прихожу в азарт, это есть, конечно, своего рода нервозность; но никогда этот азарт не переходит у меня за ту границу, где начинается «истерика», и от этого азарта качественным (а не градусным) образом отличается тот припадок гнева, в который я способен впасть, конечно, крайне редко. Такой гнев может явиться без предшествовавшего азарта, и обратно, этот азарт может длиться часами и днями, и ему вовсе незачем переходить в гнев. И этот гнев не есть нервозность; я бы мог быть здоров абсолютно и все-таки под влиянием сильнейшего огорчения впадать в гнев, сохраняя вообще бóльшее спокойствие (т. е. не впадая в азарт) во время раздражительных разговоров.
Во время нашего чрезвычайно трудного разговора Ася давала одну реплику за другой, и каждая следующая была обиднее (ибо неосновательнее) предшествующей. Если она этого не понимала (что это – «объективно» обидно), то возникает вопрос, могу ли я с Вами говорить по существу в присутствии самого близкого Вам человека, который совершенно не подозревает, какие удары он наносит моей душе именно в те моменты, когда я силюсь, как можно отчетливее, выяснить Вам мою мысль и обсуждаемое дело; если же Ася чувствовала обидность (хотя бы даже только субъективную, т. е. считая себя в то же время совершенно вправе говорить то, что говорила, с риском меня обидеть), то возникает вопрос, могу ли я говорить по существу с Вами в присутствии того же человека, кот<орый> сознательно мешает говорить по существу, внося излишние эмоциональные моменты.
Каждую реплику я пытался внутренно извинить ей. Но уже с большим трудом выдержал ее замечание об отделении, различении моей личности и моей книги[3971] (различении, конечно, не в том смысле, в каком это обычно делается специалистами по ист<ории> и теории литературы, а в особенном, решительном, ad hoc[3972] примененном, ибо о научном различении ей ведь незачем было и упоминать, т<ак> к<ак> это само собою разумеется).
А затем, после того, как я только что повторил уже сказанное в моих письмах по поводу конфликта (что Вам следовало меня спокойно запросить после посещения Анненковой)[3973], раздается через пять минут реплика Аси: «Мусагет виноват в конфликте»!! – Если она хотела сказать, что в конфликте виноват Киселев, то это – дамская логика и ничего больше, ибо злая шутка Киселева – ничто иное, как прием Судьбы, которая хотела поставить на пробу Ваше доверие ко мне; Вы этой пробы не выдержали, а сейчас же реагировали сравнением меня с убийцей из-за угла. Но т<ак> к<ак> Киселев все же не Мусагет, и Ася все же не «просто» дама, то под Мусагетом она могла разуметь только меня, ибо: Мусагет –[3974] антропософическая группа = Эм<илий> Карл<ович> Мет<нер>, конечно, в этом редакционном случае; ведь Рачинский же тут не причем был, пока его не привлекли к совету, а «идеалисты»[3975] и вовсе не участвовали в ближайших обсуждениях подобных дел…[3976] Теперь спрашивается, чтó можно выдумать более несправедливого, чем заявление о моей вине в этом конфликте. Так, как я рассердился на это (в особенности ввиду всего контекста беседы), я не сердился уже, м<ожет> б<ыть>, года два.
Конечно, я сожалею о случившемся, сожалею, что во избежание гнева не предложил Асе после первых двух реплик пока не вступать в беседу, но поистине не могу допустить мысли, что и заявление о вине Мусагета в конфликте, где антропософы обнаружили такое неслыханное высокомерие (а Вы, Борис Николаевич, кроме того, окончательное недоверие ко мне и незнание меня), что и это заявление я должен был преспокойно проглотить. –
Если бы я был политиком или, вернее, если бы я пожелал вести себя (после стольких горьких опытов) с Вами политически, то я бы мог сказать Вам (нисколько не прибегая к дипломатической неправде): Мусагет до окончания войны[3977] не может напечатать ни единой новой (т. е. еще не начатой набором) книги, в особенности не могущей рассчитывать на большой спрос, а поэтому, если Вы хотите напечатать свой ответ мне в Мусагете[3978], то подождите. – Такое мое заявление было бы равносильно отказу, на кот<орый> Вы не могли бы обидеться.
Но я по-прежнему играл в открытую и потому отделил принципиальный вопрос от коммерческого. Ибо:
а) У меня могли бы быть лично деньги или у Мусагета лишние средства, и я мог бы предложить Вам напечатать Ваш ответ в Духовном Знании на мой или Мусагета счет. Это один случай.
b) У Вас лично могли бы быть деньги (или их Вам дало бы Антроп<ософическое> Общ<ество> или Дух<овное> Зн<ание>) на предмет напечатания Вашей книги под маркою Мусагета.
Итак, я согласился сначала с Сизовым, потом с Петровским, а потом с Вами говорить принципиально о мусагетском принятии Вашего возражения.
Есть два основания, по кот<орым> заявляется притязание на мусагетскую марку.
1) Справедливость требует, чтобы в Мусагете, где раздался голос против Антропософии, раздалось бы и возражение, т<ак> к<ак> часть Мусагета состояла из антропософов. На справедливости особенно настаивает Петровский. – Скажу, что справедливо было бы напечатать Вашу ответную книгу лишь в том случае, если бы антропософы и не затевали уходить из Мусагета; ибо здесь справедливость возможна ведь только к своим, а не к чужим. Нельзя и выходить с заявлением о непримиримости (не говоря уже обо всем приватно-обидном, что мне и Эллису лично пришлось пережить и не только от Вас), и требовать во имя справедливости, чтобы офиц<ерская> вдова сама себя высекла. Non bis in idem[3979]. –
2) Второе основание – это мое личное (как редактора) обещание устроить напечатание в Мусагете. Это обещание мною дано Вам до конфликта[3980]. Но, во-первых, речь шла не о книге в 200 страниц, а о статьях в Тр<удах> и Дн<ях>, где мне хотелось с Вами начать диалог по поводу этого. Во-вторых, обещание дано до войны (force majeure[3981]), когда не имелось в виду столь затруднительного финансового положения. В-третьих, обещание дано от лица другого Мусагета (т<ак> к<ак> в Дрездене я был более, нежели когда-либо, далек от мысли о возможности выхода антропософов). Теперешний Мусагет включил в свои ряды супругов Ильиных[3982]. Группа идеалистов и без того окрепла с уходом антропософов, а с приходом Ильиных она стала положительно основою издательства. Не восстанавливая и не реформируя «конституции», я условился с Ильиными, что буду внимать их советам. Ив<ан> Алекс<андрович> Ильин очень ценит Ваше дарование, но знаю, что, протестуя уже против моей книги, он еще более запротестует против Вашей не только потому, что ему больно будут <так!> нападки на меня, но главное потому, что для него антропософия просто ерунда и он нашел, что я слишком много придаю ей значение. Вашу книгу, как апологию, он не только отринет, но прямо радикально поставит отклонение ее печатания как conditio sine qua non[3983] своего сотрудничества. В-четвертых, речь шла о возражении на другую книгу! Если бы не конфликт и уход антропософов, моя книга была бы меньше, добрее, почтительнее; отсюда и Ваше возражение было бы менее резким, а, следовательно, полемика наша под одною маркою являлась бы не таким отчаянным гротеском, каким она явится теперь. Итак, мое обещание в данном случае четырехкратно недействительно.
Извиняясь за причиненное Вам и Асе огорчение и раздражение, думаю, что надо считать дорнаховскую попытку modus’а vivendi[3984] между нами неудавшеюся.
Ваш Э. Метнер.РГБ. Ф. 167. Карт. 13. Ед. хр. 8.Письмо не было отправлено адресату.
Иллюстрации
Э. К. Метнер в мундире чиновника Министерства внутренних дел. Начало 1900-х гг.
Анна Михайловна Метнер (урожд. Братенши). Начало 1910-х гг.
Э. К. Метнер. Начало 1910-х гг.
Э. К. Метнер. 1900-е гг.
А. М. Метнер. Около 1900 г.
Э. К. Метнер. Около 1900 г.
Н. К. Метнер, А. М. Метнер, Э. К. Метнер. Около 1904 г.
Хедвиг Фридрих
Э. К. Метнер, Андрей Белый, А. М. Метнер. Изумрудный Поселок, 1908 г. Отдел рукописей РГБ
Э. К. Метнер. 1910-е гг.
Э. К. Метнер. Около 1912 г.
Слева направо: Э. К. Метнер, Н. К. Метнер, А. М. Метнер, Андрей Белый, пианист Н. В. Штембер. Изумрудный Поселок, 1908 г.
Э. К. Метнер. Около 1915 г.
Дарительная надпись Э. К. Метнеру на авантитуле кн.: Андрей Белый. Серебряный голубь. М.: Скорпион, 1910 г.
Дарительная надпись Э. К. Метнеру на титульном листе кн.: Андрей Белый. Возврат. III симфония. М.: Гриф, 1905 г.
Дарительная надпись Э. К. Метнеру на титульном листе кн.: Андрей Белый. Возврат. III симфония. М.: Гриф, 1905 г.
Эмилий Метнер. Размышления о Гёте. Кн. 1. Разбор взглядов Р. Штейнера в связи с вопросами критицизма, символизма и оккультизма. М.: Мусагет, 1914 г. Обложка
Андрей Белый. Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности. М.: Духовное Знание, 1917 г. Титульный лист
Андрей Белый в студенческом мундире. Фотография О. Ренара. 21 апреля 1903 г. © Государственный музей А. С. Пушкина
Андрей Белый в гостиной квартиры на Арбате. Зима 1900 – 1901 гг. © Государственный музей А. С. Пушкина
Андрей Белый и А. А. Тургенева. Фотография «Benjamin Coupriе». Брюссель. 1912 г. © Государственный музей А.С. Пушкина
Андрей Белый. Фотография «Benjamin Coupriе». Брюссель. 1912 г. © Государственный музей А. С. Пушкина
А. А. Тургенева. Портрет Андрея Белого. Москва. 1909 г. © Государственный музей А. С. Пушкина