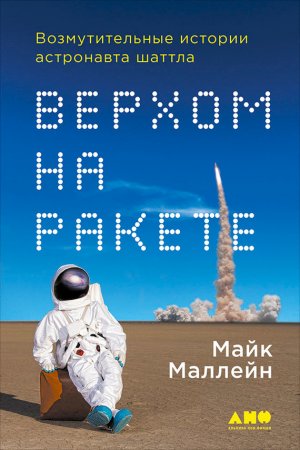
Переводчик Игорь Лисов
Редактор Роза Пискотина
Руководитель проекта И. Серёгина
Корректоры С. Чупахина, М. Миловидова
Компьютерная верстка А. Фоминов
Дизайнер обложки Ю. Буга
Редакция благодарит за помощь в подготовке книги Леона Розенблюма
© Mike Mullane, 2006
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2017
Все права защищены. Произведение предназначено исключительно для частного использования. Никакая часть электронного экземпляра данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для публичного или коллективного использования без письменного разрешения владельца авторских прав. За нарушение авторских прав законодательством предусмотрена выплата компенсации правообладателя в размере до 5 млн. рублей (ст. 49 ЗОАП), а также уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет (ст. 146 УК РФ).
Моей матери и отцу, которые обратили мой взор к космосу.
Тысячам мужчин и женщин программы Space Shuttle, которые отправили меня в космос.
Донне, которая была рядом со мной на каждом шагу этого пути
Предисловие переводчика
Воспоминания американского астронавта Майкла Маллейна стоят особняком среди книг этого жанра. Людей, летавших в космос, насчитывается немногим более 500; мемуары оставили, пожалуй, не менее сотни из них. Есть книги откровенно лакировочные и достаточно правдивые, захватывающие и проходные. Разные судьбы – разные послания потомкам. Юрий Гагарин – первый человек в космосе, символ своей страны и эпохи. Константин Феоктистов, который проектировал космические корабли и испытывал их. Георгий Гречко, технарь и умница с широчайшим кругом интересов. Джеймс Ловелл и Майкл Коллинз – участники сложнейших экспедиций на Луну. Дик Слейтон, отбиравший экипажи для кораблей «Джемини» и «Аполлон» и назначивший себя в последний из них. Крис Хэдфилд – человек уже нашего времени, «простой канадский парень, который решил стать астронавтом и стал им».
Майкл Маллейн из тех, для кого лунные экспедиции на «Аполлонах» и первая американская орбитальная станция «Скайлэб» были уже фактом истории: 35 новичков набора 1978 года готовили к полетам на многоразовой системе Space Shuttle. Эти люди, с которыми автор осваивал ремесло астронавта, стали для него самыми близкими, и автобиографию Маллейна отчасти можно считать и историей «тридцати пяти».
Опередившая свое время и не использованная и на четверть своих возможностей, система Space Shuttle была в то же время самым опасным среди всех пилотируемых средств в истории космонавтики. За 30 лет было совершено 135 полетов. Два красивых и умных орбитальных корабля из пяти построенных погибли, унеся с собой жизни 13 американцев и одного израильтянина.
Космонавтика для автора – это не праздник каждый день, а повседневная тяжелая работа в сложной иерархической структуре, это счастливый билет назначения в летный экипаж и страх не вернуться из полета на шаттле живым. Страх совершенно реальный, не продиктованный запросами издателей для лучшей продаваемости книги, но основанный на знании того факта, что на шаттле нет системы аварийного спасения и что на самых опасных этапах полета от знаний и усилий астронавтов практически ничего не зависит.
Маллейн подробно описывает период подготовки и первое десятилетие эксплуатации системы, которое в отечественных средствах массовой информации освещалось почти исключительно в интересах пропаганды, так что реальные цели полетов шаттлов, достижения и ошибки на этом пути оставались практически неизвестными советскому читателю и зрителю. Этим обусловлено значительное количество примечаний, многие из которых поясняют детали истории программы, хорошо известные американской аудитории.
Еще меньше мы знали о человеческой стороне программы: как стать астронавтом, как выбирают и готовят экипажи, чем живут и дышат американские «покорители космоса», когда и почему люди уходят из отряда, чем они занимаются после завершения космической карьеры. Короткое «окно» времени взаимных симпатий и связей в годы проекта «Аполлон» – «Союз» закрылось, американских астронавтов вновь стали рассматривать как представителей геополитического противника.
Да, «Верхом на ракете» – это еще и портрет эпохи. Отец Майкла был офицером ВВС США, и сам Маллейн, выполняя разведывательные полеты над Вьетнамом и в Европе, вдоль границ Западного и Восточного блока, был готов в любую минуту вступить в бой с «проклятыми коммунистами». Воспитанная с детства ненависть к СССР, характерная и для автора, и для многих его коллег по отряду астронавтов, зачастую выплескивается на страницы книги, а цинизм американских офицеров временами вызывает оторопь. Странно осознавать, что в 1995 году, всего через несколько лет после описываемых событий, командир и кумир Маллейна Хут Гибсон «наступит на горло собственной песне» и приведет первый шаттл на российскую орбитальную станцию «Мир».
Маллейн повествует о космической технике, о подготовке к полету, о трех путешествиях на орбиту в стиле «окопной правды», используя не академический лексикон, а соленый язык казармы. Политкорректностью тут и не пахнет – достается и религии, и женщинам. Некоторые выражения мы вынуждены были смягчить, чтобы остаться в рамках закона.
В книге встречается большое количество сокращений англоязычных технических терминов и наименований космических организаций, которые в американской космической программе общеупотребительны. Большинство из них сведены автором в отдельный глоссарий в конце книги и с некоторыми уточнениями могут использоваться, в частности, для поиска более подробного описания соответствующих объектов в англоязычной литературе. Часть аббревиатур при переводе заменена полным или сокращенным названием или употребительным русским сокращением с тем же значением, часть – неологизмами типа аскан, эмэс и капком, однако отказаться полностью от англоязычных сокращений оказалось невозможно. Для удобства читателей их расшифровка дается при первом использовании автором и напоминается в ряде случаев при повторном. Примечания переводчика, необходимые для понимания текста, даны в постраничных сносках, более подробные комментарии для энтузиастов и знатоков космоса можно найти в конце книги.
Мой друг и коллега Леон Розенблюм ранее перевел по личной инициативе некоторые фрагменты этой книги и любезно разрешил использовать их в предлагаемом читателю тексте. (Упомянутые фрагменты, будучи опубликованными на личной странице Леона в социальной сети, привлекли к книге Маллейна внимание широкого круга энтузиастов космонавтики, а в конечном итоге – и издателя.) Он также просмотрел готовый перевод и сделал ряд ценных замечаний.
Игорь Лисов
Благодарность
Моя первая и самая большая благодарность – моей жене Донне за ее терпение, любовь и поддержку во время написания этой книги. Мои дети Патрик, Эми и Лаура также помогали мне с энтузиазмом. Спасибо!
Я глубоко признателен моему агенту Фейт Хэмлин из Sanford J. Greenburger Associates, которая убедила написать историю моей жизни. Спасибо, Фейт, за поддержку и энтузиазм в продвижении рукописи «Верхом на ракете».
Редактор Брэнт Рамбл в издательстве Scribner вложил свои исключительные таланты в мою историю, и я перед ним в долгу. Он не только помогал мне оттачивать литературное мастерство, но и больше всех болел за меня в течение всего издательского процесса. Сердечно благодарю остальных членов замечательной команды Scribner, которые вложили свой труд в доведение моей истории до печати.
Сменный руководитель полета из Космического центра Джонсона Джей Грин был первым, кто прочел рукопись, и я благодарен ему за советы. Спасибо также астронавту Роберту Гибсону по прозвищу Хут, астронавтам Рей Седдон, Майклу Коутсу, Пьеру Туоту и Дейлу Гарднеру, которые нашли в своем жестком графике время на вычитку текста. Принося им благодарность, я не имею в виду, что эти взыскательные читатели были согласны со всем написанным. Один из них считал, что я слишком жестко отозвался о «политических» астронавтах. Второй счел недостаточной мою критику в адрес некоторых руководящих деятелей NASA[1]. Я признателен за все высказанные мнения, но не изменял себе в угоду им. «Верхом на ракете» – это моя история, написанная так, как помню ее я.
Многие разговоры, которые я привожу в книге, имели место десятилетия назад. Поэтому закавыченные цитаты не следует воспринимать дословно: так эти беседы запомнились мне.
Глава 1
Кишки и мозги
Я лежал голым на боку на столе в ванной комнате Клиники летной медицины NASA и засовывал наконечник клизмы себе в задний проход. «Вот так и начинается процесс отбора астронавтов», – думал я. Было 25 октября 1977 года. Я был одним примерно из 20 мужчин и женщин, проходящих трехдневную программу медицинских обследований и личных интервью в процессе отбора кандидатов в астронавты. Почти за год до этого NASA объявило, что начинает принимать заявления от желающих попасть в первую группу астронавтов для полетов на шаттлах. Откликнулось 8000 человек{1}. Агентство свело всю эту кипу резюме примерно к двум сотням, и я каким-то удивительным образом попал в их число. В последующие недели все мы, каждый из 200, должны были оказаться на этой каталке и предоставить свой «нижний этаж» для испытаний – мы готовились к исследованию кишечника.
Мы слышали, что NASA намерено выбрать из нашей группы примерно 30 человек, которые будут летать на шаттлах{2}. Шансов, что я окажусь среди этих избранных, было немного. Не потому, что я не подходил, – по всем необходимым пунктам требований стояли галочки. Будучи выпускником Вест-Пойнта, который заключил контракт с ВВС США, я не мог быть пилотом – из-за недостаточно хорошего зрения. Но я налетал около 1500 часов на заднем кресле самолета RF-4C, представлявшего собой разведывательный вариант F-4 Phantom. Как Гусь из фильма «Лучший стрелок», я был парнем из заднего ряда. За 10 лет я участвовал в 134 боевых вылетах во Вьетнаме, получил магистерскую степень авиационного инженера и прошел курс летного инженера-испытателя в Школе летчиков-испытателей ВВС США. Я определенно соответствовал требованиям, но столь же подходящими выглядели и несколько сотен других претендентов. Вокруг было слишком много выдающихся военных летчиков, чтобы мне удалось обмануть себя. Пусть я и «парень что надо»[2], но рядом легионы других, у которых нужных качеств в избытке, – пилоты, по сравнению с которыми Алан Шепард и Джон Гленн[3] выглядели слабаками.
Да, шансов было немного, но я намеревался сделать максимум возможного. В данный момент этот максимум означал точное попадание туда, куда никогда не заглядывает солнце: я готовился к первой в своей жизни ректоскопии.
Как раз перед тем, как зайти в ванную комнату, я услышал, как один из гражданских претендентов жаловался, что провалил обследование. При слове «провалил» мои уши встали торчком. Оказалось, что он поленился тщательно провести очищение кишечника и получил назначение на повторную процедуру на завтра.
«Не подготовился к ректоскопии». Я представил себе эти слова, написанные большими красными буквами на его медицинской карте. Кто их прочтет? Будет ли это учитываться в процессе отбора? Когда комиссия должна выбрать из семи человек одного и каждый из нас – супермен или чудо-женщина, нельзя допустить, чтобы о тебе сказали «не справился» или «не выдержал», даже если речь идет о таком безобидном деле, как очищение кишечника. Моя паранойя в этом вопросе подпитывалась смертельным страхом, который всякий военный летчик испытывает перед летным врачом. Когда стетоскоп приближается к твоей груди, когда скачет стрелка на манометре, ты чувствуешь, что вся твоя карьера под угрозой. Малейший сбой – и «крылышки» летчика придется положить на стол. Военные пилоты предвкушали медицинское обследование примерно с такими же чувствами, с какими ожидали бы возгорания двигателя в полете. Мы не желали видеть пометку «не прошел» на любом документе, исходящем из кабинета летного врача. Я знал пилотов, которые предпочитали в случае заболевания посетить втайне гражданского врача за пределами авиабазы, но ни в коем случае не привлекать внимания летного врача. Конечно, это было строго запрещено, но главное было не попадаться. Той же логики я придерживался, когда летел в Хьюстон[4], чтобы принять участие в обследовании. Врачи NASA в своей потрясающей наивности попросили нас привезти медицинские карты со своих авиабаз лично – это было все равно что доверить политику урну с избирательными бюллетенями. Пока самолет оставлял позади милю за милей, я выдирал из медицинской карты страницы, способные, как мне казалось, вызвать вопросы, на которые я не хотел бы отвечать. В частности, я избавился от упоминаний о серьезной травме шеи, полученной годом раньше при катапультировании из кабины истребителя-бомбардировщика F-111. Во время этого инцидента мою голову в тяжелом шлеме дернуло так, словно она находилась на кончике кнута, которым щелкнул ковбой. Я получил сильное растяжение шеи. После того как я неделю носил шейный корсет, врачи на авиабазе Эглин согласились вернуть мне допуск к полетам, но я не был уверен, что медики NASA спокойно отнесутся к травме шеи. Она определенно не будет доводом в мою пользу: такое повреждение с непредсказуемыми последствиями вполне может заставить их поставить штамп «не годен» на моем заявлении. Надо думать, у остальных 199 претендентов в истории болезни не было такой неприятности, как травма шеи, и я не желал рисковать. Поэтому я избавился от крамольных страниц, обещая себе вернуть их на место на обратном пути. У меня был единственный призрачный шанс стать астронавтом, и меня не могла остановить такая ерунда, как противозаконное деяние. Я подделал официальные документы и, как и бесчисленное количество летчиков до меня, надеялся не попасться.
Да, я намеревался сделать все, чтобы пройти отбор в астронавты. Я вставил наконечник клизмы и сжал грушу. Я желал, чтобы проктолог NASA, который заглянет мне в задний проход, увидел столь ослепительное сияние, что ему придется попросить медсестру принести солнечные очки.
«Сдерживайтесь пять минут» – гласила инструкция. Ну вот уж фиг, думал я. Этот раззява-штатский, который не смог очистить кишечник, наверно, исторг его содержимое при первом же позыве. Нет уж, я вынесу 15 минут! Я буду держать все в себе до тех пор, пока оно не полезет через пищевод! Я сжал сфинктер, стиснул зубы и терпел сокращение за сокращением, пока не почувствовал, что вот-вот отключусь. Наконец я опорожнил толстую кишку и повторил процесс.
«Не повторяйте более двух раз» – гласила инструкция. Ага, как же. На кону стояло звание астронавта, и даже если бы меня предупреждали: «Не повторяйте этого более двух раз, иначе может наступить смерть», я бы не обратил на это никакого внимания. Я влил в себя третью клизму, а затем и четвертую. Последняя порция жидкости была чиста, как джин.
Я выходил из кабинета проктолога с видом первоклассника, получившего пятерку с плюсом за домашнюю работу. Он несколько раз повторил, что еще ни разу не видел столь идеально подготовленной прямой кишки. А то, что две недели после этого мне не удавалось покакать, – такую цену я был готов заплатить. (И кстати, тот гражданский, что не смог подготовить кишечник, отбор не прошел{3}.)
Следующим пунктом была беседа с психиатром NASA, и она меня беспокоила. Ни разу в своей жизни мне не приходилось встречаться с мозгоправами. Есть ли у них критерий «годенне годен»? Я считал себя психически уравновешенным человеком. (Странная самооценка, если вспомнить, что я только что установил мировой рекорд по продолжительности клизмы в параноидальном стремлении обеспечить себе работу.) Но как психиатр оценивает психическое состояние? Будет ли он наблюдать за «языком тела»? Может ли означать что-то моргнувший глаз, пульсирующая вена на шее или капелька пота? Что-то плохое? От отчаяния я стал вспоминать, что было написано об обследовании психики первых астронавтов в книге «Оседлавшие огонь»[5]. Все, что мне удалось вспомнить, – это как им дали пустой лист бумаги и попросили «интерпретировать» увиденное и один из астронавтов сказал, что видит на рисунке полярных медведей, занимающихся сексом на белом снегу. Был ли такой юмор уместен? Понятия не имею. Я летел на автопилоте.
Я с удивлением обнаружил (и испугался от этого еще сильнее), что мне предстоит психиатрическое обследование у двух разных врачей, каждое продолжительностью примерно по часу. Я пошел на прием к первому. Доктор встал из-за стола и представился, слабо пожав мою руку своей влажной ладонью. Не успев провести в кабинете и 50 секунд, я уже был в панике. Было ли это пожатие неким тестом? Если я отвечу столь же слабо, не будет ли это означать, что у меня какие-то скрытые сексуальные проблемы? Я решил ответить крепким пожатием – не пытаться сломать доктору кисть, но ответить твердо. Я наблюдал за его лицом, но оно оставалось непроницаемым – я не мог ничего понять. С тем же успехом я мог бы пожать руку Магистру Йоде. У него был тихий голос, настолько тихий, что я заподозрил в этом скрытую проверку слуха. Он кивнул на стул. Слава богу, это была не кушетка; она бы меня окончательно доконала.
У него были наготове планшет и карандаш. Я сглотнул и стал ждать какого-нибудь фрейдистского вопроса вроде «сколько раз в неделю вы мастурбируете?» Но вместо этого он сказал: «Пожалуйста, вычитайте по семь, начиная со 100, так быстро, как только можете». Я услышал, как щелкнула кнопка секундомера и затикали секунды. Одна… вторая… третья… Мои шансы стать астронавтом утекали вместе с этими секундами! Только мой опыт салаги-новобранца в Вест-Пойнте, когда я научился немедленно подчиняться и выполнять приказ, позволил мне среагировать молниеносно. Если ему нужно, чтобы я вычитал семерки, начиная со 100, то я должен это делать. По крайней мере это лучше, чем отвечать на вопрос о мастурбации. Я начал считать: 100, 93, 86, 79, 72… Тут я ошибся на единицу или две, попытался вернуться и начать с последнего правильного числа, споткнулся опять и завис в шестом десятке, невнятно бормоча цифры. Наконец я остановился и произнес: «Кажется, я сбился». Эти слова были отмечены щелчком секундомера, который в тишине прозвучал подобно выстрелу. Может, оно было бы и лучше, подумал я. Я мертвец – по крайней мере мои шансы стать астронавтом получили смертельный удар. Я провалил испытание, которое явно было тестом на быстроту реакции и сообразительность.
«Псих» ничего не сказал. Повисло долгое молчание, и все, что я слышал, – как карандаш скрипит по бумаге. У меня был самый чистый кишечник в мире, но запор случился в моем мозгу. Именно из-за этого я провалил испытание. Я был уверен: именно это слово – «провалил» – будет выведено рукой психиатра. Понятно, что остальные 199 претендентов пройдут проверку с легкостью. Наверно, они смогут добраться до последних чисел – 23… 16… 9… 2… – за несколько мгновений, после чего спросят психиатра, не надо ли повторить задание, да еще извлекая попутно квадратные корни. Я был уверен, что человек напротив думал: «Кто пустил сюда этого парня?»
Терять было нечего, и в безнадежной попытке прервать сводящее с ума молчание я пошутил: «Зато я силен в обратном счете по единице».
Он даже не улыбнулся. «В этом нет необходимости». Ледяной тон подтвердил мои ощущения: я провалился.
После теста с семерками док поднял свой карандаш и спросил: «Допустим, вы умерли, но можете воскреснуть в любом виде. Что вы выберете?»
Моя паника усилилась. К чему этот вопрос? На какое минное поле моей души он меня гонит? Я начал жалеть, что он не спрашивает про мастурбацию.
На этот раз секундомер не тикал, и я решил немного подумать. Что выбрать? Значит ли это, что я могу возродиться другим человеком? Алан Шепард? Вот, казалось бы, неплохой ответ. Но тут мне пришло в голову, что Шепард, как и все летчики-испытатели, ненавидит мозгоправов. Может, это он нахально предположил, что на белом листе прелюбодействуют белые медведи? Я не мог этого вспомнить и решил не рисковать. Лучше я не буду озвучивать желание возродиться в виде героя-астронавта, которого психотерапевты могут не любить за пренебрежение к их профессии.
Я попросил пояснений. «Когда вы предлагаете выбрать что-то, вы имеете в виду другого человека, объект или животное?»
Он лишь пожал плечами, и язык тела ответил мне: «Я не собираюсь подсказывать». Он явно хотел, чтобы я наступил на одну из психических мин сам.
Я прокрутил в голове идею ответа, что хочу вернуться как Уилбур Райт, или Роберт Годдард, или Чак Йегер, или еще какой-нибудь пионер авиации и ракетной техники. Возможно, это станет сигналом, что быть астронавтом – моя судьба. И вновь мой внутренний голос шепнул, что это неразумно. А вдруг желание такой реинкарнации проявит меня как мегаломаньяка, ищущего славы?
И тут меня осенило: «Я бы хотел родиться вновь… орлом». Это был великолепный ответ. Он явным образом передавал мое желание летать, но не позволял доктору залезть глубже в мои синапсы. (Позднее я услышал от одного из претендентов, что тот боролся с искушением ответить на вопрос, что хотел бы возродиться в виде велосипедного седла Шерил Тигс[6]. Было бы интересно, как «псих» среагировал бы на это.)
Мой ответ про орла был принят новым скрипом карандаша.
Следующий вопрос был явной попыткой заставить меня дать себе оценку.
– Скажите мне, Майк, если вы умрете прямо сейчас, что напишут ваши близкие на могильной плите?
«Ничего себе! Предполагается, что это так просто?» – подумал я и, основательно поразмышляв, ответил:
Думаю, там будет написано: «Любимому мужу и прекрасному отцу».
Я был уверен, что заработал на этом несколько очков. Разве можно представить себе более удачный ответ, чтобы показать, что семья для меня – прежде всего, что у меня правильные приоритеты? На самом деле я бы продал жену и детей в рабство, если бы это позволило подняться в космос, но решил, что сей факт лучше не афишировать.
– В чем, по-вашему, ваша уникальность?
Я хотел, конечно, ответить: «Я могу держать клизму 15 минут», но вместо этого сказал: «За что бы я ни брался, делаю все, что в моих силах». По крайней мере, это была правда.
Разговор с «психом № 1» продолжался. Он спросил, правша я или левша (я правша) и какой церкви принадлежу (католик). Он также поинтересовался, каким по счету ребенком я был в семье (вторым из шести детей). Услышав ответы, он долго что-то писал. Позже я узнал, что несоразмерное число астронавтов (и других выдающихся людей) – первые дети в семье и леворукие протестанты. Возможно, из-за того, что я не входил ни в одну из этих групп, мне и не давался обратный счет семерками.
В конце концов он передал меня «психу № 2». Опустив плечи, я вошел в новый кабинет, убежденный, что моя судьба астронавта зависит от того, что запишет в отчет Йода: «Претендент Маллейн не способен к обратному счету семерками».
«Псих № 2» в системе «хороший полицейский – плохой полицейский» оказался «хорошим». Доктор Терри Макгуайр приветствовал меня энергичным рукопожатием и широкой улыбкой. Такую улыбку мне приходилось видеть у торговцев подержанными автомобилями. Я поискал на руке Макгуайра кольцо с брильянтом, но не обнаружил.
Д-р Макгуайр был открыт и разговорчив, и в его руках не было карандаша и планшета: «Входите. В ногах правды нет. Садитесь». Опять стул, слава богу. Все в его голосе и манерах говорило: «Я приношу извинения за придурка, с которым вам пришлось иметь дело. У него замашки хиропрактика, но я другой, я здесь для того, чтобы помочь вам». И точно так же, как в офисе продаж автомобилей, я был уверен в том, что все это спектакль. Разница была в том, что он нацеливался не на мой кошелек, он хотел заполучить мою душу. Он хотел узнать, от чего я буду дергаться, и, подобно капитану Кирку[7] при виде боевого крейсера клингонов, я дал себе команду «Поднять щиты!». Может быть, мои шансы стать астронавтом близки к нулю, но я буду делать все, что в моих силах, пока не получу письмо с отказом.
После короткого обмена репликами о погоде и о том, как проходит обследование (отлично, солгал я), хороший доктор наконец начал атаку на те самые мои «щиты». Он задал всего один вопрос:
– Майк, почему вы хотите стать астронавтом?
Я понимал, что рано или поздно они зададут мне этот вопрос, и был готов к нему:
– Я люблю летать, а полеты в космос могут стать самым потрясающим опытом такого рода. – Потом я решил добавить еще какую-нибудь фигню насчет того, что мною движет любовь к стране: – Я также полагаю, что смогу наилучшим образом послужить ВВС США и самим Соединенным Штатам Америки в качестве астронавта.
«Похоже, точное попадание», – подумал я. Большего я мог бы добиться, разве что притащив с собой Дион Уорвик[8], чтобы та спела национальный гимн.
Но я ошибался. Мяч не попал в корзину. Мне не удалось поразить д-ра Макгуайра своим заранее отрепетированным броском. Он посмотрел на меня с довольной ухмылкой и ответил: «Майк, по большому счету все мы мотивированы событиями, которые произошли с нами в юности. Расскажите мне о вашем детстве, о семье».
О господи, как же я ненавидел такие вопросы.
Глава 2
Приключения
Я родился через неделю после окончания Второй мировой войны, 10 сентября 1945 года, в городе Уичито-Фолс в Техасе. Первое, что сказал мой дед, увидев меня: «Как он похож на обезьянку». У меня была копна лохматых черных волос и совсем как у шимпанзе оттопыренные уши, по размеру подходящие взрослому человеку. Все мое раннее детство мама пыталась бороться с этим дефектом. Перед сном она приматывала мне клейкой лентой две картонки по бокам головы, надеясь, что уши прирастут обратно. Но это был дохлый номер. Где-то среди ночи природа одерживала верх над скотчем, и мои уши вновь торчали, как воздушные тормоза реактивного самолета.
Как я и сказал «психу № 1», я был вторым ребенком в католической семье, а в конечном итоге нас стало шесть – пять мальчиков и одна девочка. Когда я родился, отец служил бортинженером на бомбардировщиках B-17 на Тихом океане, поэтому придумывать мне имя пришлось матери. Она выбрала имя Ричард. Покинув утробу всего несколько часов назад, я уже был пожизненно отягощен ушами, как у барашка, и погонялом Дик[9]. Неудивительно, что, когда отец вернулся, он начал называть меня вторым именем – Майк. Подозреваю, что он думал примерно так: «О господи, пусть ребенку будет хоть немного легче».
Хотя война закончилась, отец продолжал служить. Мои первые воспоминания связаны с воскресными визитами на стоянку авиабазы, где я сидел в кабинах C-124, C-97, C-47 и других военно-транспортных самолетов, а отец разрешал мне браться за рычаги управления и «рулить» запаркованными монстрами. Он также брал меня с собой в штаб базы, куда слетались экипажи со всех концов мира. Летчики дарили мне серебряные «крылышки» прямо с мундира, ярко окрашенные ленты медалей и странные монеты из дальних стран. В моих глазах все они были настоящими героями – куда там Голливуду!
Отец был ирландцем из Нью-Йорка, он родился и вырос на Манхэттене. У него всегда была про запас масса удивительных, красочных, преувеличенных, а то и просто придуманных историй. Несомненно, его благоговейное отношение к полетам стало для меня источником вдохновения. Каждый вылет он представлял как великое приключение, и в особенности это касалось его летного опыта на Тихоокеанском театре Второй мировой войны.
Он рассказывал об атаках Чарли по прозвищу Стиральная Машина – японского пилота, который не давал американцам отдохнуть, пролетая ночью над их филиппинской базой на древнем биплане и сбрасывая жестяные банки из-под пива. Свист воздуха над отверстием банки напоминал звук падающей бомбы, и всем приходилось выпрыгивать из коек и прятаться в укрытии.
«Мы называли его "Стиральная Машина Чарли", мальчики, потому что двигатель у этого чертова япошки (японцы у моего отца всегда были чертовы) барахлил невообразимо. Я уверен, что он специально настраивал его неправильно, чтобы тот выдавал перебои и хлопки и мешал нам спать. Звук от него был, как от умирающей стиральной машины». После этого отец делал глуповатое лицо Реда Скелтона[10], сжимал губы и издавал череду неприличных звуков, чтобы продемонстрировать эту надоедливую машину. Мы с братьями смеялись без остановки и просили, чтобы он «изобразил Стиральную Машину Чарли» еще раз.
Под раскаты грома мы отправлялись в другой полет: «Однажды из-за нашего чертова штурмана (как и японцы, штурманы всегда были чертовы) мы заблудились в грозу. Молния ударила в наш самолет. Я чувствовал, как она ползет по моему телу. Волосы на моей голове вспыхнули, и поэтому у меня сегодня их нет. Пломбы в зубах раскалились, и, коснувшись их языком, я обжег его».
Бывало еще, что он кружил по комнате, расставив руки в стороны и рассказывая, как альбатросы садились на крылья бомбардировщика B-17, чтобы «прокатиться» во время разбега. Затем птицы расправляли собственные гигантские крылья и взлетали, используя давление набегающего потока воздуха.
Подозреваю, что мой отец, летавший уже в конце войны, никогда не видел ни одного японского боевого самолета, но из его рассказов узнать об этом было нельзя. Он повествовал, как его сбили над островом и он опустился на парашюте в джунгли. С товарищами по экипажу они присоединились к туземцам, борцам за свободу, и пробились к побережью, где их приняла на борт американская подводная лодка. Я знаю теперь, что ничего подобного не было, но его красочные байки заронили семя в мою душу. Я хотел пережить такие же приключения сам. Я хотел летать.
Раз в год или два отца переводили на новую авиабазу, и мы, как племя бедуинов, собирали пожитки и отправлялись к новым горизонтам, а почтовый ящик Хью Маллейна обретал новое место в Канзасе, Джорджии, Флориде, Техасе, Миссисипи или на Гавайях. Я предвкушал каждый переезд и не мог дождаться, когда наш автофургон двинется в путь навстречу новым приключениям. Укутанные в одеяло на заднем сиденье машины, как куклы в корзине, мы с братьями засыпали под ритмичное шуршание шин по дорожному покрытию. Наши сердца трепетали, предвкушая неизвестность. Иногда я просыпался среди ночи и вдыхал незнакомые ароматы или смотрел на вспышки далеких молний. Днем мы останавливались у обветшавших вывесок фруктовых лавок и покупали целые корзины холодной как лед черешни. Мы заезжали на заправки с вывеской «Последний бензин на 100 миль вперед». Я смотрел, как отец заполнял водой парусиновый мешок и подвешивал над капотом нашего разукрашенного подобно голове индейца «понтиака». От мысли, что на дороге ничего не будет еще 100 миль, у меня кружилась голова. Лишь позже я узнал, что заправки располагались на расстоянии 20 миль друг от друга и на каждой из них красовалась такая надпись. Впрочем, в моем возрасте было все равно – что 20 миль, что 100. Я наклонялся вперед и смотрел через плечо отца на горизонт столь чистый, что он казался нарисованным тонкой-тонкой кистью. Я видел, как бетон дороги сияет перед нами миражом, как крутятся пылевые дьяволы[11], как иссиня-черные, готовые вот-вот пролиться грозовые тучи движутся на ходулях молний. И нескончаемо пели свою песню колеса, увозя меня в пустоту.
Другим источником приключений были семейные путешествия в дикие уголки Запада. Отчего мой отец-ньюйоркец так любил выезды на природу, осталось для меня тайной. Наверное, дело было именно в том, что он так долго прожил в асфальтовых джунглях. Еще больше одержима природой была мама. Она точно родилась с опозданием на 100 лет. Могу с легкостью вообразить, как она отправляется с караваном фургонов из Индепенденса[12] в штате Миссури на запад, в Орегон. Уже будучи 75-летней вдовой, она проехала вместе с подругой такого же возраста на машине из Альбукерке до Аляски, и меня удивило лишь то, что она не пошла туда пешком. Ей чаще приходилось ставить палатку и складывать из камней очаг, чем большинству женщин – мечтать о переустройстве кухни. Счастьем для нее было стоять над дымным лагерным костром, печь блины и поджаривать бекон, приплясывая, чтобы прогнать утренний холод.
Готовясь к таким поездкам, мы складывали на крыше нашей машины снаряжение: пару холодильников, газовую горелку, фонари, палатки, удочки, алюминиевые кресла и мешки с древесным углем. Топоры, лопаты, термосы, приспособления для готовки и спальные мешки закреплялись там же и укрывались брезентом. Мы перевозили с собой целый айсберг из вещей. Внутренний объем машины, куда помещался весь выводок детей и две собаки, забивался в неменьшей степени. Оклахомцы из «Гроздьев гнева», если бы им довелось это увидеть, прониклись бы к нам сочувствием.
И вот мы выезжали на дороги американского Запада. Когда я говорю «дороги», я вовсе не имею в виду федеральные автомагистрали. Мои родители бежали от них, как от разбавленного бензина. Какое же может быть приключение, если ехать по большому шоссе? Это для слюнтяев! Вместо этого они выбирали самые глухие проселки, прокладывая путь через сонные городишки и посыпанные щебенкой перевалы. Знак «Осторожно, плохая дорога» обозначал одновременно «Впереди врата рая». Отец выбирал именно такой курс, подобно древнему греку, внимавшему пению сирен. Помню, однажды подобная табличка висела на цепи, протянутой между двух деревянных столбов. Отец принял это как вызов и отправил армию из своих мальчишек раскачивать один из столбов, пока его не удалось выдернуть из земли. Мы переехали цепь и поставили столб на место. Теперь впереди была не просто плохая дорога – это была наша дорога.
Родители выбирали для «понтиака» пути, по которым не рискнул бы проехать современный джип-внедорожник. Упавшее дерево или камень на дороге? Не проблема! Как китайские кули, мальчики семьи Маллейн пилили, рубили, применяли рычаг или просто грубую физическую силу, чтобы убрать с дороги любое препятствие.
Нельзя сказать, что в этих экскурсиях мы никогда не попадали в сложное положение. Однажды далеко в горах в южной части Нью-Мексико у нас выкипел радиатор. По слою пыли кругом было видно, что никто не проезжал здесь уже много дней, а то и недель, а может быть, и никогда. Это было задолго до сотовых телефонов, так что нельзя было позвонить и вызвать эвакуатор. Нам грозила голодная смерть экспедиции Доннера[13].
Отец, специалист по ремонту самолетов, всегда возил с собой большой набор инструментов. Увы, всякий раз, когда у нас что-то ломалось, оказывалось, что нет как раз того, что нам необходимо. Очевидно, на нашем автомобиле не было мотора C-124.
В этом случае, однако, нам не помог бы никакой инструмент. Нужна была вода, а ее вокруг не было совсем. Однако моего папу ни в коей мере нельзя было упрекнуть в отсутствии изобретательности. Он приказал нам перетрясти всю машину и найти всю влагу, какая есть. На заполнение радиатора пошли пара банок кока-колы и пива. Был пущен в дело жбан с вишневым сидром, который мой старший брат купил в придорожном ларьке. На автохимию переработали и несколько апельсинов.
Тут папа увидел, как мой младший брат отходит в сторону.
– Ты куда?
– Мне надо пописать.
Вскоре мы все стояли на решетке, всматриваясь в радиатор. «Цельтесь точнее, ребята. У вас на мушке чертов японский Зеро[14]. Ни одной очереди мимо!»
Этого оказалось достаточно. Источая запах переполненного биотуалета, наш фургон, шипя, вкатился на заправку, и механик с перекошенной физиономией спросил, не умер ли у нас кто-нибудь под капотом.
В другой раз нашему спуску с перевала угрожал перегрев тормозных колодок. Явно вспомнив предыдущий успех с радиатором, папа послал каждого из ребят пописать на колеса, чтобы охладить их. Никто не умел использовать мочу столь изобретательно, как мой отец.
Это были чудесные времена, многое определившие в моей жизни. Я был сыном своих родителей. Я хотел знать, что там… за следующей горой, за поворотом, за ближайшим каньоном. Не было такого национального парка, памятника, змеиной фермы, метеоритного кратера, вулкана или магазина камней, где бы мы не побывали. Задние боковые стекла машины были залеплены красочными наклейками, напоминающими о наших путешествиях: стикерами из сувенирной лавки у гейзера «Старый служака» в Йеллоустоне, видами Гранд-Титона и Гранд-Каньона, Национального ледникового парка, каньона де Шей в Аризоне, пустыни Уайт-Сэндз, Долины смерти, Долины монументов, Глен-Каньона и бесчисленного множества других достопримечательностей с дорог Запада. В июле мы играли в снежки на горных перевалах Инджиниэр, Индепенденс и Имоджин. Мы кувыркались в песчаных дюнах и ловили рыбу в горных речках, мы покоряли окутанные облаками вершины лишь для того, чтобы увидеть, что находится за ними. Мы набирали сокровища в виде полевого шпата и пирита, кварца и окаменевшей древесины. Альбомы моей мамы полны фотографий семьи под въездными знаками разных штатов – Аризоны, Колорадо, Юты, Вайоминга, Монтаны, Невады, Калифорнии. В этих и многих других штатах мне случалось, лежа в спальном мешке, вдыхать ароматы приключений – древесного дыма и брезента палатки – и смотреть, как звезды сияют над нашей лесной колыбелью. И мне снилось самое великое приключение на свете – полет.
Глава 3
Полиомиелит
Переломным моментом в истории семьи Маллейнов стало 17 июня 1955 года, когда мы жили на авиабазе Хикам на Гавайях. Мне было тогда девять лет. Отец работал бортинженером, летая на грузовых самолетах C-97 и C-124, принадлежащих службе военно-транспортной авиации. Он вернулся из очередного полета с сильным жаром и был направлен в госпиталь имени Триплера. Диагноз – полиомиелит. Отныне мой папа, бодрый 33-летний мужчина ростом более 180 сантиметров и весом за 90 килограммов, больше не мог ходить.
Мы провели на Гавайях еще шесть месяцев, пока он восстанавливался после болезни. В первый день нового, 1956 года самолет медицинской службы ВВС перевез всю семью на авиабазу Шепард неподалеку от дома родителей моей мамы в Уичито-Фолс. Там период выздоровления продолжился.
В это время родители старались оградить нас от травмы, которую они переживали, и по большей части им это удалось. Могу припомнить лишь пару случаев, когда личный ад моего отца открылся мне. Однажды он взял меня и моих братьев в поездку на машине. Новый «понтиак» был оснащен ручным управлением. Отец остановился у окна магазина, где служащий дал ему бутылку, а потом он выехал в техасскую прерию и выпил ее. До сего дня, почувствовав запах бурбона, я вспоминаю этот момент. Он рассказывал нам о Стиральной Машине Чарли и о плавании на туземном каноэ к подводной лодке, но не так, как обычно. На этот раз он плакал, рассказывая об этом. Я никогда не видел, чтобы отец плакал, и не понимал, почему его теперь так печалят эти прекрасные истории.
Наконец он выбросил бутылку в окно и поехал домой, превратив обратный путь в аттракцион. Он разгонял машину и давал по тормозам, так что мы перелетали через сиденье и глупо хихикали. Снова и снова он разгонялся и резко тормозил. Каким-то чудом мы доехали до дома бабушки целыми и невредимыми. Отец пристегнул бандажи, встал на костыли и медленно прошел по дорожке, неразборчиво распевая пьяным голосом какую-то ирландскую балладу. Он выбрасывал костыли вперед и подтягивал свои бесполезные ноги. Так метр за метром он преодолел расстояние до входа. Тут из дома вылетела бабушка и принялась бить его веником, крича, что отец напился, и проклиная его за это. Он попытался выхватить ее оружие, но промахнулся и опрокинулся на цемент. Я никогда не видел, чтобы взрослые люди так себя вели. Мы с братьями заплакали, а соседи собрались посмотреть на представление. Мама рыдала. Бабушка, убежденная трезвенница, строгая немка, уподобилась демону, восставшему из ада. Для нее не было никакого оправдания пьянству, даже если это способ справиться с полиомиелитом. Отец ругался скверными словами и пытался схватить ее, но его недействующие ноги были мертвым якорем, и она легко уворачивалась. Веник попал по лицу и сбил с него очки. Она зашла с задней стороны, где отец был беззащитен, и добавила еще. Мама сгребла меня и братьев в охапку, чтобы мы не видели этого кошмара. Мы оставили отца на дорожке лицом вниз, ревущего, подобно ребенку, а бабушка продолжала колотить его веником.
Через несколько месяцев мне еще раз пришлось увидеть, как болезнь мучила моего папу. Мама покупала продукты в магазине, а я слонялся по проходам и вдруг наткнулся на мужчину, который показывал приятелю свои искусственные ноги. Я услышал: «Потерял обе ноги на войне». Он подчеркнул сказанное, постучав по каждой голени палкой. Я остановился посмотреть на столь странную травму. Двое расстались, и ветеран двинулся в путь с помощью палочки покачивающейся походкой. На мгновение я застыл, подобно жене Лота, превратившейся в соляной столб. У этого человека вообще не было ног, но он ходил!
Я очнулся от шока и забежал вперед.
– Мистер! – прокричал я. Он остановился. – Мистер, как вы можете ходить? У вас же нет ног!
Он улыбнулся моей наивности:
– Сынок, германская бомба оторвала мне ноги, и доктора приделали вот эти, ненастоящие. – Он снова постучал палкой по голеням, и они издали пустой звук.
Я улыбнулся:
– Спасибо, мистер!
Я пролетел мимо матери.
– Ты куда, Майк?
– Хочу к папе.
Я выбежал на стоянку, забрался на переднее сиденье автомобиля и, не переводя дыхание, выложил отцу все, что видел:
– Папа, там в магазине человек, у которого нет настоящих ног. Их оторвало на войне. Доктора сделали ему искусственные ноги. Но он ходит! – Я выложил эту новость с широкой улыбкой на лице.
Отец посмотрел на меня удивленно. До него не дошло. Он не понял важности того, что я только что открыл. Но я героически объяснил ему:
– Папа, все, что тебе надо сделать, – попросить доктора отрезать твои ноги. Тогда он даст тебе искусственные и ты снова сможешь ходить, как тот мужчина в магазине!
Его глаза внезапно наполнились слезами. Он попытался улыбнуться:
– Майк, спасибо за идею, но проблема не в моих ногах. Проблема в нервах. Бациллы полиомиелита съели их полностью. Если ноги отрезать, это не поможет.
Мое лицо выразило полное разочарование. Я был уверен, что нашел секрет, как поставить отца на ноги. Папа обнял меня и заплакал на моем плече. Я совсем запутался. Я не понимал ничего ни в бациллах, ни в нервах. Я понимал лишь то, что видел сам: человек без настоящих ног может ходить.
– Иди помоги маме с покупками.
Я вылез из машины, отошел на пару шагов и обернулся посмотреть на отца. Он положил голову на руль и рыдал.
Это был последний раз, когда он обнаружил передо мной или братьями, какие титанические усилия ему приходилось прикладывать, чтобы смириться с жизнью без ног. И он справился! В течение года отец вновь стал тем человеком, которого я знал до болезни, а Стиральную Машину Чарли он изображал даже лучше, чем раньше.
После нескольких месяцев восстановления в Техасе родителям предстояло решить, где теперь поселиться. Вариант Уичито-Фолс не рассматривался: это был городок нефтяников и скотоводов, предлагающий мало возможностей для инвалида. Не думали они и о возвращении в Нью-Йорк, на родину отца: тамошняя вертикальная застройка сделала бы жизнь колясочника слишком трудной. Для дальнейшей жизни выбрали Альбукерке в штате Нью-Мексико. Мы пару раз проезжали через этот городок в своих путешествиях, и папе с мамой он всегда нравился. Там были больница Администрации по делам ветеранов, возможность устроиться на работу и климат, который делал жизнь человека в коляске чуть более выносимой.
Переезд в Альбукерке стал последним в моем детстве, и я благодарен за это Господу. Мы осели на Западе навсегда. Теперь не нужно было ехать на машине несколько дней, чтобы увидеть полюбившиеся нам пустыни и горы. Теперь можно было заглядывать за горизонт каждую неделю. То, что отец не ходил, вряд ли могло стать помехой для приключений. У него было пятеро сыновей, которые могли переносить его вместе с креслом куда угодно, что мы и делали. Мы затаскивали его по крутым и неровным склонам к одинокому озеру и сажали в каноэ моего брата. Мы переправляли его через ручьи и носили по тропам. Мы ставили его кресло на лугу, чтобы отец мог насладиться закатом или красотой далекой грозы.
Помимо переноски кресла полиомиелит заставил нас освоить ремесла бармена и санитара. Привычки отца описывались формулой «7+7»: вечером мы смешивали для него виски Seagrams's –7 и газировку 7-Up. Он научил каждого из нас наливать на два пальца спиртного, добавлять лед и уже после этого – безалкогольный напиток. Он также научил нас тому, как во время путешествий опустошать его мочеприемники.
Однажды, изготавливая обычный коктейль, мой младший брат обнаружил уже открытую бутылку 7-Up. Он принес напиток отцу, и тот сделал глоток. «Боже, Чип, сколько виски ты сюда залил? Очень крепко». Брат объяснил, что налил на два пальца, как обычно. И только когда отец добрался до ледяных кубиков, его озарило. Немного раньше, когда никого не было рядом, он опорожнился в пустую бутылку 7-Up и оставил ее на столе. Он выплюнул смесь и принюхался, как делает пес возле пожарного крана:
– Чип! Где ты взял 7-Up для виски?
– Бутылка стояла на столе.
– О господи! Я выпил виски с мочой… – Через несколько секунд, уже держа в руке свежую порцию виски с содовой, папа философски заметил: – Думаю, если уж пить мочу, то лучше свою.
Было у отца при его «ходячей» жизни кое-что, чем он отказался пожертвовать в угоду полиомиелиту, – его любимый набор инструментов. Он так и ездил с нами все время. Невзирая на прошлый опыт, отец был убежден, что рано или поздно спасет нас всех от серьезного повреждения автомобиля с помощью этих инструментов. Шанс представился одним очень жарким днем в июне 1963 года. Мы путешествовали по отдаленным пустынным районам на северо-востоке Аризоны. (Прилагательное отдаленный само по себе подразумевается при описании приключений Маллейнов.) Машина начала дергаться: какое-то время она разгонялась, затем шла по инерции, затем вновь набирала ход. Отец яростно дергал рычаг газа, надеясь устранить проблему. Конечно, в этот момент большинство водителей воскликнуло бы: «С машиной что-то не так!» Но мой отец-летчик не мог забыть лексикон из прежней жизни. «Мы теряем тягу!» – воскликнул он. Я бы не удивился, услышав вслед за этим: «Чертовы япошки достали нас! Второй двигатель – во флюгерное положение!»
Мы заехали на грязную парковку у магазинчика индейских товаров из саманного кирпича. Выцветшие таблички обещали ювелирку из панциря черепахи, коврики и прочие подобные вещицы. Деревянная галерея давала единственную тень на сотни миль. Полдюжины индейцев в креслах и несколько нечесаных собак на полу демонстрировали, что место занято. Помню, как удивились мы с братьями, увидев, что индейцы одеты как ковбои. На них были джинсовые костюмы, сапоги и большие ковбойские шляпы. Мама умоляла не глазеть на них, но мы смотрели все равно. Индейцы были неподвижны, как будто высечены из камня. Наше шумное появление с грохочущим и фыркающим двигателем, казалось, осталось незамеченным ими. Индейцы не шевелились, не поднимали руки, чтобы отогнать муху, и молчали. Они просто сидели в креслах, глядя на колышущееся марево, в молчаливом царственном покое.
Отец мгновенно поставил машине диагноз: «Клянусь яйцами, это чертов топливный насос!» По каким-то странным причинам упоминание тестикул было его любимым ругательством. «Хью, детей постесняйся!» – обычно отвечала на это мать. Этот возглас я слышал в детстве много-много раз, но он никак не влиял на словарь отца.
Отец пристегнул бандажи и поднялся на костылях. Столь странное зрелище все равно оставило шестерых индейцев недвижимыми, как будто это были бронзовые статуи работы Ремингтона. Наш фургон, тараторящие дети и человек на костылях интересовали их не больше, чем пылевой дьявол вдали.
Трое мальчиков встали вместе с отцом перед крылом машины и подняли капот. «Я покажу вам, дети, как проверить топливный насос». Наконец-то у нас были необходимые инструменты, и отец наклонился к двигателю и начал работать. Он отсоединил выходной шланг топливного насоса, затем выдернул провод трамблера, объясняя свои действия: «Сейчас наша мама повернет ключ зажигания. Машина не заведется, потому что я отключил трамблер. Но стартер провернет распределительный вал, и это приведет насос в действие. Если он заработает, мы увидим, как бензин вытекает из этого шланга».
Он позвал маму и попросил ее повернуть ключ. Я так гордился отцом! Многие ли взялись бы за ремонт машины посреди пустыни? А мой папа делал это, стоя на костылях с бандажами.
В то время как гордость переполняла мою душу, бензин тонкой струйкой полился из шланга – и прямо на горячий двигатель. Облако паров горючего немедленно окутало нас. Удовлетворенно хрюкнув, папа произнес: «С насосом все в порядке». Пока он изрекал эту очевидную истину, я увидел, как голубая искра проскочила между контактом трамблера и корпусом двигателя со звуком, похожим на тиканье часов. Я как раз собирался прокомментировать эту искру, когда под капотом раздался взрыв. Ба-бах! Пары топлива смешались с окружающим воздухом, образовав в небольшом пространстве взрывоопасную смесь. Искра от отключенного трамблера стала источником зажигания. Так мы приняли самое непосредственное участие в первом испытании оружия объемного взрыва. Четырьмя десятилетиями позже ВВС изобретут как раз такой боеприпас против террористов, засевших в пещерах, и представители прессы будут прославлять новое оружие. «Ничего подобного еще никогда не было», – раскудахтаются они. Не совсем так. Да будет записано в анналах истории, что мой отец первым испытал такое оружие. Он сделал это под капотом «понтиака» 1956 года выпуска у торговой точки Тик-Нос-Пос в северо-восточной Аризоне 14 июня 1963 года. И оно сработало!
Мои братья и я отшатнулись, оглушенные, с не видящими от вспышки глазами. Запах паленых волос плыл по ветру. Отец, неспособный отступить из-за бандажей на ногах, упал на спину как подрубленный. Он был похож теперь на персонажа из мультфильма с черным от сажи лицом, а немногие остававшиеся на его лысой макушке волосы обратились в пепел. Двигатель полыхал. Мама яростно отгоняла младших братьев, сестру и собак от горящей машины.
На веранде магазинчика апатичные до того собаки вскочили на ноги и истошно залаяли. А что же индейцы? Они ржали во весь голос. Да, я имею в виду такой смех, от которого катаются по полу, не могут перевести дыхание и слезы наворачиваются на глаза. Лопоча на своем родном наречии, они пеняли на неосмотрительность белого человека, как будто это был бесплатный фейерверк (в общем-то, так оно и было), и продолжали смеяться и смеяться.
Отец наконец-то пришел в себя достаточно, чтобы услышать смех и понять его источник. Он перевернулся на живот и сделал смелую попытку доползти до ближайшего индейца – вне сомнения, чтобы убить его на месте голыми руками. Джон Уэйн[15] во главе кавалерийской атаки никогда не выглядел столь яростно. Какое счастье, что к тому времени отец уже не мог ходить, иначе он бы непременно попал в тюрьму за убийство. Наконец он смог приподняться на одной руке, выбросил вверх средний палец и проревел: «Пошли все в задницу, ублюдки!» Его дежурное ругательство в данном случае не годилось.
Сквозь собачий лай я услышал жалобный крик мамы: «Хью, детей постесняйся!»
Даже подобные смертельно опасные ситуации не ослабили моей тяги к семейным путешествиям по пустынным пространствам американского Юго-Запада. В этой пустоте небо становилось ближе. Я мог вскарабкаться сквозь облака на горную вершину и сидеть на ней, глядя вниз и воображая, что лечу над этой белизной на реактивном самолете. Я мог лежать на лугу, смотреть, как грозовые тучи собираются над горами Сангре-де-Кристо, и мечтать, как однажды буду парить среди туманных ущелий.
Но больше всего мое воображение захватывало ночное небо Нью-Мексико. Стоило только выйти во двор, и я оказывался в космосе. Над нашими прежними домами нависало небо, засвеченное и окутанное дымкой. Здесь, в Альбукерке, небо было сухим и мрачно-черным. Однажды моя вторая бабушка, приехавшая в гости из Нью-Йорка, стояла рядом со мной и, глядя на ночное небо, произнесла: «Сегодня ты не увидишь звезд, Майк. Облачно».
Ее слова озадачили меня, потому что мои глаза видели совершенно ясное небо. «Ба, – сказал я, – никаких облаков нет. Сегодня ясно».
«Да нет, Майк, есть… Одно длинное облако тянется через все небо». И она провела рукой от горизонта до горизонта. Потом я понял, что она говорила про Млечный Путь! Наша Галактика с Земли представляется туманной россыпью звезд, и неопытному наблюдателю может показаться облаком.
Отец учил меня, как фотографировать ночное небо. Я устанавливал в пустыне один из его аппаратов, открывал затвор и ждал, пока вследствие вращения Земли звезды оставят длинные следы на пленке. Потом, уже держа в руках напечатанные снимки, я поражался окружностям разной яркости и цветам, которые они описывали вокруг Полярной звезды. Иногда на снимке был виден штрих пролетевшего метеора – событие, которое волновало меня не меньше, чем находка клада.
Над Альбукерке звезды и планеты горели так четко, как я не видел нигде прежде. Они казались такими доступными! Небольшой телескоп фирмы Sears и толика воображения позволяли мне каждую ночь путешествовать по небу. Я смотрел на серп Венеры и красный диск Марса и пересчитывал самые яркие луны Юпитера. Душевный трепет от этих наблюдений был ничуть не меньше, чем должен был испытывать Галилей. Когда частью небесной фрески был тонкий образ Луны, я наводил на нее телескоп и воображал, что путешествую по ее горам и глубоким затененным кратерам. Когда прогнозы обещали метеоритный дождь, я выносил в пустыню спальный мешок и лежал без сна, наблюдая их огненные вспышки и молясь о том, чтобы какой-нибудь из небесных камней чудесным образом упал поблизости.
Однако еще одному ночному зрелищу предстояло вскоре захватить меня еще сильнее.
Глава 4
Русский спутник
Утром 4 октября 1957 года я вошел в спальню отца, чтобы попрощаться перед уходом в школу. Как обычно, он пил кофе, курил трубку и читал газету. Этим утром, однако, он был багровым от гнева. «Чертовы красные запустили что-то вроде Луны вокруг Земли! Это ж надо! Какого дьявола Эйзенхауэр сидит и ничего не делает? А если на этой чертовой штуке стоит водородная бомба?»
Я взял газету и прочел новость о запуске спутника[16] и о том, как русские говорят, что это лишь начало их космической программы: они работают над тем, чтобы отправить человека в космос. Там же были интервью с американскими учеными, которые предсказывали, что наша страна сделает то же самое. На врезке было пояснение, что спутник в виде яркой движущейся точки можно будет наблюдать над Альбукерке сразу после заката.
Тем же вечером я стоял в холодных октябрьских сумерках вместе со всеми остальными жителями города, чтобы увидеть, как новая русская луна мерцает над головой. Отец наблюдал за ней с кресла, проклиная Эйзенхауэра за то, что тот все проспал. Увиденное лишило меня дара речи. В газете писали, что объект будет лететь на высоте 150 миль со скоростью 17 000 миль в час. Мысль о путешествии на такой высоте и с такой скоростью гипнотизировала меня. В газете говорилось, что когда-нибудь и люди сделают это. Научно-фантастические фильмы моего детства рисовали пилотируемые космические корабли, совершающие полеты к далеким планетам. Теперь спутник доказал, что это может произойти в реальности. Космические корабли будут! Я не мог представить себе более захватывающего приключения и хотел в нем участвовать. Я хотел полететь в космос.
Прошло лишь несколько недель, а я уже запускал свои ракеты в пустыне Нью-Мексико. Это были совсем не те ракеты из картона и бальсового дерева, что можно купить сегодня в магазинах для моделистов. Во времена моей юности их не существовало. Мои ракеты представляли собой многоступенчатые изделия из стальных труб длиной полтора метра, с приваренными стальными стабилизаторами и начиненные дьявольской топливной смесью домашнего приготовления. В сущности, мои ракеты были самодельными взрывными устройствами. До сих пор не понимаю, как остался жив. Я был 12-летним мальчишкой, который готовил топливную смесь для ракет в стеклянных банках и закладывал ее в стальные трубы. Трудно найти более верный способ покалечиться или убиться.
Я исследовал все источники стальных труб. Одной из первых находок была удлинительная трубка от маминого пылесоса. Блеск нержавеющей стали и легкость конструкции просто требовали превратить ее в ракету.
– Мама, это то, что надо! – прокричал я. Без сожалений она отдала ее мне.
Мать и отец не замечали опасности моих экспериментов. В ответ на новую красную угрозу с небес организовывались школьные кружки ракетостроителей, чтобы заинтересовать детей естественнонаучными и техническими предметами, а формула ракетного топлива распространялась подобно лотерейным билетам. Раз в этом участвует школа, это должно быть безопасно – такова была ошибочная логика моих родителей.
Мама не только отдала мне удлинительную трубку от пылесоса (и впредь пользовалась им, согнувшись, словно жертва сколиоза), она также позволила мне использовать утюг, чтобы нагревать полиэтилен и делать из него парашюты для полезной нагрузки моих капсул – муравьев и ящериц. Эта работа закончилась для утюга плохо. Она также разрешила мне использовать духовку для дурно пахнущего варева – ракетного топлива из сельскохозяйственных удобрений. Большой набор инструментов отца был в моем распоряжении, как и он сам. Он возил меня по мастерским, чтобы обработать сопла на токарном станке, и к поставщикам химикатов за ингредиентами ракетного топлива. Он вывозил в пустыню меня вместе с бомбами и вставал на костыли, держа наготове кинокамеру типа Super-8. Я устанавливал ракету и протягивал провода к автомобильному аккумулятору. Отец произносил нечестивую молитву о том, чтобы моя ракета приземлилась на голову Хрущева, а затем давал короткий отсчет. В момент «ноль» я касался проводом клеммы аккумулятора, уповая на лучшее. Иногда это лучшее выглядело как идеальный столб дыма, уходящий на 300 метров в небесную голубизну. Белый дымок отмечал срабатывание вышибного заряда парашюта, и мы наблюдали великолепную картину: моя капсула в виде банки из-под кофе Maxwell House спускалась на парашюте, изготовленном из полиэтиленовой упаковки для одежды из химчистки и бечевки для змея.
Чаще, однако, мои пуски сильно напоминали старты NASA. В момент «ноль» взрыв раскалывал воздух, и от творения моих рук оставалось лишь облако серного дыма. Мой папа, будучи оптимистом, заявлял, что ракета вышла на орбиту или даже попала в Луну. Мы молча ждали, не раздастся ли вой или глухой удар о землю, но ничего не было слышно. Для отца это было достаточным доказательством того, что моя ракета на пути к Кремлю.
Отец едва не стал жертвой одного из таких пусков. Он вопил и улюлюкал по случаю прекрасного взлета, а тем временем ракета описала в воздухе дугу и пошла на снижение прямиком к нам. «Боже, Майк! Она идет прямо на нас!» – отец был в трех метрах от машины и попытался укрыться за ней. С грохочущими стальными бандажами и алюминиевыми костылями он сам издавал звуки, напоминающие неисправный механизм. Не в силах помочь, я оставил его, словно упавшее на землю эскимо. Я нырнул под машину и выглянул оттуда, ожидая увидеть, как полутораметровый дымящийся шампур проткнет отца наподобие шашлыка. Единственное, что я сделал (и это не слишком помогло), – прокричал: «Папа, берегись!»
«Блин!» – проревел он. Свистящий звук набирал децибелы, и отец внезапно остановился и вытянулся в струнку, держа костыли как можно ближе к телу, стараясь тем самым уменьшить размер цели. Короткий свист сменился громким «вуумфф». Ракета вонзилась в песок не более чем в трех метрах от него, и тонкая струйка дыма пошла от сопла верх по спирали.
«Черт побери, это было близко, Майк».
Отец назвал эту ракету «камикадзе» и тут же принялся рассказывать очередную историю про чертова япошку-камикадзе, который едва не протаранил его самолет: «Я выпустил по этому сукину сыну весь боезапас полудюймового спаренного пулемета, но так и не попал ни разу. Но и он не попал в нас, как эта ракета».
По мере того как 1957 год подходил к концу, я полнился ожиданиями. Не потому, что я хотел отпраздновать встречу Нового года, а потому, что наступающий 1958-й был объявлен Международным геофизическим годом (МГГ)[17]. Если бы можно было измерить, насколько меня захватил космос, то как раз этим… Я столь же нетерпеливо ждал начала МГГ, как большинство детей ждет окончания школы. Я прочел о нем в нескольких научных журналах. Множество стран намеревались совместно исследовать космическое пространство зондирующими ракетами и аэростатами с научной аппаратурой, а Соединенные Штаты собирались запустить свои спутники. Я был в нетерпении.
Моим величайшим сокровищем в эту эпоху была книга Вилли Лея «Покорение космоса» (Conquest of Space). Куда там Гомеру, Шекспиру или Хемингуэю! Жалкие писаки! Для меня именно Вилли Лей[18] был величайшим автором всех времен. Его описание космического полета вместе с великолепными космическими картинами Чесли Боунстелла[19] вывели меня на орбиту за десятки лет до того, как это сделала ракета NASA.
«… И вот когда будет ноль часов ноль минут и ноль секунд, раздастся рев снизу, от сопел корабля… Корабль начнет подниматься на ревущем пламени и исчезнет в небе менее чем через минуту…»
«Земля станет огромным шаром где-то позади корабля, и пилот обнаружит себя окруженным космосом. Черное пространство, усеянное бесчисленными алмазами далеких солнц – звездами. Пилот увидит, как сквозь великий мрак тянется Млечный Путь».
Для моего 12-летнего мозга не существовало более чудесной прозы нигде, ни на каком языке. Я видел этот далекий шар Земли. Я видел эти звезды. Я видел эту глубокую черноту. Я перечитывал эту книгу снова и снова, я зачитал ее до такой степени, что стали вываливаться страницы. Я поглощал картины Боунстелла, как другие мальчики пожирали глазами груди африканок на страницах National Geographic. На одних иллюстрациях были изображены астронавты, наблюдающие расчерченный каналами Марс с одного из его спутников, Деймоса. На других – исследователи в скафандрах, идущие среди гор Луны или по каменной пустыне Мимаса, спутника Сатурна. Чего стоило подназвание книги: «В преддверии величайшего приключения, ожидающего человечество»!
Как только появилось NASA, я стал его фанатом № 1. Я смотрел по телевидению каждый запуск. Я заказывал фотографии и вешал их на стены моей спальни. Я узнавал с первого взгляда каждую ракету в американском арсенале – «Редстоун», «Авангард», «Юпитер», «Тор», «Атлас», «Титан». Я мог на память назвать их высоту, тягу и массу полезного груза. Я выучил новый словарь NASA: апогей, перигей, полезный груз, жидкий кислород, «все штатно». Я посылал в NASA чертежи собственных изделий и рацпредложения, как строить более совершенные ракеты. Я следил за проблемами и победами программы NASA с таким рвением, с каким другие дети собирали информацию о любимых командах. Когда были объявлены имена семи астронавтов программы «Меркурий», я выучил их биографии и просиживал часы над фоторепортажами журнала Life о них и об их технике. Я не мог дождаться, пока стану одним из них, и фантазировал, как бы мне оказаться на их месте. В новостях постоянно упоминалось, что у ракет NASA слишком малая тяга. Соединенные Штаты запускали спутники величиной с грейпфрут, в то время как у русских полезный груз измерялся тоннами. Я был уверен, что рано или поздно Алан Шепард, Джон Гленн и другие астронавты окажутся слишком тяжелыми для того, чтобы запустить их на орбиту. В моих мечтах NASA не удавалось найти взрослого летчика-испытателя, достаточно легкого для того, чтобы его подняла одна из их ракет. И тогда они начинали искать среди тощих американских школьников тех, кого можно взять в отряд астронавтов. Я отправил в NASA предложение на сей счет, позаботившись о том, чтобы мое имя и адрес хорошо читались.
Однако мне было мало ракет, постеров и астрономических наблюдений. В астронавты отбирали летчиков. Значит, я должен летать. В 16 лет я начал учиться летному делу. После какого-то десятка часов инструктор решил, что меня можно выпустить одного. Некоторые воспоминания так впечатываются в наши синапсы, что мы храним их до самой могилы: первый сексуальный опыт, рождение ребенка, война, смерть любимой. В их числе первый самостоятельный полет, который и в старости мой мозг будет воспроизводить в полноцветном варианте. Спустя 40 лет я все еще ощущаю ту адреналиновую дрожь в сердце, когда при выруливании на полосу я бросил взгляд на пустое правое кресло. Левая рука крепко сжимала штурвал – удивительно, что я не расплавил пластик. Правая ладонь приросла к рычагу управления двигателем. Я снял ногу с тормоза, перевел рычаг вперед до упора, и машина заскользила по полосе. Никогда еще я не слышал столь прекрасного звука, как рев 100-сильного двигателя. Я взял штурвал на себя и увидел, как земля уходит назад. Не думаю, что во время запусков на шаттле много лет спустя мое сердце колотилось сильнее, чем в эту минуту. Я летел! А немного позже я шел к машине, а в моей летной книжке были написаны самые прекрасные слова на свете: «Допущен к самостоятельным полетам».
К несчастью, продолжению летной практики препятствовала одна большая проблема – деньги, точнее их отсутствие. Я накопил немного, подрабатывая на каникулах, но обучение летному делу стоило дорого. Есть такое выражение, что необходимость – мать изобретения. Для нас, тинейджеров, необходимость была матерью идиотизма. В то время у меня был приятель, такой же подросток, который тоже получил допуск к самостоятельным полетам и, подобно мне, пытался найти средства, чтобы продолжить. Вместе мы придумали способ получать больше за те же деньги. Он арендует самолет в одном из аэропортов Альбукерке и летит на другой аэродром. Там мы встречаемся и дальше летаем вместе, деля между собой расходы и летное время. У нашего плана была одна маленькая проблема: это было незаконно. Как пилоты-курсанты мы могли летать лишь поодиночке или с инструктором, но не с пассажиром. Каждым нашим совместным полетом мы нарушали правила Федерального управления гражданской авиации (Federal Aviation Administration – FAA). Однако мы быстро рассудили: не пойман – не вор, и, если он прилетит за мной в другой аэропорт, это сильно снизит шансы быть раскрытыми.
Мы решили узнать, как высоко мы можем подняться, и загнали «сессну» на 4000 метров, нарушив еще одно правило FAA, запрещавшее летать выше 3700 метров без кислородного прибора. В другой день мы захотели как следует прочувствовать скорость и носились буквально в метрах над верхушками кактусов чолья в пустынях Альбукерке. Верхушки Сандийских гор манили нас, и мы петляли между ними, все время попадая в сильные нисходящие потоки.
И в каждом полете я мечтал однажды полететь еще выше и еще быстрее и сделать то, что описывал Вилли Лей. Я мечтал почувствовать своим телом всю силу тяги ракеты и увидеть огромный земной шар позади своего корабля. Я мечтал о том дне, когда полечу на ракете, участвуя в «Покорении космоса».
«Майк, по большому счету все мы мотивированы событиями, которые произошли с нами в юности. Расскажите мне о вашем детстве, о семье». Улыбчивый д-р Макгуайр ожидал моего ответа. Но мои щиты были подняты. Я ничего не сказал ему ни о Стиральной Машине Чарли, ни о полиомиелите, ни о чуть ли не смертельно опасных приключениях в диких краях Запада, ни о взрывающихся ракетах, ни о нарушении авиационных правил. Что могли поведать эти истории о Майке Маллейне? Что борьба отца с болезнью нанесла мне душевные раны? Что я рисковал бесконтрольно и бездумно? Плевал на правила? Все эти истории нельзя было рассказывать ни в коем случае. И поэтому я лгал.
«Я вырос в семье Бивера Кливера[20], – сказал я. – Никаких разводов, никаких тревог, никакого эмоционального багажа. Мой отец был летчиком ВВС, и под его влиянием я проникся идеей полета. Как всякое дитя космической гонки, мечтал о космосе. Как только появились астронавты, захотел стать одним из них». Вот и вся история.
Вероятно, такой же рассказ он слышал от каждого из военных летчиков. Несомненно, некоторые из гражданских, не знавшие по своему опыту, что любой врач способен разве что навредить летной карьере, могли в слезах рассказывать о том, как мать кормила их грудью до шестилетнего возраста, или о том, что они чувствовали себя одинокими, что их били или унижали, что они сосали большой палец или мочились в постель. Военные летчики знали предмет лучше. Любой из нас скрывал бы деревянную ногу или стеклянный глаз, рассуждая по принципу: «А вы докажите!» У меня был один шанс из семи пройти отбор в астронавты. Я не хотел, чтобы хоть что-то в моих обследованиях вызывало вопросы. Я хотел быть нормальным настолько, чтобы, когда кто-то станет искать это слово в словаре, он нашел бы там мой портрет. Поэтому я лгал. Я ничего не сказал о том, как мы пи́сали в радиатор, как взорвали автомобильный мотор или как носились вокруг горных вершин на «Сессне-150». Я лгал даже тогда, когда правда могла бы пойти мне на пользу.
Глава 5
Отбор
1 февраля 1978 года первые астронавты эры шаттлов, числом 35, стояли на сцене зала в корпусе № 2 Космического центра имени Джонсона, готовые предстать перед всем миром. Я был одним из них.
Объявление для прессы было сделано двумя неделями раньше[21]. В это время я был откомандирован со своей базы во Флориде на авиабазу Маунтин-Хоум в штате Айдахо, чтобы испытать новый самолет EF-111. Как и каждый из 208 человек, которые прошли процедуру отбора астронавтов, в течение нескольких месяцев я прислушивался к телефону. Не то чтобы я ожидал, что меня выберут, отнюдь нет. Я полагал удачей уже то, что меня пригласили на собеседование. Изучив в деталях мою кандидатуру, комиссия NASA должна была понять, что представляет собой Майк Маллейн: парень выше среднего уровня, но не выдающийся; чуть больше 1200 баллов по тесту SAT[22]; 181-е место среди выпускников Вест-Пойнта; не способен к обратному счету семерками. Как, спрашивается, я мог обдурить организацию, которая доставила человека на Луну? Но, подобно участнику лотереи, который в глубине души знает, что ничего не получит, я собирался все-таки проверить номера.
Утром в понедельник 16 января 1978 года выигрышные номера объявили, и я проиграл. Я в этом не сомневался. Одеваясь на работу, я включил телевизор – меня там не было. Зато Салли Райд и еще пять женщин были. NASA объявило состав новой группы астронавтов, в которую впервые вошли женщины. Сообщалось, как охотники за сенсациями сражаются за место перед их домами. Улицы заполнили передвижные телестанции с броскими номерами телефонов для звонков в студию. Вокруг бродили заинтересованные соседи. А эти улыбающиеся, сияющие, веселые женщины отвечали на вопросы, которые выкрикивали корреспонденты: «Что вы испытываете, сознавая, что вы одна из первых женщин-астронавтов? Когда вы захотели стать астронавтом? Вы плакали, когда услышали эту новость? Будет ли вам страшно лететь на шаттле?»
Я прошел в комнату, отдернул занавеску и убедился, что у меня под окном не запаркована эскадрилья телевизионных фургонов. Нет. Ни одного. Не кипели в нетерпении репортеры, не бродили перепуганные соседи. Ничего не было. Переживать отказ мне предстояло в одиночестве. Я попытался рассуждать рационально:
Мне никто ничего не обещал.
Но я сделал все от меня зависящее.
Может быть, меня выберут в следующий раз.
Не попробуешь – не узнаешь.
Я искал успокоение в этих банальностях и в еще нескольких сотнях других, но не находил. Победители были на телеэкране, проигравшие смотрели на них. Я подумал, не позвонить ли жене Донне во Флориду, чтобы поделиться плохими новостями, но решил, что с этим можно повременить. Мне вообще не хотелось говорить об этом.
Я отправился в свой офис на авиабазе Маунтин-Хоум и узнал, что Донна пыталась дозвониться до меня и оставила записку: «Мистер Эбби из NASA звонил сегодня утром и хочет, чтобы ты связался с ним». Джордж Эбби был начальником Директората операций летных экипажей, подразделения Центра Джонсона, частью которого являлся Отдел астронавтов[23]. Он возглавлял комиссию, которая заслушивала кандидатов в астронавты. Я был уверен, что Эбби звонил, чтобы «поблагодарить за приложенные усилия».
Я набрал номер и попал на секретаршу Эбби. Последовала небольшая пауза (еще одно подтверждение, что мою кандидатуру отклонили), он подошел к телефону: «Майк, вы все еще заинтересованы в том, чтобы перейти в Центр Джонсона в качестве астронавта?»
Несколько следующих мгновений доказали мне, что человек может жить с остановившимся сердцем. За прошедший час я сконструировал вполне логичный сценарий отказа. Появление женщин на TV доказывало, что NASA уведомило счастливых победителей. (На самом деле женщин оповестили первыми, чтобы эту великую новость как следует осветили телерепортеры.) Теперь же агентство из вежливости обзванивало остальных. Однако первый вопрос Джорджа не был похож на прелюдию к отказу.
Во рту пересохло настолько, что слюны не хватило бы даже на одну почтовую марку, но я все-таки умудрился прохрипеть в ответ: «Да, сэр, меня определенно интересует работа в Центре Джонсона».
Интересует?! Какого черта, что я несу? Интересовать меня могла работа Хью Хефнера[24], но за то, чтобы стать астронавтом, я готов был убить.
Эбби продолжил: «Отлично, тогда в июле мы ждем вашего прибытия[25] в качестве нового кандидата в астронавты».
Больше из этого разговора я ничего не помню. Я ослеп, оглох и онемел от радости. NASA отобрало Майка Маллейна в астронавты!
Я немедленно позвонил Донне. «Я же говорила! Я же тебе говорила, Майк! Разве я не говорила всегда, что все сложится к лучшему? Я говорила тебе!» Она действительно это говорила, раз за разом, и никогда не теряла веры. Я так хотел быть рядом с ней, чтобы разделить радость, но это было невозможно. До возвращения домой оставалась еще пара дней.
Я позвонил маме и папе, и они были потрясены не меньше меня. Мы смеялись вместе с отцом, вспоминая, как запускали мои самодельные ракеты. Я почувствовал, что мама – очень прагматичная женщина – уже ощущает опасность, которую принесет эта новая работа. Я не сомневался, что в ближайшие пару лет ее четки придут в негодность от усердных молитв.
Я связался со своим командиром во Флориде. Поздравив меня, он сказал, что Эбби звонил также Брюстеру Шоу и Дику Кови, летчикам-испытателям нашей эскадрильи: они тоже прошли отбор. Другим пилотам отказали, и мне было больно за них. Но недолго: моя необузданная, опьяняющая радость прорвалась снова.
Этим вечером я закупил пива на весь наш отдел на базе Маунтин-Хоум и пригласил ребят отпраздновать. В этот момент я был рад, что нахожусь вдали от родной эскадрильи. Большинство летчиков EF-111 были из Тактического авиационного командования ВВС, и никто из них не подавал рапорт об участии в космической программе. Наш праздник ничто не омрачало. Дома, в эскадрилье летных испытаний авиабазы Эглин, служили главным образом летчики-испытатели и инженеры-испытатели, и рапорт подал едва ли не каждый из них. Разочарование неудачников было бы столь же острым, как и моя радость, бьющая фонтаном. Шоу и Кови пришлось сдерживать свое торжество в присутствии людей, похоронивших надежду.
Когда я немного пришел в себя, то поехал в гостиницу. База находилась далеко в пустыне, и на дороге никого не было. Я гудел клаксоном и орал, как девчонка-тинейджер на рок-концерте. Я опустил стекло и кричал в лицо ледяному ветру. Я сделал крюк вглубь пустыни, выскочил из машины и вопил еще и еще и не мог успокоиться. Я боксировал воздух. Я прыгал и скакал, и швырял песок, и громко хохотал. Наконец я запрыгнул на теплый капот, лег на спину и смотрел, как звезды плывут над моей головой, как бесчисленное множество раз в детстве. Когда в небе сверкнул какой-то спутник, мое сердце екнуло. Даст бог, через несколько лет я полечу на ракете. Я будут внутри спутника… внутри шаттла.
Теперь, две недели спустя, я стоял на сцене вместе с остальными 34 астронавтами моего набора. Хотя мы должны были прибыть к месту службы лишь в июле, NASA собрало нас вместе, чтобы официально представить миру.
Пилоты
Дэниел Бранденстайн, лейтенант-коммандер[26] ВМС, Уотертаун, Висконсин, 34 года
Роберт («Хут») Гибсон, лейтенант ВМС, Куперстаун, Нью-Йорк, 31 год
Фредерик Грегори, майор ВВС, Вашингтон, 37 лет
Дэвид Григгс, гражданский, Портленд, Орегон, 38 лет
Ричард Кови, майор ВВС, Файеттвилл, Арканзас, 31 год
Майкл Коутс, лейтенант-коммандер ВМС, Сакраменто, Калифорния, 32 года
Джон («Джей-Оу») Крейтон, лейтенант-коммандер ВМС, Орандж, Техас, 34 года
Джон Макбрайд, лейтенант-коммандер ВМС, Чарлстон, Западная Вирджиния, 34 года
Стивен Нейгел, капитан ВВС, Кантон, Иллинойс, 31 год
Фрэнсис («Дик») Скоби, майор ВВС, Кле-Элум, Вашингтон, 38 лет
Дональд Уильямс, лейтенант-коммандер ВМС, Лафайетт, Индиана, 35 лет
Дэвид Уокер, лейтенант-коммандер ВМС, Коламбус, Джорджия, 33 года
Фредерик Хаук, коммандер ВМС, Лонг-Бич, Калифорния, 36 лет
Брюстер Шоу, капитан ВВС, Касс-Сити, Мичиган, 32 года
Лорен Шривер, капитан ВВС, Джефферсон, Айова, 33 года
Военные специалисты полета
Гийон («Гай») Блуфорд, майор ВВС, Филадельфия, Пенсильвания, 35 лет
Джеймс Бучли, капитан Корпуса морской пехоты, Нью-Рокфорд, Северная Дакота, 32 года
Дейл Гарднер, лейтенант ВМС, Фэрмонт, Миннесота, 29 лет
Майкл Маллейн, капитан ВВС, Уичито-Фолс, Техас, 32 года
Эллисон Онизука, капитан ВВС, Кеалакекуа, Гавайи, 31 год
Роберт Стюарт, майор Армии США, Вашингтон, 35 лет
Джон Фабиан, майор ВВС, Гускрик, Техас, 38 лет
Гражданские специалисты полета
Джеймс («Окс») ван Хофтен, Фресно, Калифорния, 33 года
Шеннон Люсид, Шанхай, Китай, 35 лет
Рональд Макнейр, Лейк-Сити, Южная Каролина, 27 лет
Джордж («Пинки») Нельсон, Чарлз-Сити, Айова, 27 лет
Салли Райд, Лос-Анджелес, Калифорния, 26 лет
Джудит Резник, Акрон, Огайо, 28 лет
Кэтрин Салливан, Патерсон, Нью-Джерси, 26 лет
Маргарет Рей Седдон, Мёрфрисборо, Теннесси, 30 лет
Норман Тагард, Марианна, Флорида, 34 года
Анна Фишер, Нью-Йорк, 28 лет
Терри Харт, Питтсбург, Пенсильвания, 31 год
Стивен Хаули, Оттава, Канзас, 26 лет
Джеффри Хоффман, Бруклин, Нью-Йорк, 33 года
На самом деле я стоял в одном ряду с 34 остальными кандидатами в астронавты. Наша группа, которая в конечном счете войдет в историю под названием «35 новичков», или TFNG (Thirty Five New Guys), стала первой, члены которой имели перед должностью «астронавт» приставку «кандидат». До того как к нам приклеилось обозначение TFNG, мы были известны как асканы – Ascans. (Одна из следующих групп взяла себе название Ashos, что означало Astronaut Hopefuls – надеющиеся и подающие надежды стать астронавтами.) К моменту нашего прихода NASA на горьком опыте узнало, что само по себе звание астронавта воспринимается как знак отличия. В одном из наборов эпохи «Аполлона» разочарованный ученый покинул программу, не слетав в космос, и написал книгу, весьма критичную по отношению к агентству[27]. Поскольку его должность официально именовалась «астронавт», издатель на вполне законном основании сопроводил имя автора на обложке впечатляющим титулом. Теперь же NASA решило подстраховаться. В течение двух лет членам нашей группы предстояло быть кандидатами на испытательном сроке. Если бы кто-то из нас решил уйти и опубликовать какую-нибудь чернуху, NASA могло заявить, что это всего лишь кандидат, а не настоящий астронавт. Лично я воспринимал это как семантическое упражнение. В моем сознании невозможно было стать астронавтом, если ты не взлетел на ракете, что бы там ни говорилось в пресс-релизе космического агентства или в приказе по личному составу.
Нас приветствовал директор Центра Джонсона д-р Крис Крафт. В юности я видел его фотографии в статьях Life о программе «Аполлон». Теперь он поздравлял меня со вступлением в семью NASA. Ущипни меня, сказал я своему ангелу-хранителю.
Представитель пресс-службы NASA начал зачитывать наши имена, и аудитория из сотрудников агентства аплодировала. Среди нас было 15 пилотов-астронавтов, а я входил в число 20 будущих специалистов полета (MissionSpecialist, MS)[28]. Нам, «эмэсам», не светило сидеть за штурвалом шаттла и за ручкой управления тягой. На самом деле большинство из нас даже не были пилотами. Наши будущие обязанности включали управление роботизированной «рукой» – манипулятором, выполнение экспериментов и выходы в открытый космос. Как и подсказывало название, нам предстояло специализироваться на орбитальных операциях и выполнении полетного задания.
По мере того как перекличка приблизилась к списку «эмэсов», мое сердце сделало попытку притвориться, что не имеет ко мне никакого отношения, и вырваться из моей груди. Я все еще не мог поверить, что все происходящее – не розыгрыш. Когда сотрудник начал перечислять нас, я ожидал, что, дойдя до моего имени, он остановится, посовещается с Крафтом и скажет: «Леди и джентльмены, в список вкралась ошибка. Пожалуйста, вычеркните Майкла Маллейна, он попал сюда случайно. Он не владеет обратным счетом семерками». После этого два дюжих охранника возьмут меня под локти и выведут за ворота.
Однако представитель прочел мое имя без колебаний. Он не споткнулся на нем и не стал совещаться с Крафтом. Он прочел его так, будто мне надлежало быть в списке. Теперь все действительно официально, подумал я. Придется в это поверить. Итак, я свежеиспеченный астронавт… кандидат.
На сцене Америка была представлена во всем ее разнообразии. Среди нас была мать троих детей (Шеннон Люсид), два астронавта иудейской веры (Джефф Хоффман и Джуди Резник) и один буддист (Эл Онизука). Были католики и протестанты, атеисты и фундаменталисты. Вполне возможно, что среди нас были и геи. В группу входили трое афроамериканцев, один человек азиатского происхождения и шесть женщин. Все камеры фокусировались на этой радужной коалиции, и в особенности на женщинах. Я мог бы показать прессе голую задницу – и этого бы никто не заметил. Белые мужчины из числа TFNG были невидимками.
Еще одно первенство этого набора состояло в его политической разнородности. Военные летчики, оплот предыдущих групп, почти всегда отличались консерватизмом. Хорошо образованные и самодостаточные, они мыслят критически и презирают либеральные идеи в духе «все мы жертвы системы». Однако присутствие на сцене большого числа гражданских астронавтов положило конец господству правых. Вероятно, среди них были и те, кто протестовал против войны во Вьетнаме, и те, кто считал, что лик Теда Кеннеди должен красоваться на горе Рашмор[29], и те, кто участвовал в маршах за права геев, за аборты, за гражданские права и права животных. Впервые в истории звание астронавта было присвоено защитникам лесов, рыбоедам, сочувствующим дельфинам, вегетарианцам и подписчикам The New York Times.
Гражданских отличала своя специфика – аура юношеской наивности. Хотя разница в среднем возрасте между военными и гражданскими астронавтами была не слишком велика (примерно пять лет), разница в жизненном опыте оказалась колоссальной. Некоторые из гражданских были «постдоками» – этот термин я впервые услышал в день нашей инаугурации. Они в самом буквальном смысле были вечными студентами, продолжая свои занятия в университетах даже после получения докторской степени. Среди нас были мужчины и женщины, которые всего несколько недель назад вели наблюдения за звездами в высокогорных обсерваториях и больше всего боялись получить за научную статью оценку «пять с минусом». Целые световые годы отделяли их жизни от судеб военных членов группы. Мы были ветеранами вьетнамской войны. Одного пилота-вертолетчика, выполнявшего задание по ракетному обстрелу противника с малой высоты, покромсало в клочья и бросило на лобовое стекло «вертушки», так что все оно было залито его кровью. Наш Дэн Бранденстайн был обладателем уникального сувенира северовьетнамских времен – это был кофейный столик, изготовленный из поврежденного огнем вражеской ПВО лобового стекла его штурмовика A-6 Intruder. Мы были летчиками-испытателями и инженерами-испытателями. И наши ошибки были не из тех, что на полях отмечает карандашом профессор, – малейший промах означал мгновенную смерть. Морской летчик Рик Хаук и пилот ВВС Брюстер Шоу едва не погибли, катапультируясь из потерпевших аварию боевых реактивных машин. У меня тоже был опыт катапультирования из такого самолета.
Но не только с войной и смертью не были знакомы постдоки: в отличие от военных, гражданские не знали и жизни– по крайней мере, ее изнанки. Однажды на промежуточной посадке на Филиппинах по пути во Вьетнам я заселился в гостиницу и получил вместе с пивом San Miguel потрепанную папку с фотографиями имеющихся в наличии проституток. Это входило в обслуживание номеров: заказывайте прямо сейчас! Недаром говорят, что невинность – первая жертва войны. Во вьетнамском баре рядом с тобой тут же оказывалась женщина, поглаживающая твой пах в надежде продать себя. В массажном кабинете «Хэппи-энд» у каждого из нас был любимый номер (свободные девушки для простоты опознания носили таблички с номерами на шее), и я знал многих летчиков во Вьетнаме, у которых в календаре кружочком был отмечен день прекращения отношений с проститутками. Это означало завязать с ними и выждать инкубационный период заболеваний, передающихся половым путем (или успеть вылечиться), прежде чем отбыть домой. Один из морских летчиков нашей группы рассказывал, как однажды сидел в грязном баре в Юго-Восточной Азии, а в это время голый морпех трахал на соседнем столе проститутку. Рискну предположить, что наши постдоки вряд ли имели такой опыт в студенческом клубе в Беркли. В их манерах чувствовались мягкость и невинность, наводящие на мысль, что они вели монастырскую жизнь. Мне с трудом удавалось, работая с ними, не воспринимать их как детей. Возможно, некоторые из них все еще оставались девственниками. Стив Хаули, Джордж Нельсон и Анна Фишер выглядели совсем юными. Их просто не пустили бы в бар без предъявления удостоверения личности. Джефф Хоффман являл собой идеальный пример университетского преподавателя. Он прибыл в NASA при бороде и складном велосипеде, который разрешалось провозить в бостонском метро. У него даже не было машины. Он ездил на работу на велосипеде и приносил с собой судочек с обедом. Не хватало только замшевых налокотников на пиджаке и трубки во рту, чтобы завершить образ «профессора».
Я испытывал легкую враждебность к гражданским кандидатам, и знаю, что многие военные астронавты разделяли мои чувства. В нашем понимании постдоки не заплатили необходимую цену за то, чтобы стоять на этой сцене, в отличие от нас. Для нас это было дело всей жизни. Если бы кто-нибудь сказал нам, что шансы попасть в астронавты возрастут, если пожертвовать левым яичком, мы схватили бы ржавую бритву и принялись резать. В глазах гражданских я не видел такого энтузиазма. Напротив, я представлял себе, что всего несколько месяцев назад Салли Райд и остальные постдоки, рассекая по студенческому клубу в майках с надписью «Спасите китов», случайно увидели на доске объявление об отборе астронавтов и шутки ради подали заявления. И вот теперь они оказались здесь. Это не было правильно.
Пока фотографы продолжали слепить вспышками женщин и представителей меньшинств, я посматривал на Джуди Резник и Рей Седдон. Трудно было из них двоих отдать кому-то предпочтение и титул «первой красотки в космосе». Джуди была красавицей с волосами цвета воронова крыла, а Рей – сногсшибательной блондинкой из Теннесси. Глядя на них, ни один мужчина из нашей группы не задумывался о темах их докторских работ.
Глава 6
Система Space Shuttle
Купаясь в лучах славы на той церемонии, мы были прискорбно невежественны в отношении машины, на которой нам предстояло летать. Мы знали, что шаттл будет не таким, как предыдущие пилотируемые ракеты[30] NASA, но не имели представления, чем именно он отличается и как это повлияет на риски для нашей жизни.
До создания системы Space Shuttle каждый астронавт стартовал в космос в капсуле на одноразовой ракете. Единственное, что возвращалось на Землю из полета, – это капсулы с астронавтами. И даже их больше не использовали, раздавая музеям по всей Америке. Хотя со временем размеры капсул выросли, позволяя вмещать трех человек[31], и ракеты, которые их несли, стали больше и мощнее, основной принцип – «кильки в банке», запускаемые одноразовой ракетой, – оставался неизменным с тех пор, когда Алан Шепард произнес свое знаменитое «Зажгите эту свечу!» перед первым полетом по программе «Меркурий-Редстоун».
Нам же предстояло летать на крылатом носителе, представлявшем собой наполовину космический корабль, наполовину – самолет. Он запускался в космос вертикально, как и ракеты прошлых лет, но это крылатое судно было способно войти в атмосферу на скорости в 25 раз выше скорости звука и совершить планирующую посадку, как обычный аэроплан. Тысячи плиток на кремниевой основе, приклеенные к донной части корабля, и листы углепластикового материала, прикрепленные болтами к передней кромке крыла и на носу, должны были защищать его от нагрева до 1700 °C во время возращения с орбиты. Считалось, что после недели или двух на межполетное обслуживание и установки в грузовом отсеке нового полезного груза массой до 29 500 килограммов корабль будет готов к отправлению в следующий полет.
В кормовой части орбитальной ступени системы Space Shuttle, то есть крылатого корабля, предполагалось три жидкостных двигателя с суммарной тягой около 680 тонн[32]. Они должны были сжигать жидкий водород в жидком кислороде, получая эти компоненты из огромного «бензобака», смонтированного с донной стороны и именуемого внешним баком (External Tank, ET). Через восемь с половиной минут после старта опустевший внешний бак должен был отделиться и сгореть в атмосфере, будучи единственной одноразовой частью системы, ушедшей со старта.
При всей своей мощи три маршевых двигателя шаттла (Space Shuttle Main Engine, SSME) не имели достаточной силы, чтобы самостоятельно поднять машину на орбиту. Требовалась дополнительная стартовая тяга[33]. NASA сначала хотело, чтобы ее давали жидкостные ускорители многократного использования, однако спуск такого изделия в соленую океанскую воду создавал серьезные проблемы с точки зрения многоразового использования. Представьте себе, что вы заехали на автомобиле прямо в море, затем вытянули машину на берег и теперь надеетесь, что при повороте ключа она заведется вновь. Флаг вам в руки, что называется. Поэтому перед инженерами встала задача разработки системы, в которой жидкостные ускорители возвращаются на сушу. Вскоре стало ясно, что невозможно с помощью парашютов посадить на Землю столь массивные объекты со сложным оборудованием, не повредив его и не создав при этом угрозы населенным пунктам. В результате инженеры рассмотрели планирующую посадку на полосу аэродрома, и в один из первых проектных вариантов космического челнока была заложена именно такая концепция. Согласно ей два крылатых аппарата, оба с экипажами, соединенные донными частями, подобно спаривающимся дельфинам, стартуют как единое целое. Один из них представляет собой комбинацию жидкостного ускорителя с огромным топливным баком, а второй, меньший по размеру, и есть собственно орбитальный аппарат. Проделав с последним часть пути до космоса, ускоритель отделяется, и два астронавта уводят его на посадку в Космическом центре имени Кеннеди[34]. Другие астронавты на борту орбитального корабля продолжают полет в космос, используя собственный запас топлива для окончательного набора орбитальной скорости.
Однако разработка и изготовление такого пилотируемого жидкостного самолета-ускорителя были бы очень дороги, а бюджет NASA в то время урезали. Агентство победило в соревновании за полет на Луну, и конгресс теперь был готов найти другое применение миллиардам долларов, которые тратились на NASA в 1960-е годы. В этой новой бюджетной реальности NASA стало искать более дешевые проекты первой ступени и остановилось на двух одинаковых твердотопливных ускорителях (Solid Rocket Booster, SRB) многоразового использования. По существу, это были просто стальные трубы, заполненные топливом из перхлората аммония и алюминиевого порошка. Эти ингредиенты соединялись с химическим «связующим», перемешивались подобно цементу в большой бетономешалке и заливались в ракетные «трубы», как тесто в форму для выпечки хлеба. После вулканизации в печи топливо затвердевало до консистенции твердой резины, откуда и название – твердотопливный ракетный ускоритель{4}.
Очень простые по своей сути, SRB, соответственно, дешевы. К тому же, поскольку после выгорания топлива ускорители превращались в полые трубы, они могли опускаться на парашютах в соленую морскую воду и использоваться повторно. Одна беда: твердотопливные ускорители значительно опаснее жидкостных ракетных двигателей. Последними можно управлять во время работы. Датчики могут отслеживать температуру и давление, и, если обнаруживается проблема, компьютер даст команду перекрыть клапаны, после чего поток компонентов прекратится и двигатель закончит работу, как если бы мы выключили газ в газовой плите. После этого можно перенаправить неиспользованные компоненты топлива в оставшиеся двигатели и продолжать полет. Именно такой сценарий в пилотируемых программах был реализован дважды. При запуске «Аполлона-13» в центральном двигателе второй ступени возникла проблема, и он был выключен. Четыре остальных двигателя проработали дольше запланированного, и носитель выполнил свою задачу. А в одном из стартов шаттла перед «Челленджером» центральный двигатель отключился за три минуты до расчетного момента. Полет продолжался на двух оставшихся двигателях, которые сжигали топливо, предназначавшееся для отказавшего двигателя[35].
У твердотопливного ускорителя этого существенного преимущества в области безопасности нет. После запуска его уже нельзя выключить, а поскольку твердое топливо не обладает текучестью, его невозможно перенаправить в другой двигатель. В некотором смысле современные твердотопливные ускорители ничем не отличаются от первых ракет, которые китайцы запускали тысячи лет назад, – после зажигания они обязаны работать, так как в случае отказа уже ничего не сделаешь. И, как правило, если что-то пошло не так, катастрофа неминуема. У военных была долгая история использования твердотопливных ускорителей на беспилотных носителях[36], и уж если они отказывали, то почти всегда без всякого предупреждения и со взрывом.
Ускоритель SRB, разработанный для шаттла, был даже еще более опасен, чем другие твердотопливные ракеты, так как огромные размеры (длина 46 метров, диаметр 3,7 метра, тяга 1200 тонн) заставили собирать его из четырех заправленных сегментов, изготовленных и привезенных по отдельности. В Космическом центре имени Кеннеди эти сегменты соединялись вместе, образуя целую ракету[37]. Каждый стык сегментов нес риск утечки горячих газов, и на каждом ускорителе было четыре таких стыка. Дублированные резиновые кольцевые уплотнения должны были надежно герметизировать стыки, в противном случае астронавтов ждала смерть.
И еще один аспект конструкции шаттла делал его значительно более опасным, чем любой из предшественников. У него не было системы аварийного спасения в полете. Если бы взорвалась в полете ракета «Атлас», на которой стартовал Джон Гленн, или ракета «Сатурн», несущая Нила Армстронга и его экипаж, эти астронавты, скорее всего, были бы спасены предусмотренными на такой случай системами. Наверху капсул «Меркурия» и «Аполлона» находились аварийные тянущие спасательные ракеты, которые при срабатывании обеспечивают отрыв капсулы от отказавшего носителя{5}. Затем должны автоматически развернуться парашюты, чтобы капсула опустилась в воду. Астронавты, стартовавшие в капсулах «Джемини», имели защиту в виде катапультируемого кресла на малой высоте и системы экстренного отделения капсулы и ввода парашютной системы в случае аварии на больших высотах.
Следует признать, что конструкция шаттла предусматривала два катапультируемых кресла для командира и пилота, но это было временное решение, обеспечивающее защиту только двух человек в четырех первых испытательных полетах системы. Предполагалось, что после этих четырех экспериментальных миссий NASA примет шаттлы в эксплуатацию, после чего уберет два катапультируемых кресла и будет отправлять в космос до десяти астронавтов за полет. Такие большие экипажи могли потребоваться для выполнения запланированных задач по выведению на орбиту спутников и их возвращению, для выходов в открытый космос, исследований в космических лабораториях шаттловской эры. У этих экипажей никакой системы аварийного спасения в полете не предусматривалось вообще. Вот в этих-то полетах нам, 35 новичкам, и предстояло участвовать. У нас не было шансов выжить при катастрофическом отказе ракеты – весьма сомнительное «первенство» в истории пилотируемых космических полетов.
Отсутствие системы спасения на эксплуатируемых шаттлах – на самом деле сама идея, что NASA вообще может употреблять термин «эксплуатация» применительно к такой сложной системе, как Space Shuttle, – было проявлением послеаполлоновской гордыни NASA. Команда NASA, которая отвечала за проектирование шаттла, была той же самой, что обеспечила высадку 12 американцев на Луну и их благополучное возвращение на Землю, после того как они преодолели 400 000 километров космического пространства. Программа «Аполлон» представляла собой величайшее инженерное достижение в истории человечества. Ничто другое, от египетских пирамид до Манхэттенского проекта, и близко не стояло. Мужчины и женщины, которым был обязан своей славой «Аполлон», не могли не находиться под влиянием этого успеха. И хотя ни один участник команды разработчиков системы Space Shuttle не позволил себе святотатственно заявить: «Мы боги. Мы можем всё», по сути сам шаттл стал такой заявкой. Не могли простые смертные спроектировать и благополучно эксплуатировать корабль многоразового использования, приводимый в движение самыми большими в мире сегментированными неуправляемыми[38] твердотопливными ракетами, лишь богам это было под силу.
Однако нашей группе TFNG предстояло столкнуться не только с неизвестными пока качествами нового корабля. Миссия NASA в послеаполлоновскую эпоху также представляла собой неизведанную территорию. Одолев безбожников-коммунистов в соревновании за полет на Луну, теперь NASA должно было, в сущности, заниматься космическими грузоперевозками.
NASA преподнесло конгрессу{6} идею шаттла под тем соусом, что эта система сделает полеты в космос дешевыми, и у агентства были все основания для такого заявления. Самые дорогостоящие части системы, ускорители и пилотируемый орбитальный корабль, были многоразовыми. На бумаге шаттл вполне нравился счетоводам от законодательной власти. NASA убедило конгресс придать ему статус общенациональной Космической транспортной системы (Space Transportation System, STS). Принятые в этой связи законодательные акты, в сущности, гарантировали, что каждый спутник, изготовленный в Штатах, будет запущен в космос на шаттле: каждый научный аппарат, каждый военный и каждый связной. Одноразовые ракеты, которые использовали для запуска этих аппаратов NASA, Министерство обороны и телекоммуникационная отрасль, все эти «Дельты», «Атласы» и «Титаны», ожидала участь динозавров. Они просто не смогли бы конкурировать с шаттлом по цене. NASA должно было стать космическим аналогом почтовой сети UPS (United Parcel Service).
Но это означало, что из всех запланированных полетов шаттлов лишь немногие – с научными лабораториями и предназначенные для ремонта спутников – действительно потребуют присутствия человека. В большинстве своем полеты будут иметь целью доставку спутников на орбиту – а с этим беспилотные ракеты замечательно справлялись в течение десятилетий. Короче говоря, новая миссия NASA под лозунгом «запускать всё» без всякой необходимости подвергала астронавтов смертельному риску при выполнении обычных для беспилотных ракет задач.
В тот момент, когда общественности представляли нашу группу, NASA должно было чувствовать себя неплохо. Агентство имело монополию на рынке запусков в США. Оно также собиралось захватить значительную долю зарубежного рынка запусков спутников. Четыре орбитальных корабля должны были стать для агентства дойными коровами. Однако эта бизнес-модель зависела от быстрой оборачиваемости кораблей. Точно так же, как обычная транспортная компания не может получать доход, если ее машины находятся на техобслуживании, шаттлы не могли быть прибыльными, простаивая в ангарах. Флот шаттлов должен был летать, и летать часто. NASA собиралось быстро довести частоту полетов системы STS до 20 с лишним в год. И даже с учетом всех сокращений после «Аполлона» существовали оптимистические прогнозы, что у агентства будет достаточно персонала, чтобы сделать это.
Переход от программы «Аполлон» к программе Space Shuttle стал для NASA радикальной переменой. Все теперь было другим. Новая миссия агентства состояла в том, чтобы возить грузы. Машина для перевозки грузов должна была быть многоразовой – а в этом у агентства тогда еще не было опыта. Частота полетов предполагалась такой, что NASA предстояло планировать несколько десятков задач одновременно: разрабатывать и проверять программное обеспечение, тренировать экипажи, тестировать состояние кораблей и полезных грузов. Все это NASA предстояло делать с намного меньшим количеством сотрудников и с меньшими ресурсами, чем оно имело в эпоху «Аполлона».
Сомневаюсь, что кто-нибудь из 35 новичков, стоявших на сцене, в полной мере отдавал себе отчет в том, какими опасностями чреваты шаттлы и новая миссия NASA. Но даже если бы мы об этом знали, это не имело бы значения. Если бы д-р Крафт объяснил нам в деталях, на что мы только что подписались – быть среди первых людей, которые летают на неуправляемых твердотопливных ракетных ускорителях и делают это без страховки со стороны системы аварийного спасения в полете, запускать спутники, которые в действительности не требуют пилотируемой ракеты, по графику, предполагающему предельное напряжение людей и ресурсов, – наш энтузиазм не уменьшился бы ни на йоту. Для многих из нас делом всей жизни было вписать свое имя в историю в качестве астронавтов. Мы хотели летать в космос, и чем быстрее и чаще (и кому какое дело до того, что там в грузовом отсеке), тем лучше.
Глава 7
Замедленное развитие
В первый день в качестве кандидата в астронавты я столкнулся с двумя вещами, которые не волновали меня раньше: выбор штатской одежды и совместная работа с женщинами. В течение 32 лет моей жизни всегда, начиная с памперсов, существовала система, которая меня одевала. 12 лет я учился в католических школах и носил форму соответствующей системы. За четыре года в Вест-Пойнте в моем шкафу не было ни одного предмета гражданской одежды. ВВС тоже решали за меня, что мне носить. Ни разу – ни в школьные времена, ни позже – мне не приходилось стоять поутру перед шкафом и размышлять, в чем бы сегодня пойти. Как следствие, в вопросах моды я был абсолютно безграмотен. И не я один. Я уже замечал, что некоторые астронавты-ветераны носят брюки в клетку. Даже мне при всем моем невежестве в вопросах стиля это казалось несколько старомодным. Когда мои дети видели одного из этих несчастных в клетчатых штанах, они украдкой посмеивались над ним. По сей день при виде игрока в гольф в традиционных клетчатых брюках мои взрослые дети комментируют: «Папа, посмотри – не иначе астронавт!» Военный астронавт мог явиться на вечеринку в спортивном костюме или в слаксах, и, честно говоря, ни один из присутствующих военных астронавтов не заметил бы, что тут что-то не так.
К счастью для детей, в мой ограниченный гардероб клетчатые штаны не входили. При первой попытке одеться на работу мне потребовалось подобрать удовлетворительный комплект из одной из четырех пар однотонных брюк и одной из четырех однотонных рубашек. Я потерпел фиаско. За завтраком жена с таким выражением, как если бы я явился с кольцом в носу, произнесла: «Ты ведь не собираешься пойти на работу в таком виде?» Этот вопрос за первые несколько недель жизни в NASA мне пришлось услышать множество раз. Донна даже пригрозила, что приделает к штанам и рубашкам метки с изображениями животных, как на детских вещах фирмы Garanimals. Бывало, она посмеивалась надо мной: «Львы сочетаются со львами, а жирафы с жирафами». Я же ничего не имел против этого предложения. Для меня это была отличная идея.
Но если я не имел ни малейшего представления, как себя одеть, то в части совместной работы с женщинами я был просто жителем другой галактики. В женщине я видел исключительно сексуальный объект – непредвиденное следствие 12 лет учебы в католической школе. Священники и монахини-наставницы вдолбили в меня, что женщины тождественны сексу, а секс ведет к вечным мукам. Ни в каком другом контексте девушки не обсуждались. О них никогда не говорили как о реальных людях, которые могут о чем-то мечтать. Их не рассматривали в качестве врачей, ученых или астронавтов. О них говорили только как об «источнике греха». Самый прямой путь в ад проходит между ног женщины – это все, что я узнал о женском поле подростком. Опять же грудь женщины ведет тебя к Вельзевулу. На самом деле, даже если ты мечтаешь о женских прелестях (губительный для души смертный грех нечистых мыслей) – это тоже прямая дорога в ад. Только брак отменяет эти правила. В этом случае секс оправдан – но продуктивный секс. В замужестве женщина достигает наивысшего положения в жизни, лежа на спине и производя детей. «Основная цель брака состоит в деторождении» – такова была догма из учебника моей жены по предмету «Замужество» за 1963 год в средней школе Св. Марии.
В этом учебнике был также параграф о мужской и женской психологии с таким перечнем «характеристик»: «Мужчины более реалистичны, а женщины более идеалистичны. Эмоционально мужчины более стабильны, женщины более склонны к эмоциям. Мужчина любит свою работу, женщина любит своего мужчину». И мое любимое: «Мужчины в большинстве случаев правы, женщины же чаще ошибаются».
Я настолько проникся этими изощренными сексистскими идеями католицизма, что в последнем классе средней школы написал экзаменационную работу о том, почему женщин не следует допускать к обучению в колледже. В конечном итоге, убедительно рассуждал я, образование им никогда не пригодится. Они поступают в колледж только для того, чтобы найти мужа. При этом они занимают без необходимости места мужчин, которым образование требуется для того, чтобы найти работу… настоящую работу. Я получил за этот проект пятерку – я хорошо освоил предмет.
Голливудские фильмы времен моего детства ни в чем не противоречили тому, чему меня учили в школе. Мужчин в них всегда изображали как активный пол, будь то ковбои, воюющие с индейцами, или солдаты на войне с Японией, или астронавт, спасающий человечество. Женщины всегда представляли собой пассивный пол, они ждали дома, готовили и заботились о детях. Они активизировались, только когда приходило письмо или телеграмма о том, что их героическим мужчинам досталась стрела, пуля или метеор. Тогда они плакали. В конце концов, они же были более склонны к эмоциям.
В дальнейшем мое незнание женщин подкреплялось тем, что я жил и работал в атмосфере, насыщенной тестостероном. Я вырос в семье, где была всего одна девочка и пять мальчиков. Сестра была на девять лет младше меня. Ничего похожего на телевизионную семейку Брейди, где дом полон юных девиц. Мне неоткуда было узнать, как вести себя с женщинами и что можно говорить им. Помнится, один из моих братьев, любителей дикой природы, на баскетбольном мяче написал: «Ненавижу девчонок. Вот кто мне нравится, так это толсторог[39]». Эта фраза достаточно точно отражает отношение мальчиков семьи Маллейн к женскому полу. Нам было уютнее в обществе четвероногих существ, нежели человеческих, обладающих X-хромосомой.
На выпускные вечера в школе я не ходил. Если и случалось заглянуть на танцы, стоял у стеночки вместе с другими зубрилами, очкариками и неудачниками, пытаясь отогнать нечистые мысли. Когда объявляли белый танец, я так и оставался у этой стены: девочки в средней школе имени Пия IX были не такими уж дурочками. За четыре старших класса я вряд ли проговорил с ними в общей сложности хотя бы пару часов. В моем выпускном альбоме не было ни одной записи от девочки. Фактически в нем была ровно одна запись от такого же очкарика, которая гласила: «Ты пропустил Корею, но есть надежда попасть во Вьетнам». Неудивительно, что, окончив школу, я был невинен, как Мария, Матерь Божья.
Вест-Пойнт в мое время был еще одним чисто мужским бастионом. Кадеты шутили, что для раствора между гранитными блоками в стене на самом деле использовалось семя. В строевой песне нашей роты K-1 были слова «мы заставляем сперму летать». Вестпойнтцы моей эры смотрели на женщин с такой же нехорошей ухмылкой, как преступники, осужденные на пожизненное заключение с возможностью освобождения через 30 лет. На «Дорожке флирта» (Flirtation Walk) на берегу Гудзона, столь романтично показанной в кинофильмах[40], было больше отработанной резины, чем на испытательной трассе шинной компании Firestone. Мой опыт в Вест-Пойнте лишь подтвердил то, чему научила католическая школа: женщина – не что иное, как сексуальный объект.
Офицерский корпус ВВС США, членом которого я стал в 1967 году, был также чисто мужским сообществом. Я ни разу не видел женщины-пилота. Вечером по средам и пятницам в заведении O'club нас развлекали стриптизерши, и военные летчики рассматривали женщину исключительно как семяприемник. И если в те времена кто-то высказывал иную позицию, то он явно собирался баллотироваться в конгресс. Возможно, женщины – с Венеры, а мужчины – с Марса, но военные летчики были родом с планеты Замедленного развития (ЗР).
Когда я первый раз переступил порог офиса Отдела астронавтов, я не имел ни малейшего понятия о том, как впишутся в нашу рабочую жизнь шесть женщин TFNG. Мое поведение и мой лексикон в их присутствии оставались теми же, что и в мужской компании. Однажды в самом начале я имел неосторожность рассказать группе новичков, среди которых была Салли Райд, анекдот, в котором фигурировало слово сиськи