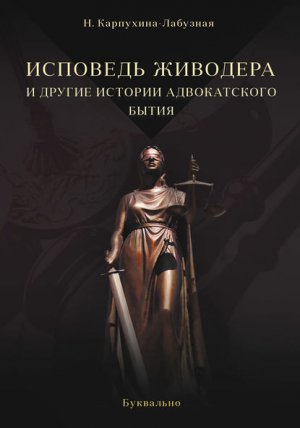
© Н. Карпухина-Лабузная, 2017 г.
© «Буквально», 2017 г.
Предисловие ко второму изданию
Я – адвокат.
Адвокатствую уже более тридцати пяти лет. Начинала в Советском Союзе, долгие двадцать три года работала на Украине, сейчас снова в России.
Поднакопилось много историй из адвокатского опыта, и я книгу издала. В издательстве ей имя придали: «Под крылом слепой богини», книжку обложкой оформили, серенькой – серенькой.
Первое издание моей книги хотя и быстро разошлось в книжной сети, но не принесло мне должного удовлетворения. И обложка была некрасива, и название имело весьма несуразное. Да и несколько историй со временем потеряли актуальность.
За годы и годы опять накопилось историй, и хочу вам поведать многое из того, что накопилось за долгие годы адвокатского опыта.
Практически в книге нет вымысла и почти все истории подлинны. Меняются времена, да не меняются люди. Новые волны поколений людских несут все те же проблемы, неудачи и юридическое незнание азов в области права.
Книга моя не ликбез для страждущих юридических знаний. Это скорее попытка показать на примере жизненных историй чего стоит ошибка, иногда стоящая жизни.
Опыт ошибок других человеков сможет вам дать опыт бесценный, как избежать этих самых ошибок. А, может, чуточку лучше стать самому.
Всегда искренна с вами, ваш адвокат Нелли Петровна.
Жених из… сугроба
Дело было вроде недавно, но и давно. Случилась эта история где-то в середине семидесятых годов прошлого столетия, в зимнем Комсомольске-на-Амуре, городе холодном, стылом, где на каждого гражданского приходилось по два зека и два армейца.
Вечером, а вечер сгущался с четырёх часов дня, когда сильно темно и на улицах страшно, идет домой гражданочка совсем замёрзшей наружности, в небогатом пальтишечке, в мохеровом беретике. Короче, спешит домой преподавательница института. Старается бежать, а ветер сносит её в подворотню. Дзёмги – район дальний, стылый, толку, что два оборонных завода рядом, всё равно, страшнотень ужасающая. Дрожит наша преподавательница и от холода и от страха. А идти-то надо!
Вдруг из сугроба окрик: «стой, бляха, паскуда!»
От страха и «ой!» то не скажешь: вылез из сугроба мужик здо-о-о-ровенный такой. С фонарный столб (если б он был бы, конечно). И орёт опять: «стой, паскуда, ты куда!». И такой у него голос «ласковый», да «нежный», что наша гражданочка со страху ни бежать, ни стоять, ни плакать не может.
Подошёл к жертве поближе, присмотрелся: бедновата нажива. Ни колечек, ни серёжек даже в отдалённом будущем не намечается, пальтецо, на что ни на есть рыбьем меху, разве что беретик модненький, да за два рубля кому мараться хочется? А отпустить – здрасьте вам, чего это ради? Не дай, бог, профессионализм потеряешь.
Ну, остается одно, весьма и весьма нескромное желание, с чем наш «фонарный столб» и пристал к милой даме, намереваясь осуществить таковое желание в ближайшем же сугробе: а где ещё прикажете тоску молодецкую зеку утолить? Ни кола у него, ни двора, негде ни выпить, ни бабу «на рыбьем меху» соблазнить.
Дамочка наша и вовсе обмерла от такого предложеньица, (господи, и дом-то совсем рядом, за углом, жалко сдохнуть так-то). Набралась смелости, повела разговоры со страху:
– Зачем же в сугробе-то, и холодно, и непривычно что то при минус 40 вашу жажду утолять, пойдёмте лучше ко мне домой, я тут рядом живу, за углом, вот мои окна на третьем этаже. Там хоть тепло…
А сугробник ей:
– Идем, паскуда. Но, если кто дома есть, убью всех.
– Да нет, – лепечет жертва, – живу я одна, мужа с год как похоронила…
Идут, ведут этакие светские беседы. Со стороны, ну, чисто пара нежная домой плетётся, наработавшись вдосталь.
Вот только ножичек в спину адреналинчик «паскуде» щекочет.
Добрались.
Щёлкнул замок, пахнуло теплом да уютом.
«Паскуда» возьми да и осмелей (о! дома-то и стены помогают):
– Может, разденетесь, чайку горячего, да и щец отведаете? Вчера варила… Да и водичка горячая завсегда у нас… Можно и попариться…
«Столб» для порядку рявкнул:
– Я тебе такую баньку кровавую устрою, милиция год отмывать будет!
Прошёлся по квартире. Вроде никого нет, телефон тоже отсутствует. Отобрал у хозяйки ключи, и пошёл в ванную.
Да и то говорить, какой русский от бани откажется! А откажется, значит, не русский, а так, крови жидковатенькой будет. А тут после мороза, да стылой зэковской жизни как в ванную под кипяточек не кинуться! Да и хозяйка бельишко мужнее подкинула чистенькое, хоть и старенькое, уютом пахнет. А не карболкой да хлоркой фельдшерской. А тут и мыло земляничное душистое, (шампунями тогда только торгаши да партийцы баловались, да начальство военторговское), и полотенце пушистое, и тапочки!!! Не кирзачи с портянками вонючими, а тапочки.
Намылся «столб», аж паром от него валит, выходит из ванны. А в ноздри бьёт запах: ей-ей, не наврала, паскуда, щами пахнет, домашними, что с сухариком да под водочку идут. Аж крякнул, то ли от восторга, то ли от смущения.
И хозяйка розой алой пылает: то ли от мороза щёки не отошли, то ли от испуга, то ли от смущения. Мужичок-то хоть и столбом фонарным всё равно смотрится, такой худой да длинный, но вроде ничего. Не шибко и страшный, глаза голубые, чуб с сединой. Не, видный мужчина, если его откормить.
А щи и правда под водочку прекрасно пошли, хозяйка для храбрости сама тяпнула, чтоб нервы от страха слегка отпустило.
Ну, знамо дело, молча сидеть не будешь: вначале она поплакалась на вдовью жизнь с тайным прицелом разжалобить мужика: может в живых-то оставит? Да и свободные уши нашлись.
Потом и он что-то буркнул, что сидеть кому разве охота? «Червонец» от звонка до звоночка. Жил, как все, работал, пахал. Как все, получку домой без заначки жене носил. Но был не как все, любил её сильно. Раз в смену не встал, домой отпросился за ерундой какой-то. Сейчас и не вспомнить. А дома – здрасьте вам! Какой-то хмырь с его жёнушкой драгоценной, с которой он пылиночки сдувал, в постели кувыркается. Ну и жахнул их обоих. Насмерть и быстро, чтобы долго не мучались.
Хорошо, судья мужиком оказался и всего навсего «червонец» накинул. «Кивалы» (народные, по-вашему, заседатели) и не пикнули. Тоже в жизни всего, видать, нахлебались. Были бы бабы, по высшей мере наказания я бы пошёл, под расстрел. Да Бог миловал. Ну. Вышел сегодня. А хаты то нет, работы нет, стужа лютая всю душу выстуживает. Ну и решил: чем в сугробе замерзать сладкой смертью, лучше грабануть кого: всё «на зоне» теплее. Привычнее. За десять лет, что отсидку петерпел, привык к баланде и к порядкам на зоне.
Хозяйка, как про «червонец» услышала, все надежды на побег да крики о помощи оставила, смирилась, махнула рукой. Будь, что там будет!
Ну и было конечно, куда деваться. А некуда! Ключи – у «столба», окна – так обе рамы законопачены от стужи, да плёнкой затянуты от ветра буранного. Телефона и то сроду не было. Да и «столбик» не шибко на убийцу-разбойника похож.
Утром проснулся наш «сугробник». Хозяйки нет, стылое солнце в окошки льёт, пробивается, да на столе записка под ключами: «буду вечером, сходи за хлебом». Ключи на столе, а под ними «червонец».
Таёжная байка
Путине рады все. Кроме, конечно, самой кеты, издалека за тысячи морей и океанов приползавшей в светлые чистые горные воды Дальнего Востока умирать, дав жизнь миллиардам икринок.
Радость путины, это азарт и азарт, в погоне за икрой, где все средства добычи драгоценных икринок сгодятся.
Трое дилетантов, проживших немного в таёжных условиях и возомнивших себя только что не дерсу узала местного разлива, отправились в тайгу – добывать благословенной икры. Экипировка была несложной: три ружьишка, лодка-долблёнка, по случаю купленная у нанайца за две бутылки водки, рюкзаки с нехитрым харчем, вот и все снаряжение. И, самое главное, драгоценная в пору путины валюта – каменная соль.
Окрылённые добычей, а они икру брали так, что лодка дала осадку больше чем надобно, ночью не стали спать у сырой водицы, а перебрались под сопку, где у валежника и спать было приятней, и поспокойней от таёжного лиха.
Ранний рассвет принёс первое горе: кто-то из недобрых таёжных лихоманцев спёр лодку со всем снаряженьем, и, что особенно больно, с солью. Похлопали руками, поматерились от души для согрева, и отправились вниз по реке. Река завсегда к людским покоям вынесет.
Мокрая глина скользила под ногами, галька под ногами противно скворчала, а всё-таки шли. А не пойдёшь, так сдохнешь от холода, голода, а всего более, от тоски. И могилы в тайге от тебя не останется: таёжные твари съедят всё до косточки. Потому и брели охотнички за икрой, злые до того, что было не до разговору иль мата.
Самый старший, мужик в самом расцвете своих двадцати пяти лет, со статью Шварценеггера, услышал детский писк. «Откуда здесь дети?».
Недоумение быстро прошло: увидел в горной речушке, дно которой мелко-мелко усыпано галькой, мальца-медвежонка. Он всеми своими силёнками стремился вырваться из плена воды, но та, мало что речка была неглубока, от силы полметра, в быстроте своих струй несла все: кету и какие-то брёвна, заодно зацепила и понесла и малого медведя.
Малыш что есть силы пищал, ну совсем как пятилетний пацан, нашкодивший и от шкоды своей натерпевшийся так, что больно и стыдно, – а надо на помощь кого-то позвать. Второй, что был поразумнее, метался по берегу, подрыкивая братцу в помощь надежды.
Наш добряк кинулся в воду спасать медвежонка. Его сотоварищи с наслаждением цирка наблюдали картину: их помощь рослому мужику вроде не надобна, а среди надоедливой скуки хождения по гальке сырой скудное зрелище было им в радость.
Грозный рык свирепевшего зверя осадил добряка в метрах трёх от мальца: вставшая на дыбы медведиха пасть ещё не закрыла, как двое невольных свидетелей в миг, за долю секунды, были на сопке. На сей раз мокрая глина помехой им не была. Оттуда, с высоты сопки-утёса, отвесные склоны которой входили в самую реку, они досмотрели таёжную драму.
Медведица качнулась в сторону врага, посмевшего подойти к её медвежонку. Ещё шаг-полтора, и рассвирепевшая туша двухэтажной мамаши разорвала бы удальца, но очумелый последний взвизг детёныша метнул её в реку. Выхватив сына из плена реки, она в точности как злая мамаша, лапой отшлёпала шкодника – «героя».
Тот взвыл уже от обиды, на скользком бережку почесал больное место дрожащею лапкой. Мать рыкнула ещё раз, тот кинулся к брату. Второй брат отпрыгнул в сторонку: мамаша под горячую руку могла и ему подкинуть «ласковой» трёпки.
Медвежата дружно закосолапили к бурелому, мамаша обернулась во вражью сторону. Спаситель отечества стоял уже среди сотоварищей на сопке.
Мамаша, тяжело вздохнув, потрусила за сыновьями на всех четырёх своих лапах, даже не обернувшись в сторону таёжных злодеев.
Как потом мне признавался неудачливый спаситель медвежонка, он сам не понял, как взобрался по мокрой, до невозможности скользкой глине, на сопки вершину за миг или два.
Хоть убейте, не помнил. И повторить ещё раз такой скачок решился б едва ли. Только всё повторял: «представляете, во мне чуть не два метра, а я стою перед ней, как пацан перед дядей. Выше меня головы на три или две. Не, я не вру, не со страха так показалось! Здоровенная баба, а пасть!!» И жестами показал, какая громадная пасть у медведицы.
Кстати, в тайгу они уже не ходили.
Коза
(Рассказ спецназовца)
Когда за одним столом собрались незнакомые люди, и, как говорится, хорошо пошло и вино, и нехитрая закусь, собранная от души радушной хозяйкой, да еще молодой и красивой, и самое главное – люди за столом не какой-то там «нужник», а просто хорошие люди, как-то незаметно раскрываются души, и многое о человеке поведает его нехитрая быль – бывальщина о себе.
При внешнем взгляде один из гостей, этакий крепыш в кроссовках, то ли бандит в отставке, то ли мент, лицо круглое, речь изысками явно не блещет, и глаза на мушке любого держат, такой впечатления матери Терезы явно не вызывал.
Но рассказ его, не ради гордого «во я какой!», а так, чтоб паузу заполнить в разговоре, я постараюсь передать, как он есть.
«Служил я в Косово, в нашем, то есть украинском, спецназе. Под голубых (не тех!) беретов мы косили. Интересный там край. И вроде похож на мою родную тернопольщину и непохож вовсе. Больше на Крым нынешний похоже, много чёрненьких лиц, и одеваются, ну навроде как у вас татары. Сербы те чисто по-нашему говорят, мы с ними скоро братками стали, у нас братаны, у них братки да другари. Чего ж не понять. И люди у них бесхитростные и красивые очень. Ну, нам-то все равно, кого от кого защищать. Задача была простая – мир сохранить, ну мы и сами в драки не лезли, и им драться не давали, тем более что все чёрненькие одинаковыми вначале показались. Где понять, кто серб, а кто албанец. Потом уже разбираться стали, как пообвыкли.
Я уж говорил, что народ там весь красивый, а девчонки! ну, я вам скажу! Аж оторопь берет. Не, мы ни-ни, кому под трибунал идти охота. Я к тому, что идет такая девчушка, что фигура, что личико ровно ангел. Если не улыбнётся.
– Почему?
– А вот скажите. Какой там самый дефицитный товар? Не, не бомбы или пушки. Этого добра там хватало. И не колготки там или бельишко, хотя мы потихоньку и приторговывали. Жрать-то хотелось, это немцам да англичанам отваливали с НАТО полные карманы баксов и жратвы хватало. А нам, так, кинут кусок, чтобы с голоду не подохли. Да имидж свой ср…й поддержать. Извиняюсь, женщины (и взгляд в сторону хозяйки-молодицы лукавый).
Так вот, самый ходовой товар, это соль, ага-ага, соль, но йодированная. За двадцать баксов один килограмм уходил, и с руками отрывали. Местность там горная, вода холодная, а вот йода маловато. Идёт такая девчушка, ну просто пишет, а как улыбнется – все зубы чёрные, съеденные. Жуть вначале брала, потом попривыкли.
Наш украинский отряд с деревень все, на молоке да сале вскормленные, зубами камни могли грызть, не то, что бутылки открывать! А тут – девчонке лет этак двенадцать, и чёрные колья, а не зубки, во рту торчат. Жалко их было.
Ну, так вот, дислокацию нам определили как раз посреди села. По левую сторонку – сербы, по правую – мусульмане. Ну и мы, как конфеты в проруби, то налево, то направо болтались. Я с братаном в албанском доме определился. Семья как семья: старик (молодые-то все мужики воевали), да бабьё при нем вертится. То есть старуха его, дочка и две внучки. Такие девчушки смугленькие да черноглазенькие, аж белки глаз с желтизной, ну шустрые, прям, не передать. Одной где-то годка четыре, другой ещё меньше, только лопотать научилась. Худенькие такие, сразу видно, не шибко часто есть им приходилось.
Мы их, конечно, сразу подкармливать стали, жалко ведь. И всё равно, худющие такие, ну чисто скелетики. Потом, когда старуха нас перестала бояться, рассказала, что обе они болезнью Боткина переболели, старшая так аж четыре раза. Во дела! Что война с народом делает!
Ну, дали, мне это, в воскресенье увольнение в город (шмотками да солью спекульнуть, короче), сел я на БТР и погнал за 20 км. Вечером тем же макаром назад, но уже не сам, а с козой. Я её на соль выменял.
Ну, что коза воняет, вы знаете? Так вы мало знаете, не за столом будь сказано. Я потом три дня отстирывался да отмывался. Ребята в БТРе то матом меня, то шуточками доставали: «что, братан, под трибунал за девок идти не хочешь, так на невинной козе отыгрываться вздумал?». Достали прямо, гады. А мне, что, за БТРом её гнать, что ли, на 80 км скорости?
Ну, привез ту козу, отдал старухе. Козье-то молоко оно от всех болячек лечит. Бабка ту козу на балконе держала: боялась даже на улицу выпустить, так берегла.
Одно приятно: мы, когда домой уезжали, нас вся улица провожала. А бабка то плакала, то козу целовала. Умора. Да, а что девчонки болеть перестали, это точно…»
Все мы, бабы, стервы…
(строчка из некогда популярной песенки)
История «Тани Первой»
Был один период, когда мне «везло» на странные обстоятельства. Если выпадала защита лиц мужского пола и в сравнительно одномоментный период, то почему это были дела именно по убийствам и подзащитных звали одинаково, например, Анатолиями.
Об этом потом расскажу, дождитесь.
А теперь память выцепила две истории двух женщин, совершивших убийства. В обоих случаях причинения смерти жестокие и бессмысленные. Женщин-убийц было двое, они совершенно разные, но с одинаковыми именами. Назывались Татьянами.
Таня «первая», назовем её так, была дамой не первой свежести и молодости, не совсем красавицей, но с каким то странным шармом, которым пользовалась совершенно таки беззастенчиво, ничуть не стыдливо.
В свои почти сорок обладала прекрасной фигурой. Косметику доставала обалденную и тряпки подбирала со вкусом. Жила не то чтобы на широкую ногу, но очень красиво. В её понятии красиво, это ежевечерне по ресторанам в компании молодых красоток и дешёвых джентльменов прокутывать денежки. Вовсе я не собираюсь читать ей или кому бы то ни было морали и нотации, я лишь сухо излагаю факты, упрямую вещь.
Вместе с тем она воспитала хорошего сына. На момент нашей истории служившего в армии в дружественной тогда Германии.
А у Татьяны появился новый «друг». Рослый детина лет на десять её моложе, вовсе не из ресторанной гульбы прыгнувший в её уж очень гостеприимную постель, а из соседнего подъезда обычнейшей пятиэтажки. Жить стали почти хорошо, даже затеяли ремонт квартирки (конечно, Татьяниной). Почти, потому что родители взрослого баловня были дико против странного содружества перезрелой красотки, мораль которой уж очень напоминала номинал трехрублевой купюры, и большого увальня, которому очень пошла бы молоденькая жена с младенцем на руках. Но Татьяна умела держать мужчин в руках. Это был тот еще опыт!
Было воскресенье, банальное серенькое воскресенье маленького пыльного степного крымского городка, летом утопавшего в зное, зимой скучавшего в слякоти буден и мрачной громады химзавода. Раз воскресенье, значит, душа просит жизни, т. е. выпивки с утра, если ты не заядлый дачник, и не работаешь в смену. Танечка, так её почему-то звали все мужчины нашего городка, от начальства до приблатненного сосунка, и исключением был лишь судья. Тот был совершенно официален «подсудимая Татьяна Парова».
Но судья был потом, а сейчас Танечка и молодой сожитель «слегка» выпили на маленькой кухне. В гости зашел очередной скучающий денди по жизни, выпили и с ним. Выпили, поговорили. Ну, не о Кафке там или Сенеке с Эразмом Роттердамским вкупе разговор повели. Дай бог, чтоб Чуковского да Маршака ещё помнили. Как всегда, говорили, кто с кем куда пошел, кто что купил, где что «дают». Обыкновеннейшие разговоры обыкновеннейшей серенькой плесени, которая есть и будет всегда в любом городе или селе любой страны и века любого.
Так вот, при разговоре, кто что купил да как что достал, некстати Танечка уж сильно стала заострять вопрос, куда это её дружок дел-подевал плитку кафельную, которую она с таким трудом добыла на заводе. Гость сидел весьма индифферентно: что ему до какой там плитки. И не заметил момент, о котором потом уж очень сильно сокрушался, что такой момент упустил, в кино ходить не надо. Прозевал он момент, как Татьяна одним единственным ударом, практически не целясь, а как бы слегка, чуть не играючи, «завалила» сожителя насмерть. Дружок её только успел сказать «Таня, спасибо», и умер. Один удар ножа, он сразу попал ему в сердце.
Татьяна сама вызвала «скорую», ибо гостенёк смылся от греха подальше, сама вызвала милицию. Можно сказать, почти протрезвела.
Следствие вела молодой, но очень талантливый следователь прокуратуры по имени, кстати, Татьяна. Это я так, к разговору о случайностях имён. Следствие велось по-честному, не предвзято. Вы будете смеяться, но Татьяну даже не арестовали. И не талант адвоката сработал при этом, а очередная случайность, из которых, собственно, и состоит наша жизнь (или смерть).
Когда Татьяну привезли в милицию и речь шла об аресте, а дело было то ли под Новый год то ли на 8 Марта, и было холодно. Так на нашей Танечке шубка была норковая. В те времена норковая шубка на женщине, что муж-президент страны сейчас: всем хочется, да одной достаётся.
Вот эта норочка Танечке и помогла. В те злополучные дни замещала прокурора старший его помощник. Кстати, Татьяна, однако, по имени. Я фамилии подлинные утаить обязуюсь, но имена пусть будут у нас настоящие.
Побоялась Татьяна-прокурор арестовывать Татьяну-убийцу: вдруг шубка исчезнет или кто крамолу напишет, что ей шубку подсунули как взятку. Тогда никакой честнейший человек не отмоется.
Вот и решила Танечку отпустить дня на три, а уж потом арестовать, но уже без шубки.
Но арестовала уже не она, и не скоро.
Почти полгода прошло. Танечка нагулялась до одури, с упоением отбивая мужей у жен, добралась до соседнего городочка, ресторанные её загулы гремели в сплетнях всех кумушек. Пропивала да проедала свое золотишко и камушки, заодно и шубку сторганула местной барыге. Добралась и до квартиры.
Лопнуло тут терпение судейское. А дело уже к тому времени поступило на стол судьи. Только тогда Танечку взяли «за жабры».
Дали ей много. И правильно дали. Ни раскаяния тебе, ни покаяния перед старенькими родителями молодого сожителя, ни совести мизерной.
Даже как-то жалко было эту дуру перезрелую. Прожгла, как сигарету, жизнь единственную, а вспомнить только гульки можно да шубочку норковую.
Хорошо ещё, что квартиру не пропила, хотя страшно хотела. Вот был бы сюрпризик к дембелю сыну единственному, умнице славному. А сильно хотела, вы уж мне поверьте!
Да, история вышла с моралью…
История вторая. Таня странная
Работу свою люблю, защищая убийц, готова возиться с делом подолгу. Душа человеческая – странная штука, и среди убийц тоже есть люди. Иноди которых уважаешь больше, чем иного прокурора. Не кривитесь, пожалуйста.
Вы знавали прокуроров, торговавших наркотой в агромадных количествах? А я знаю.
Или ментов, забивающих пацанов чуть не до смерти? И такие уроды мне тоже знакомы.
Так что тезис, что «убийцы тоже есть люди», очень даже имеет место быть.
И лишь одно дело по убийству вспоминаю с содроганием: Тани второй, Тани странной.
Аккурат шестого марта, когда все нормальные люди на работе собираются за официальной и неофициальной частью пить «за милых дам», мы, группа юристов, выдернутых от праздничного стола, выехали в село, пусть не в пригороде, но большое, с собственным ж/д вокзалом. И каналом, что поблизу села зарос камышами.
Вот в тех камышах и нашли трупик младенца, девчушки двухмесячной. Сам прокурор района тот трупик нашел. У меня даже есть фотография, где мы рассматриваем труп ребенка. Девочка, что кукла: разве что глазки закрыты. А так кукла, хорошенькая и голенькая.
Первая мысль: ребенок замёрз? Начало марта это вам не конец июня, пусть даже в Крыму. Вторая – кто это? Что за изверг рода человеческого так с младенцем-то поступил?
Ответ оказался и страшен, и прост. Мать. Не приемная. Родненькая.
Жила-была в селе том семья: свекровь, сын её с женой Танечкой и доченькой – Маринкой. Маринке было почти полтора года, когда Таня родила вторую дочь. Семья жила очень обычно ни богато, ни бедно, свекровь с невесткой ни мирились, ни дрались. Жили, как все. Татьяна сидела в декретном отпуске с двумя девочками, свекровь хозяйством занималась да копейку в дом добывала, муж Татьяны на двух работах вкалывал. Пелёнки-распашонки и сейчас дорого стоят.
Вдруг в селе суматоха: у Тани дочка пропала, младшая, прямо из коляски кто-то ребёнка вытащил да удрал. Как она рассказала, она на станцию в буфет собралась к празднику дефицита прикупить, да мужу талоны на сигареты отоварить, а коляску с ребеночком у буфета оставила. Потолкалась там в очереди, с подружками покалякала. Вышла из магазинчика, а ребёночка-то и нет! И колясочки – тоже.
Мы иногда милицию в сердцах ругаем, что и такая она и сякая, не дозовешься, хоть убей! Но будем объективны: в нашем случае менты трое суток не спали, перекрыли все дороги, проверили все поезда, идущие и на Джанкой, и из Джанкоя, перетрусили всех цыганок в округе.
Попусту. Ребёнок как в воду канул.
Участковый того села, матерщинник жуткий и грубиян нещадный, враг всех бабок-самогонщиц ещё со времен горбачевского сухого закона, в те дни спал с лица от трех бессонных ночей, от погони за мифическими цыганами, якобы укравшими младенца. Вся милиция района «авралила». Всё было тщетно!
Татьяна «прокололась» на мелочи. И расколол её все тот же дотошный участковый (так хочется назвать вам его фамилию да внешность описать, но не буду. Нельзя.)
При повторном допросе буфетчицы, бабы жизнью потёрханной, и потому пьющей, она призналась, что в тот злополучный день она вовсе буфет не открывала. На её взгляд, причина была уважительной. Перебрала накануне малость самогончика, а признаться в грехе постеснялась. Понятно, раз участковый доймёт с самогоном, и начальство с работы попросит «по собственному» за прогул.
Так Татьяну к стенке прижали: где дитё подевала?
И абсолютно спокойно, совсем абсолютно, как о чужом, она говорила, что довезла девочку до канала, раздела спящую почти догола, и на воду её, сонную, положила. Дитё от холодной воды тихо заплакало, мать, ни разу не обернувшись, удалилась в деревню. Ей нужно было разыгрывать сцену киднаппинга. Про алиби даже она слышала.
Вот так, суток так через двое, при следственном эксперименте мы ребенка-то и обнаружили. Вернее, нашёл прокурор. Лазил по берегу, в камыши залезал, и увидел, что трупик ребёнка к берегу прибило. Застрял в камышах невинный младенец, лёгкое одеяльце застряло в камышах.
Как колотило участкового, я передать вам не могу, равно как передать не могу его уж вовсе ненормативную лексику. Прокурор при внешнем бесстрастии внутренне тоже кипел так, аж руки дрожали, когда осмотр трупа производил. И только прикрикнул на участкового: спокойнее надо, спокойнее! Да уж. Обычным своим юморком он в тот день явно похвастаться не мог.
Трупик ребеночка завернули в целлофан и отвезли в ближний морг, на экспертизу. Может, ребенка чем отравили, а уж потом утопили, или какая иная причина смерти? Ответ эксперта был однозначен: «смерть наступила от переохлаждения + ребенок наглотался воды». До смерти нахлебалось дитё водицы студёной днепровской, с канала.
Всё время, пока шел и следственный эксперимент, и осмотр тела, и по дороге в ИВС (изолятор временного содержания при милиции) Татьяна была спокойна, очень даже спокойна, как-то даже отстраненно равнодушна.
И, наверно, первое, что сделал следователь, это назначил ей экспертизу. Ну не может же быть нормальной мать, у которой ухоженный пухленький младенец, с аккуратно обработанным зелёнкой пупочком от руки её погибает!
Экспертиза была однозначной: Татьяна вменяема! Не Спиноза или дебил, просто обыкновенно вменяема.
Все прекрасно понимала мать. И когда топила собственное дитя, и когда милиции и следователю врала, и когда ребёнка из воды вынимали – всё понимала.
И была спокойна. Спокойна была. Спокойно смотрела, как дочь вынимают из камышей, спокойно смотрела, как первичный осмотр тела ведётся экспертом, спокойно смотрела, как трупик заворачивают в целлофан и увозят в милицейском уазике.
Нет. Не подумайте, она была не камень. И смеяться и плакать умела. И даже негодовать, когда я просила отстранить меня от защиты. Сама мать, я при таких условиях не могла объективно относиться к защите, о чем честно и следователю, и Татьяне говорила. Так именно Татьяна возмутилась моим поступком: как это вы смеете отказываться от защиты?!.
Чужая душа – потёмки, а Танина – мрачная ночь. Не добились от нее истины ни на следствии, ни в суде. Суд был открытым. И в клубе села, где шло заседание, люди были готовы суд Линча Татьяне устроить (наверно, и мне бы досталось, на их взгляд и правильно), если бы не утроенный наряд милиции с нешуточными автоматами наперевес.
Дали ей срок. В колонии, где много убийц и садисток, бабы Татьяну чуть насмерть не разорвали, как только вести о статье её и сроке дошли. Для нас не секрет, что тюремный «интернет» работает лучше какого-том там Билла Гейтса! Так там ее «полюбили» за содеянное ею зверство. Сами убийцы, на воле никого не жалевшие (кстати, собственных детей – тоже), они Татьяну на дух не приняли. И – поделом.
Но вот что было странным.
Когда я писала, что Татьяна и плакать умеет, я не то имела в виду, что за собственную жизнь и срок она переживает, или за мужа страдает.
Иное.
При любой встрече она с жадностью и плачем просила: «как там Марина? У неё же аллергия на гречку! Как свекровь, не обижает дочурку? А в ясельки водят?». И вовсе чудное несла: принесите мне Марину, хоть на часок. Я же – мать!
И плакала. Искренне.
Дуки
Давным-давно, ещё в советские времена, годку так к концу семидесятых, горела тайга. На Дальнем Востоке вещь очень даже обыкновенная. Ну, горит себе, и горит. Пожарные маются. Даже вертолетами военными тушат очаги возгорания. А тайга всё горит и горит. По народу слухи ползут: подожгли тайгу злые люди: что там в пекле сорокаградусной июльской жары поднести спичку к старому мху? И уже заревел таёжный ветер, и горит всё кругом стоном и бурей огня.
Так докатился огонь и до людских мест. Тут начальство шибко забеспокоилось. Не за людей простых, нет, а за воинские части и склады.
Случившуюся историю мне рассказали два очевидца, вернее, две очевидицы. Они были членами комиссии по пожаротушению. одна из них волею случая, моя старая школьная подруга, работавшая к тому времени в краевой прокуратуре, вторая была членом какого-то там комитета комсомола.
Так вот, собрали их в пожарном таки порядке, погрузили на самолет и повезли в тайгу акты составлять.
Вечером добрались они ко мне домой, провонявшие дымом, и за ужином, сытно поев и приняв с устатку и от нервов пару стаканчиков, по «свежачку» делились впечатлениями. Кстати, наутро, уже протрезвев, наотрез отказались от вчерашних историй. Партийные!
Итак, горело село Дуки. Село как село, не большое и не маленькое, вокруг села того множество воинских частей, в глухой тайге стерегших всякое разное военное имущество. Были там и склады с оружием да боеприпасами.
Так вот те самые боеприпасы и начали взрываться сами по себе: от большой температуры снаружи. Снаряды типа «катюши» или «града» взрывали с диким воем всё вокруг себя, забирая новые и новые километры земли. Тайга горела всё сильнее и сильнее.
Так горела, что в этом селе в подвале!!! у какого-то мужичонки сгорел мотоцикл. Не образно, а сгорел до последней железки.
Люди спасались одним: стояли по пояс в речной воде, обычно ледяно-прозрачной до такой степени, что устоять в ней никто не мог, выскакивая с дикими визгами из мелкой воды.
А тут все село стоит по горло в воде, теплой и вовсе уже не прозрачной: спасаются люди!
Забыла сказать, что село располагалось по одну сторону речки.
По другую сторону реки стояло старинное село старообрядцев, в далёких мраках веков спасавшиеся от петровских солдат за свою веру в старые обряды русской церкви. Уклад жизни их вовсе не тот, что у нас. И в обычае водку не пить, детей мать рожает, сколько ей Бог ниспослал, старших почитают, работают так, что до седьмого пота. Не сквернословят. Обычаев своих держатся крепко, очень даже крепко. Если какая девушка и полюбит старообрядца (что вовсе не диво: высоки, красивы, мужественны и ладны парни у них), то должна по замужестве принять их обычаи и веру, конечно.
Так вот, село их стояло по ту сторону реки.
Когда огонь, которого рев уже не только что был слышен, но и виден вблизи, подобрался к селу, наш народ, как я уже говорила, встал в реку по головку.
Старые же, по старинному обряду живущие, вышли все из домов. Впереди шли старухи, что древности древней, несли впереди себя икону Божьей Матери, за старухами с пением старинных псалмов двигалось всё село, и стар и млад. Обошли крестным ходом вокруг своих жилищ раза три, и стали ждать милости Божьей. Или гнева Его.
Село, что торчало в воде по самое горло, от нечего делать следило, как кино смотрело, на эту диковину. И как они хохотали, как хохотали! И, правда, чудным им казалась кучка старух, из которых песок на ходу высыпался, да детки малые, что дискантами пели псалмы, да здоровенные бабы с младенцами на руках, обходят своё поселение в иконой в руках. Диво смешное! Чего не поржать: вокруг-то круговой стеной – огонь! Пламя, что выше кедра и, кажется, неба, ветер и снаряды, что воют как ветер. А они, они-то, они вокруг деревянных избушек ходят с иконой.
Некоторые, что сердобольнее были других, звали их и кричали, чтобы к речке спускались. Но те их не слыша, совершали свой странный обряд.
В тот день заживо сгорело несколько солдат, охранявших склады, погибли и несколько жителей села, что не осторожны были с огнем.
А что старые люди, старообрядцы?
Ни один снаряд, ни одна головёшка, ни один уголёк не упал на их сторону реки!
НИ ОДИН!
Ни одна деревянная изба даже не затлела, не то чтобы задымилась. Ни одной жертвы не было из их села. Ни одной! Кашляли, да, задыхаясь от едкого дыма. Так тайга же горела, а не просто спичка в руках дурака.
Из песни слова не выкинешь – так это было!
К чему это я вспоминаю средь баек адвокатского жития-бытия?
Да просто всё решается там, на небесах, и просящему – да откроется, да молящему «пощади!» пощада придёт!
Всё будет по вере вашей.
Про любовь
Приходит ко мне на прием одна из работниц, из рабского племени заводских ударниц, пахавших так, как не всякий мужик-то и сможет.
Измождённое тельце, жилистые руки никак не добавляли шарму раскосой внешности, а ранние от забот морщинки добивали последние остатки женственности. Добавьте сюда кривые ножонки, хриплый кашель курильщицы «беломорины», и портрет «нефертити» готов.
Пришла с жалобой на родного муженька, который избил её, как последнюю собаку. За что избил, молчала, зато красочно, с наслаждением надрываясь и вопия про свои многочисленные следы мужниной ласки, поносила его, на чём свет стоит, требуя от меня, раз уж я на заводе «даром груши околачиваю», написать заявление в милицию. На муженька. Делать нечего. Я написала. Счастливая бабёнка понеслась восвояси относить заявление по принадлежности, а мудрая кадровичка Татьяна Ивановна, сама немало терпевшая от мужа-алкаша, поведала мне обычную их историю, историю «нефертити» и её непутевого.
Познакомились, знамо дело, на этом самом заводе, где этот, тогда еще совсем уже холостой мужик работал, отбывая повинность: завод часто приглашал на тяжкий труд сидельцев колонии, что была почти рядом.
Отношение к зэкам на Дальнем Востоке (а дело происходило в Комсомольске-на-Амуре) было обычным: местный люд всегда смотрел не на статью, которой пришибли человека, а на него самого: чем славен, каков он на деле.
Выносливый люд, а попробуй-ка не быть выносливым при 40-ка градусном с ураганным ветрюганом морозе отпахать полную смену, да протрястись потом в насквозь промёрзшем вагоне трамвая часик до дому, да настояться в очередях за куском промёрзшей же колбасы «варенки», тут или сдохнешь, или станешь как як тибетский, станешь выносливым и терпеливым. И таким же мохнатым.
Тогда в Комсомольске и в ближайшей округе сносили бараки, где сидели все, и политические, и совсем уже остервенелый уголовный народец. На том самом месте, где стояла пятиэтажка, где я жила с лакомой для соседей температурой в квартире +13, лет десять как снесли бараки с колючей огорожей, где сидели политические.
Живы были еще и старожилы, местные комсомольцы и хетагуровки, то бабьё, что по зову ни разу не жившей на ДВ командирши Хетагуровой поехало на дальние берега холодного моря искать себе заработок, да и судьбу. Замуж там выходили мгновенно, только что не с поезда в загсы скакали, так как очередь на девиц у застоялых мужиков была агромадной. И не смотрели на красоты девичьи, длинные косы у избранницы или нет. Тут и перманент дешевенький местной «прости господи» сходил за парижскую этуаль.
На нашем заводишке доживала старость местная знаменитость, Полина Ивановна Зильберберг, которая сама мне рассказывала, как до войны она девчонкой с местною ребятней носила в колонию, что была на месте моего дома, то землянику, то бруснику, а то чуть не простую траву. Политические голодали так, что около лагеря ни одной травинки на метр или два не было: как руки дотягивались, было выедено. Да, люди ели траву, с тех пор там пошло в обычай название «подножный корм». Юмор у политических был всегда на высотах необозримых.
Говорила бесстрашная Зильберберг, что если бы охрана поймала кого из ребят, лагерь для малолетних преступников всегда стоял наготове принять постояльцев лет так на десять «без права переписки».
Немногие выжившие ада лагерей оставались жить тут же в холодном дыму чадивших заводов и фабрик. Путь на Большую Землю был надолго заказан, а здесь пообвыкшись, можно было худо-бедно хоть как то прожить.
Оседали и уголовники, особенно те, что за украденный колосок получали по десять лет каторги. Им домой ехать было зазорно, деревня по ту сторону Урала не воспринимала сидельцев, как своих, города им были чужды. Вот и оставались на Дальнем Востоке. Работать привыкли, житьишко давали. Так чего и не жить?
Природа зачаровывала. Необозримые дали тайги, редкие поселения (съездить в гости за 300 километров было запросто, это и расстоянием-то не считали) принимали люд за своих. Так вот и множился Дальний Восток, впитывая в себя и людскую элиту, и те же отбросы советской цивилизации: ну какая же цивилизация без мусора?
Наш герой отсидел много позже, уже в 60-х миновавшего столетия, но менталитет народа не изменился. Каков ты человек, таковым тебя и примут в народе.
А потому и замуж выходить за зэка было не страшно, абы человек хорошим был, а не его статья, так как юридической эквилибристке умных статей никто и не верил: грозная 58-я за измену Родине на поверку оказывалась чтением есенинского «Шаганэ ты моя, Шаганэ» или анекдотом про партию.
А мужичок наш сидел за убийство: пришёл как-то вечером в дом, наработавшись смену, а там родненькая женушка на кроватушке с посторонним красавцем не азбуку Морзе изучает или разрешённые к тому времени есенинские строки декламирует, а вовсе даже наоборот, не до стихов им было или морзянки. Ну, и порешил наш отважный того мужичка, что без спросу и ведома женой его пользовался, как своей.
Его посадили, жена развелась, двое парнишек в детдоме страдали (матушка родненькая после суда и о них беспокоиться перестала). В колонии Комсомольска за ударный труд его перевели на каторжный труд, то есть к нам, на завод, где он и встретил свою вторую супругу. Ну ту, что ко мне приходила.
Обросли скарбьём да жилищем: землянки-бараки, что после зэков пооставались, народ приспособил под комнатушки, абы было тепло. Парнишек обоих, его сыновей, наша красавица привезла из детдома, прикипела к ним сердцем, как к родной кровинке. Сама родить не могла, от тяжёлого труда что-то там с маткой было неверно. Так вот и жили, пока муж её не избил.
В этот же день пришел ко мне и сам герой этой новеллы: красивый мужик лет сорока, спокойный-спокойный. Вот именно такие тихони спокойные терпят, терпят, ещё раз потерпят. Потом – раз! И в тюрьму лет на десять. Поведал он мне, за что жёнку избил. Оказалось, за дело.
Его-то в семью отпускали только по выходным: лагерь есть лагерь! а жёнка его сыновей поднимала, борщи им варила да бельишко стирала.
Старший из пацанов, было ему лет так тринадцать, залез в чью-то хату, и штось у когось своровал. Люди, что от воровства того потерпели, не стали носиться по милициям та прокурорам, а пришли в субботу к отцу, где вся правда голой своей прямотой и указала, как сейчас бы сказали, на недостатки семейного воспитания.
Ну, папаша, по совместительству муж «нефертити», и выдал и сыну, и матери (мачехой её обзывать даже самая злая из сплетниц прав не имела) так, что ей два ребра поломал, парнишку же чуть не убил. Лейтмотивом расправы было одно: я сам вот сижу и никак не хочу, чтоб сыновья мои тоже сидели.
Мужик-то был прав, что тут расскажешь! А всё равно за побои жене отвечать бы пришлось, срок намотали бы снова и много.
Что я могла, желторотый юрист, ему насоветовать? Он и ушёл восвояси.
А наутро прискакала его родная женушка: как бы заявление-то из милиции назад забрать?
На моё невинное «так он же вас чуть не убил», она мне ответила фразой, которую я помню навек: «так ведь не убил же!».
А вы знаете крепче любовь?
Кстати, он всё-таки сел. Не за семейную жизнь претерпел, а чисто по глупости. Дали немного, всего года три. Просто прибавили срок отбывания. Он всё так же работал у нас на заводе, правда, в бригаде другой. А срок получил, так как боролся за правду. Методы применил, какие ему были привычны. Суть дела в том, что бригаду его обделили премией и зарплатой. Мастерица из вольных так постаралась. Уж и не знаю за что она взъелась на эту бригаду. Может, причиной чистая зависть к пригожему бригадиру: чего он живёт с уродкой, когда такая красавица рядом? Уж и не знаю. Короче, взъелась бабёнка, и точка. Премию не дала, в зарплате урезала. И чисто так сделала, не придёрешься. Выкопала замшелую инструкцию, что зекам премии не положены. Это – раз. Придралась, что полностью смену они не отработали, как положено. Потому и зарплату урезала. Это два. И плевать ей на то, что за ними, то есть зэков бригадой, раньше приехала машина колонии. А им что? За не прибытие в зону срок самим себе пришивать, или раньше с работы уйти? А мастер та, чисто по советским законам, была права.
И что сделал мужик? А принародно ей показал то, чем некоторые мужики сильно гордятся. То есть обнажил перед ней своё, и чисто своё достоинство, чисто мужское, и, так сказать, как потом выражалась судья, «в приподнятом положении». Да еще и матами (а куда же без них, без родименьких) ей объяснил, что не получит она от него то, чего так сильно просила. Так хоть пусть посмотрит на это красивое зрелище.
Та посмотрела. И заявление подала.
И дали срок мужику, «хулиганку» пришили, дескать, с особым цинизмом действовал бригадир. Процесс был открытым, тогда так любили. Народ собрался со всех смен. Сидели на стульях, сидели на окнах, сидели прям на полу. Мастерица плакала и даже рыдала. Ей сочувствовал прокурор. И больше никто. Даже судья и народные заседатели, мужички истинно из народа. Наверное, потому и дали ему срок минимальный.
Ну, а жена подсудимого бригадира? Кричала, что будет ждать, что вместе срок отсидят. И ждала. И парней поднимала.
Помните, я говорила, что истории подлинные? Так вот, лет этак через много, к нам в Крым приехала работать судьей та самая, что приговор выносила. Меня, она, конечно, не помнила. А чего ей помнить юристочку, которая что-то там лепетала в ответ на мучения прокурора. А прокурор изгалялся по полной: чего, дескать, завод иск гражданский к хулигану не подаёт? Не дорабатываете, товарищ юрист, зарплату зря получаете. За меня заступилась всё та же судья. Сказала, подавать иск или нет, решает директор. Так при чём здесь юрист, человек подневольный? Прокурор и отстал. От меня. Но не от директора. А директор хороший был человек. Он как тогда решил: чего иск подавать? Платить всё равно будет жёнушка-нефертити. Получается, от двоих пацанов кусок отрывать? Негоже так, не по совести. Вот по совести директор и поступил. Мало того, что иск не стал подавать. Так ещё вызвал меня и начальника сметно-договорного. Ну, того отдела, который зарплату считает, нормы труда выдаёт. И урезал с нашей подачи премию той мастерице. А за что? Я уже и не помню. Но строго так по закону. Для того и юрист на заводе, чтобы по закону всем поступать. Так он ответил на вопли той мастерицы.
Мастерица от директора примчалась ко мне. Миловидная тётка, тогда мне старухой она показалась. А было ей лет тридцать пять. А мне едва двадцать стукнуло. Я училась тогда то ли на третьем, то ли на четвёртом курсе. Тогда это было возможно, и даже приветствовалось: работать и одновременно учиться. Так вот. Тётка орёт, меня достаёт. Дескать, жалобу прокурору будет писать. Я ей тычу законом под нос. Потом со злости, каюсь, прибавила: «вы все личные вопросы имеете право решать только вне рабочего времени. Вам что, прогул записать»? Во как, сама от себя такого не ожидала. Тётка хлопнула дверью.
Возвращаюсь к судье. Та ситуацию, оказывается, крепко запомнила. Было ей жаль мужика, красивого, рослого и порядочного. А ещё она терпеть не могла того прокурора, который в суде выступал. Потому и меня от него защитила невольно. И срок дала минимальный тому бригадиру, и от дела ничего не поимела, хотя чуть не с детства бриллианты любила.
Вот такая вышла любовь.
Толики-нолики или любовь до гроба
«Любовь до гроба, дураки оба»
(детская дразнилка)
Эти истории случились почти одномоментно, оба героя примерно одного возраста. Обоим не более тридцати лет, оба женаты были первым браком. У обоих дети, у обоих жёны – стервы, оба не пропойцы и не наркоманы, а так, самые обыкновенные парни из самого обычного крымского пригородного села из самых обычных крестьянских семей.
И судьба наградила почти одинаково – тюрьмой да материнскими слезами. И звали их одинаково Анатолиями, по-обычному, звались Толики. Об одной истории расскажем сейчас. О другой поведаем чуть попозже.
История первая. Я так любил тебя, Оксана!
Мать и отец пахали с утра до ночи, всё нажитое в дом несли. Отец слыл мастером по ремонту машин знатным, толковым. Мать, толстушка-веселушка, на нефтебазе крутилась. Так и дом выстроили, и сад близ дома вырос мощный, и сыновей подняли, двух молодцов. Оба красавцы, кровь с молоком, красоту от матери взяли. Особенно старший, Толик, отцу помощник, матери радельник. И в огороде работник, и в доме трудяга. И образование какое-никакое ему родители дали. Для села пригодится. И не баловень, и красавец, обид никогда девчонкам не приносил. Наоборот, стеснительный такой вырос. Мать нарадоваться не могла на сыночка.
Пришло время, пошёл, как все, в армию, оттуда отцы-командиры только благодарные письма родителям слали. Часть этих писем потом в суде обозревались как данные о личности подсудимого. В письмах писалось, что сын их удалец в боевой и политической подготовке, и даже чёрный пояс по каратэ заслужил. А, надо сказать, письма такие тогда просто так не писались.
Служил он в Таджикистане, где тихо-тихо, без всяких там объявлений, шла война «в защиту наших рубежей» против душманов. А на войне, пусть тихой, заслужить награду командира, когда человек в сути своей обнажается до души, совсем непросто. И видно всем, кто шкура, а кто за товарища и смерть примет.
А о Толике каждый знал – свой! И честный (за ведро золотого песка товарищей не продаст), и смелый (не раз товарищей от беды да смерти спасал), и скромный (из его писем матери домой ничего такого героического и видно не было, так, служу, мама, нормально, всё хорошо).
Одну историю из армейских будней он мне сам рассказывал.
Послали в разведку: где-то душманы рядом проскочили через границу. Горы, они большие, тропки нехоженые опытному человеку всегда путь укажут.
Вечерком добрались до горного аула. Тихо, даже собаки не лаяли. Луна огромная, какая-то даже прозрачная (такой луны в Крыму не бывает), от юрты до юрты всё видно, тень и то видно было бы, а в разведке, когда все чувства обострены да обнажены, и мышь бы увидели, если бы проскочила.
Зашли в первую юрту. Тихо. Очаг дымится. И никого.
Зашли в другую. У порога обувь семьи от стариковских чувяков до сандалий внуков. Значит, люди здесь дома. Вошли. В середине юрты очаг не погашен. Вокруг очага семья тихо-мирно сидит. Все тут, и дед столетний, и внук годовалый. Так тихо сидят, что никто к вошедшим даже голову не обернул. Ну, мало ли, может, сильно пловом увлеклись, может, солдаты так тихо зашли, что не слышно: да мало ли!
Просто запах от них уж слишком сладким казался. Ну, взводный и проверил. Проверил, а у них у всех, даже годовалого сосунка, головы аккуратно отрезаны, даже кровь не течёт, со стороны и не видно. Вроде люди сидят, пловом наслаждаются все восемь таджиков. И дед, и девочки, и внуки малые, и тетки грузные, все смертным тем пловом наелись досыта.
А Толику аж только-только тогда девятнадцать лет стукнуло. Такое зрелище и бывалому до смерти сниться может, а не то пацану тихому, от маминой юбки год как оторванному.
Так что чёрный пояс каратэ потом у него вполне заслуженным был, не за красивые глаза даренным.
Хотя глаза у Толика и впрямь были очень красивыми: большие, чёрные украинские очи, в чёрной опушке громадных ресниц. Но в разведку берут не за «очи волошковы», а за воинские качества, где быстрота реакции далеко не последняя вещь.
Вот потом эта реакция Толика сильно подвела. Да еще честность и прямота душевная. Да обида за жену молодую, любимую.
Так вот, дембельнулся Толик из армии и первым женихом в селе оказался. Девки сохли пачками по нему, а он, ах, как любовь зла! в Оксану влюбился. Красавицу, правда, из песни слова не выкинешь. Но жизнью битая-битая, ох и битая! Ребёнок у нее был, годика два девчушке. От кого ребенок, то она умалчивала, да и мало ли что бывает в жизни девичьей.
Ну, ребенок, в круглосуточном садике под присмотром государственных нянек и медсестёр воспитание получает. А юная мама на танцах душу отводит. Там Толика и приглядела. Свадьбу сыграли, а как же! Не в лесу же живём. Зажили Толик с Оксаной да малолетней девочкой не у родителей в дому, а в общежитии совхозном. Дали им комнату большую, мебель да телевизор родители Толика подсобили. Короче, живи да радуйся молодая семья.
Работа имеется, жена-красавица рядом, под боком. А что ребёнок чужой, на это Толик никогда не реагировал, возился с девочкой, как с родной. Чем Оксана, кстати, часто и спекулировала. Бросит на него ребёнка, и айда в город по магазинам да кафешкам шастать. Да Толик этим слухам не сильно и верил. Жену любил просто без памяти.
На то оно и общежитие, что люди там разные обретаются.
У них в соседях жил да не шибко тужил 45-летний то ли холостяк, то ли разведённый, в, общем, не шибко страдающий о морали мужик. Пил часто, скандалил густо. Развлекался, в общем, по-полному.
Стала и Оксана замечать, что сосед к ней не ровно дышит. Да и что удивительного, если миловидная да молоденькая соседка глазами стреляет, и пулемета не надо, а муж тюфяком по жизни лежит, но – работает, матери помогает, с чужим ребенком вечерами возится, сюсюкает, сказки рассказывает.
Упустить случай? Не на того напали. И стал сосед к Оксаночке «клеиться»: то на лестнице комплиментиком бросится, то на кухне прижмет. Хи-хи, одним словом.
Тем злополучным зимним вечером Толик был дома. Шла очередная жвачка сериала по «телеку», ребенок мирно сопел в кресле, жена ушла на кухню винегрет готовить. Понятно, винегрет дело тонкое, но не два же часа его резать! И Толик поплелся на кухню. Тазик с винегретом сиротиливо стоял на столе, а Оксаны на кухне не было.
Толик взял тазик в винегретом и понёс было в комнату, да у лестницы вроде Оксанкин голос послышался. Толик туда, а там сосед Оксанку к перилам прижал. Та в слезы: «ой, муженек, он ко мне давно пристает, я его боюся, тебе не говорила, ах-ах». И глазищами-то постреливает, слёзками крокодиловыми до груди обливается.
И мужик свое му-му с полупьяна талдычит: «твоя жена сама мужикам на шею вешается, и три рубля давать не надо».
Толик зубами скрипит, но сдержался, непутевую жёнку домой увел. Ночью помирились. Оксана уснула.
Он встал, одежонку накинул, пошел вокруг общежития пройти, охолонуться чуток. Ходил долго. К соседу в комнату пошёл почти что случайно. Дай, думаю, поговорю по-мужски, может, сосед извинится. Мужик-то взрослый, мне, пацану, в отцы годится. Да и протрезвел, поди уже.
Пришёл. Нет, не ворвался. Пришёл, разбудил соседа, тот дверь никогда не запирал: что в общежитии у пьющего брать? Пустые бутылки, что ли? Да кровать казённую железную. Так она и даром не надо.
Сосед, хоть и протрезвел слегка (полностью трезвым его в детстве мама, и то не часто, видела), но опять за своё: «слушай ты, молодой, Оксана твоя не тебе одному подруга, девка тёртая, на передок слабоватая».
В принципе правду говорил. Да кто её, правду, любит, а уж парень молодой, да горячий, да жене беззаветно преданный, и тем более. А сосед опять за свое: «ну раз ты такой твёрдый, давай я тебе за нее сто рублей заплачу, и будет по-честному».
Три удара. Всего три удара. Но ребром! Ладони. Но каратистом! И не в хладнокровии боя с равным тебе на татами. Как потом экспертиза докажет, «смерть наступила от трёх ударов в жизненно важные органы». Сосед умер почти мгновенно. Просто осел по стенке, и всё. Не успел своими мерзкими словами даже и подавиться.
Толик так до конца и не поверил, что это он счмерть причинил. Что по его вине умер сосед. Всё за какие-то ниточки цеплялся, в глубине души понимая весь ужас своего бытия. И когда менты приехали, в наручники заковали, не верил, и в следственной камере на допросах не верил, и даже при приговоре, когда ему пять лет строгого режима дали, тоже не верил.
Следствие шло не долго. Следователь зла ему не желал, иголки под ногти втыкать не командовал, в протоколы отсебятины не понаписывал. Судья тоже попался нормальный мужик, был предельно объективным: пять лет за умышленное убийство – это даже не срок, а так, вроде семечек.
Любой зэк за такой срок свечку за судью поставил бы. И на адвоката, возможно, тоже разорился б на свечечку.
Мать? Та сразу поверила, не несла, как обычно околесицы, что и школа виновата, и армия мальчишку испортила, и жена попалась, паскуда треклятая. Нет, мать повела все по-честному. Отец, тот взрывного характера, мог сорваться «по матушке» на невестушку нелюбимую: «она же, стерва, любому на шею повесилась бы, дай волю, даже Ленчику (младшему сыну), или мне, старику. Вот уж паскуда была. Попалась б она мне!!!»
Да не попалась. Наутро Оксану как ветром сдуло из Воинки. Вещички сграбанула, мебличишку в контейнер упаковала, и прощевай, муженёк ясноглазенький! По слухам, в свой Краснодарский край исчезла. Но то ведь – по слухам.
Толик тот душой весь измаялся, от Оксаны весточки ждал.
Привезли на следственный эксперимент, попросился в свою комнату хоть на минуту вернуться. Следователь был как будто не против, открыли комнату – пусто. Лишь на окошке сиротливо бумажка. Как он рванулся к той бумажонке! Мечтал, может, записочка от Оксанки. А там лишь обрывок тетрадки чужой.
Конвойные и те аж крякнули с досады: мужик за бабу тюрьму хлебает, а та за вещи, да дёру дала. Телевизор ей оказался дороже супруга.
За все время следствия и суда он часто спрашивал с глухой надеждой: «от Оксанки ничего нет?». Думал, что, может, следак (следователь) что утаил, или мать из понятной нелюбви к невестке письмо не передаёт, или адвокат тайну следствия не открывает. Но всё было тщетно. Оксанка, как сдохла, молчала.
Взяла я грех на душу, так ему и не сказала, что было одно-единственное письмо от нее (прости, Господи, ей грехи её тяжкие!). Пришло письмо на адрес суда, легло судье на стол. Письмо то в деле не «светилось», не оглашалось. Судья поступил по совести, не стал приобщать его к делу.
В письме том на трёх листах Оксана валила вину на мужа, «мерзила» (какое ёмкое украинское слово, означающее ругала, обзывала) его, обливала помоями: «виноват он, подлец, дайте ему меру наказания, как можно больше. Я за свою жизнь, судьбинушку горькую страдаю да мучаюсь. А вдруг быстро вернётся, да за меня и возьмётся?».
А в конце гадливого письмеца приписка: «передайте свекрови, что телевизор я ей не отдам! И шапку, норковую тоже».
Брезгливым жестом судья бросил письмо, как гадюку дохлую, в письменный стол. Ящик с треском захлопнулся.
Чудеса правосудия
Не хочу называть подлинных имен: все живы, и, надеюсь, здоровы.
Знакомая семья, следователь-майор да его очаровательная супруга зазвали меня в гости к своим кумовьям. Те недавно возвернулись из заграниц, шмоток напривезли да видеофильмов. Поперлась. Посидели, поболтали, очень вкусненького хозяйкиного пирога поели. И вроде бы всё.
Потом, правда, часто встречала того кума (как бы его назвать, а? Пусть будет Виталька) у майора в кабинете. Захаживал по-свойски к куму в кабинет, да за моей подружкой пытался ухаживать. Уж больно любвеобилен был, говорят. Подружка его отшивала. Претила его наглость да выходки.
Как-то ночью, практически ночью, раз в полдвенадцатого ночи перезвонили: кум-майор того Виталика выслал за мною машину: «Кума забрали!».
За что? Да за банальное изнасилование: он какую-то бабу у той на квартире и… То есть, совершил 117-ю (117-я статья Уголовного Кодекса Украины за изнасилование). Тут же бабёнка накатала заяву, и повязали добра молодца да в камерку кинули.
К камерке я и подошла. Пусть не положено, но кум-майор договорился, и меня пропустили. Виталька бросился ко мне за защитой, как за манной небесной. Окатила я его ледяным душем: мало того, что за такое, с позволения сказать, деяние редко бралась защищать, так претило! да и к тому же за этот состав преступления сесть мужику ну просто, как два пальца об асфальт.
Почему? А потому, что даже спермы не надо: нужно только насилие. К примеру, налетела баба с разбегу на дверной косяк, получила пару ушибов, и побежала с заявой на кого-то ей страшно противного, с криками, ой, изнасиловал! И всё. Получит мужичок срок, к тому немалый.
Я с порогу Витальку того и спросила: сколько с тебя хотят? Тот правду и ляпнул: три тысячи зелени. Я ему: заплати. Боже, сколько в свой адрес наслушалась! Маты и маты, отсылки меня в даль далёкую вперемешку с угрозами да унижением: какой же ты, на фиг, крутой адвокат, раз советуешь прокурору деньги совать!
И пошла я, солнцем палима…
Вскорости прибежала ко мне жена его, Варька, просила взять на себя защиту её непутевого мужа. Готова была и сумму ту прокурору отдать, так жалко мужа-дурака было, ой, как жалко. Да я отказалась: гордыня взыграла.
Варька нашла адвоката, хорошего. Работал когда-то он прокурором, мозги имел светлые, в законах толк понимал. Взялся за дело, и результат обещал неплохой.
Получилось и вправду неплохо: заработал Виталька шесть лет. И денег отдали: по тысчонке за год. И винить адвоката того невозможно: можно было бы и двенадцать годочков схлопотать за составчик, который был или не был, кто его знает?
Ведь если врут двое: он и она, то кому судьи поверят? Конечно же, ей, потерпевшей. Синяки то экспертом засвидетельствованы, а уж от дверного косяка или от Виталькиного кулака, не суть важно, механизм причинения не расшифрован.
Гораздо важнее галочка в прокурорском отчете про раскрытое «по горячему» преступление. Да и денежки разве кому помешали? Да уж, точно сказать, подвела Виталюшина жадность: ни бабе не заплатил, если просила. А ведь точно, просила она отступного, хотела немного, да Виталька не дал. Ни прокурору вначале деньгу не отстёгивал. А результат?
Хорошее у нас правосудие на Украине, не правда ли? Или неправда?
Жена таксиста
Бойтесь, мужики женщин, стройных от рождения до старости, безо всяких там диет. Невысоких, не применяющих косметики ни под каким видом. Прекрасных хозяек, квашеная капуста, у которой лучшая в городе, хрустит на зубах тонкой ароматинкой. Короче, идеальных супруг без измен и причуд.
Своё такая возьмёт, не считаясь ни с чем. И мужа прилюдно по морде ударит, посмей он только в автобусе подсесть к молоденькой хохотушке, и товар дефицитный из горла вырвет, пусть у самой лучшей подруги. Нет, не сама, мужа пошлёт, а достанет дефицитный товарчик. Мужья у них не в чинах, как обычно, лысоваты и толстобрюховатеньки, но – хозяева!
Бойтесь их, мужики, это – ведьмы! Честолюбие сжигает их изнутри, пламенем дышит на горе людское. Им все нипочём: ни зависть соседок, ни людской пересуд, ни совесть. Они всегда правы. Формально. По сути – ведьмачки.
Вечером сын пробасил:
– «Батяня, я в институт поступаю, поможешь?» Батя подумал, кивнул: «Да, сынок, поступай».
И подался в таксисты. Работенка непыльная, народ в большинстве платил, как обычно. Машинку вдвоём с кумом делили: ночь-день, да день-ночь. Что заработал, то и твоё. Поломки в дороге или какой другой казус, это чисто твоя проблема. По-честному.
Ах, да, забыла предупредить. Дело было в лихих девяностых.
С братками тоже вышло гладенько: подошел на вокзале «Малыш» Лёва, пробурчал: «таксуй, потом на нас пару ходок сделаешь, и снова таксуй». И всё. Не беспокоили долго.
Учился сын понемногу, удавалось ему в Симферополь харчишки подбрасывать да втихомолку от матери деньги давать на мороженое девчаткам.
Так бы и жил себе, таксовал – бедовал, переворачивая года, как страницы.
«Малыш» подошёл неожиданно: «завтра с утречка повозишь одну дамочку, куда она скажет, да о маршруте помалкивай. Понял?».
Как не понять: двухметрового Леву-«Малыша» боялись в округе, шепотком доверяя подружке, какой он садист, и сколько на нём трупов «висит».
Таксист покивал, с вечера залил полный бак бензина на контролируемой Лёвой стоянке. Там бензин был отменный. Держали для «своих» и ментов, прокуроров да других разных крутых.
«Шестёрка» пыхтела на длинном морозе, урчало радио песни блатные: таксист ждал пассажирку. Был недоволен ужасно: кататься бесплатно кому же охота? Куда её черти понесут, неизвестно. Скажет «в Москву», покатишь в Москву за 1000 верст мотать дурака. А жене как объяснишь, что бесплатно попашешь на Лёву с братками? Терпел, набираясь уходящего вглубь гнева.
Дверка открылась внезапно, пассажирка спросила: «я спереди, можно?»
Не ожидая ответа, присела, в два слова: «маршрут – Симферополь, СИЗО». И тронулись в путь.
Всю дорогу молчали, пассажирка куталась в мех дорогонький, вся ушла в свои думы. Он тоже беспокоить не пробовал: нарвёшься на Лёвины вечером кулаки, не задержится парень с ответом, если пассажирка на водителя «настучит».
Пассажирка нравилась ему всё меньше и меньше, но понемногу будила в нем любопытство: не курит, глазками не стреляет. Короче, странная баба. В дороге бабёнки таксисту только что душу не выльют, даже поплачут в расчёте на то, что пожалеет, да платить не придется. А эта молчит.
С ухарства прибавил скоростенки. Думал, или завизжит, что бабе обычно, или обхамит: зимняя дорога дураков не терпит, мол.
Молчала, зараза. Посмотрела на спидометр и в окошко уставилась, как будто дорогу от своего городка в столицу Крыма впервые увидела.
У СИЗО (следственный изолятор Симферополя), выходя, пробурчала: «Вы свободны. Часов до четырех или пяти».
И потопала стройными ногами к узкой двери страдальной тюрьмы.
От злости чуть не зашёлся: так до четырех или все ж до пяти? Даже передразнил пассажирку. Взвизгнул тормозами, поехал к сыночку, напился горячего чаю в общаге, подкинул деньжат и даже вздремнул пару часов. Отдохнул, подобрел.
Подъехал к пяти: а, будь, что там будет! А она вышла к шести, села, упершись ногами, чтоб спину ровнее держать. Тронулись в путь. Уже в городке сказала: «завтра к семи». И вышла, мать её так!
Катались неделю. Жене ничего не сказал, вечером только бурчал, что, мол, народ хлипковатый, отдавая заначку.
Стал понемногу доставать его кум: потешался над бедным, похохатывал: мол, красулю, наверно, катаешь. Как мне смену сдаёшь, салон духами дорогими пропитан, а выручки у тебя, что котёнок накакал.
Молчал: сильно Лёву боялся. Лёва никогда слов не ветер зря не бросал. Пассажирку катал то в СИЗО, то по учреждениям всяким катал, в день по стольному крымскому городу зряшние километры накатывая, бензин прожигая. Хорошо хоть, хоть бензин был дармовой.
Иногда только думал: если баба каждый денёчек в СИЗО мотается, значит, сильно её мужика прижали-припечатали, сильно. И думал опять же: молчать, паря, надо: сегодня мужик-то её сидит, а завтра, как выйдет? Уж лучше молчать. Вот и молчал, поневоле вдыхая аромат дорогущих духов. Жинка его духами не потчевалась: не в заводе у неё было красоту наводить, чужих мужей к себе привлекать ароматами там да помадами всякими.
А духи щекотали! Горьковатый их привкус отдавал свежестью то ли вишни, то ли можжевельника, то ли диковинки иной какой, но салон автомобиля ими точно уж пропитался.
Вечером на пересменке кум доставал его снова, куражась над бедолашным: «что-то ты, паря, замотался, смотри, похудел, да еще и без денег? Что, адвокат твоя, сладкая баба?»
«Какой адвокат»?
Тут кум аж заржал: «ну, ты, паря, даёшь! Неделю куда-то крутого адвоката мотаешь, хрен тебя разберет, то ли на сеновале каком с нею кровное пропиваешь, то ли по делам каким тебя она изъездила, уж и не знаю, но ты, паря, даёшь!»
Так со скабрезным лошадиным смешком смену и принял.
Шёл наш таксист домой по скрипящему снегу. От кума отделался, куму сказав, что лучше пройдётся, ноги разомнёт. Уж больно противно кум ржал! Ворочал мозгами: «вожу адвоката? Да ещё и крутого? Вот почему соседки так странно смотрели, да чаще на улице знакомые останавливать стали, как бы невзначай погодой-дорогой интересуясь, да как там дела? С неподдельным искренним интересом выспрашивали в тайной надежде, вдруг да проговорится доселе словоохотливый таксист.
Все файлы сходились: и СИЗО, и конторы там всякие крымской столицы, и тонкий аромат дорогущих духов» (дались ему эти духи, право слово!).
Молча дома с жёнкой поели, с морозцу картошечка там, да капусточка так аппетитно похрустывали, что разрешил себе пропустить рюмочку беленькой. Жёнушка тоже молчала, пересчитала поданную ей якобы дневную выручку. Спать полегли, захрапели.
Утром, в субботу, проснулся за полдень: зимнее солнце в окошко сверкало, тёплыми лучами согревая подушку.
В квартире один. Жёнка ушилась на рынок субботний. Поел, покурил, и тоже на рынок отправился жёнушку встретить, сумки тяжёлые перенять.
Рынок в субботу в маленьком городишке не просто базар. Рынок в субботу – это сходняк. Народу тьма тьмущая, все что-то ищут: кто ищет товар подешевле, отчаянно торгуясь за пару рублей. Кто друзей-собутыльников на пару «чайных» стаканчиков зазывает, кто приплёлся просто посплетничать, душу отвести за неделю молчанки.
На рынке узнаешь всё: и кто с кем, и кто где, и кто кого, и что почём. Все люди расскажут, да еще и в подробностях. Расскажут, расцветят, обсудят, сильно осудят. Городок-то маленький, новостей в нём бывает мало, тут и пропавшая у соседа собака сильная новость, а уж если кого-то убили, гудеть рынок будет за полдень, да не раз.
Молча кивнул головой ему Лёва: привет, мол. Тут же кумушки записали его в Лёвину разношерстную компанию, некоторые даже стали плебейски здороваться. Как же, сосед с крутыми знается.
Да таксист на базаре не расхаживал долго, купил сигарет, и домой. Жену на базаре не видел. Где уж там, в такой толчее жену свою встретить. Включил телевизор – футбол!
Жена пришла поздновато. Не удивился: наверно, пока со всеми не наболталась да в очередях не настоялась, домой не пошла.
За футболом пошёл КВН. В ранние сумерки после сытного ужина со свежим борщом, в котором косточка мозговая просила на пару сто грамм перцовой налить. Налил. Слегка удивился: мясо – вещь дорогая. На его скудные подачки разве мясо прикупишь, потом догадался: жена его продавцов так умела достать, что за полцены ей мясо-то и уступали, а то и за четверть.
В воскресенье с кумом на пару занялись текущим ремонтом машины: в гараже хорошо пошел и борщец, и сало на легком морозе само в рот катилось под бутылочку, что раздавили с кумом на пару. Кум с шуточками почти что и не доставал, так, пару раз только прошёлся. А так всё манил на охоту: зверьё пострелять, женам на воротники лисицу добыть, да пару гусей к новогоднему столу припасти.
Договорились на следующее воскресенье пойти на охоту. Далековато, конечно, чуть ли не к лебяжьим островам. Кум только спросил: «а свободен то будешь? Вдруг, опять адвокатшу возить по тылам начнёшь?»
В ответ молча пожал плечами: а кто его знает? Потом пошутил: дай, мол, дожить до того воскресенья. Впереди понедельник. Кум как-то странно взглянул. Или ему показалось?
Покурили ещё по последней. Да подались по домам, на боковую.
В понедельник снова повёз треклятую бабу, хорошо хоть поближе повёз, – в соседний городок, где она пару часов с кем-то общалась. По дороге назад решился спросить: любопытство уж сильно заело. Не знал, как спросить, брякнул напропалую, ну чтобы разговор какой-никакой завязать: «как, мол, дела»?
Не знал он тогда, что адвокат славилась ещё и языком своим острым, камня за пазухой отродясь не держала, да и настроение у неё было уж больно плохое, а то бы молчал, как всегда, а, может, и тише.
Она и ответила, ни секунды не думая: дела, мол, такие, что дома сын с температурой под сорок, а я тут с вами вопросы дурацкие обсуждаю. Мало того, что я вашей жене отчитаться должна, я, что, еще и вам отчитаться обязана?
Машина резко дёрнулась, остановилась. Он удивлённо спросил: «какая такая жена?»
Адвокатша в ответ доложила: «в субботу на моём дежурстве пришла в консультацию ваша супруга, потребовала от меня оплаты за все дни проезда. Я ей стольник и заплатила. Этого мало? Или добавить ещё?».
Он онемел: «какую оплату? зачем?»
Адвокатша в ответ: «логика вашей жены безупречна: раз вы возите меня всю неделю, кто-то же должен платить? А кто, если не пассажир? Вот я и плачу».
Затем, как отрезала: «в Симферополь».
В столице, чтобы хоть как-то загладить вину, спросил: может, что надо?
Адвокатша спросила: «вы аптеки в городе знаете? Надо лекарство сыну добыть, лекарство уж больно редкое, но крайне нужное нам сейчас».
«Давайте рецепт».
По городу мотался долго: лекарство и вправду, было уж больно редким. А уж каким дорогим оказалось, матеньки мои! Но купил.
Вечером тихо спросила: «сколько я вам должна? А потом уж: спасибо».
Он помотал головой: «какие там деньги». Она поняла, глазами улыбнулась: «ещё раз спасибо».
По вечерней дороге под тихую музыку Вивальди или Баха (он в музыке был не мастак, это она уточнила: Вивальди) в уютной машине лёд таял, правда, чуть-чуть. Пассажирка всё больше молчала, а его потянуло на исповедь разговора: про сына, дорогу, про то, как профессор в Симферополе отца от язвы желудка избавил настойкой из коры (забыл какого дерева, но вроде, софоры, кажись). Так и болтал, всё больше теплея душой.
Уж что-что, а слушать адвокатша умела. Так слушала, что душа сама раскрывалась, и знал почему-то, что она болтать нигде про него не будет, как будто просто забудет.
Машину скрутило как-то внезапно. Ничего вроде не предвещало поломки: мотор гудел ровно, благодарно урча, как собака, за чистый бензин. Коробку передач давеча с кумом просмотрели на раз, свечи новьём, только недавно в столице по случаю приобрёл.
Но машину несло, как по стеклу гололеда, хотя трасса даже не обледенела. Сильный ветер унёс в степь остатки наката, и ни тебе тумана, ни гололёда.
Руль крутился, как бешеный, и руки не слушались. Мозги отключились, тело само впиталось в машину, передавая ей свое дикое желание выжить, спастись!
Спас опыт: двадцать лет за рулем – дело не шутка! Чудом машина не перевернулась, встала у края обочины. Свет фар высветил ряд частых деревьев, с каждым из которых грозилась встреча бабы с косой.
Пассажирка ни разу не взвизгнула, не закричала, руками за руль не хваталась, даже ой, мамочки, не рыдала. Его единому телу с машиной (как бы кентавру) она была не нужна, только бы не мешала. Вот она и не мешала.
Чтоб закурить, вышел из машины. Руки дрожали так, что перед бабой той было стыдно донельзя. С часок подождали. Попался на дороге хороший человек, довёз на «буксире» до своего городка.
Она все так же молча вышла из машины. И только потом: «спасибо».
Постояла минуты так две и снова: «спасибо». С тем и ушла.
Наутро занялся машиной. По закону подлости кто-то упёр с открытой стоянки «дворники» да колеса. Да хрен с ними! Я же живой! Пот заливал то горячий от тяжкой работы, то липким и смрадным по телу струился. Поломка была такова, что выжили чудом. Господу Богу, хоть и не верил, спасибо сказал.
А то не поломка: подпил!
К полудню в гараж приперся «Малыш»: «чего ты не вышел на смену?» Таксист только и смог, что кивнуть на «поломку», указать на подпил.
Мафиози походил вдоль машины, ушёл, снова явился, припёр с собой мужичонку. Тот молча ощупал машину, детали, похмыкал, шепнул что-то Лёве на ушко, ушёл.
Лева снова здорово: «кто знал о маршруте?»
Он честно ответил: «никто». А про себя удивился: «разве жена?»
«Малыш» покивал, покивал. Удалился.
Неделю дрожал и боялся, потом пообвык: пронесло!
Адвокатша больше не ездила. А он и молчал, таксуя себе по коротким маршрутам: в больничку кому или на рынок, по сёлам мотнуться, а то и за дамбу на Херсонщину мотануть. Народ к новогодним столам рыскал в поисках пищи, и работы на счастье прибавилось.
Кум про охоту даже не заикнулся. Забыл, может быть, за своими хлопотами. Да и не видел он кума. Некогда было. Поменялся только с ним сменами, и все дела.
Полюбил ввечеру садиться за руль жигулёнка, выезжать потихоньку из стылого гаража. И эти три-пять минут его ноздри и тело впитывали давно уж отлетавший аромат горьковатых духов.
Сразу после длинной череды новогодних праздников да утренников городок загудел: в суде начинало слушаться громкое дело. Любой из редких теперь пассажиров считал для себя долгом с видом самого важного знатока, знавшего дело лучше судьи, рассказать, что за дело, что судья – зверь! что прокурор давно уже куплен (только никто не смел даже шепотом произнести, кем же это мог быть куплен неподкупнейший прокурор). А больше всего трепали про адвоката. Дескать, взялась за дело одна из крутых, взяла, небось денег с полтонны. И только что номера зелёных купюр не называли.
Он слушал, поддакивал, а ухо жадно ловило все новости-сплетни.
Ажиотаж в городке был такой, что зало суда ломилось от публики, глупой и жадной. Он тоже поддался азарту, прорвался в залу суда, сел потихоньку к окошку, где дуло то ли от замерзшего окна, то ли от ледяной батареи.
Первым в зал зашла прокурор, государственный обвинитель при полном параде мундира, гордая от вожделенной возложенной государством миссии, села за свой длинный у окошка стол. Лениво вползла секретарь, разложила на длинном судейском подиуме свои бумажонки.
И лёгким стуком каблучков застучало почему-то его сердечко: в зал то ли шагом, то ли бегом залетела та адвокат. Синее строгое платье, строгие бусы на шее, черные дорогие полусапожки на остреньких шпильках: «здравствуйте всем!».
Зал удивился: смотри, поздоровалась!
Села на место у клетки, улыбнулась глазами ленивому секретарю, положила три книжки (тяжёлых!) на стол, как-то поерзала, как кошка у печки. Устроилась, одним словом. Зал оглядела, как что-то мешавшее ей.
Его не заметила или не узнала: неважно.
Судья строгий попался, суровый.
Прокурор крошила свидетелей, как ту капусту. Братки недовольно скрипели кожанками, но молчали: ментовской охраны в зале втрое обычного.
Виновник всего «торжества» в клетке сидел как зайчишка, только уши торчали. Короткий затылок ёжиком тюремной моды стрижки, вот и всё, что виделось залу. Длинное обвинение зачитывала прокурор, зал заскучал, поостыл. Несколько дней было скучно. Редели ряды любопытных, но к прениям снова набилось народу.
Прокурор говорила, то и дело подглядывая в записи, красиво: и про возмездие кары, и про то, что «сколько веревочке ни виться, а конец будет», и т. д. и т. п.
Судья слушал молча, поставив руки перед собой.
Народ потихоньку устал. Стал поёрзывать, переговариваться шепотками.
А затем судья, почему-то взяв в руки ручку и придвинув листик бумаги, дал слово тому адвокату.
Таксист слушал молча, зал тоже притих.
Адвокат говорила свободно, ни разу не взяв в руки листочки. Убеждение духа, убеждение слова было выше красивых заученных фраз. Она говорила судье, нимало не реагируя на реакцию зала, что-то такое, что он быстро записывал на листочках бумаги. Конец её речи скорее был неким гроссбухом: цифры звучали вперемежку со словом «статья». Говорила недолго, народ устать не успел.
Подсудимый что-то неслышно прошамкал, и судья удалился.
По выходу его и приговору народ понял: парень свободен. Прокурор нервно схватила листочки, пропустила только судью, и бегом вон из зала.
Пока клетку открыли, наручники сняли, народ дивовался. Адвокат забрала со стола толстые книжки, протиснулась через толпу. Таксист вышел почти что последним.
И показался ему что ли тончайший аромат тех горьковатых духов через вонь толпящегося народа.
Его повязали наутро: только зашел домой с ночной смены, как в квартиру ворвались менты. Мордой об пол, руки вхруст надели в наручники, повезли на уазике к прокурору. Там объяснили, что он якобы ночью в квартире убил кума и жёнку родную. Опомниться не давали: то били, то писать заставляли. Через сутки он промычал: хочу адвоката! Американские видики научили свободе.
Ещё раз напоминаю: дело было в лихих девяностых.
В следственную комнату ИВС (изолятор временного содержания. Находится в каждом отделении милиции, в отличие от СИЗО, который находится в крупных городах, да и то не во всех) вначале донёсся звонкий голос шутившего адвоката, затем вошла и она. Он встал, как подорванный.
Она повелительно удалила дежурного сержанта: дайте мне право поговорить с клиентом наедине. Села, две толстые книжки уместились на крае стола.
И: «слушаю Вас»…
В конце сумятного разговора он удивился: почему вы меня взялись защищать? Денег у меня давно нет, у сына-студента что котик наплакал, взять больше негде, так почему?
Ответ был коротким: «вы жизнь сыну моему спасли, а я – вашу».
Через месяц он был на свободе, чист и невинен, как оно и было на самом деле.
А ещё через месяц он якобы повесился в гараже, оставив дверку салона открытой.
Городок загудел, обрастая подробностями. Как лавина. Не коснулась лавина только троих, знавших правду: адвоката, «Малыша», да заказчика этих двух трупов и свободы того подсудимого.
Как заказчик добыл правду у кума и жёнки таксиста про маршрут да подпил, да имя того, кому адвокат перешёл то ли тропинку, то ли дорогу, – одному ему и ведомо.
Да видно был ему очень уж дорог единственный сын с короткой тюремною стрижкой, раз поквитался наравно: сын приравнялся к трупам двоих сильно болтливых. Да невинного таксиста, что слишком многое знал.
Бойтесь, мужики, жёнок таксистов! И их языков.
Киллер киллера поймет
Трагедия и фарс – почти всегда одно и то же, на этом строится любой театр. Ну, а мы с вами в вечном театре жизни.
«Меня заказали»! Ночной голос был хриплым от страха. Я бы не стала и трубку телефона поднимать в полдвенадцатого ночи, но чисто женское любопытство преодолело: какой гад звонит мне так поздно? Страх в голосе абонента снёс остатки первого сладкого сна.
Наутро в машине ехали в дальний поселок районного типа. В дороге несостоявшаяся жертва убийства, по совместительству кандидат в депутаты парламента Крыма, поведал: задержали мужика, что приехал аж из далёкой Карелии его убивать. Сейчас едем в камеру на допрос, а я им нужна, чтобы допросить того мужика, а в ходе допроса разве адвокат убийце не нужен?
Ну, эка невидаль – мужика заказали. Да на каждого кандидата всегда пуля найдётся: время было такое.
Кандидат в депутаты рыцарем без страха и упрека явно уж не был. Так себе, кандидатишка. Но! Он вырос в селе, все его знали, село было агромадным. По-модному говоря, электорат, стоял за него, пусть он даже и во взрослом возрасте в носу на людях ковырялся. А всё свой родной Ванюша был роднее и ближе другого, очень крутого при всяких заслуженных (и не очень) регалиях, кандидата. На сделку с совестью наш Ваня не пошёл, раз его не купили. Значит, пошли по другому варианту: вот его и заказали.
Приехали в городок: обычное здание милиции, обычнейший ИВС (изолятор временного содержания).
Обычнейший следователь, почти что майор, обычнейший и подзащитный. Ну, никак не тянул он на Брюса Виллиса или Ван Дама: хиленький мужичонка, хлипенький и дырявенький весь какой-то.
Обрадовался мне жутко: начал частить на допросе так быстро, что следователь не успевал записывать.
А потом случилось нежданное. Задрожали руки у следователя, бросил он ручку: такие пошли имена и фамилии, что я вам скажу! Ой, нет, не скажу: сама жить хочу. А вот сумму «заказа» скажу: 60 или 100 тысяч долларов гонорара за пробитую голову несчастного кандидата.
Сумма, конечно, впечатляет, как впечатляет и то, что привезли нашего киллера аж из Петрозаводска, из далёкой Карелии, что славится озерами своими да мебельной березой.
И лежал бы где-нибудь в канаве наш Ванюша, поплакали бы над ним Нинка, красавица-дочка да мамка родная, а к власти пришёл бы его страшный соперник, как подвела заказчика «мелочь».
Как поведал нам киллер, фотографию жертвы ему дали уже по приезду в Крым: так надежнёе.
И он на фотографии узнал, не поверите! друга детства своего босоногого, с которым вместе гоняли по колхозным бахчам воровать дыни да арбузы-кавуны.
Это уже потом он был вынужден скрываться аж в Карелии за грехи да грешки перед законом, где его и зацепили да наняли. Вот именно эта «мелочь»: совесть убийцы и помешала ему выполнить тот заказ, даром что авансик-то получил.
Авансик авансом, но предпочёл пойти добровольно в тюрьму, отсидеть пару лет за покушение на убийство, но друга спасти.
Да, театр жизни похлеще театра как такового, а, главное, ничего-то выдумывать и не надо.
А наш Ваня сейчас-то – орел! В парламенте Крыма очень даже и не последний там человек.
Кому на Руси вечно везет? То-то же…
… И 575 патронов
Бравый мужчина на боевом коне, жигулёнке последней модели, приехал в консультацию к вечеру. Стал упрашивать за своего друга, которого повязали за громкое дело. Для маленького поселка, где каждый знал про соседа всё или почти что всё, дело действительно было громким.
При всём честном народе в яркий полдень летнего дня доблестные сотрудники местной милиции вывели из двухэтажного дома хозяина его – местного бизнесмена Николая. Вывели при полном параде оружия, которого хватило на две громадные сумки. Там были и пистолет, и автомат, и двустволка, и ещё, и ещё, и ещё, и патроны впридачу – аж 575 штук.
Нет, когда оружие в доме искали, Николая в доме не оказалось. Он пахал на работе. А когда возвернулся с работы, его повязали, всучили те две громадные сумки с оружием, и повезли.
Привезли хозяина арсенала вначале в милицию. Потом при полном параде ментов повезли к прокурору. Санкцию на арест дали быстро (тогда санкцию давал прокурор). Оно и понятно, как отпустить на свободу такого владельца, у которого изъятый арсенал чуть не на роту.
Для защитника дело гиблое: оружие изъяли? Изъяли. Добровольно сдавать не сдавал? Естественно. Не считать же за правду, что арсенал в дом принесла милая супруга или их пятилетний внук.
Брак в работе адвоката дело вовсе ненужное, а тут брак был почти стопроцентным. И что я взялась, сама не пойму!
В камере Николаю было оченно неуютно, но терпел, зубами скрипел. С юмором рассказал мне про «маски-шоу», как он тапочком закрывался от дубинок да кованых сапожищ. А что было делать, сдаваться? Признаться ментам дело последнее, срок же светил очень немалый, потому и терпел в надежде на русский авось: а вдруг повезёт, кривая и вывезет?
Милая жена Николая понравилась сразу: хлопотливая, шустрая. Умная и верная, она смотрела за хозяйством, за домом, за шустреньким внуком, да и за дедом, отцом мужа родным, алкоголиком с весомейшим стажем. Если б за пьянку давали награды, дед бы ходил в орденах, как Брежнев Ильич.
Дед жил во времянке. Ему и тепло, и сытно (невестка кормила), и зятевы кулаки достать не могли.
Влезешь в какое-то дело, и пойдут эпизод за эпизодом… Так и тут: балластом к эпизоду с хранением арсенала пришили Николаю и избиение с последующим якобы насилием над подругой его, дамой вовсе неверной, шустрой донельзя.
Была эта бабёнка раньше подругой жены. За дружескими разговорами и присмотрела, что дом-то неплох, обихожен, да и Николай был в самом соку. Решила бабенка сыграть на чувствах его, тем более что моложе его жинки была лет на десять.
Мужики, в общем, народ глупый на баб, и Николай исключением не был. Женихался с мадамою долго, так долго, что та уже и на открытый разговор повелась: давай расходись, свадьбу сыграем, дом то большой, нам обоим и хватит.
Вот тут бабёнке не подфартило. Николай, даром что лох, тут рога в землю. Дом он строил почти что с нуля, прирос к нему, да и намерен был внуку отдать, сильно мальчонку жалел да и баловал. А тут надо дом свой отдать пусть желанной, но все-таки тёте. Жениться? Что ж не жениться, пускай. А вот дом отдавать? Нетушки! Нет!
Бабёнка крутилась годика два, а Николай ни в какую – дом не отдам! Жена терпела, молчала: в маленьком городишке скрыть мало что скроешь, но ради внучонка, да и самого же непутевого Николая терпела, и не раз говорила непутёвому муженьку – разводу не дам.
Достали «подружку» супруги, ох, как достали. Решилась на крайнее, на шантаж, ан и тут Колюня никак.
Вот тогда бабенка скумекала и смудрила: сдала Николая ментам. Пусть сядет надолго и за оружие, и за изнасилование её драгоценного тела, и за избиение. За всё настрадается, голубчик, за все её муки с ним, нелюбимым, получит по полной.
Николай долго не верил, что сдала его баба. Веришь, не веришь, а раз уж сидишь, так кто-то же сдал? Друзья? Нет уж, друзья у него мировые. И жене помогали, и мне, его адвокату. Верные, надёжные парни друга в беде не бросали, ругали, конечно, за бабенку его, да так, нехотя. Мужик мужика видит издалека.
Я пропущу следствие долгое. Девять месяцев Николай в СИЗО проторчал, диету тюремную соблюдая, режима не нарушая. Вытерпел маски-шоу и другие наезды ментов, утешаясь, что терпенье и труд всё перетрут.
Терпела и я: поездки в СИЗО, наезд прокурора. Осмелился мне заявить, что, дескать, не забывайте, что вы – адвокатишка, а я – прокурор!
Ну, тут я и брякни: посмотрим через годок. Как в воду глядела: через год прокурор просился к нам в адвокаты, потому как сняли его с лестницы власти, брякнули мордой об пол.
Ещё мент был противный, начальственный, с вечно красною рожей от того, что мало ел да сильно мало пил. Не постеснявшись судейского помещения, угрожал мне в открытую близкой расправой. Гадик такой, вздумал детям моим угрожать! При таких обстоятельствах да от защиты уйти? Тут и я рога в землю: нетушки, дудки!
В суде принят бой: я, Николай с одной стороны ринга суда. Прокурор да менты с другой стороны в сиянии власти.
Судья, как того следует, ровно посередине.
Вот что хочу я сказать, повезло Николаю на судью: умная баба-судья дело вела справедливо, по-честному так, что битком набившийся зал только что вслух ей не хлопал.
Свое ноу-хау, то есть, как я построила защиту, чтоб Николай пошёл на свободу, я говорить вам не буду. Поверьте, это достаточно скучно и интересно только профессионалам, но про глупости следствия молчать не намерена.
Зал разделился на две половинки: большая часть болела за Николая. В основном, мужики. Меньшая, злобная, бабья часть зала, болела душой за потерпевшую, мадам «подругу».
Мадам подруге нужно было сменить профессию с продавщицы захудалого магазинчика на громкую славу актрисы. Так вдохновенно, с искренней слезой на глазах, она объясняла суду, как бил её в машине Николай, как, скромно потупив глазки, коряво-наученно изъяснялась про якобы совершенное над нею насилие. И даже как в квартире у общих знакомых Николай грозил ей пистолетом.
Я давно обратила внимание: в суде почему-то люди становятся как будто стеклянными. Видно, кто врёт, а кто правду лопочет. И становится видно, ху из ху кто из людей. Лживость и жадность, правда и глупость: рентген суда высветит всех.
И тут было явно: врёт баба все, врёт, не краснея. Дом двухэтажный светится в глазах, так его хочется бабе. Подружки ей помогали, но как-то уж нехотя. Им дом двухэтажный достаться явно не мог.
Зато Николая друзья, мужская часть зала сражалась достойно. Привели свидетелей из числа явных интеллигентов, которым врать, так лучше повеситься.
Те суду заявили, что не видели пистолета в Николая руках, что пришли Николай со своею подругой тихо и мирно на огонёк их семейного очага. Так же тихо и мирно ушли. Без пистолета.
Перетягивание каната длилось долго. До тех пор, пока не явился главный свидетель – проспавшийся дед. Тот на потеху публике ваньку валял, пока не признался, что весь арсенал нашёл на рыбалке, притащил во времянку (помните знаменитое, возьму и веревочку, в хозяйстве все пригодится), положил под кровать. Понятное дело, привычно напился. Про находку забыл.
Очухался, снова запил, уже с горя, раз сына в тюрягу бросили. Вот так месяца три из запоя и не выходил. А когда отошёл, прибежал к прокурору: дескать, ружьишко верните. Да и патрончиков много у вас ведь осталось.
К тому уже времени, когда время приспело вести заседания суда, патроны «рассыпались по дороге» по официальной версии следаков, да одно из ружей «на память» себе прихватил один из милицейских чинов.
А я, как защита, стою на своём: вещдоки на стол! По закону, по УПК (уголовно-процессуальный кодекс) положено вещественные доказательства хранить в особой камере, и по первому же требованию суда предъявить их в целости и сохранности.
А их нет! То есть тех самых, вещественных. Патрончики расстрелялись при забавах ментов на охоте, рыбалке или где там ещё. Ружьишко мент перепродал, обогатился на дармовом приобретении.
А я стою на своём: раз нет у суда вещественных доказательств, значит, их нет. Тогда нет и состава преступления.
Забеспокоился прокурор, тот самый, что мне угрожал да адвокатишкой обзывал.
И не зря в беспокойствии стал пребывать законник, блюститель закона.
В суде прояснилось, что один из понятых мало того, что был пьяным, он вдобавок при изъятии арсенала курил на крылечке. То есть видеть ничего и не видел. Да ещё впридачу к «букету» иных нарушений норм УПК, допущенных следствием, понятой неграмотным оказался. Такого «букета» проколов юстиция давно не видала.
Вот и просидел наш Коля на нарах аж девять длинных-предлинных месяцев. И за ради чего? Да за ради доказанного синяка под глазом подруги! За хранение оружия был оправдан. И за якобы изнасилование тоже его оправдали.
А, может, за дурость мужскую он отсидел? Хотелось бы верить.
Впервые на арене убийца с обрезом
В центре города один недавно вернувшийся из северных мест гражданин, где он не сидел, а честно работал, заколачивая трудовым потом своим денежку, чтобы прокормить троих пацанов, из обреза насмерть свалил грузина, хозяина кабака.
Причем убил при народе. Человек так двадцать свидетелей было. А что получил? Свободу.
А почему это? А сейчас расскажу.
Сказать, что наш гражданин с Оплёвкин фамилией (фамилия по вполне понятным причинам мною изменена, но его настоящая фамилия, поверьте на слово, также весьма малозвучна) кристальная душа, язык не повернётся.
Так себе человечек. Не прост и не сложен, пил, как все, курил, как все, матерился, как все, на севера подался, тоже, как все. Был из семьи, где много «сидельцев», потому туда не хотел, где братья сидели, мотали свой срок.
В первый же день, как вернулся с далёкого севера, решил по обычаю «обмыть» новехонький автомобильчик. В магазин взял с собой старшего пацана и попёрся шампанское поискать, жену побаловать лёгким напитком, да себе прикупить чего то покрепче. Друзья соберутся к вечеру, так их что, шампанским поить?
В те времена дефицитов шампанское он нашёл в кабаке у грузинов. Хозяин шампанское не продал ему по цене, что продавал перед тем. Почему то решил слегка цену завысить. То ли по этой элементарной причине, то ли потому, что грузин оскорбил его в присутствии сына, но полаялись мужики.
Маленького кабачка показалось им мало. Вышли на улицу, где люди гуляли, собачки резвились, трасса рядом была. Пошёл наш товарищ к машине, пошарил под сиденьем. Обрез в руки лёг, как родной. Грузин у дверей кабачка тоже времени не терял: блестел пистолетом.
Обрез рванул первым. Грузин осел на асфальт, его подхватили, в больничку, что рядом, сумели свезти. Но не спасли эскулапы. Оплёвкин в ментуру явился сам, и даже с обрезом. В камере вёл себя очень достойно. Камера его и не трогала: убивец на нарах, это тебе не вор на печи.
Следствие длилось недолго по меркам моим, а по его Оплёвкина меркам, так вечность.
Знал ведь, что завалил человека ни за что, ни про что, так обида мужская разве смерти равняется, а?
Да не вернёшь человека, кстати, очень даже и неплохого. Все, кто грузина того знали, отзывались неплохо. Об Оплёвкине – хуже. Да и братья его ореола ему не добавляли.
Скучное юридическое название «воспроизведение события и обстоятельств преступления» на самом деле зрелище не для нервных, но жуть как интересное.
И откуда только народ наш узнаёт, где и что скоро будет? Народу собралось, как на цирковое представление. Не хватало только клоунов да криков «уважаемая публика, впервые на арене убийца с обрезом!» И погода народ не пугала: ветер ноябрьский дул с наслаждением, тонкий ледок хрустел под ногами многолюдного оцепления. Рядовой состав отрабатывал свой кусок хлеба.
Мы, то есть следователь, прокурор, понятые, и я гоняли свидетелей, вгрызаясь в тонкости очевидного. Следователь был не дурак дураком, как часто бывает, а парень толковый с характером лидера. Я ему надоела до чёртиков, но поневоле терпел: толпа уж больно большая собралась. И, наконец, прокололся главный свидетель, девица. Где уж нашли эту девку, я и не знаю, но врала она вдохновенно. Раз пять она повторила, как Оплёвкин вышел из машины, как вытащил обрез, как целился в несчастного грузина, у которого пистолета и не было.
Это потом я случайно узнала, что она от брата грузина ребёнка имела, потому и интерес у неё был к данному делу.
Короче, по её версии чисто преднамеренное с отягчающими обстоятельствами убийство получалось.
Вот тут меня и заело: что-то не так! Уж больно красивая версия получалась, а правда зачастую так некрасива.
Вгрызаемся дальше: задело и следователя. Нам обоим уже наплевать и на природу, и на глухо ворчащее оцепление, и на «тихих» мальчиков в трёх мерседесах, что так хотели быть незаметными, да куда там, три мерседеса за раз, ну уж совсем неприметное дело. Злили только, правда немного, дурные зеваки да холод собачий, но мы уже удила закусили, так нас заело! Азарт!
Ищейки азарт охватил старшего следователя, вот-вот ожидавшего звание очередное. Азарт узнать правду охватил меня. Что двигало прокурором? Оглядки на «мальчиков» в мерседесах.
Итак, в исступлении азарта искания правды прошу ту бабёнку показать посекундно, как мой Оплёвкин из машины выходил, как оружие доставал, как стрелял и т. д.
Та раз в шестой рассказала, как по заученному.
Следователь скрюченными от мороза руками всё записал (кстати, какой у него был почерк ужасный, хуже моего во сто крат, а уж мой почерк, похвастаться не могу, такой он дрянно отменный).
И действие было закончено. Уехали «мальчики» в мерседесах, рванув с места со скоростью 200 км, нимало не печалясь присутствием нарядов милиции. Девица ушла, страшно гордая своей заглавной ролью в театре военного действия. Подружки, открыто завидуя ей, поспешили за виновницей торжества: присоседились к её ликованию ролью.
Толпа растеклась, разбежались людишки домой погреться, чаёчку испить, да в красках порассказать домашним про действо, которого доселе ни разу не видели.
Все удалились. Потопала я домой. В ходьбе согреваясь, всё думала: что тут не так?
Следствие тихо закончилось. Дело пошло в суд, и на мучащий убийцу вопрос «что меня ждёт?» я привычно отшучивалась: «расстрела вам не обещаю».
Наконец дело назначено слушанием.
Как вдруг накануне суда является ко мне его жёнка, баба суетливая и любящая мужа до одури. И с порога заявляет мне, что муж приказал ей отказаться от моей защиты.
Вот, обидела меня, так обидела, так в душу плюнула, не передать.
Рванула я в камеру к подзащитному. Тот сам обомлел: как это так, денег в адвоката вложено? Вложено! Версию разработали? Разработали. Какой же тут может отказ? Чья вражья рука поработала, кто его знает, но эта жёнкина выходка подсказала: я на верном пути.
Ах, какой был фурор! Жаль, что в судах не бывает «браво» и «бис».
Такая малюсенькая на суде вскрылась деталь, что свидетельница та, основная, засыпалась. А малюсенькая та деталь состояла в том, что автомобильчик Оплёвкина был «тойотой» с правым рулем. А, значит, выходил он с другой стороны из машины, и бабенка не могла физически видеть, как он обрез достает, да как целится в жертву.
А отсюда и версия, что он первым стрелял, тут же посыпалась. Следовательно, нельзя уже отрицать, что грузин мог стрелять первым. Ну и что дальше? А дальше то, что вторым был выстрел Оплёвкина. А это что означает? Правильно – самозащиту! Пусть неадекватную, но все же самозащиту.
И пошёл он домой, на свободу. Кстати, обещал мне, видно, с запалу цветы принести. Так до сих пор и несёт.
К чему весь рассказ? Об адвокатском геройстве? Ничуть.
Мораль тут одна: говорите всем правду. И вам хорошо, совесть не будет мучить. И суду хорошо: истина восторжествует.
Ну, а что адвокатам будет меньше работы, так кто и когда жалел адвокатов?
Толики-нолики
История вторая. Почти мистическая
Почти в то же время, может, с разницей в два-три месяца, в соседнем селе произошла другая история.
«Нет повести печальнее на свете, чем повесть Анатолия и Светы», это я очень вольно перефразировала классика. Ну да Шекспир меня, наверно, простит.
Тракторист Анатолий ничем особенно в селе не выделялся: рос в многодетной семье, много работал, разве что поздно женился, но зато на молоденькой Светке. Быстро склепали двоих дочерей, которых он любил до безумия: и пелёнки стирал, и с детской кухни кефирчик носил, и колготки-пальтишки доставал-покупал. Да и то, можно понят: мужику к тридцати подкатило. Не пацан с романтическими бреднями в душе, семьянин! А что жену красивую да молодую отхватил, так молодец. Авторитета себе только у мужиков прибавил. Совхоз семье выделил, не в центре села, конечно, но дом. Как полагается, при доме сад-огород да разная живность типа несушек.
Девчушки росли. Светка, хоть пироги стряпать не умела и не училась, кое-как хозяйничала. Анатолий привередливым и не был никогда: откуда в многодетной семье его детства разносолы возьмутся? Что приготовит Светка, то и съедят. И что грязь в доме, его не смущало. Оправдывал женщину: дети времечко отнимают, некогда ей полы размывать. Что часто к матери в соседнее село бегала «в гости», так что в этом, беда?
Была у Анатолия страсть – охота. К ней с детства привык. И домой тоже подспорье: то гуся, то лисицу притащит. И душе отрада по полям лазить, адреналин повышать.
Светка, хоть страсть ту не одобряла, охотничьим припасам всегда рада была: шапку лисью с форсом носила, и гусятина-зайчатина на столе лишней не была.
Из-за общей страсти к охоте сдружился Анатолий с соседом, не то чтобы соседом, так, на одной улице проживали. Злые языки поговаривали, что сосед не только охоту любил, но и «травкой» увлекался. Так на то и злые языки, чтоб людей опорочить, да себя обелить.
Светка этого соседа не то чтоб не любила, скорее, все-таки, не любила, чем наоборот. И это нормально.
По осени, когда лучшая охота, и сезон разрешён, отправлялся Анатолий на добычу (с ударением на «о»). Что ж, урожай в селе собран, авралов нет никаких, осенняя степь дышит теплом, слякоти осенней да зимы крымской противной пока не видать. Ходи, да радуйся. Одно слегка огорчало: стал сосед что-то прибаливать, охоту пропускать. Раз пропустил, два пропустил. Решил Анатолий его проведать: может, что надо? Может, чем подсобить?
Завернул однажды с охоты рано домой. Удивился: ба, а что это за неполадок в сенцах? Стоят детские сапожки, Светкины. А это чьи-то ещё?
Рванул дверь, а в спальне два тела, сопят да стонут.
Светка, та – ой! Да к детям в комнату, за девчушек спряталась. Сосед ерунду стал молоть, мол, я Светку люблю, но у вас семья, как детей от отца отрывать. Муру, в общем, мелет. Мелет язык его, а глаза-мутные.
Детей Анатолий и пожалел тогда. Стерпел, даже бить супругу не стал в надежде, образумится, может.
Да и Светка на радостях, что муженек лупасить не будет, вторит-повизгивает: я его вовсе и не любила, сам пристал, как листочек банный, почти силой меня уломал, наркоман несчастный.
И покатилась жизнь почти по-старому. Может, что в душе и надломилось, да и жене-красотке дальше верить нельзя, но а дети куда же? Одной дочке четыре исполнилось. Другой два, им обеим и папа, и мама нужны.
Как поступить? Ни чужому дяде отдать. Ни самому уйти.
Терпел Анатолий.
Светка та из кожи вон лезла: и пирожки стряпать училась, всё к матери за советом бегала, как тесто ставить, да дрожжи правильно распускать.
И научилась. Придёт Анатолий вечером с работы, девчушек за руки из садика ведет. А в хате пирогами так сладко пахнет. И сердце ровнее дышит, и жизнь веселей, и проказа Светки с соседом отходит на план десятый.
Где-то через месяц собрался (раньше не мог, всё-таки Светкина обида занозой сидела) Анатолий опять на охоту. Встал, как и надо, до света, впотьмах собрался, ружье (узаконенное!) зарядил мелкой дробью. Так, гусей пострелять. Пошёл. Бродил по полям да по балкам. Ничего в тот раз не попалось. Нет, лисы встречались (закон подлости, он в жизни-то главный!), но с дробью на лис? Пускай так пацаны балуются, а зрелому охотнику дробь на лисиц тратить негоже.
К вечеру побрел домой. Есть захотелось, пирожками Светкиными, пусть даже горелыми, побаловаться. Букет ей нарвал. Есть такой кустарничек в степях крымских с мелкими сиреневыми цветочками и пахучий, и стоит долго. Красивый. Нарвал тех цветочков, с балки на улицу домой спускается.
Идти через дом соседа. Сердце и ёкнуло: что не зайти? И несут ноги к дому соседа, и мимо бредут. Мысли поганые путаются в голове: зайду, а там – Светка. Убью. Зайду, а там сосед сам. Тогда потолкуем, запомиримся насовсем.
Пришел. Сосед дома. Сам. «Заходи, поговорим да выпьем. У меня тут малость осталось». Сели да выпили. Как клещами из жил, разговор завязался. За окном белый свет, в хате не прибрано, на столе стаканы зеленью отдают. Нет от той выпивки радости. Но все равно пили, почти что без закуси: какая такая у одинокого закусь?
Сосед в разговоре и брякни: «ты, чё, думаешь я со Светкой твоей все прекратил?»
Чёрт, наверно, за язык его дергал.
«Нет, я с ней часто так кувыркаюсь. Как к матери за дрожжами-то свистнет, так ко мне и заскочит. Так что пироги те тебе от меня. Гостинчик тебе.»
У охотника ружьё всегда рядом. Мелкая дробь жахнула в лицо. Сосед, враз протрезвев, дал дёру в окошко. Дёру по огороду, запущенному да худому, хоть и большому. Анатолий – за ним.
От выстрела люди из домов повыскакивали. И началась суматоха!
Сосед бежит по огороду как заяц по минному полю, за ним – Анатолий, ружьё крепко держит в руках. Сосед и визжит, как заяц-подранок (и больно, и дробью глаза пожгло). Бежал как то слабенько. То ли силы Светкой надорваны, то ли от наркоты исслаб, но догнал его ревнивец, и прикладом, прикладом по бедовой головушке!
По заключению эксперта, было не менее десяти ударов по голове. Мозги соседовы не то что у Анатолия на кроссовках, у соседей на обуви были!
Арест воспринял спокойно, спросил только: «сдох?».
Долго мы с ним беседы в камере следственной разговаривали, он всё о девчушках своих беспокоился. О Светке – ни слова.
Та сама, морда бесстыжая, к следователю да адвокату нарисовалась, гордостью пёрлась: как же, из-за нее, красавицы, два мужика пострадали. Один жизнью рассчитался, другой в тюрьме на баланде сидит. Кстати, передачи ему она не носила, всё сестра да брат его старались, подкармливали брата родного.
Сядет Светка перед следователем, стреляет глазищами: мужичок ничего, да еще и с положением в обществе. Для захудалой сельской девчонки кусочек лакомый. Да тремя зубами и сверкает. Так и не спросила я у неё, почему всего три зуба у девки из пасти торчат. Вдруг, муженек да и выбил, А Светка ляпнет худое про него в протокол по глупости да по злобности, навешают мужу и избиение Светки. И так мужику на нарах не весело, чтобы ещё один эпизод добавлять.
А следователь брезгливо на её огромный воротник на платьице косится: был тот когда-то белым, да уж очень давно. А сейчас громадным блином жирное пятно на нем светится. Тут и про три зуба забудешь, и про иные прелести Светочки юной, без них вытошнит.
Дали Анатолию семь лет. Он приговор не обжаловал, и мне запретил. Сказал только, что всё равно семь лет не проживёт.
Раньше, на следствии, он сам мне рассказывал очень странные вещи. Да из песни слова не выкинешь, говорю, как помню, его слова.
Тогда арестовали его сразу. Тут же, на огороде соседском. Доставили в ИВС. Людей с воли, кроме адвоката и следователя, он не видел. Конвойные, те все не из его мест были. Ну а мы со следователем люди шибко городские, с селом его никак не были связаны.
А он мне подробно рассказывает, как и в чём хоронили соседа, кто и что на поминках рассказывал, что все село его жалело, а не Светку треклятую, что мать его на могилу соседа плюнула и кричала, что тому поделом за грехи пули достались. И люди её не осуждали. И что хоронили соседа на деньги от государства: народ не собрал подлецу ни полушки. И что Светки на похоронах видеть не видели: то ли сказалась больной, то ли дочками прикрывалась.
Я потом порасспрашивала людей из села, да брата его и сестру. Оказалось, всё так и было, как он мне рассказывал.
Говорю: «откуда это, Анатолий?»
А он мне: «сосед мне снится, каждую ночь приходит, все девять дней навещает. А на девятую ночь присел на нары да и на мой вопрос: «простишь, мол, смерть твою на тридцатом году непутевой жизни?» Он ответил: «Нет, не прощу. Ровно через год за тобой приду».
И сниться с того дня перестал.
Я Анатолию говорю, что это сказки да суеверия. А мужик духом упал.
Приговор выслушал молча, даже спасибо сказал, что ваша заслуга, товарищ адвокат, что вместо обычного на те времени «червонца» или пятнадцати всего семь лет получил.
На том и расстались.
Где-то больше года прошло, участвовала я уже в другом деле: защищала цыгана, убившего бабку соседку за 20 рублей. Ну, это совсем другая история.
И при трёпе со следователем рассказал он мне, как невзначай, что Анатолий тот умер уже.
Я: «Как это?»
А он мне поведал окончание той печальной повести.
Пришло в колонию Анатолию письмо от жёнушки бывшей: мол, дорогой муженёк, подала я на развод, потому как я молода и красива, мне хочется жить. А дочек твоих, как хочешь, так и воспитывай, мне они только мешают, под ногами путаются.
И рванул Анатолий в побег. Солдат-первогодок из автомата в него сгоряча семь пуль и всадил, и все в спину. Колючая проволока забора сползти не дала. Так, мёртвого с семью дырками, с забора и сняли.
И смерть та была ровнёхонько через год. Мы по датам проверили.
А Светку ту я ещё раз в жизни встречала. Лет через семь.
Вела я обычное гражданское дело, где бывшие муж с женой однокомнатную квартиру поделить не могли: он новым браком оженился, дитё народил, да новую жёнушку жильем обеспечить хотел. Вот той новой женушкой та Светка и была. И по справке жилфонда, дочек с ней не было.
А судьёй по делу была жена того следователя. Случайности, правда?
Жильё Светка не получила. Костьми я легла, но квартира ей не досталась.
Часто-частенько, когда мне пеняют, что, мол, как это так, вы, адвокаты, убийц защищаете, и нет совести у вас, адвокатов, и что вы злыдни, я вспоминаю Толиков этих.
Убийцы – они. А жёны их – королевы.
Ура! И погоны на плечи
Этот был не вор, не убийца, не растлитель малолетних, а вовсе наоборот, старший следователь! Следственного отдела аж самой милиции! И величать его следовало бы не Толиком, а Анатолием Петровичем. А вот, подишь ты, звали его все просто Толиком. И потому, что со всеми был мил да любезен, и потому, что как-то не получалось называть его строго по имени с отчеством. Его подследственные, конечно, называть его так и прав не имели, но между собой кликали Толиком. Их он не бил, что само по себе было редкостью. И нас, адвокатов, не обижал, не ставил обычные палки в колеса.
Вечером в главном кафе, где собирались гульнуть и бандиты и Толик, они чегось там не смогли поделить. Выскочили целой оравой за бедным ментом. Тот обогнул здание дома, шмыгнул в свою родную «девятку». Но тронуться не успел, как догнали его, паразиты! Главный обидчик, Женечка О., просто перевернул в одиночку машину.
Толик лечился, Женька сидел. Пока нары пролёживал в ИВС: прокурор ещё не решила, по какой статье дело Женечке шить.
Вот тогда меня подключили к защите бандита. Завели его в комнату следственную, да в наручниках, да при удалом таком сопровождении: участковый из старших, два мента по бокам. Я возмутилась нарушением прав человека: чего к адвокату в наручниках привели? Менты объяснили неумному адвокату: бандит есть бандит. Чуть не тер-р-ростический акт в отношении работника правоохранительных органов совершил! И т. д. и т. п.
Заставила таки оставить одних адвоката и подзащитного Женьку, чьи полудетские вихры никак не давали понять, что это суровый бандит с криминальнейшим прошлым. Наручники сняты, сел, закурил. И полилась наша беседа.
«Что, бабу не поделили?», – от неожиданности моего вопроса Женька опешил.
И правду: «Ага».
«Ну, рассказывай, как дело было?».
А дело обычное: не поделили бабёнку, смазливую очень, два мужика: женатый ментяра и Женька-пацан. Кстати, Светка, особу ту Светкою звали, тоже была не свободна. Муж её, Коля, тихо-тихо кололся. И мальчоночка в этой семье подрастал.
Светка с кафе быстренько смылась, а два барана остались подраться. Ну, а теракт появился потом, когда Толик прокурору докладывал, на какие там деньги да и зачем он вечером в кафе время просаживал. Не будет же Толик прокурору сам на себя статьи пришивать да навешивать. А про облик моральный его и вовсе молчим. Да ещё и жену его, Иру, быстро в известность поставят: – в городке сплетниц хватало. И не знаю ужо, кого Толик больше боялся: жены Ирочки или прокурора, но дело вывернул круто.
Так и попал Женечка О. в лапы системы. Так, мол, и так, докладывал Толик, террористический акт мы раскрыли! Ура, и погоны на плечи ему.
Стали писать протоколы, и стал сыпаться «террористический акт».
А я ещё пару свидетелей разыскала, которые и Светку, как облупленную, не понаслышке знавали, и в кафе при них мужички Светку делили, да не поделили.
Вышел Женька домой, на свободу. Светку ту бросил. Вскоре женился, ребенка родили. Бросил он мафию, поступил по контракту в ряды украинской доблестной армии. В спецназ определён. Почему?
Да забыла сказать: Женя занимался очень даже профессионально боевыми искусствами, какими, сейчас и не вспомню. Но ударом ноги выбивал косяк двери, это точно. На спор, пока он сидел, он упражнялся на казённых дверях, и старший тот мент, что его заводил, он тоже искусствами овладевал, как наукой. Разбили вдвоём дверь следственной комнаты вдрызг. В комнату, в следственную, куда на допрос приводили подстражных «сердешных». На спор. Чисто в моём присутствии, определяли, кто из них более крут.
Пыталось меня начальство милиции зацепить: подначила, мол. Я отвертелась: что то за двери, если ударом ноги разбиваются вдрызг.
А история дальше пошла своим ходом. Про Толика, разумеется, про него, капитана милиции. В отличку от Женьки он Светку не бросил, устраивал её на работу, добился «малосемейки», двухкомнатной, между прочим. В те времени спрос на жильё был огромен, и Светкино с Колей жильё драгоценным алмазом светилось в семейном брачном венце.
Коля всё наркоманил, да наркоманил. Стал приворовывать, ездил по селам и дальним и ближним, тащил всё, что за дозу сходило. Отец ездил к людям улаживать, как говорил, «ситуацию».
Потом Колька попался. За него хлопотал Анатолий. Бегал ко мне, упрашивал защищать злосчастного наркомана. Светка крутилась рядом да около, умываясь крокодильей слезой, всюду таская своего пацанёнка. Я сдуру взялась за защиту. Колька, безвредный верзила, признавался во всём, то есть в кражах. Не признавал грабежи. Грабежи те «висели» на Анатолии. Их нераскрытость вела к одному: лишению премии Анатолия. А Колька упёрся, аж в никакую! Грабить не грабил, вот воровать – воровал. С тем в суд и пошли. Колькин отец, жалеючи внука, ущерб возместил. Ну, думаю, хорошо. Грабёж отметем, за кражи Кольке светит «условно». И мне хорошо, гонорар отработан. И Кольке с семьей тоже неплохо, зачтут в срок пребывания в ИВС, и домой – на свободу.
«Не так сталось, як згадалось», говорит украинская поговорка.
Вот и у нас вышло наоборот. Вечером, накануне суда, пообщалась я с Николаем: вроде всё на мази. Утром, не торопясь, наслаждаясь природой, ползу на работу. Как хорошо день начинался. Одно только дело и ненадолго: Кольке осталось произнести последнее слово – и приговор. Почти сто процентов условный.
Бац! Судья, молодая и прыткая, что за карьеру и маму продаст, возобновляет судебное следствие. Что? Почему? У меня уши торчком.
А она: «Подсудимый, это ваше письмо?» И трясёт бумажонкой.
Тот: «да, моё». И она зачитала. С наслаждением. Вслух. Как котёнка слепого меня растоптала. В письме Николай признавался семье, что совершил всё: и кражи, и три грабежа, и просил наркоты «на добавку».
Получил он три года. Тюрьмы, а точнее, колонии.
Вечером, в следственной комнате, я чуть не убила злонесчастного дурака: как это можно самому на себя написать приговор?
Молодняк из охраны было подумал, что, правда, убью такого придурка. Жалели его: им ровесник, был он безвреден. Вот на паях и Колька, и молодцы из охраны мне рассказали, как вечером было.
После меня, вечерком, часов этак в десять, Кольке принёс передачу «друг» Анатолий. Толик, тот самый мент, что большим был другом семьи, особенно Светки. Принёс приличную дозу дурманного зелья. Колька со всей порочною страстью зелье скурил. Заодно «писал под диктовку какую-то «ксиву», про что, он не помнил: «в кайфе я был, неужель непонятно?» Кайф обошелся в три года реальных лишением свободы.
А что наш удалец-пострелец, мент Анатолий? А при удаче: и Светка при нём, и премия тоже его не минула. А через год он Светкину ту квартиру на себя «прихватизировал». Сумел, ну а как же! Сумел неудачливому «нарику» Кольке навесить три эпизода трёх грабежей, сумел и, попользовавшись смазливой грудастою Светкой, квартирку заполучить. Росло двое детей у него, сыновья подрастали. Толик им будущее им обеспечивал. А как же!
Да погоны новые обмывал всё в той же кафешке – майорские! Звание внеочередное он получил за раскрытие всех преступлений, придурком «нариком» совершённые.
Цена сережки
Заученными движениями в ранёхонькое летнее утро бабка привязала козу в лесопосадке, ближе к каналу. Своенравная коза могла в любую минуту рвануть только ей одной известную сторону. Наученная горьким опытом бабка постаралась покрепче привязать козу к колышку, и, для верности, пошла поискать ещё один колышек, чтобы спутать козьи ножки.
И через двадцать минут весь городишко гудел, как осиный улей: в лесопосадке бабка нашла донельзя замордованную дивчину, мученические глаза которой беззвучно-мёртво взывали к небу, такому голубому и слепящему, но которое уже ничего не могло дать ей в её так и не закончившиеся двадцать три года.
Искали виновных не долго, и вскорости нескольких человек бросили в темноту следственных камер.
Мне достался Федя (имя подлинное, а фамилию называть не хочу). Его допрос в присутствии сонма милиции, прокурора, эксперта и меня, его официального адвоката, начался как всегда рутинно и пошло: имя, фамилия, и т. д. А Федька трясётся: зубы стучали, руки дрожали, глазки бегали по лицам сидящих, искали если не защиту, то хотя бы понимание.
Я сомнение прокурору высказываю: этот самый Фёдор, небось, ещё не проспался, не протрезвел. Как его пьяным допрашивать?
А прокурор: мы, мол, экспертов из столичного города «дёрнули», с техникой плохо, очередь, а на видеозапись надо снимать, пока Феденька тёпленький.
Ладно, уговорили.
Федька рассказывал всё.
Вечером сели в малосемейке, где он проживал и его на сносях подруга, поговорить за нессчитаемой водкой друзья, пришла и всем известнаяв городе Танька. В свои восемнадцать Татьяна славилась всем: драками, кражами, другими там «подвигами», которые сотворяла исключительно для своей славы и выгоды.
Выросла Таня в странной семье: мать была дочерью бывшего когда-то в дрянном том городишке начальником милиции.
Мамашка страдала гордыней чрезмерно. На каждом шагу повторяла, что дочка она начальника всех ментов. Скромно умалчивала, что бывшего.
Государство семье выделило четырёхкомнатную. То ли детей пожалело: всё-таки пятеро, то ли папашка Людмилы тогда постарался, я уж не знаю. Короче, живи да плодись, работай и деток воспитывай, как положено.
Как бы не так.
Папаша то работал, то нет, но всегда пил. Детей было пятеро. Старший, Серёжка, был лидером в жизни.
Когда-то мне довелось его защищать: шёл по малолетству по нескольким кражам. Тогда меня поразила одна его фраза: «если бы знал, что в тюряге так плохо, в жизни бы не полез в чужие окошки. Но так жрать было нужно, да дома пацаны жрать хотят, мал мала меньше Я ведь в первый-то раз с голодухи и полез в хату чужую, набрал дребедени там всякой, но, главное, поесть притащил пацанам. Понравилось. Я и полез то к одним, то к другим. Вот и попался».
Срок получил минимальный, но все-таки срок. Мамашка Людмила сыночку родному ни разу передачки не передала. И вообще, печали никакой о сыне в глазах её не было.
Танька осталась за старшую в этой бедовой семейке. Росла боевой, не то что бесстрашной, но без любых тормозов в голове.
Мамашка Людмила, мужа любила, ещё больше любила пылищу в глаза запустить народу, покрасоваться-потешиться. Могла на тридцатку, что профсоюз на детишек подкинул, зарисоваться с супругом в единственный ресторанчик, шикануть на халяву.
Уж за что Господь наказал начальника милиции, наградив такой доченькой, не нам судить.
А дети? Росли… Под прикрытием Таньки.
В тот вечер, когда напились и наелись в гостях у Фёдора и его беременной тёлки, Танька, уже носившая кликуху (погоняло, кличка) «Злоба», прицепилась к одной из блондинок.
Две блондинки-подруги нечаянно забрели в гости в расчёте заиметь знакомства с какими-то мужичками. Те мужички не пришли, причём чисто случайно. Автобус их опоздал, а пешим тащиться в далёкую даль даже из-за красавиц-блондинок было им «в падлу», как они выражались.
Подруга будущей жертвы глушила водяру наравне с мужиками, вторая блондинка рвалась домой: дома ждал пятилетний сынок, оставленный на соседку.
Да не срослось.
Танькины претензии были отнюдь не беспочвенны. Пропала одна из сережёк, золотая, между прочим, хозяйки жилища. Той самой, что была на сносях. Жертву долго искать не искали: раз Танька решила, что украла одна из блондинок, значит, так тому и быть надлежало. А в реальности украла она или нет, никого и не заинтересовало: всяких пинкертонов иль холмсов Татьяна с погонялою Злоба заменяла сполна. Перечить Танюхе, значит, нарваться на Танькину кличку. А уж её Танька оправдывала по полной программе.
Дивчина отказалась брать на себя вину в краже сережки. Долго уговаривать её и не думали. Бить первой стала, естественно, Танька. Били то в ванной, то в крохотной кухне, в заплёванной комнате тоже к жертве каждый ручоночку приложил. Руки связали по ходу, и одуревшая от обиды и побоев деваха почти что созналась в не содеянной краже.
Аппетит приходит во время еды, и деваху решили всем скопом вывести «в люди», то есть на улицу, в тёмное место, где ори не ори, никто и не выйдет. Шли долго вдоль тёмной ночной улицы, которая упиралась в посадку перед каналом.
Деваха тихо стонала, всё время просила простить. Надеялась, бедолашная, на пощаду от Таньки или Федьки, а больше всего уповала на защиту беременной Федькиной дамы. Даже клялась здоровьем своего пятилетнего сына, что серёжку ту на брала. По дороге мучители лениво тыкали жертву то палкой, то кулаками. Та от толчков поддавалась вперед. Так странная кавалькада двигалась к каналу.
В посадке допрос с пристрастием продолжали недолго. От подножки деваха свалилась. Танька первая напустилась на бедную. Привыкшую драться Татьяну учить было не надо, как побольнее ногами ударить. Слабые жертвы попытки защитить всё еще красивенькое личико окончательно взбесили присутствовавших на «светском рауте дам». И бить стали крепко.
Дама, та, что была на сносях, станцевала на радостях от пойманного кайфа джигу на животе у жертвы. Зажигательный танец то ли шотландцев, то ли ирландцев так взволновал кавалеров, что двое из трёх изнасиловали жертву. Федька не смог: мешало присутствие будущей матери его будущего дитяти, а то бы и он жару добавил. Разве же он не мужик? Под два метра ростом, с кулачищами молотобойца, да с размером ноги сорок пятым.
Кстати, его дама сердца тоже была ещё та кобыла. Ростом более метра семидесяти, телом крепка, нравом задириста. Ещё и басила в прибавок.
Девица стихала, разбитые губы боялись просить о пощаде, только глаза молили, просили. Напрасно! Забили девицу втроём: два мужика и Татьянина злоба. Под венец своего творения вбили несчастной кол во влагалище. Им всем показалось смешно! И отправились восвояси: допивать, что осталось.
Серёжку нашли при положенном обыске. Она завалилась да спряталась на заплёванном шелухою полу под диваном.
Нинка-картинка
Да, нет, скорее, Нина.
Утопавшее зимой село в сугробах, летом, буйно цветущее и растущее, некогда было оно богатым и привольным, богатевшим от наезда сюда отовсюду прасолов (купцов, торговавших солью) да чумаков. И название оно носило, скажем, такое: «Лабазинка».
Выросла у родителей, людей для села совсем уж обыкновенных. Мать всю жизнь горбатилась в саду да огороде. Отец, как все мужики села в празднички да и будни не за грех считал самогончика-первачка попить, да в кругу таких же любителей выпить вволю полаяться на власть да нудного соседа.
А девочка выросла хорошая. И красивая: статная, с высокой грудью, ловкая да храбрая. И в саду первая для матери работница, и в школе (девятый класс заканчивала) почти отличница, и по дому мастерица. А какие пирожки умела печь!
Девчонку такую даже солдаты не трогали, сами почти все из сел да деревень. Они такую за честь имели бы в жены взять, а не так, побаловаться от родителей да от невест подальше. Да и Нинка могла бы сдачи дать да так, что света белого не взвидишь, не то что ротного!
И расти бы дальше Нине, как цветочку лазоревому, родителям на утешение, селу на удивление, добру молодцу на счастье.
А хотите «лав стори»?
Сейчас так модно читать наиглупейшие любовные романы, да фильмы до одури смотреть на всю ту же вечную тему о «любви-дружбе», бесконечные сериалы пережевывая, как жвачку, приторную и такую же вредную.
А тут вся история из жизни, с такими кипучими страстями, что куда там сериалу с очередной Марией или Анжеликой.
Аккурат к Нинкиным выпускным появился в селе парень удалой да молодой. Только после армии, он лихо гонял на батькином мотоцикле по селу, пугая кур. Жених, прямо сказать, был видный: не с сельским «трехогородным» образованием, а закончил какое-никакое ПТУ, да отслужил армию, благополучно за два-три барашка миновав «горячую точку».
Мать в нем души не чаяла. Сама была не из бедных, и сыну готовила жизнь прекрасную. Мотоцикл подарили ему это так, для баловства. И невесту хотела хорошую, то есть богатую. Ну и не Нинку, само собой. Зачем ей бедная бесприданница, да еще с язычком, что твоя бритва. Нам бы невестку тихую да спокойную, да с машиной-квартирой в приданое. Вот было бы счастье молодым.
Уж не знаю, пела ли мать в уши сыночку ненаглядному, или сам он из подлецов родом, только влез он в Нинкину комнату ночью. Да и остался там. Родители её или не услышали ночных шорохов да вскриков, или не захотели слышать с дальней мыслью, что такому зятьку только радоваться должно. Нинка поплакала-поплакала, да и успокоилась.
Парень вроде нежный попался, от неё до поры до времени отказываться и не думал, женихался по-обычному. На танцы водил, на мотоцикле катал. Вот роз, само собой, не дарил: где уж в селе покупные розы-то? А в район за розами смотаться? Ёще чего, идти на такие затраты, раз Нинка и так согласная.
Как только следы их любви стал уж оченно явно проявляться и по осени Нинка в старенькое свое пальтишко уже не влезала, несостоявшаяся свекруха развернула бурную деятельность. Язык её доставал Нинку везде: в магазине, и в медпункте, ну и, знамо дело, в школе.
Нинка скрипела зубами. Но школу закончила! Учителя, сельская интеллигенция, особенно если не из села родом, Нинку поддержала. Кто словом её ободрял, а кто и куском хлеба да пеленками-распашонками отдаривал.
Родители Нинкины повели себя в точном соответствии с сельским кодексом чести. Решили, что им кумушкам сельским на язык зачем попадаться?
Ох уж эти кумушки! За что ненавижу я село, так это из-за них, треклятых. Их охочесть знать всё и обо всех поражает. Никакой компьютер не удержит сразу в памяти всё то, что обычнейшая сельская кумушка помнит, хоть ночью разбуди. Хоть днем по башке тресни, выложит сразу всё о ком хошь.
Переселяясь волею судьбы в города, эти дамочки (занятие, в основном, это женское, у мужчин память-таки слабовата будет) и там занимаются главным для себя в жизни: косточкомоем ближних и дальних своих.
Ни образование, ни общественное положение тут роли не играет: я знала таковых кумушек и среди адвокатесс и судейского корпуса, и среди обслуживающего персонала такие встречались.
Всегда загадкой для меня было, зачем это им надобно? Не успев придти на работу, они группировались у главного своего центра, самой активной из них, и начиналось, боже ты мой! Весь город как на ладони: и кто с кем, и кто откуда. И кто зачем…
И ни о ком хорошо. Даже если через натужно-елейное: «как ее… (имярек) жалко…»
Только одна из них на моей памяти извлекала практическую пользу из своего кладезя злословия. Она служила у мафии чем-то вроде «базы данных» на людишек города. Весь компромат держался в одной башке. А учёные говорят, что мозг человека работает только на десять процентов. Уверяю, у главной кумушки мозг вырабатывался на все сто.
Ну а все остальные? Ну да бог с ними, не моя задача ковыряться в их поганеньких душах.
Так вот, родители Нинки от неё не то чтобы совсем, но всё же отказались: ни пеленок, ни распашонок, ни слова участливого от матери да отца она не услышала. Только шипели: «гулящая», как клеймо страшное и поганое, навесили на собственную дочь.
Нинка не сдалась! Настенька родилась славная, крепенькая, язычок поганенький свекрови её не доставал: росла да агукала. Нина дочку любила до безумия: «сама выращу»! Папаша, тот кроме телеграммы в роддом «назови дочку Настенькой» ничем более не проявился. Исчез из села. Не подвиги поехал свершать, чисто-начисто струсил.
Нинка плакала или не плакала, суть уже и не важно. Не больно поплачешь, коли молоко пропадать из-за слёз начинает. Дитё кормить, оно важнее будет, чем по блудному папаше слезинки проливать.
Но куда нам без экономики? В самой красивой «лав стори» без экономики никуда.
Как то есть без денег, прожить? И дитя кормить чем-то надо, и самой с голоду пропадать неохота. Тут кто-то из учителей надоумил в город к юристу съездить: может, какие права у Нинки-то есть?
Так Нина попала ко мне.
Не буду вдаваться в юридические тонкости этого довольно сложного с точки зрения гражданского права дела. Ликбез на дому вам зачем?
Дело тянулось полгода. Против нее ополчились не только «свекровкина» родня да «общественное мнение» родного села. Это было пока полбеды.
И не то, что против нее адвокатом в процессе выступало местное юридическое светило (царство ему небесное!) того времени. Свекровь расстаралась, суетилась недаром и не даром. Это тоже ещё не беда. И даже то, что судья вначале занимал позицию вроде как против нас, тоже было неважно.
Для Нины ударом, да еще и каким! было участие в процессе «папаши», назовем его Виктором. Надо же, память стёрла даже поганое имя его.
Виктор в процессе вел себя, ну как вам описать? Уж не уж, угорь не угорь, но извивался как чёрт на сковородке: и я это не я, и лошадь, то есть дитя, не моя.
И Нину чернил, да так старался, как он представлял, интеллигентно: и что зачем меня ошельмовала, я ведь чистенький да красивенький тут стою, прямо картинка писаная. И все старался на публику работать, которой в зале то и не было.
Такие процессы всегда закрытыми бывают, и слава Богу. Не то все кумушки села, а для бешеной собаки сорок верст не крюк, оккупировали бы места в небольшом зале суда, отнюдь не зрительном по предназначению.
И как самый весомый аргумент предъявлял свидетельство своё о браке с другой особой. И что дитя там уже ждали. В том, стопроцентно законном браке.
Если бы не та телеграмма (помните, «назови дочь Настенькой»), что он из Алушты с командировки послал, может, отвертелся бы молодец от закона.
А так признали его отцом ребенка. Кстати, копией папы с громадными голубыми глазищами. Алименты присудили ребенку платить, да Нине немного с того перепало.
Всё по закону, по совести всё.
Правда, побегала свекровушка, понагадила: и дорожку чем-то вредненьким ребёнку подсыпала, и Нинку по всем кочкам честила-мерзила, да и мне, грешной, говорят, доставалось немало. Но это так. К слову пришлось.
Да ещё предлагала откупиться от внучки непризнанной: «я тебе, Нина, деньги на машину, ты от отцовства да алиментов откажись».
Нина, закалённая в битвах за это столь долгое для неё время, отказалась. «Свекровь» аж зашлась: как эта малая с…ка ей смеет перечить!
И пустила в ход тяжелую артиллерию.
Это сейчас мы красиво так слова обставляем: «чёрная магия», «эзотеризм» и прочая дребедень.
А тогда было просто: ведьма, и все тут! Село и так поговаривало, что Нинкина «свекровь» такими вещами издавна балуется, а тут всё воочию стало.
Нинка и это вытерпела.
Я до сих пор поражаюсь не то что бесстрашию этой девочки, а какой-то внутренней правоте, убеждению. Что если я права, мне и чёрт не страшен, а Бог тот всегда поможет. И всегда в разговоре ни о ком плохо. Всегда тактична. Горда. И… спокойна. В столь юном её существе такие качества не могли не породить вражду в душах чужих и подленьких (это я о кумушках), а уж в душонке «свекровушки» ненависть смертную, безрассудную.
Только палка, она ведь всегда о двух концах.
А конец у истории страшен.
Не для Нины. Тут, как в обычной «лав стори» всё стало о, кей!
Я встретила её через несколько лет, абсолютно случайно, на маленьком вокзальчике. Стройная, красивая дама, при ней крутится шустрик глазастик-девчушечка – Настенька. И муж рядом. Нет, не Виктор. И слава Богу! Так не хотелось, чтоб всю судьбу с ним связала. Другой, лет тридцати, обыкновенный мужчина. И не красавец, и не урод. Надёжный. Приезжали они из села Настеньке обутку к школе купить.
Выходит, та палка ударила не её.
Женился наш Виктор по самой надёжной любви: «на машине да квартире симферопольской», да в придачу к приданому дочку начальничка прихватил. Так в Симферополе и зажили, не бедствуя.
Виктор, как сыночек весь маменькин, в село наезжал, мамашу проведать. Летом, когда пыль на дороге столбами стоит, катался на мотоцикле. Однажды на ровной дороге да с мотоцикла-то – бац! Не насмерть. Но инвалидность какую-то там получил.
Попозже лихо настигло другое.
В положенное время, на совершенно законных основаниях родила ему его абсолютно законная супруга, что дочкой начальничка была, ребёночка.
Сухоручку.
Я не знаю как там по медицине такое называется, но в народе это зовут «сухоручка». Когда рука у ребенка как лапка цыплячья, и не растёт.
Еще раз про любовь
Расстроенный гражданин приехал под вечер: сожитель мамаши убил мужика, что гостевал у них с вечера. Так отказаться хотелось, но странные обстоятельства происшедшего заставили встряхнуться и взяться за дело.
Следствие вела не прокуратура, а милиция. Значит, работать было попроще. Вечером, в следственной комнате, состоялось знакомство с убийцей.
Невысокого росточка хлипенький мужичок смотрелся лет так на 60 или больше. На разговор шёл неохотно: «убил я, и ладно, судите меня, не пропаду и за стенами каземета. В адвокате я не нуждаюсь, зачем зря денежки тратить. Я же всё признаю, так зачем адвокат».
Устав от заезженной его пластинки «я убил, я и сяду», отложили беседу на утро.
По дороге Викентий (имя, естественно, не его, но как то же надо назвать гражданина?) рассказал, что мужичок этот, узбек, воспитал и его и сестру, довёл не только до совершеннолетия, но и образование помог получить. Работал отчим не отчим, но как бы отец прорабом всю жизнь у себя в Андижане, где и они выросли.
Да понесла их нелёгкая на родину матери, в Крым. Так и осели в селе, что до войны был центром района. Работу узбек не нашел, так, помогал матери по огороду.
Как случилась беда, Викентий не знал, мать же молчала. Просил, помогите отчиму, уж больно он человек хороший. Порядочный, честный. Хороший. И мать очень любит.
Утром у следователя на столе лежал результат экспертизы такой, что мне пришлось настоять на дальнейшем расследовании, пусть даже следователю было бы страшно противно рассматривать вроде бы очевидное: есть труп, и есть сознавшийся убийца. Ну что еще надо? Подкрепи парой свидетелей, экспертизой. И дуй к прокурору, пусть дело гонит в суд.
Но вредность моя не позволила так быстро «испечь» результат: явно было что-то не то и что-то не так в этом деле.
Ну, во-первых, из экспертизы вырисовывалось, что удар мог нанести кто-то физический крепкий, высокий: топор был тяжелый. Во-вторых, удар был нанесен сверху, а наш узбек был невысокий и худенький, как подросток. И жертва удара в момент своей смерти не лежала, а стоял мужичок у порога. Так что тот, кто хватанул его топором, был ещё выше. И кто же?
Бедняга следователь! Попотел на работе, не праздничал. Даже обленившихся ребят из угрозыска заставил работать. Но всё было тщетно. Посторонних в доме не было. Вечеряли втроём: узбек, гость и Викентия мать, хозяйка жилища. Да, сидели и выпивали. А что тут зазорного?
Но кто-то же гостя убил?
Мы почти что ругались со следователем в поисках истины, пока разгадка сама не явилась. Викентия мать принесла передачу сожителю, а раз передача была вне очереди (он просил сигарет и носки потеплее), потребовалось разрешение следователя. Я случайно сидела в его кабинете, ожидая подругу, тоже сотрудницу следствия). Лениво переругивалась со следователем по поводу затянувшегося дела, когда она появилась на пороге: здоровенная бабища далеко за пятьдесят, жилистая и крепкая. Такая не то что топор, самого гостя могла поднять.
Положение стало таким щекотлививым, что срочно пришлось ситуацию обсуждать экивоками да намеками с Викентием: как ему заявить, что убийца, то матушка его родная? А, может, он сам догадается?
Каюсь, я, каюсь: пошел наш узбек по убийству в суд. В своё оправдание только скажу: судье я всю правду сказала. Может, поэтому дал он узбеку только пять лет.
Так узбек, добрая его душа, меня ещё и жалел, говорил: «не пропаду и в тюрьме». И то правда. Тюремное «сарафанное радио» быстро передало весть о том, что узбек взял грех на себя за любовь. Его даже ни разу не били. Ни камерники, ни охрана.
Викентий в колонию слал ему передачи, пару раз ездил, и рассказал, что узбек сейчас строит начальнику колонии то ли гараж, то сауну, а как только построит, тот его досрочно отпустит домой.
Страдать за любовь.
Зря, ты, подполковник, вешался на крюке!
Летом Евпатория солнечна и тепла, во все тридцать два зуба скалится навстречу курортникам – деньги!
Зимой же тосклива, как волчий вой на закате. Дожди и скука. И люди зимой мелки и скучны, тоскливы и мрачны.
Прелюдия
Месяца за два или три до события обращался ко мне за помощью подполковник, назовем его Петровичем. Он «слегка» проворовался, не считая запуск в карман государства за тяжкое зло. Жаль для него, что государство счёт вело по иному. Государство предусмотрело за его грешки лет этак десять или даже и больше в суровом климате камер и зон.
Петрович никак не мог ни понять, ни поверить, что можно сесть, и надолго ему, такому красивому и обеспеченному, сидящему на должности, что позволяла вращаться в высоких кругах от депутатских до очень даже не очень.
Ну, подумаешь, комиссия чуть не три месяца заседала, бумажки на свет просмотрела, поопрашивала всех, от главного бухгалтера до последнего дворника. Не страшно и это. Людей своих он не боялся, в бухгалтере Марье Васильевне был уверен, почти как в себе. Люди на стороне воды в рот наберут: каждому шкура дороже. Ну и т. д.
Власть развращает не умных, иммунитет от неё прививается редко, самым уж избранным. Петрович считал себя избранным: ссылки на властных персон в его речи мелькали частенько. То генерал от разведки, то мэр не последнего городка, то прокурор в дружбанах.
Вот о прокуроре речь пойдет поподробнее.
Итак. Начинаем.
Начало
Исчез после двух или трех месяцев хождений к адвокату наш подполковник. Ну, думаю, всё обошлось, как это часто бывает.
Ан нет!
Звонок. Молодой и ретивый «следак» гарнизонной прокуратуры, из тех, что рвётся по трупам к звёздочкам на погонах, приглашает на встречу с моим подзащитным. Удивлена: у меня в производстве дел в этой прокуратуре пока не бывало. Настойчив. Иду. Опускаю долгое «стояние на Урге» у стен ИВС (изолятор временного содержания) милиции. Наконец-то дошла моя очередь, спускаюсь в подвал, подаю документы, как и положено.
Показали сержанты следственную комнату. Иду. Вдруг навстречу, как сорвавшийся с цепи пёс, начальник ИВС. Орёт, только что не матом, хватает за рукав полушубка. Не человек, псина псиной.
Мех полушубка рвётся, что та бумага. Ну, тут вскипела и я: не каждый же день можно позволить меховой полушубок прикупить. Баба и мех: страшные вещи. Особенно, когда они воедино.
Итак, пообщались, если можно сказать, сцепились авторитетами. Он мне: я тебя в камеру закрою, я – погоны оставишь на бетонном полу. До сих пор помню имя его: Жориком звали. По взрослому не Георгий, наречен при рождении Жоржем. Может, имечко повлияло на характер этой особы, или бездумная власть развила в нём наклонности идиота?
А в коридоре на нашу «цыганочку с выходом» собрались все не только менты, но и пара-другая подследственных. И среди них тот подполковник, без кобуры и фуражки, стоит, как линялое бельё на промозглом ветру: обвисший и серый.
Сели с ним в стылой следственной комнате, и пошла беседа начистоту.
Итак, его версия.
Петровича вызвал к себе прокурор, полковник и друг, только не кум.
«Виталик, садись, кури, у меня дорогие. Да и сядь, напиши что-нибудь, зря что ли, комиссия у тебя месяца два заседала».
Виталик и пишет. Только что удивило: прокурор на какой-то бумаге печать не там ставит. Мы все привыкли, что на казённой бумаге печать ставится не абы где, а слева внизу. А тут синенький кругляшок ставится вверху, да ещё и справа.
Подивился, хотел было даже и пошутить. Совсем, дескать, заработался дружбан, уже печать не там ставишь, где надо. Предложил для разрядки: пойдём, что ли обедать. Подсказал прокурору: чего ты печать то ставишь не там? А тот убедительно твёрдо в ответ: «там, Виталик, именно там»! И на кнопку звонка нажал твёрдым пальчиком.
Зашли в кабинет двое, надели наручники на руки, а прокурор им вслед: «дураки, санкцию на арест заберите»! И эту самую бумагу им отдаёт.
А недописанные другом листочки бумаги так и остались у прокурора на столе.
За дело шустрее шустрого взялся следак, молодой и ретивый. То ли погоны хотел зарабатывать, то ли квартирку себе, то ли по жизни был таким, но рвение было жуткое. В ход шли и «я тебя урою!», и «сына не скоро увидишь, если вообще увидишь», и вовсе непечатные вещи.
Помучал следователь Виталика часа три, не дождался признания, и вызвал конвойного: в камеру, придурка такого!
А в камере что? Красота! Трое сидельцев, что шли за убийство, времечко коротали за картами и галдежом. Виталик съёжился, мечтал в полутень превратиться. Так и сидел, скорчившись, на полунарах. Ночка прошла.
А наутро увидел, что в камере полушубок пропал, свой, флотский и офицерский. Спрашивать вот у этих, что ждали автозак ехать в суд на расправу? Решил, что следователь молодой какой никакой, а всё же военный. Поймёт, что если не полушубок, то хотя бы китель жена передаст: в камере холодно до лютой дрожи.
Пришёл следователь, заикнулся Виталий про китель. В ответ ни гу-гу.
С женой повидаться просил, в ответ только заржали. Случайно тут вспомнил мой телефон. И то, самому позвонить не позволили, капитан (следователь) обещал сам позвонить. Позвонил.
Я вижу: человек духом совсем уж упал. И странные какие то глаза у него: красные от крови белки, глаза навыкате. Смотреть неприятно. Думала: били. Ан нет.
Но всё по порядку. Бить то не били, но от тоски, от предательства друга: сколько вместе выпито-съедено, сколько охот на бабенок да уток было исхожено, от безысходности, что ли, от хамства ментовского, от сокамерников-душегубчиков накатило всё разом и ночью Виталий повесился.
Секунд эдак тридцать до смерти осталось, как кто-то из камеры встал и от ужаса вздрогнул. Втроем то из петельки грешного вынули.
Успел даже письмо предсмертное письмо, не письмо, а целую летопись ажурнейшим почерком накатать, где всем сёстрам по серёжкам досталось, даже адвокату, то бишь мне, перепало. Уж и не знаю, за что. Ладно, простила висельнику его проблемы, и началась моя работёнка.
Прежде всего, успокоила грешного: пусть в камере попадаются разные люди, не всех из них звери, но все они – люди. Вот вы, разве считаете себя уголовником?
Вижу, доходит, кивает в ответ: нет, я человек.
Я: так и остальные такие же люди. Вот, спасибо скажите, из петельки вынули. Один из них наутро даже не смог показания в суде дать, так был напуган ночной переделкой. Ну, а что касается кителя офицерского флотского, так камера в жизни у своих не возьмёт: за крысятничество в зонах наказание жуткое. На воле-то дело другое, воруй, не попадайся, а здесь правила те ещё: не воруй друг у друга. Так что ищите тот флотский свой полушубок у ментов по квартирам да дачам.
И, как в воду глядела: нашёлся полушубок у одного из доблестнейших сотрудников нашей славнейшей милиции, оказавшимся, как ни удивительно, соседом по лестничной площадке нашего страдальца. Но это вскрылось потом.
А сейчас задача стояла одна: выстоять.
Кончилась наша первая беседа, и вскорости, в тот же день, попал человек на больничную койку с охраною бдительной. В больницу долго меня не пускали: нельзя. Таки прорвалась, пообщалась. А сколько потом в СИЗО в Симферополь наездилась! Считала, не меньше восемнадцати раз. И по делу ездила, и почти что без дела. По делу, так надо было позицию вырабатывать, защищать уже ошкуренного от мании величия подполковника в рамках уголовного дела. А проходил он по тяжкой статье. А без дела, так надо было каждый раз убеждаться, что «маски-шоу» с ним не работало.
Не знаете, что такое «маски-шоу»? Объясняю: в СИЗО работает группа сотрудников в масках, отсюда первая часть «маски», а «шоу», так это потому, что они в камерах такие шоу с подследственными вытворяют, что куда там фильмам про садистов.
И даже напоследок, когда уже знали, что выпускают моего подзащитного из-под стражи, уже от бессилия напустили на него не только двуногих вояк, но их четвероногихволкодавов, наученных гениталии отрывать при первом же налёте. Спасла подполковника только армейская выучка да незабытый спорт. Жирок командирский у него и на воле так и не вырос, а тюремные стены толстеть не дают. Подпрыгнул, схватился руками за провода под током: выжил ещё раз.
Воруют все!
А как всё красиво начиналось!
Попал с помощью «волосатой» руки на хорошую должность, да ещё в центре города. Коллектив небольшой, но стабильный. Главбух, так просто золотко. Кроме «да, Виталий Петрович», и слышно ничего не было. Ах, как красиво всё было. Сделать 9 мая для ветеранов праздником светлым, да боже мой, за милую душу. И подарки дарили, и скатерти накрывали, солдатскую кашу да фронтовые сто грамм для ветеранов – пожалуйста, с нашим на то дорогим удовольствием.
И сильные мира сего принимали участие в столь благодатной акции. Правда, за отдельно накрытым столом, где не только сто грамм да солдатская каша на столе сиротствовала, а и ещё кое-что, более приятное начальственному глазу и рту наличествовало. Был, там, кстати, и наш общий знакомый. Тот самый прокурор, что санкцию на арест давал. Не брезговал, наверно, и икорочкой, и коньячком со звёздочками.
Много, много полезных для города мероприятий сделал Виталий Петрович. Депутаты в очередь становились ручку пожать, спасибо сказать. И мэр города тоже ручку жал, спасибо высказывал, работников своих от культуры в помощь давал. Работники те, скорее, работница, начальник отдела культуры, помощь посильно, себя не забыв, оказывала. Старалась, хлопотала, с директором театра свела, шустрым и наглым.
Ах, как весело было в городе жить.
И ремонт провели, и мебель для помещений доставали. Кое-что из мебели и домой перетащил: ну как же, быть у ручья и не напиться?
И на грешки Марьи Васильевны глаза закрывал: баба по мелочи «обналичку» шустрила, сапоги-босоножки дочерям покупала.
Погорели на мелочи.
Обиделась главбухша на то, что начальнику в кабинет шторки новьём-новые повесили, а ей достались шиш да маковка. Ну и накатала донос на Петровича по всей форме, на листах эдак десяти. И отнесла куда надо. А те, кому она свой донос принесла, в столицу бегом доложили: мы накрыли жульё, которое воровало и ворочало такими миллионами, что мама не горюй.
И сверху сказали «фас».
И взяли хлопчика под ручки белые, в камерку тесную да мрачную на месяцев восемь и закатали.
Что-то в этом деле взяло меня за живое: воровать так вместе, а сидеть так один Виталий Петрович? Жалеть я его не жалела: во-первых, жалость не профессиональное чувство. Во-вторых, перед законом он таки виноват. А в третьих взыграла профессиональная жилка: раз против меня вся милицейско-прокурорская рать, я, что, ничего не могу? И пусть они на правах свидетеля Марью Васильевну в деле поначалу держали, пусть за Петровича друзья да приятели-депутатики и не думали заступаться. Даже характеристику заслуженную и то не давали, то с опозданием на два дня в суд принесли, когда санкция на арест была судом пролонгирована. Да, крепко мужику не повезло. Но больше всего меня задела наглость Марии Васильевны: обещанная ментами милость быть свидетелем в случае полной сдачи своего патрона грела ей душу. И распустила бабёнка свой язычок. А как же! Ей заранее простили и грешки в виде обналички, и то, что она сотрудникам только часть зарплаты выдавала, присваивая от каждого трудяги себе по жадности своей, и т. д. и т. д. Сядет, расставит по-хозяйски в следственной комнате ноженьки мощные, ротик откроет, и грязь полилась!
Я, наверно ставки (очные ставки. Следственное действие, призванное устранить противоречия в показаниях) две выдержала, а потом начала придавливать бабу: скажите то, да объясните мне сё. Мне даже нравиться начало, как женщина эта учила меня, неразумную, азам своей хитрости.
Следователь (кстати, следователя мы поменяли). Пришлось к прокурору региона мотнуться. Ой, это отдельная история! Не утерплю, расскажу.
Визит к прокурору
К прокурору поехали массой: три депутата, директор театра, зав. отделом культуры, и я, где-то там, в конце шлейфа свиты. Микроавтобус был знатный, считай, Мерседес, депутаты держались нагло: а как же, они хозяева жизни. В автобусе говорили о пустяках, директор театра публику веселил знакомством с Киркоровым да Машей Варум. Так и доехали в Севастополь.
Прокурор принял нас быстро. Ввалились к нему в кабинет, расселись за длинным столом, депутаты важно подали свою значимость. Слова депутатского хора полились привычной струей. Им не нравилось только одно: цепкий глаз прокурора смотрел на них как-то так непривычно. Как будто тот определял, кому в какой камере место найти. Но форс не теряли, за Петровича заступались, заслуги его вспоминали. Старались.
Прокурор тоже старался, вежливо слушал, потом вдруг словесный понос депутатов прервался вопросом его: а кто из вас адвокат?
Я привстала со стула. Он кивнул и тихо: адвоката прошу остаться, остальным – до свидания.
С депутатов и свиты как-то сразу весь шарм пооблез, тихо потянулись на выход.
Наш чисто профессиональный разговор длился минут эдак пять, но нам поменяли следователя и убрали, извините, отстранили прокурора от надзора за следствием. Дело вышестоящая прокуратура взяла в свои руки.
На этом деле повезло только вновь назначенному следователю: за время командировки в Евпаторию он получил квартиру и очередные погоны, а в дальнейшем и серьёзное продвижение по службе.
Итак, вернёмся к очной ставке между Петровичем и главным бухгалтером Марьей Васильевной.
Следователь (уже новый, назаченный «сверху») то тихо поддакивал пани главбуху, то черкал на длинных страницах свои замечания по данному делу. То с интересом, от удовольствия только что ножками не дрыгал, смотрел на наши с Марией Васильевной стычки.
Веселие общее закончилось тогда, когда я вспылила, и всем обещала, что по этому делу или оба, главбух и Петрович, надолго поедут в места отдалённые, или оба будут свободны.
Такой расклад не устраивал ни Марьюшку, ни следователя. И даже Петровича, который за второй вариант был готов обеими руками голосовать, а от первого хотел откреститься как только можно.
Как долго мы уже вместе со следователем убеждали Марью Васильевну, что она нарушала закон. Ее любомудрие, по-простому говоря, философия мелкого воришки основывалась на двух принципах: раз я у кормушки, я могу воровать. И больше того, я должна воровать. И второй принцип ворюги соблюдался ей свято: мне ничего за это не будет, раз обещали важные люди.
Однажды следователь даже вспылил и заявил пока что свидетелю, что если бы он был начальником, то такого бухгалтера даже близко к документам не подпустил.
По-моему, это была на эпизоде, когда рассматривали платёжки за подписями Петровича и Марьюшки, и Петрович искренне удивлялся, куда пошли денежки. По его твёрдому убеждению, он только подписывал, не глядя, чистые бланки в количестве штук этак по 50 или больше, а далее Марьюшка проводила проводки. Вот она и проводила: часть шла государству, частичку по требованию, частищу – себе. Петрович только ахал и охал, сокрушаясь, сколько он ей добра сделал: и в том помог, и там договорился. Одним словом, за добро отплатила сполна.
Если б на лбу каждого руководителя выжечь «не доверяй», сколько бы мест в камерах освободилось для остронуждающихся в них криминальным особам. Но это так, мечты идиотки.
Я почти сорок лет практикую юристом, но этот тезис так свеж и невинен. Каждый, подчеркиваю, каждый руководитель «впадает в халепу», как говорят украинцы, когда из-за своей нагрузки, что называется, под завязку, ему некогда просмотреть бухгалтерию. Да и мало кто смыслит в тонкостях дебета-кредита, да ещё, зачастую, умышленно запутанного.
Пусть история Петровича хоть кому-то послужит наукой.
Но вернемся к нашим баранам, точнее Петровичу и его уголовному делу в томах эдак нескольких.
Пухленькие томики дела росли и росли, набираясь визуальной значимости. Фанфары гремели, реляции в Киев летели, готовился коньячок для обмывки новеньких полковничьих погон, а, может, и генеральских? Цифры якобы нанесенного вреда государству росли от кабинета к кабинету.
А Петрович меж тем парился на нарах. Сидение таки пошло, я надеюсь, на пользу: набирался уму-разуму, учился отличать зерно от плевел, приятелей от друзей, познал и цену женской верности.
Я его, бедного, жалела. Не стала говорить про жадность его супружницы, заявившей, что у неё нет никаких возможностей для поддержания муженька своего. Хорошо ещё, что прилетел аж с Казахстана его брат, матерщинник ужасный (прораб со стройки), но мужик толковый и деловой. А тещёнька Петровича? То вообще отдельная песня. Она умудрилась вместе с дочуркой перетаскать всю мебель, уже подвергнутую аресту, куда то вон из хаты.
Следователь, бедный, не знал, то ли плакать, то ли смеяться над ними. Им бы передачки в СИЗО передавать, чтобы не давился Петрович тюремной баландой, а насыщался всякими деликатесами. Да куда! Вот мебель, уже арестованную, вытащить из квартиры, ума обеим хватило, а передачки? Чего их носить, если Петрович может всерьёз и надолго отойти от семьи по причине, от них никак не зависящей.
Вот и конец
Дело начинало потихоньку сдвигаться с мёртвой точки. Месяцы шли, Петрович на нарах дымился и парился, а дело шло своим чередом. Потянулись экспертизы, очные ставки, допросы и снова допросы.
Время начинало работать на адвоката. Остывал собачьий интерес у сильных мира сего к данному делу, в мареве времени утонули казалось бы близкие кому-то погоны.
И следователь поостыл: ему сгоряча наобещали быстро квартиру, да не так быстро сказка сказывается, как дело тянется.
Воспрял и Петрович. Рвался из-под ареста со страшною силой, бурчал на защиту, но до суда дотянул. Напоследок уже собаки двуногие да четырехлапые попугали-попугали, да отпустили с миром вон из СИЗО.
Получил он в суде что-то там сильно условно, тихо ушёл по болезни на пенсию, ходил по бережку залива с жёнушкой под ручку, отходя-оттаивая от страстей человеческих, стараясь никак не встречаться с Марией Васильевной, которая всё таки благодаря настояниям адвоката (то есть меня) тоже статью получила. И тоже условно суд ей меру наказания дал. Пожалели девчонок, её дочерей.
Скажете, какая мораль? Я просто отвечу: не знаю. Но в этом деле я ни одного хорошего человека не встретила, исключая вышестоящего прокурора. Да и того скоро «съели». Вот так.
Дело было рядовое: Трупов – двое
На зарю моей длинной карьеры адвоката пришлось начало бандитского времени: народ искал себя, и маленькая часть этого народа покатилась под гору.
Как трое молоденьких лоботрясов нашли друг друга осталось загадкой, но за их кратчайшее знакомство они набедокурили лихо. Приёмная мать одного из них, тихого Славика, громадные голубые глаза которого смотрели так невинно-наивно, что в голову не приходило считать его членом банды, наплакалась от его выходок вдосталь.
Как банда работала? Заводилой был «взрослый», назовём его Кондратенко. Ему исполнилось аж 18. На его личном счету было и изнасилование девятиклассницы в глухом районном селе, и другие не менее знатные «трудовые» подвиги. Умом не блистал, красотой тоже недалеко от собственного умишка удалился. Но – атаманил!
Третий член банды был так, ни то, ни сё, как стали потом таких называть, был отморозок.
Итак, утром округа всколыхнулась от дикой напасти. В самой ближнем из сёл центра района, в самом ближнем от города дому нашли трупы двух стариков. Старики прожили вместе чуть не полста лет, и думать не думали, что жизнь их так кончит.
Старики были обезображены редкостно гадко: ментов, что в дом навалилось меряно – не меряно (как потом прокуроры ругались, что менты все следы затоптали!), поразила ненужная (если так можно сказать о нужности или ненужности преждевременной смерти людей) глумливость тех выродков, что стариков насмерть замучили.
Валялась кочерга с намотанными на неё старушечьими пегими волосами. Вовсе не живописно разбросаны поломанные стулья с брызгами крови, стены убогой лачужки «красовались» пятнами уже забуревшей крови.
Искали недолго. Поначалу нашли убогонького внука забитой супружеской пары. Дебил, не дебил, но умственное отставание у паренька было уж очень явственно выражено. Внук всех и сдал. Рассказал, как хвастался перед дружбанами о том, что у бабки с дедом скоро мно-о-ого денежек будет, что парни его бесплатно вином напоили. Что с убогонького возьмешь? Его даже по делу не пустили как соучастника. Пожалели, пустили свидетелем.
Троих повязали наутро. Кондратенко строил из себя Робин-гуда, Славик красиво моргал голубыми глазами, с начала следствия и до окончания суда шёл по одной заезженной версии: я отвернулся к стене и ничего не видел, не слышал, не помню, не знаю. Третий пыхтел, всё время в рот смотрел своему адвокату, даме заслуженной и кропотливой в работе.
Защита по делу была обязательна. Мало того, что двое из трёх были тогда «малолетками», за смерть двоих стариков полагалась тогда смертная казнь. Дело не шутка, и рассмотрели его по первой инстанции в областном тогда ещё суде.
Изнасилование престарелой обвинению доказать не удалось. И троица несвятая пошла за убийство двоих беззащитных людей, а Кондратенко ещё и за насилие над девчушкой.
Где горе, там и смех.
В зал заседаний суда прорвалась бабёнка, в руке почему-то бутылка шампанского. Охрана и глазом моргнуть не успела, как со свистом бутылка понеслась в голову, чудом не зацепив адвоката Кондратенко. Так заявила о себе мать потерпевшей. Бедненькому Кондратенко стало плохо, он испугался, сердечный, да так, что отложили судебное заседание на сутки. Затем ещё отложили. На сей раз ему захотелось самого крутого из крутых адвокатов. Та появилась, поохала, что жалко парнишечку, но за защиту не взялась, ибо бесплатно пахать крутым неохота.
В суде, как ведётся, все трое виляли-юлили. Славик держался, как партизан, одного: ничего не видел, не слышал, не знаю. Вот за это «не знаю» и получил свои честно заработанные шесть лет. Не стал даже обжаловать приговор. Двое «подельников» получили сполна, особенно Кондратенко, которому за взрослые дела и дали по-взрослому.
А нашли эти трое подонков у стариков восемь металлических «ленинских» рублей, больше у бедноты той и не было…
Время диких баронов
Что перестроечные, что после перестроечные времена, хрен редьки не слаще.
Меняются времена да не меняются люди.
Дикое средневековье вернулось спиралью. Вернулось время диких баронов, время захвата всего и всея. Ухватил – молодец! Получи титул баронский, а то и герцогский титул, коль повезёт.
В переводе на день, что случился вчера или случится сегодня, отхватил кусочек послаще, тогда айда в депутаты, сторицей вернёшь все затраты, подкупишь по дороге судью с прокурором, мэра, если податлив, и заживёшь!
Меняются времена да не меняются люди…
Итак, перед нами история, к сожалению, не последняя по подлости твари двуногой.
Жили да были два старичка. Если вернуться к старинному слогу, то назовем их точно и искренне – достопочтенные старички, то бишь, достойные почтения человеки.
Прокатился, не тронул их дикий торнадо времен перестройки. Тихо катились к уклону годочки старения, между болезнями да житейскими нуждами облагоустроили то, что было для них и капиталом по жизни, и просто жильём.
Давно, еще где-то в шестидесятых прошлого века Нина Ивановна (назовём ее так) получила квартиру. Вернее, дали квартиру мужу, который работал честно и долго. Итак. Дали квартиру. Квартира, то роскошно сказать. Дали хибару. Да, комнаты – две. Зато без удобств, без роскоши ванны или тёплого туалета. Короче, нужник во дворе.
Но зато в Балаклаве, в красавице Балаклаве, где берег левый – берег правый при бухте, где городок (да, да, в Советском Союзе Балаклава была целым городом!) был закрытым для всех, даже для севастопольцев, которым нужно выписывать спецпропуск для входа или выхода из Балаклавы. Ещё бы – секретный завод! Подлодки тихо качались в глубине сопки. Везде бетон, сталь и море. Выходила подлодка из камер завода – открывалась сопка-гора! Наверное, зрелище было неизгладимым, да немногим видать: город закрыт, а местного люда немного.
И наши, тогда ещё вовсе не старички, а бодрые люди, работали, жили, трудились, получали от государства квартиру на старости лет. Пусть даже и без удобств, хрен с ними с удобствами! Зато море – вот оно, рядом. Плещется в двух шагах, качая утлые яхты.
Но так жили почти все. Тогда почти все.
Выросли дочки, красавицы на загляденье, нашли себе долю. Но о стариках своих (то есть о Нине Ивановне и ее втором муже) заботились, как и прежде. Общим усилием и перестроили хатку: из двух комнат сделали три. Как положено, в квартире имелась теперь и ванна, и тёплый нужник, и кухня. Да соточки две землицы свободной перед квартирой, где роскошно цвёл абрикос да пахли круглый год розы.
По ходу, как все, на общей волне девяностых, приватизировали эту квартирку.
Все делали чин чином, всё по закону. Добились разрешения всех инстанций, радуйся да живи! Грей косточки на тёплом ветру, да дыши воздухом моря.
Ага, размечтались!
На их беду, их квартира располагалась метрах так в 300 от берега моря, да не где-нибудь в старой Поповке или в Орловке, нет, в самом центре стариннейшей Балаклавы. Тут тебе и море, и отдых, и рестораны, и публика праздная, что гуляет весь год. Как грибы, повырастали отели да пансионы, гостиницы. Круглый год можно деньги качать с праздного люда.
Пей им про Грина, про Лесю Украинку да Куприна, накорми экзотикой разносолов из местных, обзови покруче свой ресторан «Символом золотым», «Станом рыбачьим» или «Избушкою рыбака», и греби деньжищи лопатой.
Волчары, кто помогучей да понаглей, так те отхватали себе по сотне гектаров. Кто похилей, шакальё, наметился и на квадратные метры.
Кто только не поотхватывал драгоценной землицы у моря. Я не шучу, именно драгоценной. Сотка, бывало, на рынке земли стоила и 20000 «зеленых», а то и за 50000 уходила. Понятное дело, олигархи платить не платили. Где шантажом, где властью казённой хапали да отнимали гектары и сотки.
Но то был крупняк. Премьер-министр с семьёй, сам президент со семейством, депутаты (а их 450!), министры и замы, администрация президента, и протчая, и протчая. И протчая. Не стало хватать и гектаров. Стали делить акры и сотки. Про сотки, это уже про этих, про шакальё.
Вот один из таких, из шакальего племени, и наметил себе гостиничку обустроить в метрах так близко от брега морского. Небольшую такую, этажиков в пять. Но в Балаклаве, но чтобы вся инфраструктура и коммуникации рядышком были. Чего тратить процентов 70 денег на канализацию да водопровод, инженерные сети и протча. Нужную лишь для города белиберду. А еще взятки, куда от них, взяток деваться. Да будь ты хоть негром преклонных годов, отдашь свои кровные на мзду, как заведено в независимой Украине.
А тут море плещется рядом, и инженерные сети на диво, и прочный фундамент.
Мешало только одно: два старичка да их дочка, учительница младших классов.
Малохилая сала, а не враги мощной силе из депутатских рядов!
И задёргались ниточки кукловодом, и задёргались из типа чиновников «рады стараться» да «чего изволите, пан?». А если конкретнее, то задёргалась сама госпожа прокурор Балаклавы, дама решительная, грозная для врагов государства.
Вот если бы так всю мощь прокурорского пресса да направить на преступную дрянь! И мелких краж не осталось бы, так боялись бы прокурора.
Ну, что мы о мелочи, о кражах, разбоях, да чиновничьей мзде. Не до мелочей жизни госпоже прокурору: надо бегом помогать властителям жизни в их желании «я хочу».
Понимаете, наслать на старичков да их дочку бандитов – старо, и, если можно сказать, не совсем эстетично. Всё-таки на дворе не девяностые века двадцатого, а двадцать первый век наступил.
Хочется покрасившее, по благороднее извратиться, чтобы заполучить фундамент, сети, да целых пять соток землицы в придачу. Дом двухэтажный, на первом наши престарелые достопочтенные проживают, а на втором оскудевает конторка частного предприятия. И вокруг дома целых пять соток земли.
Все просчитали депутатские очи. И цену постройки. И цену земли. И цену услуг прокурора, да и судейского корпуса тоже.
Не считали они старичков. Что с ними, считаться? Ещё чего, им и на мусорных свалках недолго осталось пожить. Короче, пенсионерские особи готовились на помойку.
А дочке строптивой, чтобы не брыкалась навстречу местному «правосудию», требуется нанести удар ниже пояса.
И появился под дверью жилища несчастных владельцев квартиры трёхкомнатной милицейский «уазик», оттуда браво выскочили «трое из ларца одинаковы с лица», а поддерживал их ещё более бравый молодчик, целый следователь прокуратуры некто Демидов (назовём его так).
И как начал он угрожать, и как начал орать, и как начал за руки хватать! На эту картину сбежались соседи. Ещё бы, не каждый день следователь-прокурор хватает двух старичков (им было уже под восемьдесят каждому), да орёт на них, что они чуть не враги государства.
Посмотрели менты на эту картинку, да и отъехали тихо. У рядовых служителей МВД совести оказалось гораздо поболее, чем у прокурора.
Муж несчастный Нины Ивановны только и смог что сказать: я был малолетним узником концлагерей. Так то были фашисты. Но они, даже они были лучше, чем этот Демидов.
Поехал Демидов и в школу, где зерна истины бросала детишкам дочь Нины Ивановны. Как навёл он там страху да ужасу! И характеристику то на дочку забрал (кстати, блестящую характеристику), и саму учительницу затерроризировал: отдавай, мол, квартиру, она очень хорошим людям край как нужна.
Ах, не дрогнули перед грозным прокурорским наездом ни старички, ни их дочка. Даром пропал прокурорский запал. Да и чего это ради отдавать свое, кровно нажитое да обустроенное по закону. Старик только твердил про фашистов в мундирах да детство в концлагерях.
Ну, да ладно, решила фемида, тогда мы подключим закон. Так решила тетёнька-прокурор, так стал действовать и подчинённый ей старший следователь (Демидов).
Сляпали враз уголовное дело.
И не было важно господам прокурорам, что минуло аж четырнадцать лет, как люди приватизировали квартирку. Придрались к тому, что якобы приватизация-то была якобы незаконна.
И пошла по уголовной статье некая дама ***, должностное лицо, проведшая приватизацию для старичков. В замшелых девяностых она по указке из органов, то ли партийных, то ли советских, подписала приватизацию. И всем было тогда хорошо: и государству, и людям, и органам, и даме ***.
Всем хорошо было все четырнадцать лет.
Пока прокурор не «нашёл по дороге» этот самый факт якобы незаконности приватизации. Во-во, именно так в постановлении о возбуждении уголовного дела и прозвучало: шла тетёнька прокурор по дороге, и нашла там вопиющий факт незаконной приватизации, случившийся аж в 1992 году. Не шучу. А цитирую документ.
Не хочется вас нагружать юридической скучной тематикой. Зачем оно вам? Это, быть может, и интересно студентам-юристам да практикующим адвокатам. Но уж больно интересно, с юридической стороны, естественно, было дело сляпано да состряпано.
И тем более интересно мне было вступить в это дело, покопаться в кишочках наших законов, и советских, и перестроечных, и нынешних. Тут не арифметикой пахло, а высшей математикой. Но это так, к слову сказать да о себе, любимой, напомнить: как никак, адвокат почти с сорокалетним стажем.
Можно чуточку философии? Спасибо.
Пусть меня простят все философы мира, но кажется мне, что рабовладельческий строй незыблем, исконен. Несмотря на все «измы», то бишь феодализм, капитализм да социализмы и коммунизмы, рабы были и будут всегда. И всегда будут над ними стоять господа: ханы, бояре, депутаты, сенаторы и прочая сволочь людская.
Но прежде всего рабство торчит в головах как рабов. Так и господ. Рабам подчиняться, да в землю навозом ложиться. Господам, ну, тут каждому по хотению да возможности. А потом тоже в землю навозом.
И ещё неизвестно: кто более раб? господин или же раб его, сиречь холоп? Один раб физический, подчинен диктату господ и властей, другой раб похуже, он раб страстей да смертных грехов.
А психология господина амёбна: я всё могу. Я всё хочу. И все последствия вытекают из всемогущего «я хочу».
А рабам? Что остаётся рабам? Повиноваться, стонать? Да шею склонять перед своим господином?
А где боярин, там и конюший и прочая челядь на услуженье найдётся.
Вот и в нашем случае дело такое: господин возжелал квартирку у моря, конюший (простите, простите, конечно же, прокурор) соответствовал этой поставленной цели. Последовал «фас», и закрутилась прокурорско-следственная, а потом и судебная карусель.
Как ещё не крутиться челяди, если домовладение пожелал целый зам. прокурора аж Генерального, одновременно бывший и прокурором Севастополя-города. К этому времени Балаклава не стала отдельным режимным объектом, стала просто районом города Севастополя. Открылось движение, потекли интуристы, за ними просто туристы: денежки потекли.
Пять долгих лет тянулись судебные тяжбы, пять долгих лет катаньем да мытьём прокуроры лбы расшибали, стремясь передать «богатенькому буратино» участок у моря с квартиркой на нём.
Зацепка была: дом, где была та квартира, является двухэтажным. Первый этаж, это наша квартира, второй занимал владелец ЧП (частного предприятия), он же владелец ресторанчика на берегу. Чтобы не делать рекламу ему, название не привожу, да и случай типичный, так что пусть господа на себя посмотрят со стороны.
Вот этот самый «чепэшник» и начал искать защиту в суде: помогите, мол, обижают меня, страдальца за правду! Сделали, дескать, нехорошие люди Нина Ивановна с мужем, незаконную приватизацию первого этажа, а я пострадал. И таким лейтмотивом пять долгих лет кидал иски в суд.
И долгих пять лет судьи, не все, ой, конечно, не все (об исключениях я доложу в подробностях ниже), но все-таки есть честные судьи и в нашей стране, честь и хвала им, достойным служителям истины и справедливости, итак, (юстиция с латинского переводится именно как справедливость) суды вставали на защиту моих старичков.
Объясняли тому «буратино», что был он неправ, что прав на квартиру он не имеет, да и не будет иметь, и что его права на второй этаж как-то мутны, непрозрачны.
Но принцип «хочу!» это принцип хочу. И разум, логика и справедливость тут вовсе и не к чему. Раб он страстей, им подчинён. Глупость или жадность толкали его, или желание кукловода, не всё ли равно?
В ход пошло всё, даже попытки подкупа адвоката, то есть меня. Не получилось. И попытки подкупа судей у «буратино» тоже не вышло (по крайней мере, не всех). И попытки угроз, шантажа, тупого затопления водой с этажа. Ну и что, что стариков заливало водой с верхнего туалета? Что комната стала совсем не пригодна к жилью? Даже и лучше. Всё должно идти в ход, все меры правильны, если дают «правильный» результат.
Помнится, как сейчас. Пригласила нас в кабинет председатель суда. Ей первой довелось рассматривать дело по иску того «буратино». Я ей докладываю, что господин-буратин хочет домишко прибрать, а старичков то на улицу выкинуть.
Она к нему с вопросом: это что, правда? А он и брякнул: конечно! Я, мол, хочу выстроить гостиничку в пять этажей, а старики пусть идут, хоть на улицу, хоть на помойку.
Председатель суда аж руками всплеснула: это как же так, заслуженных стариков, да на улицу, и за что? А «буратино» стоит на своём: этот дом нужен хорошим, конкретным товарищам, а старичкам с их драгоценной дочуркой пора осваивать улицу с теплотрассой да с баками мусора.
Потом председатель суда мне поведала, что прокурор лично желает участь принять в рассмотрении дела. Естественно, не на стороне старичков. А на стороне «правосудия». Как я вскипела тогда! Каюсь, разнервничалась. И брякнула председателю, что, если, мол, прокурорша нос свой сунет в рассмотрение дела, я все меры приму, и, естественно, по закону, чтобы её за должностной состав преступления да к ответственности привлекли. То есть за ушко да на солнышко радетельницу правосудия вытащу.
Оговорюсь: я не блефую. На моей чистой адвокатской совести пять снятых с должности прокуроров, в том числе и уровня области. Это я так, кстати к слову пришлось. А тогда я предполагала, что предстоит очередная борьба с мракобесием в мундирчике прокурора.
С тетёнькой-прокурором я столкнулась в «предбаннике» председателя суда. Крепенькая. Ручки-сосиски. Сразу видно: такая мимо себя не то что участок с землицей, пачку бумаги мимо глаз не пропустит. Хваткая. От слова «хватать». Глянула на меня, как рублём подарила. Вылетела из кабинета председателя, где ей дали понять, каково это, заступаться за клан олигархов, а не за каких-то там узников концлагерей. Испугалась, наверно, огласки ревнительница правосудия.
Кстати, мы было не преминули прибегнуть к гласности и открытости. То есть обратились на телевидение, местное. Там сняли сюжет – и? Положили на полку. Прокурорское лобби подействовало, что ли?
Ну да ладно. Рассмотрела судья это дело, отказала абсолютно законно «буратининому» притязанию на квартиру. И абсолютно законно и объективно уже суд апелляции отказал «буратинчику».
Вроде бы надо ему поступить очень правильно: утереться и перескрипеть. Ага, не тут то было!
Годик проходит, второй на половине пути.
Как вдругорядь иск подается: помогите же стариков из домика выгнать. Ну точно сценарий по сказке, когда была у зайца избушка лубяная, а у лисички ледяная.
Включился опять механизм «правосудия», и нашелся герой-богатырь – аж целый председатель суда. Ту женщину, что благородно постановила абсолютно законное решение, с великим почётом отправили на заслуженный отдых, не дав поработать ещё пару лет. Отомстили по полной прокурорские люди с прихваткой судейского корпуса из столичного Киева-града.
Новый председатель суда, вцепившись во вполне законную правовую норму по отмене предыдущих решений судов «по вновь открывшимся обстоятельствам», враз отменяет решением своим законные решения суда как первой, так и второй инстанции.
Помните, принцип раба-господина? Тот самый принцип, хочу?
И хочуха сработала! Отменил он решения, и возжелал, аж взалкал дело самому рассмотреть, так хотелось помочь «буратино».
Ничего не стеснялся. Ничем не побрезговал.
Не удержусь, расскажу про художества этого председателя. Звали его и, наверно, зовут Николаем Ивановичем. Фамилия не благозвучна. Но дело то не в фамилии, хотя она у него, так сказать, говорящая. Итак, Николай Иванович приступил к должности председателя безотлагательно. То есть, не успела ещё прежняя председатель цветы да кодексы увезти, как наш Н.И. засел в кабинете и стал воевать. Не за правду, о, нет, не за правду. За туалет. А туалет здесь при чём? А при том, что в маленьком двухэтажном здании суда крохотный туалет. Для всех. Для посетителей тоже. Был. Пока Н.И. не приказал туалет под замок. И открывалось то «вместилище нужд человеческих» строго через приёмную председателя, где висел один да единственный ключик от вожделенного места. И стал туалетик местом для избранных. Ну а народ? Потерпит! Решил председатель. И терпели, деваться куда?
Это было только началом.
Не знаю я до сих пор, специально заслали к нам председателя из Украины в прорусский начисто Севастополь или он сам был ненавистником нас, людей от сохи. Но все действия были как специально направлены против людей.
Например? Да извольте. Назначит дело на 8 утра. Люди прутся из сёл, деревень отдалённых, встают в пять утра, добираются на попутках. Приедут. Сидят. Час сидят. Два. Три и поболее. А председатель? А он занят до чрезвычайности? Чем? А кто его знает, раз сидит в кабинете один-одинёшенек, а дверь в кабинет охраняет «цербер» его, лютый помощник.
Кончатся нервы у ожидающих. А их уже не два и не три и не десять. Человек пятьдесят ожидает приёма судьи. Зря парятся. Некоторые, самые боевые, прорвутся к нему в кабинет. Тогда дело начнёт. Часов эдак с двух. И протянет до вечера. Остальные людишки массой топчутся вниз. Просто по классику: «и пошли они солнцем палимы». И так каждый день. Может назначить на 8, начать в 5 часов вечера. Не шучу. Сама в этой «шкуре» сидела вместе с милой учительницей, дочкой моих доверителей Нины Ивановны и мужа её.
Жалобы? Были и жалобы, даже на самый наверх. Толку? На грош. Единственное, что после жалоб соизволил сотворить председатель, так это открыть туалет. Всё.
Мелочи, скажете вы, посмеётесь: она про туалет да «сидение на Угре»?
Да, мелочи, конечно же, мелочи, когда вы в тепле и уюте и нету забот. А представьте людей, что сидели, стояли в коридорах суда с 8 до 17? Стариков, мамок с детьми? Ни присесть, ни поесть, ни попить, ни опорожниться. Смешно? Как-то не очень. Были обмороки, были и маты.
А что наш Н.И.? Улыбался. Это в случае лучшем. Бывало похуже. Пример приведу.
Сидим с учительницей. Ждём-с. Забегает знакомый следователь на второй этаж, где большой коридор и предбанник Н.И. Здороваемся. Он мне: «я на минутку. Мне санкцию продлить убийце. Если по времени опоздаю, его ИВС выпустит, как положено по закону. Мне на 10 назначено у Н.И., так я раньше подскочил, авось, примет».
Эге ж. Сунулся в кабинет. Оттуда однообразное: ждите. Ждёт. Время к двенадцати. Кинул мне на бегу: «я на секундочку отлучусь по туалетной по надобности (помните, про закрытый туалет?)». Отлучился. Его и вызвали. Бежит (я его набрала по мобильному), летит в кабинет председателя. Выходит чуть ли не с матами: «штраф на меня наложил за неявку в суд, представляете? Правда, санкцию подписал. Ладно, бегу, придётся тратиться на такси, иначе убивчика выпустят».
Когда мы измором достали Н.И. и нас вызвали на заседание суда, первое, что он сделал, стал мне хвастаться, что только что наказал нерадивого следователя за опоздание в суд. Искренне хвастался, упиваясь принципиальностью.
Про его художества чисто процессуального плана и применению норм закона говорить я не стану. Вам оно незачем головку сушить знанием норм кодексов разных, а мне ликбез правовой проводить ни к чему.
Но для наглядности случай один приведу. Стоит тётенька пожилая в предбаннике день и другой, на третий расплакалась. Выясняется по ходу слёз, что арестовали дачу её по какому-то делу. По ошибке. Нужно было арестовать соседскую дачу, а арестовали её. Она и пришла к председателю: снимите арест. Ей в ответ: ждите. Не поверите, неделю ждала! Из-за ошибки сотрудника суда, помощника всё того же Н.И., женщина неделю высидела и простояла в суде, чтобы исправить ошибку. И кто виноват? О нет, конечно, не клерк председателя, а женщина. Почему? Тайна сия осталась под спудом. Тот помощник судьи, стильная девочка на каблуках, не извинялась перед старухой, а орала: «ходите тут, работать мешаете!» Вот так-с.
Ну, ладно, возвращаемся к делу.
Видно, так достал наш Н.И. юристов грамотных города, что на беду на горюшко председателя в интернете статья появилась, как гулял он браво, по-молодецки в ресторанчике «буратино». Большая статья, в интересных подробностях.
Абсолютно открыто вам говорю: я здесь ни при чем. Просто достали художества председателя нормальных юристов.
Мы, естественно, случай не упустили, и подоспели с отводом судье. И аж три отвода им было удовлетворено, сам себе самоотводы напечатал. Не хотелось ему, а деваться куда? Прогремел на всех совещаниях.
Передал дело другому судье, что недавно работать стал в суде Балаклавы.
Тот затянул дело всемерно, насколько мог. Как сейчас помню. На 22 декабря назначается дело. Я качу в Балаклаву неблизким путём (от центра города до Балаклавы километров так двадцать пять, или более того). Приезжаю. Облом. Тот судья, что затянул наше дело, был уволен с позорной формулировкой: за дискредитацию правосудия. За что погорел? Как донесли слухи (а Балаклава – маленький городок, все друг друга знают, и о нашем деле в городке знали даже ленивые), судью уволили лишь за то, что отказал своему другу, председателю суда решение выносить не в нашу пользу.
Да, да! Именно друг подкузьмил. Вытащил дружбана из Симферополя в Балаклаву под красивым предлогом: дескать, работы поменьше, а квартирочку обещаю. Подался на посулы опытный С….ов, поехал чин чином в наш городок правосудие отправлять. Вот порядочность и подвела. Собственный друг, с которым вместе кутили по ресторанчикам Балаклавы, приказ издаёт: уволить С… ва за дискредитацию правосудия. Счавкал товарища, не побрезговал.
Сам себе дело взять он уже не мог. Помните, про три отвода? Отдал дело совсем молодому судье, авось, вывезет.
И опять медленная фемида скрипит год, полтора. И опять выносят решение в пользу моих бедных страдальцев.
На сей раз буратинчик в апелляцию не пошёл: зачем зря позориться?
Не мытьём, так катаньем решил «буратино» дело добить и подключил тяжёлую артиллерию.
Догадались, кого? В точку! Конечно же, прокурора! Пусть прокурором стало иное лицо (тётенька переместилась «пахать» в другой район, но тоже у моря), это иное лицо подмахнуло иск прокурора.
И встал прокурор на защиту. Кого? Инвалида? Узника концлагерей? Или дамы достопочтенной, ветерана труда с биографией чистейшей, как стёклышко?
Да что вы люди, да что вы!
Встал прокурор на защиту супротивника их – «буратино». До сих пор в мраке властей коридоров витает вопрос: кто стоит за буратиньими аппетитами…
Одному ему не поднять на ноги всю королевскую рать, всех этих конюших: прокуроров, судьи.
Ведь какие звоночки да разговорчики должны были последовать, чтобы поднять прокурора на ретивые ножки, да уговорить целого председателя суда плюнуть впрямую на все законы и чисто по принципу «я хочу» с прибавлением принципа «я все могу» помогать «буратинам». Тут пахнет депутатским корпуском, да не местным, а киевским. Особенно из когорты тех славных, что с телеэкрана чуть не каждый день или ночь бьют себя в грудь, радеют за правду. За народ плачут, печалятся, слезьми обливаясь по грудь. К этому времени заказчик, ну, тот, что был некогда зам. Генерального, перестал быть весомым людишкой, значит, было нажато на другие весомые рычаги.
Правда, объективности ради хочется мне сказать, что подмахнувши свой иск, прокурор сдал немного назад и приложил к иску бумагу, что срочно взял отпуск и участвовать далее в деле не будет.
Но подчинённые прокурора в отпуск не уходили, и дело вели. Не ретиво, лгать вам не буду, так старались хотя бы чуть-чуть оправдать своё присутствие в суде. И опять проиграли.
И опять апелляция, теперь уже прокурора. И опять прокурор проиграл.
Старички мои поседели, обзавелись вовсе не нужными им болезнями, на стук почтальона дрожат: что, опять повесточка из суда?
Но пока тихо…
Молчат прокуроры, молчит «буратино»… Молчит и их «крыша». Одно только ведомо: бегает представитель буратининой рати по кабинетам и вопрошает: а кто наша «крыша»? Почему это правосудие тормозит и буксует? Почему хилые старички, дочь их, учительница начальных классов с образованием психолога высшей квалификации и я, их адвокат, не бросивший и не предавший этих милых людей, победили? (А чего это я не могу себя похвалить? Сам себя не похвалишь, кто же похвалит. Ведь и вправду, не поддалась я на посулы и не испугалась угрозы всемогущих на тот момент прокуроров). Так почему мы победили?
Так им и не стало понятно, что может закон заступиться за слабых!
Для полной для объективности всё-таки надо показать чисто юридическую сторону этого уникального судебного дела. В 1992 году в Украине вышел закон «О приватизации государственного жилищного фонда». По этому закону все граждане страны получили право бесплатной приватизации жилья, в котором они проживали на законных основаниях. Государство в лице местных органов власти уполномочило эти самые местные органы проводить приватизацию. От граждан требовалось только подать заявлению туда, куда им скажут в этих самых местных органах власти.
И началась путаница-плутанина. Местные органы быстренько понаплодили всякие коммунальные предприятия, которые и стали все оформлять. Юристов было мало, тщательно объяснять, что почем и куда было некому, и потому попались мои старички в эти сети.
Поскольку их квартира находилась (опять не понять, почему? Тут государство опять поднапутало еще раньше, в семидесятых годах) у некоего арендного предприятия, то руководителю того предприятия местная власть указала: оформите приватизацию. Исполнять! Ну и исполнили: и арендное предприятие, и старички, и власть сама чин чином регистрацию произвела.
А что арендное предприятие не имело прав никаких проводить приватизацию, поскольку не являлось государственным органом, кто об подумал тогда, в девяностых?
Четырнадцать долгих лет молчали и власти, и арендное предприятие. Пока прокурор не проснулся.
С чисто юридической стороны все потуги прокуроров тщетны: как право имели мои старички приватизировать хату, так и имеют. Пусть даже бы признали приватизацию незаконной, они тут при чём? Просто по второму кругу прошли бы всю процедуру – и точка!
Начисто забыл прокурор и про сроки? Какие? А давности исковой! Всего три года, только три года закон даёт любому лицу, в том числе и нашему прокурору, на право обращения в суд с любыми исками. Подчеркну ещё раз – с любыми!
А сколько времечка утекло? Правильно, аж четырнадцать! Лет. Четырнадцать!
И это с самого первого дня было известно любому юристу: судье, прокурору, всем адвокатам процесса.
Но крутилась телега фемиды, буксуя, скрипели колеса, авось повезёт.
Только представьте, сколько деньжищ государственных было истрачено, сколько людей время тратили на бесполезнейший результат. Зарплаты ежемесячно и неплохие получали следователи, прокуроры, штук с десяток судейского корпуса, сотрудники БТИ да экспертных учреждений, да клерки всевозможные и разные. И все это за долгих пять лет, что дело крутилось в судах.
Кто спросит за это? Отвечу – никто! Хотя спрашивать есть с кого: люди живые, люди работают. Растут в должностях и почёте. В таком государстве да не расти?!
А сколько нервов ушло у моих старичков? Кто считал их потери? Нина Ивановна стала белой, как лунь. Василий Данилович на нервах и стрессах болезнь получил. Тяжёлую, неизлечимую. И каково бы досталось по жизни двоим старикам, если бы не семья? Две славные дочки, племянницы, спонсор семьи, родственник из таких, что не бросают в беде. Наоборот, помогают. Бывают и такие, поверьте. А как быть без спонсора двоим старикам? На пенсию вытянешь дело? И учительский урожай небогатой зарплаты их дочки ситуацию не спасёт.
Снимаю я шляпу перед достопочтенными стариками. Благородные сами, они достойную смену себе воспитали. И им наградой теперь спокойная старость среди своих, в окружении дочек и внучек и правнука. Не на помойке.
Слава Богу, мы не в Украине. Россия – наша держава. Наша страна. И теперь не работают в Севастополе ни тот прокурор, заказчик проекта, ни его дамочка, прокурор Балаклавы, ни тот председатель суда, выносивший заведомо ложные решения, ни тот прокурор, что вновь подписал иск незаконный.
Смела их российская власть, подались они восвояси.
Остался на должности только судья, последним выносивший законнейший судебный вердикт об отказе всех притязаний «буратино» и его покровителей.
И старички мои живы, даже относительно и здоровы. Жива и здорова их дочь, что трудится на ниве просвещенья детишек.
История жизни со вполне счастливым концом.
А судьи кто? или История глупости
Жил-был себе судья. И жил неплохо. И очень даже неплохо. Перебрался в Севастополь не знаю уж какими путями из кресла судьи Бахчисарая, этой деревни садов (Бахчи – сад, сарай – село, деревня). Получил вскорости квартиру двухкомнатную в самом что ни на есть центре города, оставил себе и малосемеечку. А как же, а как же! Квартирантам сдавать, денежку получать.
Работа, вот она, рядом с квартирой, только улицу перейти. Свой кабинет. Есть секретарша. Есть и помощник. И куча дел, уголовных, гражданских, административных. Есть и зарплата. По украинским меркам, очень даже прилично судьям платили.
Кр-р-асота! Живи да работай, работать немного осталось: пенсия на горизонте наметилась. И пенсия обещала быть очень приличной, и судейские «выходные» были такими, что ещё не одну квартирку можно себе прикупить.
Но сгубили его жена-молодица да природная жадность. И глупость, наверно, тоже природной была.
Ну, был бы ещё зелен и молод – простится. Но мужичку к шестидесяти подкатило. Самый возраст подумать о внуках, о тёплом жилище и пенсии доброй. И возраст такой как бы так бы сказать, тянет к мудрости, что ли? Однакоча, не всегда и не всех.
Итак, история начинается.
Ближе к вечеру, я уже и сериал просмотрела, и новости щёлкала по телевизору, как звонок. Чего это ради и кто там во тьме ночной ко мне в гости собрался? Открываю – ба! Целый судья на пороге! Как курица мокрая. Носом, как мало дитё шмыгает: «меня заказали. Меня заказали». Вначале подумала страшное: мало ли видела на адвокатском веку и жертв и их горе-мучителей, заказчиков покушений.
Оказалось, ситуация была попроще. Это судья наш, как бы его так назвать, чтобы реальные имя-фамилия не прозвучали? Жалко ведь, ходит человечек по Севастополю, деньгу зашибает, юристом работая, а тут такая огласка. Ладно, назовём его просто, пусть будет «товарищ судья».
Оказалось, что только что возвернулся он из штаба из СБУ (служба безопасности Украины), где его битый час уговаривали «сдать» целый суд: и председателя, и корпус судейский, и даже весь персонал, начиная с помощника. Взмолился, на ночь то глядючи: «отпустите, товарищи, хоть до утра!» Ну так ладненько и порешили: утра вечера мудренее, а завтра часов так к восьми ждём заново в гости. С тем и ушел. С тем и пришел ко мне за советом.
Следует вам сказать, что знала его очень давно, еще с советских времени, когда в одном кабинете адвокатствовали. Потом судьба занесла вначале меня в Севастополь, а потом, оказалось, и он перебрался с бахчисарайских хлебов на хлеба севастопольские. Но уже с судейского кресла перепрыгнул, отпахав в столице крымских татар лет этак несколько.
А раз знали давно мы друг дружку, то и мог поделиться со мной такою напастью, как наезд СБУ. Ну, естественно, я ему почти приказала: своих не сдавать. Логика элементарная: напакостит и себе, и судейскому люду, и простым клеркам суда. Не то что в суде одни ангелы практиковали, там хватало нечисти разной, но как то не в русской душе это пакостное свойство, доносить. Не в славянской породе иудами царствовать. А товарищ судья – украинец кондовый. Не еврей, не татарин, хохол. Однак вижу, колеблется. Тогда припугнула: сдашь, и тогда корпус судейский по полной тебе отомстит. Получишь «червонец» за взятку. Прогремишь на всю степь Украины, и будешь мотать свой срок лет этак семь, а то и все десять отбудешь. Выйдешь седым старичком без пенсии, без квартиры, машины. Всё конфискуют сатрапы. И ты куда? Бомжевать? А молодка-жена куда денется? Ждать, что ли будет? Окстись.
С тем и отъехал.
А вскорости дело и возбудили. За взятку взяли чуть не с поличным. А как взяли? Элементарно. Об этом ниже рассказ.
Из материалов уголовного дела следовало, что наш товарищ судья почти подружился с неким товарищем, назовем его Александром. Тот Александр держал два автомата игральных. Бизнес, естественно, незаконный. Прихватили менты, составили два протокола, и на стол судейский легли те протоколы. По закону судья право имел постановить: автоматы конфисковать. Александра штрафануть по самое не балуй. А наш добрый товарищ судья что решил? Автоматы оставить «бедному» Александру, штрафишко оставил минимум – миниморум. За бесплатно? А ге ж, как говорят украинцы.
Договаривались о цене за уютным столом в кафешке на пыльной улочке, далеко не самой центральной. Лето. Жара. Плюс «тридцатка» в тени. Угощенье обеда начали с ледяного «шампусика», вернее, угощался наш товарищ судья. Александр был за рулём, а кто ж за рулём выпивает? Итак, накачался шампусиком наш товарищ, объелся и шашлычком. И потянуло на исповедь. Стал жалиться да рассказывать почти незнакомому Александру, как трудно живётся ему, одинокому, в городе пребольшом, в Севастополе. Как тяжело без товарищей, без друзей, какие подлые, в основном, люди работают в его окружении. И такой-то *** совсем нехорош, и такая-то *** вовсе уж мымра, и такие за тем-то *** грешки, и за такой-то *** ещё хуже подвиги значатся.
Наговорил сто верст до небес и всё лесом. И кому? Проходимцу! Смело скажу: проходимцу, потому что мать родная того Александра под протокол на следствии говорила, что сыночек родился мошенником, мошенником и умрёт. Да ладно бы наговорился с таким вот Александром ухо в ухо, а то ведь под запись. Даже не две, а три записи производились: одна аудио, и две видеозаписи проводились местным ЧК. А потом те записи аж на одиннадцати листах откровений легли в пухлый том дела. Уголовного дела. Под соответствующим номерком. А наш товарищ судья разливается соловьём, топя и себя, и суд соответствующий. Заодно и передача взятки зафиксирована как положено. Немного судья взял, ах, как немного. Но это уже эпизод. Для возбуждения дела хватает и одного эпизода.
Но только для возбуждения. Почесали затылок товарищи в СБУ, посоветовались с прокуратурой, решили: надо добавить. И добавили соответственно эпизод взятки, но уже по-крупному, по-настоящему.
И ведь как дело случилось. Решили провести операцию передачи суммы в «зелёных». Максимально закрыто готовилась операция. Всё-таки брать надо не просто сермяжного ваньку, а судью! Неприкосновенную личность! Оплошаешь, и сам полетишь в тартарары. Но информация таки просочилась наружу. Хороший товарищ, майор из милиции утречком, часиков в девять перезвонил судье, и намекнул, что, мол, так и так, в отношении вас готовится целое мероприятие, прямо сегодня и будет оно.
Что сделает умный? Ляжет на дно. Заболеет. Или в гости уедет так, не надолго. А почему б не уехать? Судью за нарушение дисциплины уволить нельзя, даже если запьёт. Неприкосновенность! Статус такой. Неприкасаемый.
Что сделает совестливый? А совестливый брать не берёт. Но расхожее мнение у юристов существует тысячу лет со времён римского права. Звучит очень цинично и коротко: совесть – понятие не юридическое.
А товарищ судья кто именно будет? Правильно понимаете, он – юрист.
Итак, что делает наш товарищ судья? С точностью до наоборот совету сильно рискнувшего карьерой майора, идёт добровольно на встречу со старым знакомцем, с Александром, то бишь. Встречаются у гаражей. Там аккуратно в портфельчик кладутся «зелёные». Естественно, меченые кем надо и где надо и как надо. Такая фиолетовая надпись пишется на купюрах: «взятка». Товарищ судья от гаражей идёт к двери подъезда: обед, дело святое. Вот у подъезда его и – ага! Целая группа серьёзных товарищей, вежливых, аккуратных, обыск произвела. И отыскались те доллары, что врассыпную лежали на самом верху шкафа в уютненькой спаленке. Знамо дело, процессуальненько закрепили все доказательства, поснимали на видео. На этом видеокино жалко смотрелся наш представитель судейского корпуса. Сидел, въёжившись в пуфик, с тоской наблюдая, как вёлся обыск, как обыскали квартиру от туалета до спальни. И совсем обессилел, как деньги нашли.
Но по началу возбуждения уголовного дела ещё хорохорился: я же судья! Неприкосновенен! Зачем же мне адвокаты, раз сам я умён до самой до невозможности. Но припекло, и вскоре одумался и аж три адвоката взялись за дело. Один, правда, отстал от «марлезонского балета», а двое сражались, я и очень серьёзная дама из Симферополя. Не буду называть ни имени, ни отчества, не положено. Но действительно, грамотнющая, хваткая и адекватная.
Тащим, вытаскиваем нашего удальца, а он ещё и топорщится. То не так, и это ему не этак. До последнего дня был уверен: всё обойдется. И напоследок мне оплеуху отвесил, что, мол, лучший в мире адвокат, это его Катерина. То есть жена. То есть дамочка с образованием инженерным.
Еле-еле его я уговорила лечь в больничку, здоровьишко подлечить. И тут ломался, выёживался до последнего: я малец-удалец, ничем не болею, а ты заставляешь меня сильно мучиться дурью. А как же, а как же! Жена на пятнадцать годков помоложе, как перед нею больному казаться? Ну да ладненько, уговорила. Полежал месячишко. Прокуратура и там навещала, проведывала его чаще, чем жёнка родная. Врачей поиспытывала прокуратура: не симулянт ли страдалец? А те давай снимки показывать: не симулянт, вот то и то у человека болит. Нужно лечить. И лечили. Молодцы, и за то им спасибо.
Ну вот, накропалось прокуратурой городской целых три тома, и дело ушло по накатанной в суд. В Севастополе судить не решились, понятное дело. Передали три тома в суд в Симферополе, в Апелляционный, что стал рассматривать дело по первой инстанции.
Декабрь. Снег ложится. Сугробы метёт. Мотаемся в Симферополь: я, наш товарищ судья. И жена. Второй адвокат из местных была, из симферопольских. Мотался на каждое заседание и прокурор. Точнее, два прокурора поддерживали обвинение: целый зам. прокурора города Севастополя и в помощь ему девица-молодица, старший, что ли, помощник. Как та деваха меня опекала! Я в туалет, и она следом за мною. Я топаю в буфетик администрации, что находился ровно напротив суда, и она шествует следом. Демонстративно боялась, что я взятку кому стану там предлагать? Одним словом, дурёха! Зам. прокурора, наоборот, далеко не дурак, дело своё понимает. Культурен и вежлив, но линию давит.
А как культуру не проявить, раз дело рассматривают аж трое судей. Председательствовал великий умница и хороший по жизни человек, не испаскудился по дороге проторенной.
Как власть развращает! Понимаете, когда вчерашний сосунок, юридический только что кончивший, прыгает в кресло судьи, и ну царствовать так, как ему одного только хочется без оглядки на справедливость, тут только крякнешь да скажешь: эхма, какие дела!
Сколько я на веку насмотрелась на этаких, сколько их каждый день вижу в разных судах. Мамочки-мама, сколько народу испортилось, сколько судеб сломали эти горе-судейские мантии, не перечесть.
А этот судья, что рассматривал дело, оставался порядочным человеком на многие лета, хотя в кресло судейское попал совсем молодым, в двадцать шесть.
Грамотный. Процесс вёл ровно, чётко и по закону.
Всё, в принципе было ладно и славно в заседаниях суда. И прокурор вёл себя адекватно. И судьи на своём возвышении в креслах дубовых вели процесс, как по учебнику. И адвокатессы пыхтели, стараясь разбить обвинение. Находили ошибки, недоразумения в пухлых томах, судьи внимательно слушали. Прокурор представлял доказательства, принимали нормальное доказательство, подшивали к делу сей аргумент. Не нормальное доказательство отметалось. Так, например, попросила дурёха из челяди прокурорской приобщить к делу справку о долларах. Отказали. Да ещё посмеялись над ней: как это, как это, доллары появились в вашем профессиональном союзе? Разве вы заработную плату в долларах получаете? И как мог профсоюз субсидировать оперативный отдел, передав ему сумму взятки? Заодно получила тычок по ноге от зам. прокурора. Видать, он был не в курсе добывания такого серьезнейшего аргумента, как приобщения к делу справки из профсоюза, из которого якобы и получили доллары на «подставу» судье.
Не адекватно вели себя двое.
Первый, это, естественно, наш подзащитный. Примерно так на заседании по счету третьем или четвёртом встал вопрос о допросе его. Он и разлился мыслью по древу, соловьём пел, как он хорош, как другие не благодарны. Потом допросили того майора, что позвонил, предупредил о «мероприятии». Майора того было жалко. Громадный мужик под два метра ростом съёжился, видать, понимал, что за такое «непрофессиональное» поведение ему спуску не даст прокурор. Но прокурор почти отмолчался. Зато наш ревнивец судейского дела, наш подсудимый стал буквально «топить» доброхота.
Переглянулись судьи, взгляд, брошенный в подсудимого, стал немножечко жёстче. Чисто по-человечески им, как и нам, неприятно смотреть, как за простейшую человеческую порядочность так отплачивается чёрной неблагдарностью.
Майор всё пытается себя оправдать: мол, может я «лоханулся», но посчитал нужным, возможным предостеречь судью от ошибки.
А товарищ судья ему с заковырочкой да подковырочкой вопросики задаёт, шаг за шагом топит себя и свидетеля.
Дальше – больше. Уже и судьи взгляд поменяли, вместо привычного «товарищ судья» (то есть по имени отчеству) председатель впервые назвал «подсудимый». А наш всё токует, топя доброхота. Вопросы не нужные задаёт, стыдит майора за непрофессиональный подход к участию в деле.
Мы, адвокаты, глазами ему семафорим: прекрати, дескать, дискриминацию. А ему наплевать: бумажонки перебирает, вопросики задаёт.
Не выдержал председатель: «вы посмотрите на своего адвоката, она уже за голову схватилась, а вы всё никак не уймётесь!»
Это я схватилась за голову, когда подзащитный такую пуржищу понёс, что мамочка не горюй.
Едем домой, учу его уму-разуму, а ему невдомёк, что дело портачит. Не скрою, вырвалось у меня: «как ты умудрился двадцать лет судьёй проработать?» А он мне с хитринкой: «так вы ж, адвокаты, мне по каждому делу всё растолкуете, я только решение и пишу. Вот так двадцать лет и пропарился».
Нет, нет, не подумайте, что я за взятки стою, покрывая и взяткодателя и взяткополучателя.
Как самый обычный общества гражданин я в корне против и взяток, и иного вымогательства честных денёг и перехода их, то есть денёг, от граждан к представителям власти. Коррупция – эта ржа, что проедает насквозь становой железный хребет что империи, что страны Советов, да и любой иной демократии.
Я против взяток. Против вздоимства. Против поборов.
Но профессионально защита что должна делать? Естественно, защищать. Что мы, адвокаты, и делаем.
Долго ехать в машине домой, можно многое проговорить. А его всё мучили мысли: кто его заложил, да за что так страдает. Мало ли судей взятки берут, вон сколько судей в судах Севастополя, а попался один. И почему это именно он?
Это потом уже стало известно, за что так вцепились в несчастного прокуратура да СБУ. Оказалось, что наш товарищ судья умудрился в собственность передать квартиру, двух– или даже трёхкомнатную, обыкновеннейшему квартиранту. Хозяин квартиры уехал на Север деньгу зашибать, пустил на время по договору найма временного постояльца. А постоялец дорожку нашел к судейскому сердцу (точнее, к карманчику пиджака). Вот наш товарищ судья решение и подмахнул о передаче в собственность квартиранту жилплощадь. Ну, когда с северов владелец вернулся, заохал, заахал, потом побежал то ли к куму, то ли к свату. Короче, к близкому человеку. А близкий тот человек был прокурором целого Севастополя.
Тут всё и закрутилось. Завертелись лопасти правоохранительной системы, машина правосудия, натужась, набрала обороты, и сел наш судья на скамью подсудимых. Нет, не за передачу жилья. Прокурор был хитёр, светиться не стал. А вот провокацию взятки устроить, так это пожалуйста!
Попутно и думается, а если бы не было у человека карманного прокурора, смог бы добиться квартиру вернуть? Ой, не знаю, не знаю. Архивы судов такие тайны хранят, куда там квартирочка постояльцу.
Но всё это вскрылось потом. А сейчас мотаемся в Симферополь по заснеженному декабрю чуть ли не каждый день: заседание за заседанием идут своим чередом.
А что? Для установления истины времени не жалко. Тем более государственного: и прокурорам и судьям государство платит оклад. Да и подсудимому пока не смертельно: с должности его не снимали (помните, неприкосновенность). Так что он дела пооткладывает, и в Симферополь. Председатель суда только зубами скрипит, а что тут поделаешь? Итак срам на весь город: шутка ли, суд опозорен на долгие времена, стыдно людям в глаза посмотреть.
А нашему страдальцу срам и стыд нипочём. Ну, попался, с кем не бывает! Поругают-поругают, да с миром отпустят, надеялся он.
Может, и отпустили бы с миром, может, добились бы мы оправдания, раз нашли ряд нестыковок в действиях прокуратуры и даже судов.
В качестве иллюстрации своих слов, приведу пример такой нестыковки. По закону Украины санкцию на обыск судьи мог дать или председатель Апелляционного суда Севастополя с подачи не иначе как Ген. прокурора (неприкосновенность судьи!), или Суд, самый Верховный. А в нашем деле санкцию дала некая рядовая судья аж из Кировограда. Дела не видела, подмахнула прошение Ген. прокурора, и крутите, ребята, колесо правосудия.
Нарушение? Нарушение. И таких нарушений в деле не одно и не два, а целый букет нарушений обнаружили адвокаты.
Мы, адвокаты, зря хлеб не едим. Сражались по делу отважно, бесстрашно (дамочки не из пугливых, что я, что та, вторая серьёзная адвокатесса) парировали прокурорам. И быть бы по нашему! Видим, что судьи склоняются более к линии защиты, чем обвинения: мы нарыли да накопали в тех трёх томах уголовного дела множество нестыковок, несоответствий и просто нелепиц. И чаша весов стала было клониться в сторону нашу.
Но тут подоспел день допроса свидетеля главного. Ну, того проходимца, мошенника, которого мама родная с рождения мошенником называла. Его привезли три бравых мента: на всяк на такой непредвиденный случай, вдруг он сбежит или не то или не так начнёт под протокол говорить.
Но он молодец! Четко, по выученному, отрапортовал, как взятки давал, как подкатился в товарищу судье, где денежки брал, в каком кабинете ОБЭП (отдел борьбы с экономическими преступлениями милиции города) деньги считали, ну и т. д. и т. п. Отрапортовал да стал ожидать, какие такие вопросы поставит защита? После защиты вопросы стал задавать подсудимый. И понеслось!
До сих пор стыдно за юриста-коллегу, прямо слово, не ожидали от него такого безграмотства.
Так, ни с того ни с сего, он задал вопрос: «свидетель, скажите, за что вы были судимы?»
Ах да, забыла сказать, что отбыл свидетель по имени Александр целых пять лет в местах отдалённых за совершенное ранее мошенничество. Видать, там его и завербовали те, кому надо вербовки вести. Ну, отбыл, так отбыл. Понёс наказание в соответствии с приговором, зато сейчас вроде чист перед законом. Вполне законопослушный стоит перед судом гражданин.
А что морально нечистоплотен? Так ещё посмотреть, кто более чист, он или судья, принимавший без какой бы то ни было брезгливости от него и гривны, и доллары.
А действительно, если подумать? Наш товарищ судья от должности не отрешался: пресловутая неприкосновенность! Дела разрешал, отправлял правосудие: супругам брак расторгал, делил их имущество, наказывал административно штрафами или порицанием тех, кто до уголовки не дотянул. Наказывал и уголовников: приговор выносил, стыдил совершивших правонарушение. Мораль им читал: ах, как нехорошо, становиться на скользкий путь, всё равно от закона не уберечься, ведь как верёвочке ни виться…
Приговоры, решения, постановления, это он выносил в перерывах между теми заседаниями, где уже его припосадили (пока!) на скамью подсудимых.
И смотришь со стороны на этих двоих, подсудимого и свидетеля главного Александра, и думаешь: это же близнецы! Так сказать, братья по разуму. И по морали.
Ну, а пока председатель суда пытается чуть ли не в шутку вразумить подсудимого: мол, даже если изнасилуют вокзальную проститутку, это всё равно преступление, пусть даже в отношении такого лица.
Наш товарищ не понял, и продолжал гнуть свою линию: дескать, если человек ранее был судим за мошенничество, то ему в его показаниях верить не можно, просто нельзя!
Сильно обиделся на защитников, на адвокатов, не поддержавших его версию поведения. И закусил удила!
Выражение глаз судей стало резко меняться с тёплого бриза на ветер осенний. Но пока не смертельно.
Его ещё раз урезонили: вы всё же судья, двадцать лет отработали, и до сих пор так и не поняли про относимость и допустимость доказательств?
Да что там не понял, он просто не знал про теорию права, как оказалось. Считал, что он прав, несмотря ни на что: раз свидетель сидел, значит веры ему ни на грош. И точка.
Ну, да ладно. Ветер осенний стал дуть в его сторону всё сильней и сильней, пока не дошло до зимнего шторма.
А шторм наступил, когда время пришло оглашать материалы дела, и, в частности, распечатку аудио и видео разговора товарища нашего с Александром.
И такая мерзость, такая гниль посыпалась из одиннадцати листов распечатки! У председателя духу хватило только три листа огласить, и с полнейшего моего одобрения перестали читать остальные (к тому времени вторая адвокатесса из процесса временно выбыла, отпросилась, поехала новорожденного внучка или внучку).
А я, ознакомившись ранее с этим талмудом откровений судьи о работе своей, о сослуживцах, о людях при власти, с кем был он знаком, только радостно закивала: зачем, мол, читать, если собственно к делу его откровения не относятся. Если бы дочитали вслух (на Украине по уголовно-процессуальному законодательству по требованию подсудимого велась звукозапись процесса) все 11 листов, уши б потухли. Свернулись бы чуть ли не в трубочку.
Под этим предлогом брезгливый судья и захлопнул том дела. По-моему, даже ментам, вечно дежурившим в зале суда, стало стыдно за подсудимого: каким мелочным до безобразия он оказался. С мышлением на уровне табуретки да необузданным желанием напакостить ближнему по самые уши. Нехай, пусть ближний расхлёбывает. И не то чтобы на уровне сплетен его россказни были. Нет, именно там, на этих листах его сущность раскрылась. Вслух не сказали, но каждый подумал: и это судья? Который морали читал при вынесении приговора, сроки давал, может, даже и невиновным.
И не то чтобы наш товарищ судья был страшным радетелем за чистоту судейских рядов, тогда было бы понятно. И уважение ему и респект. Или страдал бы душой за творящееся в государстве безобразие, да давал бы оценку всякому люду, нечестному в действиях, будь то мэр или за стенкой сосед.
Так нет же. С точностью наоборот. Из одиннадцати листов распечатки тянуло смрадом распада, то есть, по грубому говоря, воняло мусоркой от словоизлияний. Пакостник. Мелкий пакостник. От каждого листочка дела воняло: я тоже хочу воровать! По крупному! И каждый день! Землицу хочу! Деньги хочу! Стенание, просто стенание, этакий «плач ярославны»: дайте мне, дайте мне порулить в этом болоте.
Что-то меня на философию потянуло…
Вот если бы на экзамен на судейское кресло выносили перво-наперво главный вопрос о годности кандидата чисто по моральным параметрам! Сколько бы хлама отсеялось сразу. Так нет же, вовсе наоборот, требуют знание законодательства, разные характеристики. А что там в душе? Может, такая же гниль, как у нашего. За неполные сорок лет в адвокатуре столько дури судейской видеть пришлось. Сколько гадов я насмотрелась. Ладно, неграмотных судей ещё можно пережить, хотя таких тоже сильно хватает в судейской среде, поверьте на слово. Таких вышестоящий суд найдёт время поправить.
А с этими что делать прикажешь? Один в носу ковыряет, заседая в процессе: а мне наплевать на всех и на вся (честно сказать, про дикий такой судебный процесс мне коллега поведал, я сама не видала). Другой прямо в процессе пальцами показывает, сколько взятки ему надо дать: две, три или более тысяч у.е. (а пальцев то десять!) Понимаешь намёк, считай, выиграл дело, не понял пальцев пассажа, твоя, брат, проблема, а не судьи.
Если мера наказания по статье от трех лет до, скажем так, десяти, чего же пальчиками не поиграть, не побаловаться?
Отвлекусь, и вас немного от грустного отвлеку.
Помнится, в Евпатории зашла за знакомой судьей, позвать пообедать. Та мне: «сейчас, сейчас я, только пальцем на клавишу стукну, три года или лет этак семь дать подсудимому, и пойдем, хоть немножко согреемся, а то в суде холодрыга невиданная. Отопление отключили, и когда? в декабре!»
То есть, судья, от того, что она так замёрзла, готова была дать семь лет кому то не знаю за что. Я бегом её увела: жалко стало того, который дрожал в ожидании приговора. Я не знаю ни дела, ни подсудимого, ни статьи, по которой он привлечён. Может, он и заслуживает полных семи лет приговора, может, заслуживает? Но сам принцип подхода: наобум давать три или семь только потому, что руки замёрзли?
И это при том, что судья та человек грамотнющий, порядочный человек. Оставила вскоре суд уголовный, в хозяйственный подалась, где и сделала карьеру хорошую.
Вот так и работало украинское правосудие. А чтобы руки не мёрзли, их нужно что? Правильно! Подогревать!
Вот и подогревали часто готовых на всё некоторых многочисленных из судейского аппарата.
Нет, ребята, честные люди есть, и работают честно. Знаю лично очень многих, хороших и добрых, профессиональных! Но, как народ говорит, кривая слава впереди бежит, хорошая под спудом лежит.
Ах, если бы да кабы найти инструмент, как это на должности судей, заодно прокуроров, подбирать достойных людей: умных и честных, морально устойчивых. Уж простите за чисто советский термин. Устаревший термин, а зря! как бы он сейчас пригодился.
Да нет ни желания власти искать и подыскивать достойных людей. У власти что? Одно оправдание: по характеристикам все хороши, все люди достойны почтения, а в душу разве заглянешь. Для души экзамены не придуманы.
Это там где то в древнем мире, судья сидел в кресле из кожи. Чьей кожи, спросите вы? Да просто предшественника, вынесшего неправосудный приговор. Вот сидит судья в кресле торжественном, и ёрзает потихонечку: креслице жмёт, о себе напоминает, о неправосудном том приговорчике.
Так то древний мир!
А сейчас всё гуманно. Экзамены. Характеристики. Сито из разных структур на каждом уровне хотя и отсеивает разный народ, а толку и смысла всё никак и не видно.
Как проскальзывала разная мразь в кресла судейские, так и сейчас «кака была так и есть».
И что Украина, что наша Россия в том разницы нет.
Не будешь же, в самом деле, штырь в голову кандидату втыкать: смотреть по срезу, достоин ли он или нет занять место судейское. Или прокурорское. Или депутатское. Или градоначальника. Не придумала наука пока такую тактику. И вряд ли придумает.
Ну, ладно, вернемся к товарищу нашему.
Дали товарищу нашему меньше всех на Украине. Тогда волна прокатилась против коррупции. Короче, убирали неугодных. Дали потому очень маленько, что больничка та помогла (помните, как я еле-еле уговорила товарища лечь подлечиться?). Выдала медицина справку суровую: так, мол, и так, здоровье у товарища не ахти, пора ему подлечиться с диагнозом не смертельным, но не совсем уж хорошим.
Чуть-чуть отсидел в тепличных условиях в специальной колонии, где держат на полусвободе бывших ментов, прокуроров и судей. Короче, был среди своих. И мало отбыл, скостили ему срок, и без того крохотный. Опять болезнь помогла.
Бегает наш товарищ по городу, визитки народу суёт, где чёрным по белому писано, что готовый к услугам юрист с сорокалетним сроком работы.
Про судимость и про мораль в той визитке – ни слова!
Ой, кстати, трошки добавлю. Собрали судьи, неравнодушные к судьбе товарища (они не знали, естественно, о записи на 11-ти листах его измышлений про них) несколько денежек на адвоката. Отдали ему. И что сделал товарищ? Нет, неправильно мыслите. Адвокатессам не перепало ни крошки.
Купил жене сапоги. Классные сапоги. С отворотами.
Труп на бордюре
Итак, поговори о скучном. Об убийстве. Или о двух: как развернёмся.
Начнем по порядку. С номера первого.
Молод. Красив. Недавно школу закончил и училище поваров. Влюбился в даму постарше себя лет на семь или восемь. Мать им комнату выделила. Работай, живи, наслаждайся пляжем и видами моря. Девушка не красавица, но видная из себя. Правда, работать не захотела. Ну, ничего, парень покладист, тащил воз на себе.
Летом, в самое жаркое время, приехали в гости товарищи. Что к вечеру делать? Выходной, значит, надо развеяться. Собрались в «Омегу». Омега – пляж и заодно злачное место на самом что ни на есть берегу бухты Омега в красивейшем городе всей страны, Севастополе. Пришли, выпили. Слушали музыку. Снова, естественно, выпили. И так до утра. Ой, почти забыла сказать, что наш герой, назовем его Витя, водку не пьёт: он спортсмен. И утром ему на работу. Пили на равных товарищи и Вероника. То бишь подруга Вити. То есть сожительница.
Где-то к раннему утру собрался Витёк окончательно, позвал Веронику. Та давай упираться: хочу ещё танцевать! Пьяная баба хуже… Кого она хуже? Да хуже всех. Закапризничала, стала ругаться, от рук отбиваться.
Тут на беду навстречу группа пьяных товарищей, человек этак восемь. Одному из них показалось, что наш Витёк пристает к какой-то бабенции. Решил рыцарь заступиться за даму. Подскочил: «ты чего это, ты чего бабу мучаешь?» Витька ему: отстань, парень, не видишь, жену домой отвожу». Девица старается, «наводит понты»: орёт, на танцы отпрашивается. Эти восьмеро стали двигаться ближе к Витьку и девице. Заводила уже руку поднял на Витька. Поднял руку и первым удары нанёс. Нет, вру. Только один удар пришелся по Витиной личности. От второго удара он, как настоящий спортсмен, увернулся. Ну и на опережение дал два боксёрских удара по физиономии «рыцаря». Всё. Тот умер мгновенно.
Бытовуха? Чистейшая бытовуха!
Витька наутро в подвал милицейский, то есть в ИВС (изолятор временного содержания), в полуподвал. В тот же день к судье потащили за санкцией на арест за убийство умышленное. И пошел Витюха в СИЗО симферопольское (следственный изолятор). Короче, поехал в тюрьму. Торжественно повезли, на спецтранспорте.
Тут я в дело вошла. Поехала к пареньку на свидание. Вижу, славный такой пацанёнок на нарах парится. Лицо чистое без признаков алкоголизма, без алкогольного загара, без блатоты. Спортсмен! Говорю: «в камере обижают?» «Нет, всё нормально». И стали работать по делу.
И вижу обыкновенное, что называется в народе «милиция дело шьёт». Так несправедливо собираются доказательства, так однобоко. Чую, что-то не так, что-то неправильно.
И, вроде, следователь не из дурных, не садист, не карьерист и не хапуга. Нормальный. Почти объективный. Почти, это потому, что в милиции быть не может правды найтись: обязательно какая-то нитка впишется, что перекорёжит правду да истину.
Ну, правильно интуиция подсказала. Выяснилось, за кадром, что тот «рыцарь» да его брат торговали наркотиком, и милиция их крышевала. Вот «крыша» и постаралась за своего, порадела нужному человечку. Пообещали их матери, что, наверно, упекут Витька так, что не выйдет живым из тюряги. Стало следствие буксовать. Мнётся следователь, намекает: я не всесилен, есть людишки сильнее меня.
Читаю показания тех, восьмерых, что были на море вместе с наркодиллером и его братом. И все восемь протоколов их показаний ровненько, как под копирку, «топят» Витька: дескать, он зачинщик и драки, и потасовки. Прямо слово, моральный урод.
Читаю показания охранника из кафешки. Опять под копирку. Ну, про морального про урода, то бишь про Витька.
Требую очных ставок. О диво дивное, чудо чудное! Восьмеро от показаний своих отказались.
Охранник, правда, в суде появился, но уже пошло «я не я, и лошадь не моя».
Ладно. Состряпано обвинительное (заключение), и дело направлено в суд.
Повезло Витюхе, ох как повезло! Попался ему судья молодой да толковый. Стал разбираться, как нужно, то есть по сути.
Возмущалась я страшно экспертизой, которую провела аж целый тогда начальник бюро судебно-медицинской экспертизы по имени Александра. Судья мне поверил. Назначил повторную. Получилась нормальная. А то по первой той экспертизе ходатайство о том, что неправильно сделала дамочка зав., аж на семи листах получилось. Это ж сколько ошибок она допустила! Слава Богу, её вскорости сняли за разные там за художества: то трупы у морга на тропинках валяются, так как родственники мзду ей не платили за хранение трупа, то лавочку частного бюро на рабочем месте устроила, то ещё что-нибудь выкинет. Вызывали на суд, так она так агрессивно вела, что вроде и судья, и я, адвокат, люди не ровня такой мастерице трупного дела. Звёздочка во лбу прямо горит, переливается…
Вот определением суда о назначении повторной судебно-медицинской экспертизы её и поправили.
Потом судья назначил повторное воспроизведение обстановки и обстоятельств преступления. Это на казённом, на юридическом языке. А по-русски, выехали на место преступления, где и Витька, и Вероника под видеозапись всё рассказали, как оно есть.
И получилось, что за убийство (как ни крути, а убийство!) дали условно. Переквалифицировали. Так как выяснилось по второй экспертизе, что смерть наступила от удара головой о бордюр. Получается, если бы трезвый «рыцарь» тот оказался, то или бы не полез в скандал между молодыми, или не упал бы от двух ударов, устояв на ногах. Но перепил, бедолашный, на агрессию потянуло. И получил летнюю смерть в бухте Омега.
Приговор в апелляции устоял.
Недавно узнала, что Витя женился. Не на Веронике, а на другой. И уже есть в семье молодой прибавленье семейства.
Что ещё в очень немалой степени повлияло?
Первое. Парень хороший. Простой. Честный, прямой.
Во-вторых, мы его окрестили. А получилось вот так. Приехала к нему в СИЗО, по ходу выяснилось, что он не крещён. Спросила, не хочет креститься? Отвечает: хочу! Ну, ладно, думаю, схожу, тут недалёко в епархию, поговорю с батюшками, договорюсь. А на выходе из СИЗО мне навстречу батюшка в рясе. Я тут же к нему: так, мол, и так, мой подзащитный хочет креститься, как бы ему подсобить? Батюшка согласился, оформили все процедуры, и был крещён наш Витёк. А вскоре звонит из СИЗО: вы не переживайте, мне камера «сбросилась» на крестины: батюшку отблагодарить.
Это к мысли о том, что в камерах, тюрьмах сидят только плохие, последние из людишек. Нет, неправда, неправда! В камерах тоже люди. Очень разные люди. Витёк, например.
Можно по-разному относиться к его поведению: осудить, оправдать. Всё-таки нет человека, и именно от руки нашего Вити человек пострадал. А поглубже копнёшь, и получается, что если бы не пресёк он своими ударами дальнейшее избиение, то кто его знает, может, добили бы его те восьмеро «дружбанов» рыцаря-наркомана. И девице б досталось, наверняка: а чтоб не сверчала, не просилась на танцы средь ночи. Достался же ей удар «рыцарского» кулака, когда Витёк автоматом увернулся от кулака: сработала боксёрская реакция. А она не боксёр. От удара наркоманского «рыцаря» кровь на лице потекла ручейком, от боли присела на край бордюра. Наверное, стала трезветь.
Совсем оправдывать Витю не стану: не рассчитал, что не на ринге боксёрском, а на бетоне они находились.
И уж совсем не оправдательно говорю о Веронике. О даме его сердца в тот момент.
Пусть потом она лестью стелилась перед свекровью, несостоявшейся, между прочим. Пусть мои поручения выполняла, как было должно. Передачки передавала Вите в СИЗО. Старалась, деваха, старалась.
А всё же, а всё же сколько раз убеждаюсь: во всем виновато бабьё! Подставила паренька под статью и в кусты. Осталась в деле свидетелем. Для полной для справедливости я скажу, что и на следствии и в суде вела себя очень достойно: не утекла, мне помогала, показания честные говорила, даже о том, что действительно выпила. Сильно выпила.
Мораль: бабы, не пейте! Не подставляйте своих мужиков под расстрельные, под статьи уголовного кодекса. Неразумно. Ни вам, ни вашим мужчинам так поступать.
А в-третьих? Достался хороший судья. Справедливый. Не верите? И такие бывают. Без копеечки взятки дело решил, нарываясь на недовольство милиции и прокурора. Дай нам всем, Боженька, судей таких. И избави от собственной глупости и бабего безрассудства.
Жилищное ассорти
Если вы считаете себя умным человеком, с широким кругозором, да ещё приправленным острым перцем жизненного опыта, эта новелла про вас и для вас.
Почти со стопроцентной вероятностью можете считать себя «пациентом» данной книжки, ну а если вы врач, учитель или руководитель, ставьте книгу перед собой как зерцало Петра Первого, ибо всякого рода и ранга мошенники, крутые специалисты по недвижимости ищут (и находят, ох как находят!) именно Вас, благодетель вы их и кормилец.
А если вы юный гражданин, безо всякого еще жизненного опыта, смело читайте, как нужно и можно избежать и элементарных, и серьезных ошибок.
Итак, начинаем ликбез правовой.
Все мы рано или поздно сталкиваемся с едва удобоваримым словом «недвижимость», а просто по-русски, жилище, жильё, хата, квартира, дом или халупа. То место, где живём-обитаем, хламьём вещей набиваем, детей растим и старость покоим. Место, где нам покой и уют, тепло и хлебный дух домашнего очага.
У одних общежитие, у других хоромы в три этажа, у третьих нет уже ни того, ни тем более другого.
А почему нет? Не было? Или отобрали? Или «лоханули» когось?
Посмотрим да почитаем про жизни чужие. Примеры взяты из моей адвокатской практики, из материалов судов и следственных дел. Примеры все свежие, как блины, горячи.
Про «умную» мать
Жила-была себе Любовь Ивановна, учительница, умная, опытная, как никак сорок лет школе отдала, детишек уму-разуму учила, потихоньку привыкла к своей непогрешимости и лозунгу жизни «со мной и у меня всегда и всё будет в порядке».
Имела сына. Хороший человек вырос, без пальцев веером. Пришёл из армии, женился, к рождению ребенка готовился с женой ненаглядной.
Но мать заболела, не то чтобы очень, но врачи настояли ей срочно ложиться в республиканский диспансер со страшным названием «онко». Сын тактичный и невестка такая же маме-диктатору и не посмели сказать: «мам, ты бы квартиру ту, где живёшь, что государство дало за честнейший твой труд многолетний, приватизировала бы что ли перед больничкой»?
Но Любови Ивановне такая простехонькая мысль самой в голову не пришла, сын с невесткой не намекали в расчёте, что умная мать сама всё решит, всё прекрасно устроит.
Не устроила.
Была у неё приятельница, тоже педагог, но со знакомством с юристом. Приятельница и посоветовала сходить на консультацию, как быть, что сделать.
Любови Ивановне было страшно некогда тогда. На носу выпускные экзамены в школе, детей-школяров бросать на полдороге к выпуску не хотелось, да и врачи торопили, месяц сроку-то дали на подготовку к больнице.
Вот и провела детишек чужих до порога школьного, собрала нехитрые вещички в больницу и со словами «девочки, я скоро вернусь!», отправилась на лечение в диспансер со страшным названием «онко».
Полежала сколько там дней, да отдала богу душу прямо на операционном стерильном столе.
Школа собрала сколько смогла, сын на работе помощи взял. Похоронили заслуженную учительницу, поплакали на поминальном обеде. И забыли. У каждого жизнь-то своя, и столько проблем и забот, что не до плача по старой учительнице.
Как вдруг прибегает к той самой приятельнице сын покойной Любови Ивановны: «Помогите! Меня ЖЭК из квартиры выгоняет, вещички на улицу! А мне куда деться с женой молодой и грудничком на руках?!»
Приятельница взяла ноги в руки, и к юристке знакомой: как быть?
Та: «жалко ни жалко, а поезд ушёл».
Горемычный сынок был прописан по общежитию. Хотели с матерью сделать, как лучше. Прописка по общежитию давала пусть эфемерные, но всё же надежды на предоставление ему с семьей жилья по месту его работы. Потому у матери и не стали его прописывать после возвращения из армии. Так надумала мать, и так решили они.
А тут еще скоропостижная женитьба, и беременность невестки. Вот семья на общем совете с директивным учетом мнения матери порешила: прописываться к маме не будем! Успеется, если что.
Да не успелось.
А раз так, то трехкомнатная в центре квартира благополучно отошла в фонд местных Советов, то бишь горисполкому, мэрии или госадминистрации, суть тут одна. А еще проще то ЖЭКу.
Ну а там уж бегом, забыв про обычную чиновничью волокиту, квартирку распределили «кому надо».
И всё по закону.
Ну а что мама-покойница? О мёртвых или хорошо, или никак.
Знал бы где упасть, так соломку б подстелил…
Должность была перед пенсией хорошая. Недаром оттрубил в армии чуть не тридцать лет, получил пусть не в центре, а спальном районе квартиру трёхкомнатную, где и гвоздя вбивать незачем, так все ладненько и уютненько, вплоть до водомеров и кафельной плитки.
Живи себе, да радуйся! Жена-хлопотунья под боком, две дочки-красавицы с женой воспитали. Одна замуж собралась, другая замужем уже побывала, дочь народила, зятя пристроили на местечко теплёхонькое – красота!
Красота – да не очень…
Приехал ко мне на консультацию бывший военный, и я его почти не узнала: похудел, постарел, как-то сгорбился, как то скукожился.
Рассказал о нежданном горе-горюшке: зятёк родной надумал квартирку делить, квартирку трехкомнатную. А как же, хотел поступить по закону. Права то имел, пусть не сам, пусть через женушку безответную, только что сапоги ему не лизавшую.
Квартира была приватизирована на четверых: съемщика основного, героя нашего, и членов семьи жену и двоих дочерей. Простая арифметика показала, что каждому по одной четвертушке квартиры принадлежит, полагается каждому доля.
А раз квартира большая, комнаты все изолированы, то можно квартиру и разделить, выделив одну из комнат, далеко не самую худшую, молодой паре семейной.
Надо сказать, зять подошел к делу умело и морально, и не только морально. На работе сумел сослуживцев почти убедить, что тестюшка зверь у него. Выгнал их с молодой женой в общежитие нетопленое, с одним туалетом в конце коридора. Ребенок грудной на руках, жена не работает, в декретном сидит, за ребенком следит. Он, бедный, сам крутится, вертится, на еду зарабатывает, да за общежитие платит. А тесть, тот в хоромах спит, отдыхает, плача внучки не слышит.
Плохая слава, она впереди человека бежит, а хорошая, та под спудом лежит.
Вот и получилось, что нашего героя только что не затравили на работе: ты, с такой большой должности на пенсию ушел, с юридической, между прочим, должности. Вишь как ты к дочке относишься! А ведь квартиру тебе мы давали с расчётом на дочек.
Чуть не плакал мужик, историю горькую мне поведав:
«Зять прилгнул, да сильно наврал. Произвёл, так сказать, подмену понятий. Да, действительно я их прописал по общаге. Расчёт был такой. Расчёт был простой: квартиру им получить, если зять на работе будет стараться. А я связи свою подключу.
А живут то у нас! Дочка с внучкой у нах постоянно находятся, да и за общежитие мы им оплачиваем, и дочку и внучку кормим, одеваем, зятюшка жадный копеечки им не даёт».
Ну, ладно, понятно, совесть понятие не юридическое.
А юридический спор был почти не в пользу нашего многострадального юридического героя. Потому и прикатил ко мне из другого города – помоги! Ты на жилье-то «собаку съела», как быть нам, ведь поделив квартиру, превратив ее тем самым в коммуналку, зять мигом ее «отоварит», он о машине мечтает с пеленок. А выплачивать компенсацию за долю у нас денежек нет.
Нашла я им выход, сильно кумекала, но подыскала в наших законах лазейку. Ведь наши законы отдельное чудо, девятое чудо света, можно сказать.
Но справедливость бывает и в них.
По результату можно сказать: все довольны и все смеются, кроме зятя, конечно.
Цель данной новеллы не в том, какая норма права сыграла, а в том, что по недвижимости могут ошибиться практически все, даже братья-юристы. Что я вам и показала. А по секрету скажу: сильно я поругала самонадеянного юриста с погонами на плечах: жильё – вещь очень сложная, и самонадеянность только вредит. И баловать зятя не следует. А то и на работу на тёплое место устроил, и квартирку в недалёком будущем обещал. И дочку с внучкой кормишь, поишь. И коммуналку за молодых платишь. И что получил?
Постскриптум. Много прошло лет с тех пор, как эта новелла писалась. Давно разошлись, разбежались зятёк и дочка юриста. Бросил зятёк и жену и малолетнюю дочку. С квартирой не получилось? Тогда ему на фиг не надо ни жена, ни тем более дочь.
Дочка та замужем снова. Отдельно живёт от родителей, детей поднимает. Муж ей попался хороший. Ни разу не претендовал на тестевы хоромы. Сам на жизнь заработал, что надо.
Вот так.
А у нас в квартире – газ! А у вас – водопровод, вот!
Приезжает зимой гражданин, консультируется, в глазах не то что скука, неверие. Простое человеческое неверие.
И история вроде простая до упрощенности.
Этот гражданин, с золотыми руками и не менее умной головой, решил благоустроить свою квартиру, что досталась от государства на момент приватизации. Ну, сами знаете, как наше государство любит своих граждан и как «заботится» о своём жилищном фонде.
Итак, получает наш гражданин, назовем его Николай Иванович, развалюху, числящуюся благоустроенной квартирой, и решает сделать ремонт.
Желание разумное? Конечно и очень. Руки-ноги имеются? Ну да. Ну и размахнулся так, что из развалюхи получилось очень даже уютное гнездышко со вторым надстроенным этажом, со всеми удобствами.
И, заметьте! Всё по проекту, всё по закону: разрешение исполкома есть, разрешения всяких разрешающих инстанций, пожалуйста. Набегался, намаялся по всем разрешающим бедняга-трудяга. Будь здоров, столько сил и нервов затратил на бюрократов и чинуш. Ну, думает, все документы у меня в порядке, чего уж мне нехорошего ждать, единственно что, сосед что-то про газ талдычит: мол, меня не спросил, интересы мои ущемил.
Потому и не верил мне Н.И., что сосед может жизнь испортить исками о нарушении прав совладельцев, не поверил да и ушел.
А месяца через два здравствуйте, я ваша тетя! Сосед таки побежал в суд с иском, нашел нечистоплотного по действиям юриста, и иск в суде был предметом рассмотрения почти что три года.
Чего только этот соседушка не написал в иске, ну просто караул! А моральный вред за якобы причиненные ему и его семье неудобства вредными действиями Н.И. оценил в агромадную сумму.
А причина всего завязавшегося в элементарной жадности, жлобстве соседа. Посмотрел сосед, как Н.И. трудится днями и ночами, как муравей, строит свое жилище, обустраивает, и задавила его жаба. Большая такая толстая жаба. Хочется такого же гнёздышка, а желание работать ну напрочь отсутствует, просто-напросто атрофировалось за многолетнее отсутствие. И сынок такой же вырос: абы на чужое роток свой раззявить.
И повод нашли: якобы Н.И. ущемил их права, разломав сараюшку, где газовый котёл стоял. И не важно, что эту сараюшку давно было пора на слом отправить из-за аварийности, и не важно, что газ. котел можно было просто переставить в любое из помещений соседа, и что «халабуду» эту выстроили они вдвоём самовольно, без какого-либо разрешения или проекта. Но как хотелось соседу, чтобы Н.И. построил ему за счёт того же бедолашного Н.И. этакую летнюю кухоньку размером с царский дворец. Понеслась, закрутилась судебная карусель. На все тяжкие шли сосед со своим юристом. И судья у них плохой, дайте нам хорошего, и экспертизу назначайте тоже за счёт все того же Н.И. И все службы, что разрешения дали на постройку-достройку к суду привлеките. Короче, на три года дело растянул. А получилось-то – пшик! Проиграли дело «со свистом», не помогли им ни хамство, ни подделки в документах, ни замена судьи.
Выигрыш был только у юриста соседа. Тот, понятное дело, вытянул с них уйму грошей. Почему так смело утверждаю? Да потому, что он сам орал мне в людном месте, что я не должна мешать ему «чисто клиента доить».
Три года, долгих три года тянуло нервы у мужика. Николай Иванович было сгорбился, пара седин прибавилась в волосах. Супруга его хорохорилась: не поддадимся врагу! Три года за то, что яйца не стоило выеденного: за сараюшку, которая была ничьей.
Права, ой как права старая русская поговорка: покупай не дом, покупай соседа.
Наелась супчику…
Сорок лет опыта работы врачом дали не только жизненный и бесценный врачебный опыт. За трудовые заслуги государство дало ей, одинокой и не совсем здоровой горбунье однокомнатную квартирку почти в центре Евпатории, на море, одним словом.
Замуж не вышла – кто горбунью возьмет! Детей тоже Бог не дал, сестра умерла. Осталась одна. Впереди нищенская пенсия и одинокая старость.
Как вдруг! Объявилась подруга, парикмахер со стажем, весёлая и заботливая. То супчику из дома принесёт, то вещички постирает, то окна с песенкой на устах сахарных и медовых помоет.
Красота! Старушка наша духом воспряла, ожила.
Где-то скоро подружка стала намекать: «может, квартирку мне отпишите? Куда она вам? С собой в гроб не положите, а государству назад отдавать вовсе незачем. Вы её мне подарите, а я вас до конца дней ваших (живите долго и счастливо) кормить супчиком буду…»
Вот и пришла ко мне на консультацию владелица этой самой, однокомнатной.
Советую ей. Если на то воля ваша, напишите завещание, удостоверьте в нотариальной конторе. И ешьте дармовый супчик, сколько влезет. Та давай со мной спорить: «подружка моя говорит, что лучше сделать дарение, и дешевле, и надёжней. Мы даже к нотариусу сходили, «крутой», между прочим, та тоже посоветовала дарение делать».
Минут сорок я объясняла этой женщине, которую видела впервые в жизни, что не стоит ей совершать сделку дарения, что лучше удостоверить завещание, но та упёрлась, и ни в какую. Раз сорок сказала, что нотариус очень грамотный, а я не очень. Ну да ладно, я на неё не в обиде, хотя зря она про непрофессионализм адвоката сказала.
А вот она то, как раз и обиделась на меня. Дескать, какое я имею право, не зная ни её, ни подружку, делать выводы о возможной непорядочности последней, да еще и действия нотариуса ставлю под сомнение, да и её, врача с сорокалетним опытом работы, как девочку, учу уму-разуму.
Взяла напоследок таки мой телефончик, согласилась, что на время моей командировки (я уезжала дней на пять) она никаких действий совершать не будет. С тем и расстались.
Звонит дней через десять, с торжеством в голосе извещает, что удостоверили таки дарение у той самой «крутой» нотариуса. И ничего, жива ещё, слава Богу. Подружка супчиком кормит исправно. А вы, адвокат дорогой, человек нехороший, раз людям не верите.
И повадилась мне так звонить месяца два.
Потом замолчала.
А месяца через два узнаю, что померла странно скоропостижно наша, уже теперь бывшая, владелица квартирки у моря.
Подружка квартирку быстренько так продала, а та бедная горбунья на кладбище постоянным жильём в могилке обеспечена, которое никто у неё уже не отберет навечно.
В общем, наелась смертного супчика досыта…
Теперь о подружке и той самой, крутой нотарусе. Евпатория городок небольшой, юристы знают другу друга, естественно. Случайно при разговоре с той самой крутой нотариусом та абсолютно случайно, не зная, что я ту горбунью консультировала по жилью, проболталась, что заработала триста долларов на сделке дарения дуры-горбуньи своему парикмахеру. Просто эта нотариус хотела мне посоветовать ту парикмахершу как хорошего мастера. А заодно похвасталась своим, как она до сих пор твёрдо убеждена, высочайшим профессионализмом в умении уговаривать старых дур.
Так что не стала я обращаться к той парихмахерше. Знаю только, что Людмилой зовут.
Обидная обида
Когда то я работала нотариусом. Хорошая работа. Все время среди людей.
Приходит ко мне на консультацию молодица со своей мамой, весьма престарелой особой: дескать, хотим, чтобы мама мне дом подарила. Вижу, что в их ситуации лучше составить завещание на дом, а не дарение. Ведь новый владелец дома может и выставить на улицу своего дарителя-благодетеля, а зять дарительницы весьма обоснованно подпадал под такое подозрение. Зять тут же в крик: «вы что, уличаете меня в дрянных намерениях?» Женушка ему тоже вторит: «Мама, неужели вы думаете, что мы вас на улицу выбросим?».
Обиделись на меня страшной обидой. Обида обидная, как они говорили.
Старушка смотрит на меня с укоризной, чего это я её доченьку обижаю.
Что делать? По закону прав я не имела им отказать. Сделка дарения была совершена.
А через два дня старушка уже побиралась по мусоркам…
Пришла беда – отворяй ворота
Жила-была девочка. Звучит, как сказки начало. Да история не сказочная. А чистая быль.
Жила хорошо. Потом как-то сразу (беда не приходит одна или пришла беда, отворяй ворота) навалились несчастья. Утонул брат, погиб отец, горько ушла из жизни мать. Осталась девчушка семнадцати годков одна на свете, как перст. Если бы не добрая соседка, пропала бы девка!
От горькой своей жизни девчушка собралась на тот свет. Откачали.
Понемногу стала налаживаться было жизнь, стала работать, появились друзья и подруги.
Вот одна из подруг, что родной настолько стала, что из одной тарелки ели, один хлеб делили, и надоумила Наташу: давай квартирку твою продадим, деньги «крутнём», а с оборота и квартирку тебе купим, и на еду-одежду останется. Помечтали так о призрачном свете роскоши. Решилась Наташа, ей так хотелось пожить при тепле, в хорошей одежде по городу пощеголять, да досыта напитаться.
Пошли в одно из агентств по недвижимости, быстрёхонько нашлась богатенькая покупательница с «живыми» деньгами. Ударили по рукам!
Честь-честью удостоверили сделку. Пришли к нотариусу, подписали договор купли-продажи, покупательница вытащила денежку, очень даже кругленькую сумму. Подружка взялась пересчитать деньги, пока Наташа и покупатель подписывают договор. С теми деньгами и отбыла восвояси, подалась в неведомые края.
Бог ей судья.
Юридически сделка была совершена правильно: никто девушке иголки под ногти не втыкал, сделку не заставлял совершать насильно. Сама пришла к нотариусу, добровольно подписала документы. Покупательница деньги отдала, как и договаривались. На совершенно законных основаниях вступила во владение квартирой после подписания договора и передачи денег Наташе. Потом, опять таки на совершенно законных основаниях иск в суд подала на выселение девушки. Её можно понять: квартиру имеет, а там бывшая владелица проживает. Непорядок.
Представьте теперь состояние Наташи: ни денег, ни квартиры. Податься и то некуда: родных-то у круглой сиротинушки нет. Из квартиры судом выселяют. Денег нет, скорее всего, уже и не будет, подружка небось давно за рубежом на чужие, не кровные пьёт да гуляет.
Ситуация была настолько критической, что девушка пыталась покончить с собой. Это уже во второй раз.
Опять люди добрые спасают ей жизнь. Опять соседка по человечески поступила. Привела ко мне курицу мокрую, то есть Наташу.
А дальше мы стали заниматься правовой ситуацией.
Ситуация в суде разрешилась наиболее благоприятным для моей Наташи образом. Побегали мы с ней много, выдержали прессинг и давление со стороны противной стороны (чисто юридический термин, но как он тут был кстати!). Спасибо ещё, что судья попалась грамотная с двадцатилетним опытом работы, да к тому же сохранившая порядочность и человечность.
Общими усилиями правосудия Наташа не осталась на улице.
Похвастаюсь как. Дожали мы покупательницу, надавили на совесть, и она Наташе купила малосемейку.
Вскоре Наташа нашла хорошего паренька. Поженились. И славно живут. Не сыто, но в радости. В малосемейке. Паренек тот тоже сирота одинокая. Детдомовский.
У некоторых из вас мысль может закрасться: не идиотка ли эта Наташа? Отвечаю уверенно: нет. Наташа закончила школу с медалью, не скурвилась на жизненной дорожке, зарабатывая свой хлеб честным, а потому не денежным способом.
Вот честность и сыграла с ней шутку. Разве могла она в самом жутком сне представить зломыслие лучшей подруги? Или понять, что для мошенника не важно, гениальный вы художник или девочка-сирота. Для него главное в вас – ваши деньги, вещь, ваше благо, которое вот-вот может станет благом его.
У убийцы может быть совесть и честь, мошенник же лишен начисто благородства. На то он и мошенник, от слова «мошна» = кошелек с деньгами.
Короткая коммунальная
Жила-была семья, такая себе простая, очень даже обыкновенная. Разошлись. Детей не делили, дочь с матерью жить осталась. А вот квартиру захотели разделить. Добровольно не смогли. Пришли в суд. Прибегли оба к помощи адвокатов.
Ну, сидим, обсуждаем ситуацию. Я возьми да и ляпни: зачем вам квартиру-то делить, давайте найдем выход поразумнее. Моя коллега аж подскочила с места (хлебный клиент может уйти!), тут же отсоветовала своему клиенту-мужчине слушаться моих слов. Пошли в судебное заседание, честь-честью разделили квартиру. Каждому из супругов досталось по комнате, оставив коридор, ванную комнату, кухню и балкон в общем пользовании. На прощанье мужчина обратился ко мне со словами, что ему сейчас выгодна такая ситуация. Я опять за свое: «посмотрим, что будет через пять лет».
И как каркнула: ровно через пять лет моя клиенточка вернулась с дальних северов, где отработала по контракту, и пожелала поселиться в своей, законной комнате. Поселилась.
И начала устраивать там такое! И голая бегать по квартире, и всякого рода мужчин в гости приглашать, и гульбищи-пьянки устраивать.
Бывший её муженек, теперь просто сосед, за эти пять лет женился на вполне добропорядочной женщине, у них родился мальчишка. Которому уже годика четыре исполнилось к тому времени, когда тётенька-соседка стала голенькая по квартире шарахаться.
Мужик в ужасе прибежал к нам, в юр. консультацию. Присел ко мне со слёзной просьбой: помогите! Раз пять, наверно, вспомнил мои слова про пять лет, казнил себя последними словами. А прошедшего не вернешь! Жена рядом, плачет ему в унисон: что делать?
Конечно, самое было лучшее не совершать такой глупости, как раздел квартиры, юридически называемый «определение порядка пользования жилым помещением». Почнму? Вы получаете в итоге коммунальную квартиру, где приходится терпеть соседа или нескольких, а приятные они или не очень, то от вас не зависит.
Комнаты-то закрепляются за нанимателями, а вот так называемые места общего пользования кухни, коридоры, прихожие, кладовые, ванны, туалеты балконы да лоджии остаются в общем пользовании. Поневоле вспомнишь все фильмы про московские коммуналки с сюжетами про непогашенный вовремя свет, или как по Райкину, про ванну с огурчиками.
И уже не будет важно, почему делили квартиру, из «принцыпа», как любят делать бывшие мужья, или бывшей жене надоело видеть бывшего муженька чавкающим на общей кухне. Результат будет один – коммуналка!
А уж если тот, кто злее, свою комнатушку отдаст (или продаст) кому-то вроде бомжа или застарелого хроника-алкоголика, ну, держись, соседушка!
Тут уж история может кончиться, к сожалению, и криминалом.
Хрустальная Эмма
Небесно-хрустальный голосок, небесно-хрустальные глазки. Эммочка вызывала не то что доверие, а прямо-таки безграничное доверие к своей юной особе. Ей верили все, соседи, друзья, юнцы да молодцы, что мошкарой крутились возле неё. Да что соседи? Незнакомые доселе люди в миг становились друзьями, доверявшими ей и секреты, и планы и… деньги.
Уж на что я, в то время нотариус, головой отвечавшая за поступающую в кассу наличку, славившаяся своей суровостью ко всем и ко вся, поддалась её нежному говору и разрешила «до завтра» отложить поступление в кассу аж 12 рублей, полагавшихся с неё за совершение кучи доверенностей. А в то время при моей зарплате в 125 рублей это были, я вам скажу, серьезнейшие денежки.
Эммочка принесла деньги наутро, чем ещё больше завоевала мое доверие.
Попалась она лет так через пять: дурила головы тем, кто очень хотел обмануться. То есть, говоря суконным языком протокола, входила в доверие потерпевшим, обещая им за взятку в довольно разумных пределах скорое благо в виде отдельной квартиры.
Голод на жильё всегда есть, пока есть государство. Дураки и лохи в стране тоже никак не переводятся. Дела Эммы процветали. Удрать она не успела, мешал грудной её ребеночек, как ни странно, ещё больше придававший шарма Эммочке.
Следствие вела прокуратура.
С саркастическим смехом поведала нам пом. прокурора, тоже немка, как и Эмма, по национальности, что Эммочка умудрилась назначать свидание будущим жертвам именно под кабинетом пом. прокурора.
Хвастаясь родственной связью с пом. прокурора, Эммочка зазывала кого-нибудь вместе с собой в прокуратуру. Там предлагала присесть, пока наболтается с тётей. Люди охотненько верили. А с Эммочкой в это время «тётя» пом. прокурора проводила допрос по всей форме или очные ставки.
А люди под кабинетом всё ждали и ждали…
Выходя, Эммочка ласково с «тётей» прощалась. Та, особа воспитанная и потому вежливая даже с преступниками (а Эммочке «светило» минимум лет так пяток за мошенничество), говорила ей обычное «до свиданьица». И где-нибудь за углом потные руки вручали Эммочке нужную сумму.
Обнаглевшая Эмма могла минут через пять вернуться в прокуратуру, якобы «тётечке» деньги отдать, и возвращалась к ждавшим придуркам уже без деньжат. Куда она их девала? А бес её знает.
Судья пожалела не Эмму. Пожалела ребёнка её, годовалого кроху. Сидела умная баба и вслух рассуждала: «ну посажу я её, а ребенка куда? В дом малютки, потом интернат? Сгубим ребенка. Грех на душу не возьму, у самой дочка беременной ходит».
Дали условно. Взять с Эммочки было нечего, скарбьишко не нажила. Куда деньги девала и, кстати, немалые так и не узнали. Может быть, слухи, что блуждали по городу, что Эммочке отдавали «кто надо» только малую часть нахапленных взяток были правдой, не знаю, но по суду потерпевшим выжать из Эммы ни копеечки не удалось.
Было ребенку годика три, как Эммочка снова попалась. На чем? Не суть важно, хотя объективно скажу, что инспектора по жилью в городке том сменили. К власти пришел пока честный «афганец», подобравший команду из честных людей. На жильё определили до нельзя честную бабу. Знаю её хорошо. Инспектора кредо было «хочу спать спокойно», с тем и жила. Прокурор тоже сменился. Новую прокуроршу народ полюбил за порядочность, и знакомая нам та пом. прокурорша в фаворе у начальства уже не была.
Но снова Эммочке повезло: подоспела амнистия, по которой беременные и родившие освобождались, в том числе и от несостоявшегося наказания.
Я сейчас уж не помню, была она беременной или уже родила, не суть важно. Важно другое, то, из-за чего весь рассказ я и начала.
Ребёнку едва исполнилось месяц иль два, как родная мать обварила дитя. Кипятком. Сразу насмерть.
А зачем он ей был нужен? Свободу она получила, а средство свободы – как снег прошлогодний!
И кстати. Доказать состав преступления не удалось. Поди докажи, то несчастная мать ребенка нечаянно обварила или она его умышленно в ванночку с кипятком всего опрокинула. Поди, докажи?!
От людского стыда Эммочка с мужем (или вовсе не мужем, он нам не нужен) с городка выметнулась. Люди простили ей деньги, что дуриком ей давали, а вот смерть ангелочка простить не смогли.
Где-то ты бродишь, красивая Эмма, с хрустальнейшим голосочком и нежными глазками?
Это единственная из моих героинь, которая названа её настоящим именем – Эммой. Я жалела даже убийц, а эту особу… Ну, ладно, до свидания, Эмма.
Совсем обычная история
Не так уж и давно случилась эта совсем обычная история…
Воспитала баба двоих сыновей. Один давно уже женился, жил своим домом, не празднуя мать. Другой, помягче характером, слегка подженился, но мать по-прежнему хозяйничала как в своём домом, так и в его.
Подались мать с младшеньким в бизнесмены: купить в городе подешевле, пусть залежалый товар, «толкнуть» его в своем селе подороже. Вот и вся нехитрая арифметика успеха. Мотался за товаром сынок. Мать день-деньской торчала на рынке, копеечку к копеечке складывая свое богатство. Заодно и языком чесала, как могла и умела. А умела много… За это и не любили её что товарки на рынке, что от мала до велика знакомое ей население их городища.
В свои пятьдесят или около мать смотрелась очень даже браво, несмотря на полноту и хриплый голос торговки. Может, потому что была замужем за мужичком лет так на пятнадцать её моложе? Нет, тут обычное слово «моложе» не совсем подходит, лучше сказать младше. Да, младше. Так по жизни правильней будет.
Мужичок, назовем его Вася, помогал драгоценной женушке и по хозяйству, и по торговле, постепенно приобретая навыки и нрав торговой среды, обтёсываясь до среднесельского уровня. Так и жил: к интеллигенции не примкнул, зато от коровьего хвоста оторвался. Жили, почти не бедствуя. Женушка была прижимиста, на шикарные харчи неподатлива. С этим её недостатком свыклись что сыновья, что Василий. Несостоявшаяся пока её невестка Алёна пыталась было вякнуть, но язык быстро прикусила, как только свекровушка намекнула, что таких, как она, можно недолго искать, что в родном селе, что в других крымских городищах. И то правда, младший её сыночек был здоров, что телок, да и нравом был, ровно телёнок. Относительно красив. Тут о вкусах не спорят. Однако и мать и он были совершенно уверены в его неотразимой красоте.
Долго ли коротко ли, а отправила женушка муженька на курорт. Здоровьичко его зело пошатнулось: горбатился, бедный, горбатился, да и надорвался, зарабатывая на новехонькую иномарку. На ней, желанной, он и отправился на курорты, благо, что неподалеку. Что в Крыму, курортов мало?
И не пишет, и не пишет оттуда. Неделя прошла, может две. Нет, о том, что добрался, позвонил, отчитался, а дальше – молчок. Жена, совершенно естественно, уже и беспокоиться начала. А вдруг что? вдруг машину угнали, а его, бедолашного, монтировкой по черепу, да и в откос. Заметалась красавица, замаялась.
Как вдруг письмецо от него: прощевай, мол, красавица, да прости. Уезжаю от тебя на машине, что на мое имя куплена. В дальнюю даль отправляюсь то ли на Волынь, то ли ещё куда-то на западенщину, ты не ищи.
Не это смутило жену А смутило да до смерти разозлило, что уезжал не один, а с красоткой – подругой, что лет так на десять моложе его.
Подхватилась торгашечка, да опоздала. Пулей слетала на чердак своего двухэтажного дома (кость в горле всему городищу). Батюшки, деньги пропали! И сумма немалая долларов 50. Тысяч. Всё, что копила, откладывала, не доедая, по пять раз чайный пакетик заваривая, всё, всё ушло на потеху той кобылищи, что с мужем её на машине умчалась.
Локти кусала недолго. Озверев, пустилась по адвокатам в суде имущество поделить, да судьи (дом двухэтажненький помните?) отказались скостить ей госпошлину. Тогда плюнула на адвокатов, облаяв их по торгашевскому обычаю.
Обратилась к «мальчикам» мафии. Ребята были больше отзывчивы, чем судьи вперемешку с треклятыми адвокатишками, согласились на 10 % от добытого найти и побить и неверного, и бабёнку его. Заодно возвернуть и машинку, и денежку. Сторговалися вмиг, и ребятушки в неизменных спортивных костюмчиках бросили свои привычные занятия по накачке бицепсов да трицепсов. Труба позвала в дальний путь бороться за справедливость.
Вернулись нескоро. Без денег и без машины, но почему-то весёлые, и пристали к вконец почерневшей (но так и не схуднувшей) бабе: плати! Та в рёв: за что же, ребятушки? Те: ездить мы ездили? Ездили! Денежки тратили? Тратили! А расходы нам кто возместит? То-то же, бабушка!
И за свои поиски та затраты отобрали у бабушки дом. Двухэтажненький!
Мораль? А зачем вам мораль: я же сказала, это совсем обычная история.
Максим Иванович. С супругой
Максим Иванович любил захаживать запросто, по-соседски. Его никогда не оставляли без ужина или обеда, а если попадал на вкуснющие пельмешки, что так мастерица была готовить хозяйка Авенировна, да если еще и сосед Николай успевал, пока супруга не видела, и чарочку налить, тогда Максим Иванович оставался надолго. И в шахматишки с соседом побаловаться, и про жизнь стариковскую покалякать.
Ну, если честно говорить, стариковское, по его словам, бытие касалось только его жены, дамы дородной, высокой, что была лет так эдак на десять-пятнадцать моложе мужа. Та соседские чаи не баловала своим вниманием. В ней оставались замашки эдакой «пани», что не отказывала себе в соболях да хрусталях. Скромные соседские разносолы да нехитрая меблировка её мало, что не привлекали, скорее отталкивали.
Она обожала выходить на вечернюю набережную, где почти случайно встречаться с такими же, как она, отставными полковницами да генеральшами, и уже с ними обсуждать свои и их интересы. Тихое море шумело у ног, романтика тёплого вечера с его курортной музыкой да запахами нечисленных едален возбуждали не только подзабытый аппетит, но и воспоминания о своей, давно! ушедшей молодости, о бравых капитанах да майорах, что так некстати уже постарели-побурели, а то и поседели, но все ещё ровно держат спину. О кафе да ресторанах их юности, когда на десятку можно было до отвалу наесться трюфелей да упиться громким шампанским.
Дамы, оправляя оперение, тщательно избегали болезненных тем.
А к таковым изначально относились:
– свой возраст (не возраст мужа, так как зачастую дамы бывали на десять, пятнадцать, а то и тридцать лет моложе супруга);
– те схватки и ранения, что получались семьей отставных офицеров при получении благодатного жилья с максимальными удобствами у самого тёплого моря в мире. И, упаси боже, было напомнить подружкам или себе, как распластывалась перед замполитами всех уровней, как сшибала башку сопернице в борьбе за вожделенное жильё. Да и вообще, что было вспоминать о нехорошем!;
– своё социальное происхождение, так как вышедшие стройными рядами из кухарок при офицерских кухнях и столовых аэродромов, или прозябавшими горничными и уборщицами офицерских гостиниц, и только потом ставшие офицерскими женами, вторыми иль третьими, то не суть было важно, они намертво забывали о позорном, о родне, что связывала с тем далёким минулым, где они были просто Фроськи да Дашки.
Изредка, очень изредка какая из дамочек позволяла себе назвать не по имени, то упаси боже, дамы называли друг друга исключительно по имени с отчеством. Нет, как-то так подчеркнуть Ефросинья Андреевна, что обладательница имени тихо скрипела зубами, ожидая очередь отомстить может быть несколько лет. Да, она не Виолетта Соломоновна или Леокадия Львовна, да, в детстве звали Дашуткой иль Фроськой, так что ж?
И нехорошо, совсем нехорошо было напоминать даже самой себе о пьянках мужа, его девках в погонах и без. И уж эта-то тема подружек совсем не касалась…
И сидели на лавочках, пудря жеманно носы, и вспоминали, вспоминали про еду да помаду, фильдеперс и шиньоны, военторговский склад и приезд генералов. Сладко ухало сердце, рот был наполнен воспоминанием настоящего куйбышевского шоколада, глазки кокетливо щурились автоматом, губки сжимались. Дамочки млели.
Да мало ли о чём можно посудачить в теплый летний вечер в Евпатории, если дома не ждут внуки или дети, а постаревшие бравые офицеры-мужья сражаются рядышком в шахматишки, изредка вскоса бросая похотливые взоры на тела тех лёгких созданий, что пропархивали почти что в чем мать родила по парапету набережной.
Дарья Ивановна была завсегдатаем таких посиделок. Дом рядом, муж у соседей пельмешками балуется допоздна, дочь…
А что дочка? Дочка давно была замужем «за Киевом», и жила в стольном граде с мужем-доцентом почти припеваючи, писала очередную диссертацию, и, когда-никогда, навещала родителей, если удавалось поднять головушку от рукописей библиотек.
Ах да, была ещё внучка! Та давным-давно слонялась по заграницам, выполняя очередную миссию «миротворицы» с дипломом советской медицинской сестры. Деда и бабку вниманием уж точно не жаловала, ограничивалась открыткой к новому году, забывая про их дни рождения. Родителей раз в пятилетку ещё навещала, но старичков миновала, отговорки дела, дела да делишки…
Как-то уж очень внезапно дочь заболела, поболела немного, получила страшный диагноз – рак, и от него тихо так через полгода и умерла. Дарья Ивановна после тягостных похорон тихонько-тихонько перелегла на другую кровать, с которой так хорошо было видно громадный портрет её дочери, гордой и мрачно-красивой. Так сутками и лежала.
Пришлось Максиму Ивановичу на старости лет ходить в магазин, покупать то кефир, то сметанку старушке. Та ела всё без разбору, судя по его жалобам всем соседям, но как-то быстро худела.
От соседей Максим Иванович почти что и не вылезал, приспособив гонять за продуктами соседского безотказного пацана Сашку. Всё равно ж тому и домой что прикупать каждый день надобно. Авенировна стала беззлобно поварчивать про соседскую жизнь, а что толку? Муж Николай жену не поддерживал. Добрый был очень. Сашка, что Сашка, мотался себе день деньской на футбол, в магазин, на рыбалку, к вечеру притаскивал в дом свои подусталые ноги, и мать хлопотливо бежала готовить пельмени.
И, как теперь уж завсегда, Максим Иванович был на пороге. Шахматы под мышкой, улыбка из под усов шире и не бывает. Поворчала-поворчала Авенировна, да и свыклась, уж больно соседку ей было жалко. И Максиму Ивановичу пельмешек накладывала, и супруге его супчик носила, рассольничек. Старушка жадно хлебала вчерашний рассольник, потом засыпала, ну как дитя. Максим Иванович не отходил в это время от жены и соседки, ласково ругая жену, что плохо, дескать, питается, приходится самому всю сметанку съедать. Авенировна (вот простая душа!) молча кивала.
Дарья Ивановна умерла через год после дочери. Старухи соседки, полон двор которых бел – чёрен от давних нарядов, стали шептаться: уморил, дескать, Максим Иванович супруженцию, уморил! Вон он, какая худая в гробу-то лежит! А Максим Иванович всё плакал да плакал, смоктая жёсткие усы в цепочке слезинок.
Ни зять, ни внучка на похороны не приезжали. Им было некогда: делили квартиру в Киеве, что была на имя дочери стариков оформлена. Внучка вскоре оставила Киев, вернулась ишачить по заграницам, с зятем связь, и без того скудным-скудная, вообще прервалась.
Максим Иванович окончательно сел на шею соседям. Те и стирали его обмундирование с латками да перелатками, и слушали нескончаемые разговоры про лётный состав да полк авиации, коим командовал и до войны, да и после. Старик как бы забыл про смерть Дарьи Ивановны, про развесёлую внучку, всё юность да полк пережевывал.
Авенировне было уже и тяжело. Только что вышла на пенсию, работа, что была на мясокомбинате, перестала кормить. Попробуй растить сына-подростка при её маленькой пенсии да инвалидной пенсии мужа – не сахар. А тут еще и сосед! Утешало одно: старик обещал отписать им квартиру, а Авенировне так уж хотелось две их комнатушки присоединить. Было бы Сашке где ночевать, да и дочери, что из России каждое лето к матери с детишками приезжала, был бы свой угол.
Терпела.
Старику было давно уж за восемьдесят, как стал он припадать за молоденькими девчушками, что бродили, набирая загар, по золотым пляжам солнечной Евпатории. Вприпрыжку да молодецким скочком бежал за девчонками стариковской трусцой, лепеча про конфеты да мармелады. Девчонки то ржали над престарелым придурком, то убегали, издевательски бросая ему недоеденный ими пломбир. Старик жадно хватал палочку мороженого, как-то по зверски урча, доедал капающий грязно-коричневый шоколад.
Соседи все больше шептались-шептались, да и позвонили в социальную службу, что организовал местный горисполком. Оттуда пришла громогласная тётя, и занялась престарелым полковником. Как-то уж очень быстро отшила Авенировну, обижавшейся на хамство государственной служащей. А тётя та Авенировне стала частенько намекать на сыночка, что был участковым, да на возможные им проверочки, не избежал ли кто уплаты курортного сбора от многочисленных постоятельцев? Авенировна вовсе отстала, надеясь втихую на завещание старика. Встречала его в тёмной тесноте общего коридора, разыскивала порядочного нотариуса в городке. Старик обещал, обещал, обещал…
Прошёл вроде месяц, а, может, и два, как двор взволновался опять: умер старик. И странно-то умер, то ли его отравили, то ли сам грибочков наелся, что государственная тётенька приносила, но быстренько умер. И в тот же денёчек, что в день похорон, бравая тётя вселилась.
Авенировна плакала в голос: было жалко себя, дуру-предуру, что верила байкам полковника, и жалко его, дурака престарелого, и жалко соседку Дарью Ивановну. Жалко-то жалко, а ни старика не вернешь, ни завещания не было!
А двор всё трёпался-судачил: и тёти той вроде сыночек-племянник был «при делах» в убийстве соседа, и тётя крутилась совсем не зазря, обихаживая Максима Ивановича, с его вечно мокрыми штанами, – квартирка у моря стоила дорого! А Авенировна аж свалилась в горячке от беды да напасти, из дома не выходила, на стук никому не открывала.
Прорвалась к ней соседка Мария: от свеженькой сплетни горели глаза. Во, как бывает! Приехала внучка, рост чуть не в два метра, тряхнула ту тётю, вырвала из загребущих ручищ сберкнижку дедули (ой, как много деньжищ на сберкнижке скопилось!), ударом ноги свалила мента, что то ли сыночек, то ли племяшек был борзенькой тёте. За день или два оформила нужные на квартиру документы, и укатила в Италию.
Квартиру закрыла, потом продала. Не Авенировне, нет! Зачем же жалеть дурищу соседку, что кормила, поила, выхаживала бабку да деда. Прагматик по жизни, внучка квартиру так продала, что папенька родный от зависти аж заболел, деньгами со вклада внучка тоже распорядилась. Без папы.
Мария квакнула было, что, мол, Авенировна так уж старалась за деда и бабку, так уж старалась… Внучка одно и сказала: а кто звал её да упрашивал? Хлопнула дверь, Мария пошла вон, непрошена.
Баба Дуся
Полного имени никто и не помнил, все звали её баба Дуся. Она, когда еще могла выходить, отзывалась, потом в комнатушке закрылась. Комнатушка её находилась на самом верху парадного входа. Просто кто-то после войны загородил холл на самом верху в живых оставшегося в годы войны красивейшего дома. Так и получилась бабкина комнатушка. Жила одна. Изредка только навещал её постаревший племянник, горбатенький живчик, вьюном вившийся близ старой бабки. А та не сильно его то и жаловала, но племяш всему двору шептал да рассказывал, как он тетеньку обожает, какие гостинцы ей носит. Приучал двор к себе: бабка не вечною ж будет. А что двор? Двору всё равно, помрёт или нет старая ведьма.
В последние её годочки старушка вовсе от разума избавилась: вывесит вонючее до тошнотищи белье или матрас и дыши, наслаждайся прохожий народ! Раз как-то случайный мальчонка осмелился только сказать: «фу, как воняет!», так старая ведьма с прытью невероятной накинулась матом на пацана и его вовсе безвинную мать.
Соседи терпели: внизу открывали окошки во двор, а справа и слева окна на море.
В комнатушке старой мебели не было, не было плитки и унитаза. Как только жила? Весь двор обзавелся удобствами. Бабушка Дуся одна коротала свой век в привычном дерьме неудобств. Что ела не ведаем, гоститься у Авенировны она не привыкла. Скандальный характер довёл даже кроткую.
Да, Авенировне на соседей уж точно не повезло: справа жил бывший полковник Максим, слева дни коротала ошалелая старая Дуся.
Дуся долго жила, пережила даже Максима, хотя старше была лет на пять или восемь. А умерла она страшно и странно.
Племяш с парой бутылок кефира по лестнице прогремел, долго стучал в дубовые двери. Дверь не открыли. Позвали соседей да участкового. Тот что-то быстренько так появился. В крохотной комнатушке лежала нагая старушка. Ободраны до крови руки и ноги, всё тело покрыто пятнами синяков от ударов, рот порван почти до ушей. Зрелище – жуть! Версия грабежа отпадала мгновенно: весь городишко наш знал, что бабка жила слишком уж бедно.
Конечно, злых языков в городишке хватало. Болтали про нажитое неправедно в годы войны, когда бабушка Дуся, тогда вовсе не бабушка, с немцами миловалась, добро наживала, да сразу после войны с комендантом сдружилась, потому лагерей избежала. Тоже болтали, что награбленный скарб коменданту отдала, выторговала себе комнатушку у моря. Сразу после войны той комнатушке цена, что сейчас «мерседесу». Зажила баба Дуся привольно, вольготно, нимало не печалясь отсутствием как мужа как такового, да и детей. Ну, с мужьями после войны была еще та проблема, а вот ребенка родить тут Дусе вначале было некогда за делами-делишками торговыми да развесёлыми вечерами с комендатурой городской да пришлыми вояками. А потом стало поздно.
Нет бы, нерастраченные материнские инстинкты перебросить на неудавшегося племяша: его горбик рос и рос. Да не любила Дуся убогих. Так, иногда кидала ему кусок от щедрот своих, комендантских. Вот и все привилегии. Племяш обиду не держивал: пустое брюхо гордыню не терпит.
Кто Дусю грохнул, осталось неведомо, только мотался племяш по милиции, прокурорам зазря. Заключение дали: умерла, мол, от старости. И в воду концы. Хлопоты по эскгумированию, ну ещё чего, прокурор даже засмеялся, откуда, мол, знаешь, убогий, такие слова. На том все и покончили.
Племяш куда-то долго отписывал бумажонки, бегал по юристам та адвокатам в слабой надежде на правду, пока не сказали умные люди – боись! Тогда только отстал.
Авенировна было пыталась докопаться до правды да истины, водила племяша бабы Дуси к знакомым юристам.
Все кончилось тем, что продала Авенировна хатынку добрым людям из самой Москвы, перебралась к дочке на Волгу. И, правда, если убили соседей двоих, и слева и справа, что ей ожидать, пенсионерке, муж-инвалид, сын не подрос. Забоишься.
А дом был высокий, красивый, с лепниной, балконы резные, потолки под пять метров, окна смотрят на море, лестница в мраморе. Чудо, не жизнь.
Дом. Полина
«Сидит старуха у синего моря, а перед ней – разбитое корыто»
(А.С. Пушкин)
Присказка будет такая.
Было трудным, очень трудным раннее детство. Да и позднее сахаром-медом в рот не лилось. Родители оба и сразу погибли в голод, что лютовал в Украине в середине тридцатых годов. Постарались Сталина люди, и мёрли и мёрли млад и старой человек. Так умерли и родители. Полинка в двенадцать годков подалась работать по найму наймичкой. И нянькой, и кухаркой, и лён ворошить. От какой работы откажешься, когда от голода скулы сводит на нет! Помытарилась-помытарилась, походила «по людям», нахлебалась ласки людской чуть не досыта. К шестнадцати заневестилась.
Красавицей стала! Очи синевы небесной, необычайной, высокая грудь, ровная стать, шелковые волосы спрятаны под платок. Женихи кругами стали виться у хаты. Сёстры её, а были и сестры, и помоложе и старше, уговаривали: не продешеви красоту!
Не продешевила. Вышла замуж за некрасивого, да богатого. Не любила, но богатство манило, тянуло к весёлому пареньку. Характер у парня был славным, слыл добрым и работящим. Вот и сошлись.
Родители парня взяли сиротку Полинку в семью за её красоту с целью улучшить породу. Да за работящую натуру. Полинка умела и мыть, и скрести, и белить, и красить, мешки тягать (носить), что мужикам не под силу. Делала всё, что в селе надобно делать невестке.
Съедала не миску, а тазик еды – и за работу! Пахала, что конь.
Но опять напасти, опять приключилась беда. Да беда не приходит одна! Ох, как права народная мудрость. По-первости, раскулачили стариков, родителей мужа. Увезли на телеге ноченькой тёмной. Пока их везли, в хате добро растащили «добрые люди». Вернулись Полинка с мужем из города, и что делать теперь двум работящим да молодым? Подались в другое село, что красиво раскинулось в километрах пяти от Днестра, в самом красивом районе хмельниччины, а тогда проскуровщины. Смастерили себе мазанку-хатку. Полина ночами не спала, месила глину на хатку (а, может, отговаривалась от нелюбимого мужа ночною работой, кто знает?). Смастерили хатынку, так себе, с глиняным полом да потолком невысоким. Сойдёт! Тихонько жили, на люди не высовываясь, так власти боялись.
Да как не бояться? Вон, бают люди, брата двоюродного мужа Полины как забрали ноченькой темной люди лихие, люди в шинелях, как увезли в мгле ночной, и не у кого расспросить, куда подевались муж да жена да двое детишек? Будешь молчать да помалкивать, крепко язык во рту то держать. А не то приедут так ноченькой тёмною, ночкой осеннею, и поминай, как тебя звали!
Про родителей мужа тоже не спрашивали. Да и соседи не любопытствовали: тогда голод много людей отобрал из семей. На голод списали родтелей мужа. За правду сошло. Ну и пусть.
Это уже потом, в восьмидесятых, сын Полины похвастался, что случайно попал на адрес дяди, того самого, что угнали вместе с семьёй. Написал ему малое письмецо в далёкую Швецию. Так мол и так, я ваш племянничек, живу на Дальнем Востоке России вместе с женой, отпишите и вы, как живёте. И отослал вместе с письмом фото с женой. Ответ на письмо пришёл месяца через или три. И тоже с фото. На фото старик со старухой, седенькие, но сразу видно, чтосытые. Со стариками рядышком дети и внуки, все улыбаются около дома, богатого дома. Да две машины стоят во дворе вольво и мерседес. А в письме откровения. Старик отписал, что угоняли их долго. В поезде стылом погнали на север, там всех бедолаг, а собралось душ триста или четыреста, на баржу посадили, и та баржа попыхтела на середину лютого моря.
Команда была: катерок, что пыхтел перед баржою, отвязать, да и пустить ту баржу на Божью волю. То есть грозила людям бескровная смерть, смерть лютая, смерть стужалая. А с ним жена да двое девчонок, доченек милых. Готовились к смерти, прощались друг с дружкой, прощались с народом. Смерть неминуемая виделась рядом. Да на счастье людское конвойный корабль норвежцев догнал утлую баржу, катерок потопил. Тем люди спаслись.
Осела семья вначале в Норвегии, там доченьки подросли. Старшая так и осталась в Норвегии. Вышедши замуж, язык родной позабыла. Младшая, когда подросла, в Швеции, куда семья потом перебралась, тоже вскорости замуж выскочила. Красивые девочки, русые девочки породу викингам не испортили, только улучшили.
Старик в письме жаловался да печалился, что язык родной, украинский, он только с женой когда никогда применял, да зятьев своих мату приучил, как приспичит.
Пришло и второе потом письмецо: старушка скончалась. На том переписка и прекратилась. Видать, вскоре умер старик.
Но то было потом: и переписка, и фото. А в тридцатых кто мог предсказать как жизнь повернется, каким обухом стукнет?
Муж повторял, наученный горьким опытом сгинувших в лагерях обоих родителей: нам стоит помнить, что богатства нажить, то себе не к добру. А Полина твердила: да какое богатство? Посадишь яблоньку малую, а уж с района приходят товарищи: плати налог как со взрослого дерева! И платили. Куда же деваться, Сибирь то Сибирью недаром зовётся.
А тут другое, более страшное лихо нагрянуло – война! Немцы в село, муж свистнул в армию, подался в Красную Армию, против «фрица» бороться.
Не мобилизовали, не погнали, как прочих, на бойню в мясорубку войны. Сам пошёл драться против немецкой агрессии. За это потом сам поплатился. Но об этом попозже.
Долго ли коротко история длилась, история о том умолчит, но как муж повернулся из армии, вскорости и сыночек родился. Глаза мамкины, синие-синие! А характером ни в маму ни в папу. В селе глухо поговаривали, вслух не смели сказать острой на язычок Полине, что ребенок тот от немца прижит.
Да и то. Полина Сталина, это уж было потом, в восьмидесятых, когда стало можно многое говорить, сильно ругала. И за налоги, и за другие поборы, и за дороговизну, и за родителей, короче, пошло да поехало, как Сталина вспомнит.
А вот немцев хвалила. Расскажет, как будто случайно, что немец местных не трогал. Едет себе на телеге немчура, коленочки с воза спустит, автомат валяется за спиной на соломе, играет себе на гармошке, да кричит да покрикивает: «бабки, млеко, яйки»! Принесут ему женщины из села яйца, сало, да молоко со сметаной. Немчура обозный только прижмурится, да сильней на гармошке губной наяривает песни свои, песни немецкие.
Так и прожили при немцах не битыми.
Показывала мне старую грушу, в которой остались вмятины на коре от ремней: то немцы коней так привязывали. На мой невинный вопрос, а где жили немцы, ответила: в хатке. А я опять, невинная дура, а где жили вы? Глаза потупила, да подалась в огород. Срочно капусточка на «кисляк» (местный борщ) ей понадобилась.
Ну да ладно. То её дело, с кем спать, от кого детишек рожать.
Вернулся муженёк с войны, да подался в бега от супруги, аж в донецкие шахты полез. По селу версию распустил, что за деньгами подался. Да село не поверило, решив, что убежал муженёк от жены, что от немчуры ребеночка прижила.
Победовала сердечная, да за муженьком подалась в степи донецкие. Как уж там уболтала, неведомо, но возвернулся её муженёк, мужик работящий. А вскоре и сына второго она родила. Теперь уж точнее точного, от мужа понесла ту дитятю, да родила в положенный час.
Прелюдия кончилась. Переходим к основной части «марлезонского балета».
Двое детей, жена, что не перестала быть красавицей при такой то работе да жизненной лихотне. Что мужику прикажете делать? Естественно, работать до потов седьмых. В колхозе руки его работящие при голоде послевоенном на мужиков ох как были надобны. Да еще и безотказный в работе был мужик Николай. Председатель и впаривал его в работу любую, что колхозу была сильно в надобности. А после работы, тяжкой и трудной, надо и быт обустраивать. Мальчишки растут на домашнем на молочке да сметанке и сале, эвона, скоро уж в женихов превратятся. Так чего ютиться в старенькой мазанке?
И стал строиться дом. Для села был то не дом, а домище! Из чистого-чистого камня. Камень носил на себе, когда-никогда подвозил на телеге, коли председатель по жалости коня разрешал. Камень тяжёлый, а все-таки дом потихонечку становился. Черепицу делали сами. Пацаны подрастали, стали отцу в тяжкой работе чуть-чуть помогать. Больше работалось младшему. Старший как то уж очень уж ловко от работы отлынивал. Не по болезни, отнюдь. Был здоров, что бугай. А отлынивал. А младший? Что младший? Нравом в отца, сопли утрёт – и в работу.
Полина от работы никакой не откажется: и глину месила на черепицу, и вапно (извёстка по-украински) притащит с ближних гор, и булыжники наравне с мужем таскала. Вся работа по ней, вся работа сноровится да спорится в умелых руках. Для себя строила, не для Сталина.
Младшего сына, пока был в младенчестве, относила к старшей сестре. Та и воспитывала племяша, как родного. И её он любил, как матушку родную наравне с мамкой родимой.
А пока младший, младенец, руки не связывал, строила дом. Душу вложила в дом тот каменный, в несколько комнат.
Не случайно тут слово, что душу вложила, применено. Далеко не случайно.
Всё для дома, всё для него. Тащила в дом всё, что могла. А что? Все воровали, и я уворую! Тишком да молчком воровали в селе его жители. Да и то? Где достать кровлю да шифер, кирпич да дефицитную краску? В магазинах тогда не торговали таким дефицитным товаром. Послевоенное время тяжёлое, люди пусть подождут, пока государство не отстроит всё заново. А где взять? Только и воровать. Только не у людей же! Другие в селе воровали и у соседей: а не спи, стережи, что плохо лежит. Стерегли по очереди, и сыновья и родители. Раз младший уснул на своей охороне, так что-то и спёрли у них со двора. Матушка родная, наша Полина так отстегала сыночка, что тот трое суток с дерева не слезал, так боялся мамаши.
И отец заступиться за сына не смог. Не смог, не имел права перечить супружнице. Уж больно лихая была на язык его жёнушка, да и ручку тяжелую со сковородкой (по местному говоря сковородка называлась «потэльня») могла приложить. И не важно для буянки Полины, люди вокруг или в домашней тиши муженька и сыночка, и только младшенького, потельней она уговаривала.
Стал муженёк потихонечку пить-попивать. Не буянил, не бил супруженцию милую, а так пил по тихой, уходя иногда и в запой. От чего стал прикладываться к самогоночке? То ли жёнка достала, то ли жизнь, поди знай, почему отдавал предпочтение мутному вареву самогонки, а не ночным прелестям красивой супруги. Пьянство в селе непривычным не было и не казалось. Пили и пьют на руси-украине, как издревле пили. Тем утешался наш Николай, семейства отец и добрый работник.
Это в сказке дом да дворец строится быстро, а наша Полина и муж Николай дом строили долго. Ютились в хибаре, что ещё до войны ими была слеплена-смазана. В той самой, с низенькими потолками, где царское место – печь. В пол мазанки печь. И спали на ней, и готовили варево для скота, варево для себя. Оконце подслеповато, слегка покосилась хатынка, а доси (до сих пор) стоит. В отличие от дома. Но об этом чуть позже.
Строится дом! Комнат – четыре! И даже была так называемая «каса-маре», комната для гостей. В ней не спят. В ней стоит стол огромный, длинный-предлинный, смастерованный николаевыми руками. Табуретки стоят. Тоже сами не делались. Николай мастерил, считая за отдых такой лёгкий труд.
Белая скатерть из полотна, что сама Полина ткала да белила. Всякие рюмки да гранёные стаканы, стаканчики валялись на чердаке, где хранилось всё «про запас». Вход на чердак только из дома, потому воров не стереглись, и хоронили всё «на потом» на чердачном просторе. Копилось за долгие годы это всё «на потом». Пылилось да ржавилось. И годы прошли, а всё так и пылилось добро, ожидая заветного часа: свадьбы сына или чьих похорон. И на похоронах и на свадьбе нужны стаканы-стаканчики и ложки. Вилки не полагались, особенно на похоронах.
Итак, строится дом. Младшенький подрастал, всё больше и больше втянут в работу. Про черепицу мы уже говорили, да кроме неё хватало хлопот на целый день. А ещё треба (нужно) пасти худобу (крупный рогатый скот) по очереди, по жребию, что улица учинила. А ещё сено косить для коров. Вначале в хозяйстве держали не одну и не две толстых коровы, почти стадо паслось за селом. Молочко да сметанку Полина возила на рынок. На обмен дефицитных товаров: после войны город жил туго. А город большой, рабочий Каменец-Подольский. Людям и сало, и сметана, и молочко только давай! У рабочего люда тоже детишки растут, молочко да сметанку домашнеюю растущие организмы трескают за обе щеки. А государственное молочко, разве то молоко, до пяти раз разбавленное.
Полина ранним-ранёхо плелась в Каменец, тащила на собственном на горбу и молоко, и сметанку, и черешню и сало. Что родила земля, а земли там благодатны! носилось за тридцать с лишним километров на рынок на городской. Оттуда опять на горбу гвозди тащила и скобы, и ещё тысячу тысяч наименований нужных товаров для дома.
Сыновья трудно закончили школу. Младший так и писал всю свою жизнь дождь таким чином: «дощь», путая русский с украинским (на украинском языке «дождь» пишется как «дощ»).
Старшего призвали в армию, точнее на флот. На целых три года. Дом достраивали втроем мать, младший сын и отец. Именно в такой очередности: мать, затем сын, потом уже сильно пьющий отец.
Считай, почти двадцать лет ставился дом. Крепок дом, прочен и сложен на славу. Окна сияют оконным стеклом. Ох, как доставалось стекло, как доставалось! У председателя вымолила да вытребовала Полина стекло. Только что не матом не крыла застарелого председателя, но выписал таки стекло для семьи, вспоминая заслуги работящего Николая.
А что младший сын опять без рубахи остался, так то дело житейское. Походит в домашней тканине, что выткала мать да из которой сшила рубашку. То же и со штанами, которые брюками обозвать крайне трудно. Штаны они и в африканской пустыне штаны, не то что в селе.
Ах, если бы речь была только в этих штанах. Штаны, что? Тогда все жили трудно, и всем надо строиться, учиться и жить.
Как все, тогда и ладно бы и было бы. Вся страна горбатилась на работе, голодала и ночевала в холодных домах. Но детишек рожали, и ладили семьи, и жилища себе худо-бедно отстраивали. Кто ладил дом деревянный, кто из самана-глины наскоро мастерил. Каменный дом это редкая редкость была. В камень строили роддома и больницы, здания сельсоветов и изредка школы. Сады там и ясли деревянными были, а то и из самана лепились на скорую руку.
А уж в селе, да для для частника каменный дом это богатство неслыханное, богатство невиданное.
Подкатывал председатель: отдайте нам дом под школу, под магазин или садик. Колхоз вам любой дом отдаст, на который укажете.
Мать отказала.
Мать страстно кипела, как строила дом! Не раз, и не два, а тысячу или две, вспоминала, рассказывая сыновьям, как жили их баба и дед, родители мужа. Ну, те самые, что раскулачены перед войной. Какой достаток имели, сколько коров, сколько свиней, и сколько люда батрачило на стариков, пася и доя тех самых коров, выгребая дерьмо из скотинников.
Как сладко ели за панским столом, как обрезки-доедки бросали наймитам. И как она, из простой наймички, стала снохой, и стала сидеть не у порога, ловя жадно объедки, а за столом! За хозяйским столом, где царствовал дед, отец Николая.
Не прекословили тем речам её сыновья, не прекословил и муж. Мотали на ус? Только муж чаще и чаще прикладается до самогонки, старший рад да радёшенек, что подался на флот, где флотская тяжкая служба казалась ему за раз плюнуть, как часто сам потом говорил.
Младший лямку тянул до четырнадцати, пока не пошел в «ремеслуху», то есть ремесленное училище. А куда ещё брать пацана, если в грамоте не силён, зато руки на месте?
Итак, дом почти выстроен. Оставалось по мелочи то да се долатать, достроить да приладнать.
Выстроен дом, дом громаден и… пуст!
Старший сын лямку тянет на флоте, дослуживается до флотского старшины. Младший? Из ремеслухи да в армию, загнали аж в Узбекистан, суд охранять. Там отличился. Как то в роте охраны стоял, пока судьи судили какого то армянина, которому надлежало смертную казнь получить за грехи. А в зале суда народа толпа, армян набралось битком набито. Агрессивность толпы возрастала, и наконец подались они к клетке, выручать однородца. Младший сын был в наряде за старшего. Вначале криком крикнул: стоять! Толпа есть толпа, в инстинкте крови жаждала, крови судей и этого хлопца, что с автоматом стоял, стережил клетку с их одноплеменником.
Смотрит сын младший: толпа то неймётся! Да как вскинет свой автомат, да как даст очередь в потолок. Шарахнулась толпа врассыпную. Пули летели вверх, в потолок, где на втором этаже судейского здания восседал его председатель. Тот председатель чуть было не осрамился, с такого перепугу да переляку (перепуг по украински). Ещё бы, ни с того ни с сего пули летят, пробивая полы.
Ну, естественно, разобрались в инциденте, да вместо армейского нагоняя получил младший сын отпускную. Да и случай такой попался, как не отпустить, раз пришла похоронка на отца.
Приехал в село хоронить родного тятеньку. А как дело было? То тайна сия, и опять шепотком-говорком по селу покатилось, что не без греха Полины тут обошлось.
Убили отца. На Днестре. Якобы он пошел на рыбалку, да бросил в воду то ли динамит, то ли иную глушилку. Да вместо рыбы попал сам в себя. И погиб. Но село буркатало, что ему, наконец, бандеровцы отомстили за службу в рядах Красной Армии, раз такой случай удобный нашли.
А, может, жёнушка родная подустала от пьянства мужа. Да и зачем ей такой муж, только растраты на самогон. Дом то уж выстроен.
Да что бы не говорили злые языки по селу, отца не воротишь. Поплакал младшой, постоял у отца на могилке. И снова в свой Узбекистан, службу заканчивать.
А после службы братья, старший со флота, младший с охранной стези подались кто куда. Вы спросите, в дом? Категорично отвечу: и думать не думали.
Старший женился вскорости на городской, прекрасной дивчине Свете, стали они угол снимать в городке. В том самом, в Каменец-Подольском. Родили дочку, потом и сынишку. Но к матери не перебрались. Отмазки одни у снохи и сыночка: работа обоих в городе, садики для детей тоже в городе. В гости наведавывались, да не сильно и часто. Когда-никогда мать дозовётся черешню собрать, клубнику да прочую ягоду закатать по банкам-вареньям. Да картошку сапать(окучивать), собирать. А картошки той чуть не в гектар. Но соток десять, наверное. И весь урожай – в кладовые, в погреба, что на западной Украине лёхом зовутся.
Младший, тот более учудил. После армии взял да подался на Дальний Восток. От матери за семь тысяч верст юноша дёру дал. И тоже с красивой отмазкой: дескать, я подженился на крале, что Асей зовут, с ней и бедуем на Дальнем Востоке. А домой мы поедем, когда на то отпуск даётся.
Правда, в тех отпусках урабатывался до невозможности, дом обихаживая да забор городя, что муром звался по местному. Дом стоял у дороги, и забор вечно ремонта требовал, то текущего, то капитального.
Да и двор свое требовал. То во дворе колодец чинить, то лёх ремонтировать, то сушилку установить для урожайной для фрукты и ягоды. Чернослив и малина, яблоки, груши, клубника, черешня и что-то ещё, я уж забыла, росли во саду, да не по деревцу. Сад, целый сад виднелся за домом. Ага, вспомнила, ещё был абрикос. Я уже говорила, что земля урожайная в тех местах. Богатейшая там землица.
Соберётся весь урожай, а во дворе умелые руки давно смастерили сушилку для фрукты и ягод. Коптится ягода-фрукта, отдаёт аромат. Благодать. Сутки иль двое, и «сушка» готова.
Ту «сушку» мать мешками везла по зимам, то в Мурманск, то ли куда туда, где народ побогачей. Так и наскребла на сушке бесплатной деньжищ на машину. Купила старшему «жигули». За семь тыщ с половиною. И это при пенсии в 12 рублей. Не шучу. Сама видела пенсионное, где чёрным по белому отписано, что колхозная пенсия у Полины 12 рублей да с малой копеечкой.
Пенсия маленькая, а во дворе машина блестит, и в стеклах оконных громадного дома машина тоже блестит да отсвечивает.
Ах, какой то был дом. Домина! Окна блестят, ставни синею краской покрыты по деревенской по моде, черепица краснеет на крыше. Комнаты в доме сундуками набиты добром. И свое, вязаное, тканое да расшивное, и приобретенные шубки две или три. Полина вещи складает, да думает про себя: может, сама буду шубки носить, может, невесткам что перепадет когда то, но не сейчас. Кроме шуб, в сундуках одеяла, платки, полотенца да простыни, и прочая и прочая нажитая годами рухлядь (вещи).
Раз в год, перед Пасхой, перекладывались сундуки. И снова щёлкал замок. А для жизни обыденной и малая кухонька пригодится. В той кухне спала. В той кухне готовила. в той кухне ночь коротала в ожидании. Чего? Сама понять не могла, всё чего то ждала. Может, счастья?
Отдыхала когда? Никогда. Некогда отдыхать при хозяйстве, курах да свиньях. Корова неспросит, какой праздник сегодня. Её ежеутренне отдои, да выгони на пасовище (пастбище), весером пригони, опять подои. Зимой трохи полегче. Пастбище снегом покрыто. Вот и весь передых.
К старости стали «крыжи» (плечи) болеть, бронхит привязался, не отставал дни и ночи. Но работала, как привычно могла. Вместо стада коров одна лишь корова. Но корова была. И молоко, и сметана, и масло не переводились. Свиньи? А куда в украинском селе без свиней? Хрюкали за загородкой вблизу забора в ожидании пойла. Куры квохтали в вольном житье по двору, носилась пара петухов, ободранных в драках. Правда, собак во дворе не было. Поначалу была, да отравили «добрые» люди, а потом хозяйка решила, чего это ради зря деньги тратить на пропитание собак? Кошек тоже не было в доме, разве что блудная кошка забредёт в поисках пищи: мышей то хватало при таком то добре.
Итак, радуйся да живи, при таком то хозяйстве. Когда-никогда сёстры придут, гостинчика поднесут. Когда старший сын, редкая редкость, в гости наведается. А когда и младший прибудет: бесплатная сила рабочая тащилась за семь тысяч верст матери помогать.
Радуйся да живи. Жила. А радости мало.
Старший сын, любимый сынок, к матери ласков не был ни разу, только что не матом с матушкой разговаривал. Внуки, дети его, радости не приносили: не любила невестку, а с ними и деток. А детки славные были. Почему это были? Они и сейчас славно живут, и мальчик и девочка, ставшие в нынешние времена главами домов своих собственных.
Младший сын, нелюбимый, тот, что по детству отсидел трое суток на дереве за случайную за вину, матери помогал по полной по мере. Всё тащил ей в дом, вез издалече и посуду, и мотоцикл, и мотороллер припёр. И даже краски бадью для покраски окон привёз в специальном контейнере. Для матери ничего не жалел.
А она недовольна: не так он женился, не так. Первый раз Асю привез, да с ребёночком. Ребёночка не уберегли, похоронен в селе, могилка заброшена. Отец ребёночка далеко, матери младенчика след простыл после тех похорон. Ну а ей чего ради переться на кладбище, старые ноги тружить?
Второй раз сын отмочил чудо почище: женился на русской. Москальку в гости привёз! И опять с ребеночком малым, дочуркой в пару годков. Девчушечка славная, на сына похожая. Добрая, милая, да упитанная. Да тетёшкаться с маленькой некогда: огород!
От снохи, братова (на местном наречии жена младшего сына) помощи не дождешься. Она книжки читает, она книжки покупает, каждую неделю в город мотается в бане помыться. А чего каждый раз денежки тратить на проездной да банный билет? Так нет, катается и катается с маленькой дочкой в город. Помоталась так две-три недели, да и пристроилась жить у старшего сына. Видите ли, невестки сошлись, подружились. Тьфу, какой такой толк от москальки! Безъязыкая вроде, раз украинский не понимает. А сын любит, пылинки сдувает: образованная! Ну, помогла документы нужные справить на дом, так чего не стараться, раз образованная? Не спасибо ж ей говорить! Лучше бы на огороде картошку окучила, или абрикос собрала, вон, какой урожай пропадает.
Да ещё и с языком невестка попалась. Ты ей слово, она в ответ два преподнесёт. Ну и что, что на день рождения внучки она, то есть Полина, ничего в подарок не преподнесла? Не дала ни картошки, ни хлеба, ни мяса от порося? Так в моем доме праздник празднуете, вот и спасибо скажите. А та вместо спасибо губы надула. Не дорог, видите ли сам подарок, как дорого внимание к её малышу. И улетела на своих каблучках в город к Светлане.
Хотела было прикрикнуть на своенравную, да осеклась. Та в лёт заявила, что не допустит с собой такого, видите ли, обращения. Цаца какая! Одним словом, москалька! Вон, Светку мерзить (ругать) можно по всякому, та сопли утрёт и за работу. Навозные кучи разбрасывать по огороду, хотя мёрзлый навоз так тяжело поддавался лопате. Или пойло попросишь сварить в тяжелейшем бидоне. Светка крякнет, сварит да понесёт пойло свиньям. А что тяжело? Так в селе баловаться некогда. Мешок на плечо и пошёл. А что в том мешке пятьдесят килограмм, так баба всё выдержит. И Светка терпела, втайне завидуя своенравной подруге. Образованная, что тут сказать!
Полина рада была, что невестка смоталась на свой Дальний Восток. А когда времечко утекло, и сын развелся с этой москалькой, ах, сколько радости наконец! Пожила бы в такой радости ещё сколько лет, да время радости так быстротечно.
Подкралась болезнь, замучила старую. Бронхит мучил и ночью и днем. Так достала болезнь, чуть не до смерти. А помочь то кому? А помочь то и некому!
Старшего, что любила, ранняя смерть унесла от порога её.
Так уж случилось в жизни его, что попал за решетку невинно, отбыл половину положенного, подхватил в той колонии туберкулез, да и умер у неё на пороге. Как жалела она сына любимого, как страдала и плакала на похоронах. Да кляла ту бывшую невестку, ту братову, которую Светка вызвала аж из Крыма горю помочь, мужа вызволить из беды. Та «помогла». Что то писала ночами, куда то те бумажки и отвезла, вроде, в центр областной, к людям от власти. Да просила позвать её еще раз, когда центр вызовет их бумагой казенной. Да намекнула, что может, машину продать, помочь бывшему родственнику? Светка та радостно закивала: о чём речь, какая машина? Муж мне дороже всякой машины.
А вот Полина уперлась: я что, даром горбатилась, сушку сушила, мёрзла по мурманскам и петрозаводскам? Не год и не два мешки на себе по вагонам тащила, в общих вагонах мёрзла и голодала. Эвона, сын сейчас сидит рядом, авось и далее повезёт. Не отдам я машину, и не старайтесь.
Невестки не упирались. Знали, грешно на взятку деньги просить. Ну и потом, когда нужно было бывшую братову в город-центр позвать на расправу сыночка, Полина вновь воспротивилась: нечего зря деньги давать ей на дорогу. Не обеднеет, прикатит и на свои из далёкого Крыма, не барыня, хотя образованная.
И не дали той телеграмму, по телефону не позвонили.
В большом коридоре властного здания вышли дяди серьёзные и только одно и спросили: братова приехала с вами? Полина и выступила наперёд: сын мой не виноват, и братова тут нам не треба! (не нужна).
Властные люди переглянулись, да сказали ей прямо в лицо: вы мать? Полина ответила «так» (да по-украински). А они: «не виноватый сыночек? А ничего, что ваш сын задавил двух женщин, причём одну насмерть»?
И ушли. И забрали сыночка.
После смерти сынка жить стало тяжче. Обнаглели соседи, стали переть со двора и фрукту и ягоду, не раз и не два лёх вскрывали – напасть!
Младший сыночек в Крыму проживает, сам фрукту-ягоду с дерев продаёт. Ему некогда часто мотаться к матери за 800 километров. Подкинет деньжонок ей на лекарства и ладно. Своих хватает забот. Огород, свиньи и молодицы. Крутиться требуется мужику, свой дом-быт обустраивать. Сын дом двухэтажный отгрохал в селе, на кубышку дом смахивал. А сыну нравится. Сам горбатился, сам несуразицу вылепил, сам и живёт.
Однажды Полину бронхитом скрутило, да так, что поехала в город в больницу ложиться. Лежала там три недели, и зря. Бронхит не прошёл, врачи залатали старые дыры, и иди, бабка, домой.
Поплелась на вокзал, добралась до дома. И – ах! Дом зияет девственной пустотой. Вместо окон провалины. Вынесены и стекла, и ставни. Стужий ветер гуляет по комнатам, выметая оставшийся сор. Ни сундуков, ни телевизора, ни табуреток, ни даже совка. Все вынесли люди. Добрались до чердака и оттуда всё выгребли. Чуть не по камушку дом разнесли, да дом сложен славно, строился на века. Стоит холодная громадина остова дома, пугает народ своей серою массой. Дом нежилой. Печи остыли. С печи сбиты плитки старинные, изразцовые, что доставала когда-то да пёрла из Мурманска.
В «каса-маре» пусто и грустно. Валяются на полу два гранёных стаканчика да бутыль от самогонки. Да цветочки искусственные, запылённые растоптаны кирзовыми сапогами.
Вот и всё добро старой бабки на сегодняшний день.
Повыла, повыла, подалась со двора. Оглянулась в надежде, что хоть какой поросёночек остался живехонек? Ага, размечталася старая! Ни поросёнка, ни курицы во дворе. Только ветер осенний воет и вторит ей, тоже воющей, как этот ветер осенний: тоскливо и тяжко.
Младший приехал, сын нелюбимый, забрал свою мать. И стал обихаживать старую старость. У него на руках в постылом тёплом Крыму умерла. И похоронена. Вдали от могилы сына родного, сына любимого, старшего сына. Вдали от могилки младенца-внучонка. Вдали от могилы нелюбимого мужа.
Вдали от могилы, что раньше был домом.
А что с той машиной? Да проржавела.
А с внуками как? Трое-четверо проживают в Крыму, одна перебралась с матерью вместе на север Италии, где и живёт уже много лет.
Дом разрушается. Прогнили полы, печь покосилась, изразцы на ней частично разбиты, частично сворованы. Зарастает травой большое подворье. Яблони, груши, черешни и вишни срублены на дрова. Село то большое, охотников до чужого добра хватает пока. Где картошка росла да помидоры соседи хозяйствуют, собирая раз в год урожай.
Того и гляди, разберут дом по камушкам. Кому на забор, кому на скотинник.
Помнят ли старую? Вспоминают в селе? Навряд ли. Новое поколение не знает, старое или повымерло, или предпочитает молчать о покойнице, помня завет, что о покойниках или хорошо или ничего.
Вот, слово точное. Ничего!
Ничего не осталось от тяжких трудов: ни дома, двора или скотины, ни мужа, ни сына.
И даже могилка её не у края родного села, а за околицей шумного степного села, где младший сын проживает в своём одиночестве.
Вспоминают внуки старую бабку? И как?
Дом два. Валентина
Предыстория-присказка
Я – Валентина. Если хотите, Валентина Ивановна. Моя история началась в Севастополе, в начале семидесятых.
Но хочу начать по порядку.
Жил-был поручик. В Крыму. Да не в Джанкое каком или в Старом Крыму. Жил в Севастополе. Дом имел в самом центре славного города. После революции, той, что в семнадцатом прошлого века, его не обидели. Стал служить новой власти, дом остался при нём. Потом лихолетье войны наступило. Надо было как то прожить. Дом поделил, стал проживать в одной половине. Вторую продал. На те деньги и жил. Жена, красавица-полька, давно умерла, детишек Бог им не дал.
Старость пришла. А с ней и болезни. Стало невмоготу самому проживать, самому дом топить, обеды варить, садик садить.
Как мы с ним познакомились, я уж не помню, вроде на дне рождения у соседа его, старого мичмана. Старик, как подвыпил, на старость стал бить, про тяготы да больные колени. И там у него свербит, и там у него болит, и там чешется. Известное дело – старость! Она никого не помилует, имей ты хоть сто регалий или двести.
Мичмана супружница, Татьяна, возьми и скажи: да вы Валентину пустите, пусть с Анатолием у вас проживает. Себе будет готовить – семья! и вам тарелочку супчика принесёт. И стала нахваливать меня: такая, мол, работящая Валентина. Я молчала, краснела, в разговор не вступала: боязно было идти к старику. От Тольки, мужа, радости мало, придётся самой на себе воз работы тащить.
Я и так на виноградниках до того урабатывалась, что еле до дома ноги несла, а тут еще и старческие блажь да причуды холить да лелеять.
Ну, пустит он в дом. А дальше? Не понравится суп, и иди, Валька, на улицу. Сколько так мы с Толькой квартир поменяли. Сколько хозяек мне в душу плевали, не счесть. Чужой дом, чужая изба не свой уголочек, пусть крохотнющий, пусть маленький, но свой.
Засиделись в гостях, пошла я Татьяне помочь посуду помыть, а она мне на ушко: ты, дура, чего? Старик то один, без жены и детей, в таких то хоромах. Неужели угла для вас не найдёт? У него уже живут квартиранты, и вам комнатушку внизу отведёт. Целых шесть комнат у старого генерала (почему то Татьяна упорно звала его генералом), а ни помыть, ни постирать старому некому, и самого немощи одолели.
Помыли посуду, на лавочке во дворе посидели, пока мужики допивали спиртное за бесконечным своим разговором про армию да войну. Каждый перебивал, каждый подвиги вспоминал. Эвона сколько времечка надо всё вспомнить, обговорить.
Татьяна меня потянула на галерейку второго этажа посмотреть на соседский участок. Посмотрела: зарос в бурьянах да крапиве участок. Но вишня цветёт, орех шелестит, дарит свой аромат. По белой трёхметровой стене одичавший виноград вьёт свои сплетни-лианы. Красота! Аж дух перехватывает, тишь то какая да буйная зелень. Вон и роза чайная вьёт, извивает побеги у распахнутой двери.
Махнула рукой: была не была. Согласилась.
Старик тоже обрадован: с Толькой за рюмкою спелись, как будто ровню нашел.
Условия проживания оговорили просто и быстро. Мы живём без оплаты за хату, а я буду пищу готовить, стирать, отмывать. Вроде нетрудно мне будет, работящей то бабе. С тем по рукам и ударили.
История начинается
Долго ли коротко жили так жили, но прожили лет этак пять. Осмотрелась, принюхалась к жизни. Славно выходит. После привычной работы на виноградниках, после тяжких трудов, потом просоленных, возвращалась в прохладу тиши старого дома.
Старик мне с мужем отвел комнату на полупервом этаже. Дом с улицы был одноэтажным, а со двора вид иной. Со двора дом был почти двухэтажным. Почти, так как на первом на этаже, состоящем из двух комнатушек, потолки невысокие. На взгляд современный. А для нас потолки были высокими. Мы оба с Толькой росточком не вышли.
Какой уж росточек, когда детство пришлось на войну.
В войну север страны немец не тронул, а как было тяжко. Это потом, почти в наше время, признали меня и таких же других «детями войны», да стали льготы оплачивать. А трудное детство, голодное детство, какой уж тут рост. Выживали, кто как умел. Хорошо, хоть семья не распалась, выжила мать, выжили дети. Спасала корова. Мать утром на дойку и мы следом за ней. Корова сопит, наедается сеном, я и сестренка греемся тёплым теплом, что от скотины исходит. Мать в ведро цвыркает свежей струей, вьётся теплый дымок над ведерком, парным пахнет.
Мать первую кружку завсегда младшей сестренке подносит, а я на потом. Сколько слез проревела тогда, сколько понервничала. Ну да ладно, мать хотя бы не била. Слышала, правда, как однажды она соседке пожаловалась, что наша малая туберкулезом больна, и нужно ей больше не коровье, а от козы молочко. Да где козочку взять, купить её не на что. Есть тёплый хлеб, что мать дважды в неделю из русской печи вынимала, да молоко каждый день. С тем и прожили военное, полуголодное детство.
Я было раз заикнулась, что хорошо что туберкулез, можно молока вволю напиться, так материнский кулак так по спине мне прошёлся, что чуть с горбом не осталась.
Ну, ничего, обошлось, а как заневестилась, подросла, выросла ладная. А что? Грудь высока, глаза голубые, волос в тугую косу. Такая и в ситце в мужских взглядах купается, не то что которые в медополамах костями трещат.
Подросла, заневестилась, да подалась на юга, ближе к тёплому солнышку. Осела в пригороде Севастополя. Это уже славно. Работа? Работа всякой была. Рабочие руки любой власти надобны: и виноградники обихаживать, и по строительству помалярничать-штукатурничать, и другое всякое, за что платили зарплату.
Крым после войны совсем обезлюдел. Татар, немцев и греков Сталин по Сибири да Казахстану поразогнал, и после войны выживших в их дома, что зияли пустыми окнами в крымской зелени буйных садов, не впустил. Местных людей тех гитлеровцы изрешетили.
От Севастополя жителей осталась даже не треть, так, малая толика шумного города выжила в катакомбах да пещерах Казачки и Инкермана (Казачья бухта – дальний пригород Севастополя, Инкерман – город, входящий в состав Севастополя).
А люди нужны, нужно строить город, значит, и руки нужны. Вот мои руки и пригодились на тёплых югах.
Хорошо в Севастополе. Зима только зимой называется. Ни метели, ни снежных бурь, ни волков по ночам. Лето, а тут круглый год это лето. Из ботиночек сразу в босоножки ноги вбиваешь. Эка, какая экономия получается. Ни рукавичек не надобно, ни пары толстых штанов, ни даже валенок. Я, когда в валенках прикатила на Меккензиевы горы (ж\д станция вблизи Севастополя), вызвала гогот у толпы на вокзале. Народ в босоножках, а я в валенках рассекаю по железнодорожным путям.
Ну да ладно, обустроились мы, приезжие, кто куда. Я тоже пристроилась на работу, где дали общагу. Общага, не комната вовсе, а так, койко-место. Нас собралось в комнате общежития штук этак восемь. Жили, однако. Хотя иногда и дрались. Всяко бывало, когда долго, нудно и вместе живешь в одной комнатушке, где из имущества только кровать да матрас. Да и то, казённые были и матрас с одеялом, и та кровать, пусть даже с шишечкой. Кровати скрипят, бабы храпят, шарахаются до полуночи, когда и кого бессонница одолевала. Жила! Подружилась с Тамаркой, что тоже приехала счастья искать у тёплого моря.
Замуж я долго не выходила, хотя видной была, с прекрасной фигуркой. Так хотелось найти того, кто побогаче, кто заберёт из общаги в квартиру с ванной да туалетом. Эх, хорошо бы! Да не получалось. Женихались такие же, как и я, из сёл, деревень, погнанные в город за стабильной зарплатой и маревом будущего предоставления жилья.
Пойду с подружкой на танцы, там душеньку отводили. И «ручеёк», и вальсок и новомодное танго. И кавалеры на нас, что те мухи на мёд. А что мухи? Мухи они мухи и есть. Ни пирожком угостить, ни мороженым. Денег у них, что у лысого волос. Оркестр старается, щёки свои надувает, наяривает нам севастопольский вальс да аргентинское танго.
Так мы с Тамаркой и проаргентинились до тридцати. Голытьба женихов по дороге растаяла, и что оставалось?
Оставалось еще… Что оставалось? Да морячки! На капитана или стармеха рты мы не разевали: года уходили. А на вояк, что поплоше по званию, глазки, как перископ, я наводила. Вот так стреляла, стреляла глазами, пока сороковник не стукнул. Кончились танцы. Старовата для танцев стала фигуристая Валентина, Валька по местному.
Да улыбнулась удача. Подцепила я чуть не в последние танцы морячка, да не торгового, а военного. Моториста со флота, Анатолия. Почти царский подарок поднесла мне судьба. Был Толька моложе на целых на десять лет. Но без жилья. И ещё выпивал, немного и втихаря, но попивал горькую водочку.
Замуж вышла, честь по чести сработано. Тамарка на свадьбе аж обзавидовалась, как наша скромная свадебка состоялась. А дальше куда? А дальше беда. Семью в общагу жить не пускают. Беда!
Стали мыкаться по квартирам, где жадные хозяйки обдирали меня чуть не до ниток. Долго ли коротко ли мытарили жизнь, как набрели по случайности, спасибо Татьяне, на старика, на поручика.
И перебрались мы с Толькой в хоромы. Какие хоромы? Да уж не общага, продуваемая всеми ветрами и вечными драками на общей кухне, с плевками в соседский борщ.
Теперь у нас целая тёплая комната, маленький садик во дворе обихожен руками. Моими руками. Розы цвели, ароматы даря, какие то цветики я разводила. Словно как у волшебницы, сад расцветал. Посажен орех, и орех стал давать свои драгоценные плоды. Вишенка во дворе и та вишню дарила. На память о детстве калина посажена. Кланялось деревце благодарно хозяйке, по осени кисти красных ягод мне презентуя.
Двор цвёл, пах, с каждым годом лучше и больше радуя глаз. И всё трудами моими, не квартиранты же помогали – куда! Они только грязь разводили да мусор копили.
Толька скоро был выгнан с позором со службы. Напился до блевотины, скотина такая. И из-за него, пьяного моториста, корабль вовремя в море не вышел. И лётчик погиб, самолет рухнул в море, а если бы вовремя подоспела морская команда спасателей, спасли бы. А так и лётчика нет, и самолета.
Выгнали с треском по позорной статье, без выслуги лет и наградного. Стал напиваться чаще и чаще. Как трезвый, так слова от него не добьёшься, работу делает молчки: и белит, и красит, и рубит дрова. Безропотный тихоня, он где-то как-то пытался устроиться на работу. Устроится, и пропьёт. Так годами и пропивал нажитое. А как выпьет, такой говорливый. Но как работник, никак. Только пьяные бредни.
Сколько я лет терпела овечка овечкой. Сколько раз обижали меня дедовы квартиранты, я только глаза свои опущу, да и пойду по соседкам плакать про жизнь, про несерьёзность соседей, да как приходится мне вместе с Толькой канализацию выгребать от осколков бутылок, стаканов, что понакидали те квартиранты. Соседи охали да вздыхали, большей частью притворно. Я не была им ровней, хозяйкой домов, как они. Скорее, прислуга поручика, чем квартирантка. Правда, жалели меня, уже более искренне, за вечные пьянки мужа.
Сколько раз бегала, наново избитая муженьком, к соседке Татьяне, той самой, чей муж был целым мичманом. И фронтовиком. Как участник войны получил в соседней двухэтажке квартиру, и Татьяна не бедствовала. А потому и могла от щедрости душевной и пожалеть меня, как товарку: ни жилья у меня, ни путнего мужа.
Другие соседки, те все при квартирах. Тоже по-бабски жалели меня: бедолашная баба. Но нет, нет да и уколят: жалко, как жалко, жить без квартирной.
Приду от соседок, запрусь в своей комнатушке, и вынимаю занозы из сердца, что понавтыкивали соседушки по «доброте». Час посижу или два, утишится сердце, и снова во двор: работа не ждет, работа не терпит. Старика нужно кормить? Да не раз и не два, а по три раза на день свеженькое ему приготавливала. Благо, что рынки то рядом: ходи, выбирай. Старику, как почётному пенсионеру, пайки полагались. Вот на пайки, на его офицерскую пенсию еда ему и готовилась.
Ну, а что при варке большая часть уходила себе, так то поручик на кухню и не заглядывал: барином жил. Не дождёшься от него «Валентина», все Валька да Валька. А иной раз и «эй ты, скоро ты там»? Нажрётся, трубку раскурит, и сидит, книжки почитывает. Книжек тех у него было – страсть. На книжки и тратился больше всего. Прогуляется в город, прибредёт с книжкой в кармане, и сядет, читает. Сунусь с вопросом, а он: «иди, бестолочь». А то хуже: начнёт поучать, что, мол, чего это я такая неграмотная, книжки в руки свои не беру. Учит, поучивает: в техникум поступи, ведь не глупая ты, Валентина!
Я покиваю ему, покиваю, а про себя думаю так: ученые – ну и что? Вот мастер наш по поливу: техникум кончил. А что имеет? Сто двадцать. А я по выработке до трёхсот дохожу. Вот и расклад, сам себе рассуди. Техникум, как же. Ночами корпеть, чтобы потом чистыми на руки сотню? Дураки-то нонче повывелись.
Уж лучше поддакну старому, соскребу незаметно со стола мелочь, что каждый раз оставлял после похода по книжному, да и в карман. А что? На проезд, да на хлебушек мелочь как раз и сгодится. А старик и забудет, где мелочь бросал: к старости памяти вовсе не стало.
Глядишь, а по концу месяца моя зарплата цела. Отщипывал Толька на водку. Ещё как отщипывал: в голос ругала его, вся улица слышала, как за пьянки ему достаётся. А что самую малость из бюджета семьи он тратил на бормотуху, так про это дело молчок. Нечего всем соседкам тарахтеть про запасы мои да заветный сундук.
Шло и текло время-времечко, и назревала проблема. Работа, она, конечно, прокормит, пока руки-ноги целы.
А что, на улице в старости бедовать? Тольку с очереди сняли, как только со флота попёрли, мне на виноградниках квартира не светит. Отдали квартиру мастеру по поливу. Им, видите ли, специалист нужен, а не голая чернь, как директор совхоза в лицо заявил. А что? Промолчала, да втихую сходила в местком. А там директорский подпевала: «чего это вы, Валентина Ивановна»? Ишь, не Валькой, а по имени отчеству обозвал.
«Вы прописаны в городе, вместе с мужем, в центре Севастополя (старик все-таки нас прописал, а сколько я его уговаривала!). Вот если бы не прописаны были, мы бы в Каче (пригород Севастополя, где и располагался одноименный совхоз) вас на очередь вставили. Но не скоро, очень не скоро очередь подойдёт. Жилья строится мало, а очередь, наоборот, всё растет и растет. Вон, сколько многодетных очереди дожидается…»
Уколол, падла, в самое сердце! Видно вспомнил заморыш, как в юности ему отказала на танцах. Уж больно был неказист, кривоногий, да в конопушках. Тоже мыкался по общагам, правда, старался ближе к начальству тереться. Вот и втёрся. Ишь, стал предместкома. Ну, я ему, конечно ответила, как следует, не деликатно. Матами душеньку отвела. Тут из бухгалтерии выскакивает эта лахудра, жена предместкома, и тычет мне пальчик: вы что, женщина, вытворяете! Ну, её то я просто тычкнула. Так она сразу после тычка в сытое брюхо и имечко мое вспомнила. На танцах по юности вместе вальсовали да аргентинили, и звали её, кажись, Валентиной. Ну, точно же Валентиной. Тогда. помню, заморыш ещё говорил, что дескать, не знает какую в жёны выбрать себе, меня или эту лахудру, да похахатывал: обеих возьму, имена одинаковы.
Ну, ладно, ушла из месткома, рёвом ревела, а что? Он то, заморыш, вскользь про деток сказал, а мне каково?
Да, детьми меня Бог обделил, уж и не знаю, за что мне мера такая?
Вышла из месткомовского кабинета, ехала в город, тряслась в «скотовозе» (автобус), а мысли вертелись: как быть, где мне жить? Куда ни кинь, везде клин получается. От государства маковой крошки в жизнь не достанется, от мужа проку ни в грош. Короче, крутись, Валентина, сама.
Мало-помалу, старик дряхлел и дряхлел, вот-вот за книжкой копыта откинет.
Поневоле стала его обихаживать: дескать, кому все достанется? Целых шесть комнат. Домина! Да огород. Да деревья в саду. И розы? Кому? Государству? Ведь у поручика ни жены, ни детей. И возраст под девяносто.
Тихой сапой его я доставала не год и не два. Но достала!
Пошёл, сделал мне завещание. А все же подлянку мне сотворил: до той, до подлянки, весь дом был его, и половину дома он как бы сдавал людям хорошим, ну а те уже и своих квартирантов пускали, чего им мешать? Люди хорошие, тихие да спокойные, муж да жена.
Так вот, втихомолку пошел тот поручик гвардии царской, с мозгами на месте в свои девяносто, и ту часть дома, где жили соседи, то бишь квартиранты его, им и продал. Честь по чести продал, провёл по бумагам, как было положено.
Новые совладельцы стали было свою часть двора обихаживать: туалетик достраивать, над дверью в комнату навесик устроить. Им, видите ли, дождик мешал, на голову капал.
Я, понадеявшись сдуру, что дом теперь мой, устроила новым соседям скандал. Чего это они без спросу, без разговору начали и туалет, и навес обустраивать.
Те мне в лицо тычут бумагу: они теперь на полдома хозяева.
Проскрипела зубами «домохозяйка», как я себя называла, хотя никто больше так меня и не звал. Но промолчала опять: не хозяйка я, не хозяйка.
Сунулась было с советом к своему благодетелю, что вот, мол, не следует часть дома чужим отдавать. Так старик накричал: чего лезешь, паскуда, не лезь в эти сани, они не твои. Рассерчал, да пошёл, отменил завещание.
Я и притихла. Стала слаще кормить старика. Икорочку подносила, а к икорочке и стаканчик. Старик водку любил. Крякнет за обедом рюмашку, икорочкой жизнь подсластит. Вот и жизнь ему хороша. Раз раздобрел после икорки, борща (я готовила вкусно), пошёл, вновь завещание сделал. Отдал таки мне на хранение гербовую бумагу.
Ахнула я: вот он какой, старичина проклятый! Завещание отменял? Могла совсем без угла оставаться? Каково, пенсия скоро, а я без угла на мусорке жить? С пьяницы мужа что прок?
Опять мыслю, опять в голове планы строятся. Завещание сделал, а как если и Толька будет претендовать, когда дед откинет копыта?
Перво-наперво развелась с Анатолием. Вопли, что пьяница муж и синяки у меня под глазами судью убедили. Развела она нас.
Первая часть плана мне удалась.
Удалась и вторая. Уж и не знаю как получилось, но месяца через два после составления второго завещания, старик за обедом привычно водочки выпил, икорочкой закусил, прилёг отдохнуть после сытностей, книжкой прикрылся. И не проснулся.
Что в водочку ту я налила, никому до смерти своей сказать я боялась, никто не прослышал, не знал, какова такова водочка в рот стариковский влилась. Да и то, сам водочку пил, не поморщился.
Похоронили, конечно. Расходы на гроб и могилу понесло государство: старый военный заслуженным был. Был и салют над могилой его. А свидетельство выписано с причиною смерти какое? Самое что ни на есть естественное: старику подкатил девяносто первый годок. Кто бы там стал разбираться, отчего не проснулся старик после рюмашки с икоркой?
Молчала, крепко в рот набрала водицы, пожалуй, с ведро. Прошло много лет, более двадцати, как рискнула при случае у соседки – юристки спросить, а какой такой срок за убийство дают, если прошло лет не меряно. Та пёрышки распустила, проявила свою юридическую грамотёшку, успокоила: прошел срок давности то, прошел.
Успокоилась я, наконец, вроде передохнула.
Ладно, развелась с горьким пьяницей, а проблем больше и больше становится на мой малый век.
Вначале справила приятные хлопоты. Оформила на себя согласно поручиковому завещанию свою часть дома большого.
А зарубка на память осталась: часть дома, не целый дом достались в наследство. Получила первую горечь во рту от удара судьбы, от стариковской причуды. Даже ходила к юристам, целый рубль отдала! за расспрос, можно ли оспорить ту куплю-продажу? Ответили: нет.
Стерпела. Сколько терпела, стерплю ещё раз.
Подошла к жестокой проблеме с другого конца.
Стала насаждать новым, то есть старым, соседям. Тут пригодился и разведённый со мной муженек. Ну и что, что развод состоялся? Как жил Толька в доме, так и живёт. Ему невдомёк, что по бумагам он мне вовсе не муж. И я разъясняться не стала. Тихо свидетельство о разводе в загсе оформила, положила в свой потаённый уголок, где денежки спрятаны.
Дождалась загульной пьянки бывшего мужа, а ждать-то чего? каждый день напивался. Поплакалась, наговорилась про «козни» соседки. Тут Толька ножик схватил, и за соседкой! А та как заорёт имя мужа, с перепугу сама и забыв, что муж на работе. Толька притих. Одно дело с бабой сражаться, другое с серьёзным мужчиной дело иметь. Вечером соседка, конечно, мужу нажаловалась на меня, точно вычислила, подлюка, кто тут вина нападению.
Сосед мигом принял решение: продаём. И продали часть дома евреям.
Те за дело шустро взялись. Сделали над дверью в свою часть жилища навес, туалет во дворе разделили на части. С ними орать да замахиваться на убийство не стала. Вдруг да поймают и «лапти сплетут» за покушение на убийство? Нет уж, учёная.
Стала действовать через суд. Хорошо, попалась опять та судья, что нас разводила, встала на сторону на мою, и я выиграла по суду целое дело. Суд заставил соседей навесик сломать, туалет перестроить как было.
Хотели соседи курочек заиметь, свежих яичек поесть. Согласия не дала – обойдётесь! Хотели что-то там посадить, опять не дала: ваши зелёные насаждения свету мешают.
Подумали, подумали соседи и, нет, чтобы мне полдомика отдарить, или хотя бы комнатушку отселить бывшего муженька. Так нет же, подлюки, они, видите ли, свою часть дома продали.
Я еле это пережила!
Часть злополучного дома купил кгбэшник. Целый полковник. Чекист. Дождался, пока я да Толька с вещами уехали навестить родню и мою, и его, выехав на месячишко там или два к сеструхе моей да братьям его. Козню мне сотворил.
С сестрой я замирилась давно. Переписку вели, письмишки мне слала она чуть не в месяц разишко, пару раз приезжала, да недолго была. Я жила квартиранткой у деда, Толька пьёт, да ещё и зятя к питию приучает. Собралась сестричка, подалась в родительский дом на север, в Архангельскую губернию, тьфу, то есть область. А письма писала, не забывала меня.
Не забыла и я, как в голодное детство молочко прежде ей отдавали, а потом уже мне кружку совали. Забудешь такое! Выросла сестрица, чуть не в семнадцать замуж пошла. И где тот её туберкулез делся, неведомо. Здорова, детишек рожала, с мужем спала. И при чём здесь, скажите, туберкулез?
Ну, ладно, поехали в гости к ней с Анатолием. Тащила его за собой, пьяницу клятого. Не могу же сестрице признаться, что развелась. Не поймёт, скажет, не по людски я поступаю. Ну да ладно, терплю и терплю.
Приехали с Толькой в родительский дом, еле добрались. За трое суток общий вагон вымотал нервы, что впору беги. Добрались, передохнули, за вечерним столом мать помянули, а наутро я подалась в сельсовет. Поговорить пришла по-хорошему с председателем. А там, как назло, сидел да чаёчки гонял председатель колхоза, молодой, удалой, с крепкики кулаками.
Именно он меня грубо выставил: иди вон, приехала с дальних югов домишко оттяпывать! Да грамоте юридической меня стал учить: в колхозном дворе право на дом имеют только колхозники, а не заезжая шваль. Это я то заезжая?
Погостила я у сестрицы, поплакали на материнской могилке, и я втихаря смоталась в райцентр, подалась до юристов. Те мне популярно по книжкам растолковали, что ничего мне не светит от материнской избы. Толковали про какой-то там колхозный двор, что всё остается проживающим в доме, и что мне не нужно было уезжать из деревни. Подалась до судьи. Та сидит, пёрышком по белой бумаге поскрипывает. Я ей про горе-злосчастье, про родительский дом, а она голову подняла от своих бумажонок, и отрезала мне: не положено. А тут и секретарша в двери суётся, чаёк судье подаёт. А у меня в горле моём пересохло, с раннего утречка ни маковой зёрнышки в роту не бывало, мне бы водицы испить, да куда? Подалась на вокзал, там пирожком горе своё закусила.
Прокол, опять прокол!
От сестриного дома съездили к толькиным братьям. А там голь соколиная, пьянки, гулянки да голые стены. Что делать? Прокол!
Вернулись домой. Это уж точно: домой. Хоть половина дома, но моя половина. Подошли к дому и ахнули. Аж чемоданы с гостинцами от сестры наземь рухнули.
Новый сосед размахнулся на славу.
Достроил домишко чин-чинарём. Пристроил новый вход к себе в кухню, облагородил подворье. Огородил сеткой-рабицей часть землицы своей, сломал туалет, это позорище дома, провел канализацию как положено (один-единственный со всей улице сделал во дворе центральную канализацию).
А что, полковник умел жизнь свою строить, и обихаживать быт. Сделал все по-людски, узаконил по-человечески. А как приехали мы, так оставалось только ахать да зубами скрипеть. Я пыталась куда-то ходить, жаловаться, даже в горком, да получила отпор. Кто спорить станет с силой всесильной, с Комитетом аж государственной безопасности.
Меня ещё и поругали в больших кабинетах: для вас же старается ваш сосед, облагородил жилище, канализацию провёл. Не ломать же цивилизацию из-за прихоти вашей, дурной бабской породы.
Может, шепнул ему кто и на ушко, да вечером во дворе так на меня зыркнул бравый полковник, что я чуть ног не лишилась: присела на лавочку. И до того меня больно не праздновал, всё соседка или Валентина, ни разу по отчеству не называл, а тут мне в лицо: деревенщина, кляузница.
Я было пошутила: «Сталина, мол, на вас нету», так он мне ровно так, с придыханием говорит: «Сталина нету? А Сибирь-то осталась!»
Честно скажу, я неделю нос во двор не высовывала. Толька за хлебом ходил, когда и Татьяна молочко принесёт, так и жила, бедовала в своей части дома. А кому жалиться, кому плакать?
Не его же жёнушке, что в павлиньем халате во двор выходила кофий попить. Пальчики оттопырит, пальчики наманикюрены, бровки сведёт, да кривым ртом мне проржавеет: вы когда, Валентина, мужа уймёте? Видите ли, его пьянки ей сильно мешают спать-почивать.
Я промолчу, да у себя в моих комнатах душеньку отведу. Такими матами откостерю чекисткову женушку, что и годи.
Да не успел долго полковник насладиться уютом: перевели аж на Дальний Восток. Но успел продать свою часть дома, облагороженную часть, с ванной, туалетом, кухней и отоплением, радуйся да живи! Новым людям продал. Поэтессе с супругом да тремя дочерьми и сынком, великовозрастным балбесом.
Вот тут, наконец, мне пришлось развернуться. Пришло моё времечко. Пришла радость на старости лет.
Тихая рыбка-соседка мне не мешала. Углубилась в свое запоздалое творчество, устав от проделок мужа и сына. Потом развелась, остались с ней три девчонки, да сыночек-студент. Тянула жилы, кормились кашей да хлебом, на большее малюсенькой зарплатки не хватало. Девчонки росли, радуя мать. На хлебе и каше, а образование получили. Аннушка даже и в МГУ поступила на вновь открывшийся Севастопольский факультет.
Запустила поэтесса с вечной гитарой в руке хозяйство, запущен был огород, отопление в доме отключено за неуплату. Куда там с соседкой сражаться? Вечером скучатся в доме у электрической плитки, где кашка кипит, прижмутся друг к дружке. Читают стихи, песни поют, да смеются. Собачку пригрели, дворняжку дворовую. Ту тоже кашкой кормили. Хорошо, сосед дома с другой стороны, Александр Иванович, собачатником был, дворняжку прикармливал.
Чего их трогать таких, почти что убогих? Не год так прошел, и не два, но зацепила я поэтессу. Пусть прибрался к рукам весь огород, пусть только мои курочки бегали по участку, пусть поэтессы сынок тишком да молчком пробирался в свою комнатушку внизу. А всё таки нехорошо. Полдома то их. И зачем им полдома на пятерых?
А вот мне полдомика мало. Мужских рук, считай, в доме и нет. Пустила квартирантов туда, где прожила сама долгий десяток, ухаживая за престарелым. Копеечка за копеечкой складно и ладно ложились в карман. А где копейка одна, хочется и вторую. А вторая, вот она рядом, только руку свою протяни. Комнатушка, где жил сын поэтессы, как пригодилась бы квартирантам. Ох, как копеечка мне нужна. От Анатолия толку ни в грош, пьёт да буянит. Ремонты? Какие ремонты, вон как дом обветшал. Прошлёпины свежей побелки дом не украсили, краны в доме текут, хорошо, удалось при молчаливом согласии поэтессы подключиться к канализации. В доме тоже краска-побелка нужна. Стены и потолок кричали: ремонта хотим.
Приходили пара-трое взрослых мужиков, просились на хату. Я бы пустила, они ремонтами занимались. А куда? В одной комнатушке квартиранточка обитает с малолетним сынишкой, к себе пускала, так мужики не пошли, не захотели вместе с хозяйкой и пьяным её муженьком проживать.
Выгоняла Анатолия я и бранила, бранила и выгоняла. Проспится, денёчек по трезвости чем то займется: начнет дом белить, тут же и бросит. Купит обои, а на большее духу не хватит. Как то прознал, что супружница ему не супружница вовсе, было подался вон со двора. Небось, Татьяна и проболталась, кому же ещё мне свинью подложить. А куда? Ни работы, ни жилья, правда, пенсию отхлопотал. А пенсия то какая? На водку только и хватит.
Да и я всё ругаю: с глаз долой, иди, чёрт постылый, вонючая тварь. Все нервы вымотал, пьяная мразь. И матами крестила, и другими словами, а он проспится, и снова во двор.
Пошла опять я к юристам, пришлось не рупчик выкладывать, а целый червонец, а те мне в просьбе моей отказали. Дескать, выселить бывшего мужа совсем невозможно, хлопот очень много и денежки надо. Расстроилась, платочек поправила на светлорусой головке, дома тихонько поплакала, да что делать? Делать-то надо! А что?
Выход один: снова надобно взяться за соседкины апартаменты. Не квартирантов вселять, так хоть Анатолия в комнатушку пристроить. И под боком, и не воняет в моей половине. Славная мысль, к жизни пригодная. Будем осуществлять.
Пошла по соседкам плакаться и рыдать: какой такой сынок у соседки, совсем наркоман, потихоньку вещички мои пропадают с веревки. Курочки яички несут, а яичек и нету. Проклятый наркоша яички съедает. Да и девчонки, взрослые вроде, а так лазят по крыше, что те пацаны. А как шифер продавят, где денежки взять на новую крышу?
Ахали сердобольные, более всех Татьяна, мичманша то есть. Понесли по улице, считай по селу, вести печальные о семье поэтессы. Уличка в самом центре, тихая, редко-редко когда какая машина проползёт по ухабам старенького асфальта. Несколько домов по тихой улочке, чем не деревня? Петухи пели по ранним утрам, собачки гадили, где им захочется, коты распушили хвостами в деревенском приволье, в общем, всебщая красота.
Докатилась худая молва до рыбоньки тихой, схватилась за голову поэтесса: людская молва стала хуже ей пистолета. Девчонки во двор уже нос совсем не казали, сын нашёл, окончив медицинский, работу, а с ней и жильё. Его комнатушку закрыли они на три замка.
Стала я петь, приговаривать поэтессе: уступи, уступи комнатушку.
Пела год, пела два, достала соседку до самой печёнки. Решилась тощая поэтесса, заговорила – продам. Говорила, зачем мне полдома? Старшая выросла и укатила за мужем в дальнюю даль. Сын на своих хлебах, куском оторванным проживает. Две младшие? Так Аннушка учится в МГУ, а потом упорхнет из гнезда из родительского. Так, кстати, и оказалось. Анна закончила институт на отлично и укатила в Москву, работать в толстом журнале. А младшенькая будет при мне. Так зачем нам двоим хоромы нетопленные?
Поделилась со мной мыслью заветною. Как сердечко мое ёкнет да прыгнет! Получилось, наконец, у меня, получилось! Дай, думаю, подсчитаю, что там за денежки подкопились в заветном моем сундучке.
Подсчитала. И прослезилась: на половину положенного только хватает. В который раз недобро помянула я старика: поручик-то отписал мне, старая тварь, только часть дома, а деньги зажилил. Пошла я тогда к нотариусу после смерти его, оформить наследство. Там оказалось, что у старика деньжищи в сберкассе хранились. Это сама нотариус и проговорилась. Что-то там печатала-печатала на машинке, потом спохватилась и порвала напечатанное. Досмотрела она документы, что мне только по дому наследство перепадает, а деньги, и деньги немалые, отошли государству. Ну, не дурак старый дурак? Я из чистейшей воды любопытства спросила нотариуса, а денежек много? Та мне ответила, а что вам до того, вам денежки не положены. А явно денежек много, раз столько раз нотариус головой покачала. Да звонила в какой-то финансовый орган, чтобы те пообрадовались.
Ну, ладно, мне испытания судьбой не впервой переносить. И теперь тяготы вынесу, раз такой крест мне тяжёлый достался.
Ну так вот, подкатила к соседке: может, отдашь комнатушку? Достал пьяница горький, ох, как достал. На комнатушку у меня денег хватает… А та с хилой улыбкой в ответ: а вы комнату перегородите, вот и живите сама.
И объявление подала поэтесса и стала ждать своего часа. И дождалась.
Купила прыткая дамочка у неё, да задешево, полдома в центре. Почему дёшево? Дом требовал и визжал ремонта, ремонта, ремонта! За отопление долг за целых пять лет дамочка погасила, другие какие платежи тоже внесла, не забыв вычет из денег за куплю-продажу.
Поэтесса на радостях купила двухкомнатную на окраине города. Барыней зажила. Квартира не дом, много ухода не требует. Встречала её, та похвасталась, как дети устроились, как Анна в Москве в толстом журнале работает, как сыночек карьеру строит, да как им двухкомнатная в Балаклаве понравилась.
Опять я скриплю, опять я осталась при своих интересах. С милой улыбкой подписала согласие на продажу: деваться куда? Собственных денежек вовсе не хватит откупить у тощей творческой личности её половину, а подарить, так та с милой улыбкой только заметила, укусив за сокровенное: «вам, Валентина Ивановна, Бог деток не дал, а меня их целых четверо. И что им скажу, если вам подарю? Что по миру пойду за свою доброту? Извините, не буду».
И что больше всего обидно то. Не ругалась, не оскорбляла, а с милой улыбкой так саданула по сердцу, что я еле очухалась.
Выскочила на свою половину, подвернулся мне Толька, пьяный, как завсегда. На нём отвела свою душеньку. Даже подрались. А у соседки двери то заперты, не вышла зараза заступиться за сироту.
Ну ладно, оформили они сделку чином-чин. Поэтесса даже не стала ждать, пока у неё нога заживет (ногу сломала на уличной лестнице или кто ей помог свалиться «удачно» со ступенек крутых?). Приковыляла на сделку, денежку за полдома в бинты замотала, да быстренько смылась из дома вместе с детьми. Пожиток у них кот наплакал, на машину не набралось. Голытьба.
Дамочка, что считай, мои полдома купила, с ходу ремонт учинила, затеяла капитальный. Шуму то было. Грязи то было. Стены и те укрепляла. Правда, только со своей стороны. Подошла, правда, перед началом, спросила: соседка, не хотите подключиться к ремонту? Отнекалась я: где денежки взять? Та и отстала.
Сколько денежек ухнула на ремонт, соседка не скажет, только отшутится да промолчит.
Может, для каких-то крутых-то был не ремонт, а так, ремонтишко малый, но для меня царская жизнь. Кафель испанский, лак итальянский, дом «короедом» покрыт да камнем обдекоративен.
В доме полы лаком покрыты, обои то шелкография. Колонка газовая стоит импортная. Шторы из чистого льна соседка повесила.
Я было раз пошутила: это как же так надо поворовать, чтобы так обустроиться? А соседка в ответ (и надо же, никогда мата от неё не слыхать, всё тихо да тихо, с детьми только ласково, не наорёт, не побьёт их, тварь образованная). Так вот, соседка в ответ: «а вы, Валентина Ивановна, поработайте с моё, поучитесь в институте, живя пирожками, потом карьеру удачную сделайте, и заживите. Да не завидуя никому».
Да разве завидую я? Какая тут зависть? Мне просто обидно: я что, не работала? Сколько горбов могло вырасти на спине. Виноградники, стройки, сколько трудов, сколько тягот. И зарабатывала я прилично, дай всякому такую зарплату. Эх, как народ заживёт при такой то зарплате. А вот квартиры не дали. Даже общагу не дали: живи, Валька, где хочешь. В родительский дом и то не вхожа. Какой такой там колхозный двор напридумали.
Мыкаюсь с пьяницей, метлой со двора не выметешь, не расстреляешь.
Ну, ладно, сколько терпела. Терплю и теперь.
Соседка ремонт не месяц, не два, года три делала, старалась, старалась дом до ума доводить. Дом оштукатурит снаружи, и не довольна. Сыночка своего подпрягла: по жарище июльской выкладывал дом диким камнем. Правда, красиво получилась у него эта работа. И вообще паренёк молодец! Считай, вес ремонт был на нём и сестрице: и потолки, и обои, и штукатурка, и даже фундамент, всё мог молодец. По случаю и мне помогал, пока мамка не видела. Виноград обрезать сама я могу, а вот канализацию там прочистить или кран починить, это к нему обращалась.
Не обеднеют, поди. Как не обедневала соседка, угощая меня то борщом, то пирожками, то варениками со сметаной.
И думалось мне, а не нацелилась ли соседка на мою половину? Чего ради меня обихаживает? Что у неё некому пирожки доедать? К сыну друзья прибегут, враз пирожки со сковородки в жадные рты попадают. Зачем же соседке нести угощенье? Ох, неспроста соседка любезная, неспроста расстилается передо мной.
Вон, сосед Александр Иванович, так тот напрямую, как Толька-то сдох, подступает: отдай да отдай, Валентина, полдома. Целое лето по пятьдесят долларов отдавал ежемесячно: бери, Валя, бери, пригодится.
А что? Я и деньги брала от соседа, и от вареников не отказывалась. Всё впрок, всё не за свои. Свои мне и так пригодятся.
Виделось мне, что соседушка не то подарить, продать мне свою часть не решится. Милая, милая, а кремень!
Вон как с людьми расправлялась! Недавно вроде то было, ещё жив был мичман-сосед. И слышу я, во дворе разоряется мичман, матом ругается на кого-то. Я, чуть не бегом, посмотреть. Смотрю, стоит мичман на крыше кухни своей, и что есть мочи ругается матом на соседкину дочь. Якобы та залезла на крышу его, шифер валила. Та шестнадцатилетняя дурёха только плачет, едва говорит, типа, чего вы, дяденька, на меня напраслину гоните?
А мичман орет, а мичман старается!
Тут, летит, как тот самолёт-истребитель, соседушка-дамочка. Меня по дороге сшибает в кусты (тогда розы меня здорово оцарапали). Встаёт перед мичманом, дочку в дом загнала, да как руки в боки поставила, да как заорёт! И что она на работе прежней своей не только мичманов, полковников строила, и что его, старого дурака, в «дурку» отправит, несмотря не его боевые заслуги.
Бедный сосед пытался что то на матах ей объяснить про крышу, про шифер, да без толку то. Та, как собака цепная, только что камнями не кинула в старика. Орёт, что за детей порвет кого никого, чины не считая. Плюнул мичман, отстал.
Дамочка с того времени перестала здороваться с мичманом и с Татьяной.
А я здесь при чём? Ну, пожаловалась мне Татьяна недавно, что кто-то по крыше шалит, шифер кусками пошёл, так что дождик в кухоньку залетает пока редкими каплями – а все непорядок. Да стала расспрашивать, видела я, кто по крыше шалит? Может, соседи? Я ей ответила, что, может, соседи. Я ж не сказала, что это точно они, я только предположила…
Это потом стало известно, что из соседнего дома юные наркоманы лазали-шастали по крышам чужим, залезали ко мне на чердак, пытались и у дамочки в чердачное окошко пролезть. А она-то, паскуда, и там решетки поставила, не то что окна в дому, но и чердак обрешетила.
Ну, это было потом, это потом стало известно, что дамочки дочь совсем не при делах в «шиферном деле».
Но весь околоток, вся улица знала теперь, что милая дамочка не промах по жизни. И что интересно, все к ней по имени отчеству обращались. И почему этой стерве такая великая честь? За вшивенькое образование?
Потом она еще людей наказала. За что?
Да за забором её стала строиться некая стоматолог. В запале строительства повалила забор, что огораживал дамочку от других. Ну, дамочка и наказала строптивицу: через штрафы большие так достала зубную врачиху, что та носа не кажет годика два на стройку свою.
А я что? Я с той не ругалась. Спросила врачиха меня: не против я стройки? Я ей ответила, стройтесь, конечно. А что забор до меня не касается, ну и чего? Двор то дамочкин общий с моим. А что над забором окна врачихи будут смотреть на дамочкин двор, я здесь при чём? Мне окна чужие спать не мешают, я не буду кричать, как дамочка эта: незаконно, всё незаконно, самострой. Ну и что самострой? Я ж себе выстроила ванную во дворе, самостроенную, не законную, дамочка и не пикнула.
Нет, с этой соседкой каши не сваришь. Подать в суд? А за что? Правда, поболтала я с нижним соседом (наши дома террасного типа, и забор дамочки трехметровый, это стена нижнего дома). Поболтали про дело житейское, что, дескать, дамочка сильно свой огород заливает, и что вода может в нижний двор просочиться. Пришёл нижний сосед, посмотрел, да и подал иск в суд на соседку. Чего там многого запросил.
И что вытворила эта соседка? Подключила к делу меня! Говорит, раз у каждой полдома, то и ответственность сообща. И судья ей поверила. Я в суд приходила, тот нижний сосед пытался что-то судье объяснять, что виновата одна в его бедах, дамочка эта. А судья его словно не слышит: ответственность пополам.
Признаюсь, трошки я испугалась: а вдруг и с меня деньги сдерут? Перестала в суде появляться. Решение суда получила по почте: дамочка суд выиграла подчистую. Оказалось, в беде нижнего бедолаги виноваты воды подпочвенные. Родники. Так экспертиза сказала.
Обложили меня, как медведя. Дамочка эта да пятидесятидолларовый сосед. Я их, правда, рассорила, но ненадолго.
Чувствую, оба хотят мою половину.
Где искать мне сочувствия, кто мне поможет? Стони не стони, сколько матом соседку не звери (а что я, на виноградниках каким политесам училась?), а толку ни в грош. Я ей в лицо: чтобы ты сдохла, подлюка! А она улыбается!!! Гадина! Перекрестится, и уйдёт.
Сколько лет я терпела, а теперь не хватает его, терпежу. Думала, думала и решила. Надо в людях искать помощи да сочувствия.
А кроме сочувствия нужен ремонт! Севастопольгаз достал: нельзя в ванной котел устанавливать, не положено. Да и разве то ванна, так, унитазик стоит. А хочется ванны. Вон, как соседка плещется каждый день, напевает, и не жалко воды ей, противной! Чистоплюйка чёртова, как я её называю.
Эх, как стало трудно одной после гибели Анатолия. Да и что говорить, хоть он пил, да сколько раз от него убегала (один раз соседка, правда, жизнь мне спасла, когда Толька кинулся на меня с длинным ломом), а жаль человека. Считай, тридцать лет вместе прожили.
Это просто случайно так получилось, что пьяный полез бранью ругаться: захотелось ему супчика из крапивы. Я послала его, сильно послала. Он озверел. Я и жахнула по затылку обухом топора. Как Толька вышел к воротцам из дома, я и не помню. Но сам выполз он со двора, сам дополз до любимой своей «наливайки», там его и нашли поутру. Едва теплого. В больнице и умер. Меня и спасло, что близ «наливайки» Толька лежал. Менты приходили, я им сказала, что Толька ушел водку пьянствовать, я его и не видела. Обошлось!
Правда, соседка стала коситься, перестала здороваться. Ну и хрен с ней, образованной дамочкой. Чёртова чистоплюйка.
Мир не без добрых людей. Тёзка нашлась, Валентиною прозывается, при ней, сестра вроде, крутится Антонина. Как помогали мне, как помогли. На свои, я копеечки не вложила, ванную мне во дворе выстроили да построили, да со всеми удобствами. Тёплая ванна, хорошая. Плитка, правда, не испанская, как у соседки, но белая плитка на полу и на стенах. Тёплая батарея, купайся зимой, как в июле. Моя квартирантка так ванне обрадовалась. А я что, я без ванны той проживу, когда-никогда старые косточки прогрею в тёплой водице.
В доме тоже ремонт. Валентина и Тоня ко мне только с лаской: Валечка, Валечка. Ни разу Валькой не кликана, с таким уважением к старости отнеслись. Помыли квартиру, обои наклеили, полы настелили да и покрасили сами.
На старости лет я зажила. Правда, хотели к соседке моей заглянуть: какой там ремонт, может, и мы такое сможем поделать? А та дверь на замок, да что то про секту ворчала. Ну и ворчи себе в своей половине, хоть до самого несхочу.
Милые женщины Тонечка с Валей. Какой день рождения мой мне устроили. С пирогами, ватрушками. Я даже всплакнула, вспомнилось детство. И зачем мне теперь соседские пирожки, когда Валентина мне напечёт. И простокваши мне принесёт, и хлебца свежайшего из булочной притарабанит.
Такой старости только радоваться, да поделиться могу этой радостью я только с Валентиной да Тоней. Соседка Татьяна недавно померла, как раз вскорости после мужа. Не перенесла, что он с ней тайком лет двадцать назад развёлся ради квартиры для сына. Квартиру сын получил. А как умер мичман премудрый, так сынок и квартирку прихватил по наследству, да и продал. Так быстрехонько-скоро продал, что успела Татьяна только часть пожиток собрать. Продал той самой врачихе зубной, которая самострой учинила в общем дворе двухэтажного дома.
С Тамаркой о чём поболтать? Так Тамарку, поди, злые риэлторы увезли, хорошо ещё, если в замёрзлые дачи. А могли утопить. Вон сколько моря вокруг. Я ездила, хлопотала, а толку? Тамарку не вернёшь, и квартирка её тем риэлторам и осталась.
Прибегают ко мне то Тоня, то Валя: как ты живёшь, Валечка милая? Посидим, поболтаем, я им нажалуюсь на соседку: то розы не так ей растут, колются, видите ли, кусты моей розы. То подметает только свою часть двора, не хочет чёртова чистоплюйка весь двор поскрести да полить. То ей крапива моя не по нраву: кусает за ноги, раз растет у ней на дороге. То покрали с верёвок халаты да полотенца. Не нравится ей, что настежь калитку я открываю. А как не открыть? Мне интересно, что там на улице делается? Интересно. Окна мои только во двор. Ну, забываю на день калитку закрыть. Так чего с меня взять, старость приспичила. Давно семьдесят стукнуло. Ой, да какое там семьдесят. Мне ж давеча восемьдесят пятый пошёл.
Пойду с ними на наше собрание: там хорошо. Пастор читает нам по бумажке, потом песни поём, потом чай распиваем. С печеньем. А то и на море пойдем корабль встречать, из Америки из самой корабль приплывает. Экскурсия по кораблю так интересна. Там тоже кофе дают, или чай. Кому что по нраву. Печенье дают. И сладости разные. И книжки дают. И брошюрки. Читаю, кумекаю – хорошо.
Не то что в церкви, что куполами светит с Большой Морской (центральная улица города Севастополя). В церкви той и не сядешь, нужно службу выстаивать. А у нас насобрании посидишь. Скамеечки ладные. А по углам и кресла расставлены.
В церкви что? Денежку требуют. Ходят по кругу с подносами-кружкой: клади, Валентина деньгу. А не дашь им копеечку. так бабки станут коситься, что не дай Бог. Ну ее, эту церковь. В другие церкви-соборы я не ходила: небось, тоже денежек требуют.
А у нас на собраниях деньги не требуют. Ни разу не слышала, чтобы деньги просили. А вот кофе и чай раздают.
Да ещё говорят, кому помощь понадобится, обращайтесь, поможем.
Я за помощью и обратилась.
И куда только я Валечку не таскала. И паспорт выправить на российский, и документы по дому новые делать, и какой-то кадастр.
Даже ходили к нотариусу. Валечка мне объяснила, что нужно переправить бумаги на кого-то еще, чтобы соседушке не достались. Что-то я подписала, такой ласковый да любезный нотариус мне попался. Все бы так со мной говорили, как он меня через раз Валентина Ивановна, да Валентина Ивановна. Такое милое обхождение.
Что-то Валечка ему заплатила, сказала, госпошлину.
Видите, как хорошо обихожена старость. Пенсия вся мне остаётся, раз Валечка с Тонечкой молочко принесут, расходы несут за госпошлину, за кадастр и другие поборы от государства. Красота моя жизнь, красотюнюшка.
И при чем здесь соседкино: секта то, секта. Ну и что, что в другого бога я верую? Кому дело какое тут до меня и до Валечки с Тонечкой?
Хожу на собрания. Вод видите, у нас собрания называется, а не секта. На собраниях пастор так правильно говорит, так красиво раскладывает. Вместе с иными я осуждала Наталию, которая отказалась отдать квартирку двухкомнатную насовсем пастору нашему. У ней, видите, детки. Девчонки растут. Ну и что что девчонки? Разве пастор обидит? Или Валечка с Тонечкой? Вот, Тонечка вышла во двор. Соседка как раз ремонт продолжала. Парней наняла, те во дворе работу делают на солнцепёке. Тонечка с книжками умными вышла к ребятам, стала учить, как правильно жить, стала добро им в души вколачивать.
Как вдруг соседка несётся, да как закричит: «не дам секте молодежь обольщать бесовскою прелестью»! Ну не дура ли?
Другой раз пастор хотел у меня на дому собрание провести. Дом мой большой, места всем хватит. Мы пирожки напекли. Валечка с Тонечкой так расстарались. Честь ведь великая мне снизошла: пастора принимать на дому. Как не стараться, как пирожки не испечь. Часа два на жаре мы у печки толклись, часа два пирожки румяненькие со сковородок снимали.
Так эта паскуда нам не дала провести собрание на дому. Как заорёт: не смейте бесов в дом наш впускать! Валечка ей тихонечко предупреждает, что, мол, за нами большие люди стоят. А та ни в какую. Да еще и нахально так говорит: «на вашу «крышу» плевала с высокой горы, пусть ваш Турчинов умоется»! (На то время Турчинов А. был вторым или третьим лицом в государстве. Главный сектант Украины). Так пастор ко мне не зашёл, ему Тонечка перезвонила.
Вот рассудите. Тонечка с Валечкой тихие, скромные. Никогда не орут. Помогут всегда. Вон какой мой дом приукрасили. Недавно совсем окна новые вставили. Из новомодного пластика окна. Пусть не как у соседки. У той деревянные окна, большие и дорогущие. Ну а нам и простые из пластика в самую масть.
А соседка? На членов собрания наорала. Пастора не впустила. Меня квартиранткой или жиличкой стала обзывать года два. Это после того, как мы с Валечкой у нотариуса обходительного побывали.
Не соседушка. Срамота.
Недавно соседке замечание сделала, типа, что мои розы мешают? А та мне опять: ты не хозяйка, раз полдома свои через Валечку якобы подарила какой то Виктории, и что они дом поделили уже по суду. Они, то есть дамочка и какая там Виктория-Вероника, точно не помню. Брешет, наверное.
Да Алинка, Валина внучка пошутила недавно так неудачно. Я Алину и мужа её, полицейского, впустила пожить. Прежних квартирантов я выгнала. Так Валя просила. Ну живут и живут Алина и парень. Правда, пусть Валентина не обижается на меня, девка, что называется, ни за холодную воду. Я ей тихонечко замечание сделала. Чего, мол, пол не метёшь, двор мусором обрастает. А та мне: чего вы, теть Валя? Живу у себя, когда захочу, подмету. Или бабка придёт убираться к вам, заодно и двор приберёт.
Как Валентина пришла помогать по хозяйству, я ей про Алинкин причуд рассказала. Та глаза опустила, стыдно, видать, за внучку то за неряху. И говорит: пошутила Алинка, не обращайте внимания. И Алина попросила прощения за неудачную шутку.
Да, шуточки у молодёжи пошли, не дай Бог.
Но вот зачем вчера приходили ко мне какие то люди? И говорили, что я якобы дом продаю? Что продаётся моя половина! Неужели Валечка с Тоней?..
Или опять соседка нагадила?
Мразь
Вечный вопрос адвокату: почему вы защищаете всяких там подонков?
Оставим в стороне официальные версии, а перейдем-ка к морали.
Я страсть как не люблю читать лекции про мораль. Лучше расскажу вам про мразь, а вы сами судите.
В наш городок прислали выпускника юридического факультета, определили его быстренько в прокуратуру следователем. Карьера шла быстро. Оказался талантлив. Расследовал быстро, умел допросить да в срок уложиться. К тому же и почерк имел наотличнейший. Скоро стал прокурором.
Особенно красиво у него получались обвинительные речи по делам о наркотиках. Об их вреде для общества, о гуманности нашего самого гуманного в мире законодательства, о том, что нет прощения сбытчикам наркоты, и ет сетера, ет сетера…
Красивенький такой, но про амурные делишки его мы трепаться не будем. Женщины здесь причём?
А вот два факта его биографии, что от людского ока хранятся в тёмной душонке его, мы поведаем.
Однажды в кабинете молодого милицейского следователя я пошутила: зачем, мол, два таких мешка в кабинете хранишь? (вечно влезу не в свое дело!). Если мешки с сахаром, домой отвези, чего в кабинете пылятся. А он мне: да нет, это вещдоки, наркота почти 6 килограмм. Я с доброй души ему и посоветовала: кабинет у тебя без решеток? Упрут! На второй этаж со двора что не забраться? Отдай вещдоки в сейф кому-то. На следующий день он мне похвастался, что отдал прокурору всю наркоту, у того сейф-то надёжный!
А через месяц из двух практически независимых друг от друга источников узнаю: торганул прокурор наркоту. Все шесть килограмм. Да умело так операцию провернул: куда-то в Россию увез с корешами, выручку с верными людишками поделил, и концы спрятал в воду.
Правда, история просочилась, и его быстренько перевели в захудалый район, но зато поближе к тёплому морю. Опять прокурором.
Вторая история с нашим фигурантом слегка завязана на бабе. Уже в совсем другом городе попросила меня одна шустрая бабёнка найти ей бригаду строителей. Купила она по дешёвке сгоревший дом. Там раньше жил антиквар, его убили, труп подожгли, заодно прогорела и хата. Обычные мастера горелые дома не чинят, уж больно много мороки.
Я опять по доброте своей (вечно лезу не в свои дела!) нашла бригаду уникальных мастеров. Они работали быстро и честно, брали немного. С моей подачи сговорились с бабёнкою быстро.
Ребята работали без выходных и проходных, отработали заказ на «ура»! Бабёнка им заплатила, не все, но прилично. А когда бригадир, на вид простоватый такой мужичок, пришел за додатком, его отправили восвояси. Что, якобы, недоделки нашли.
А вечером та бабёнка, кстати, юрист, правда, хреновый, ему позвонила и приказала вернуть все деньги, что отдала. Наш бригадир, мужик брянский и честный, аж не поверил. Но дамочка оказалась настойчива до безобразия, и пригрозила, что её хахалёк-прокурор доведёт его до колонии. Наш бригадир ей опять не поверил, но когда ему через три дня позвонил прокурор (и кто же это был, а, угадайте с трёх раз?) и повторил те же угрозы вперемешку с требованием возврата всех денег, бригадир духом упал. Мало того, что отработала бригада на доме горелом, то есть тройную работу сделала за одни деньги, он деньги-то людям отдал за работу. Как теперь объяснить, что заказчица – сволочь? Свои отдавать?
Пришёл ко мне за советом.
Я была как оплёвана грязью. Это я по дурости своей их свела, причём знала, что она с прокурором тем якшается, она сама секрета из их связи не делала.
Выход мы всё же нашли. Не скажу какой, тут замешана третья особа, её имя к чему говорить?
Бабёнку ту успокоили одним властным звоночком, а я ей посоветовала мой телефон напрочь забыть.
Тем дело и порешилось.
А наш пострел везде поспел: опять пошел на повышение.
Ну, как вам сказка про мораль? Только вовсе и не сказка.
Постскриптум. Когда Севастополь и Крым возвратили в Россию, тот прокурорчик на службу просился. Не приняли. Где та бабёнка его, я не знаю. Неохота мне про неё дознаваться. Копаться в грязном белье неохота.
Сейчас супчика поедим
Соседка была добродушной. Ага.
Вечером зимним в лютый мороз, когда за окном минус за сорок да с ветерочком. Уж очень зима была лютой в тот год. К соседке в гости наведалась часам так к семи племянница с мужем. Соседка захлопотала, засуетилась, крутилась перед родными и боком и задом, не знала, куда ж посадить почётных гостей. Болтали без умолку. Темы нашлись для двух разговорчивых дамочек самые разные, от новостей мировых потихоньку дошли до местных реалий.
Соседка всё порывалась: «ой, я сейчас пойду, супчик поставлю. Да и сарделечки есть». Даже смоталась на кухню, быстренько обернулась, ругнула соседку. Заняла, мол, конфорки, негде и супчик поставить. Так беседа продлилась на часик ещё. Соседка смолчала, эка невидаль, оговорили опять. Сидела в своей комнатушке в тепле да уюте, вязала. Общая кухонька метров пяти да ванна «с удобствами», весь интерес двух соседок на том и закончен.
Минул часок, соседка опять: «ой, что это я тут сижу, у меня же сарделечки есть!», было привстала, но интересная тема отмывания грязного бельишка общей знакомой усадила на место.
Опять поболтали, перешли к теме сочувствия бедной вдове, что приходилось соседке с племянницей то ли тётей родной, то ли сестрой двоюродной. Выясняли степень родства немало, прошёл час или больше. Опять громкое: «Ой, пойду я, сарделечки ставить!». Надежды зятька воскресали, парень духом воспрянул, что не зря по морозу мотался, не новости ж сплетен да бабские пересуды наматывать на ус молодецкий.
До кухни соседушка не дошла. С шумом вода унитаза рыгнула, соседка вернулась к гостям. Прошел ещё часик. Пурга разыгралась, мороз ослабел. Пурга или вьюга, тогда морозы слабеют, зато не видно стало ни зги. Гости собрались в дорогу. Еле теплилась надежда, что тётка оставит: в такую погоду собаку из дома не выбросишь, не то что гостей.
Соседка захлопотала, с готовностью обувала племяшку, искала шапку зятёчка, и все говорила с лаской, душевным теплом «ой, как же это вы, сарделечки даже не съели!»
Дверь входная захлопнулась гулко: зять постарался на славу.
Дверь всё же чинила молодая соседка. Соседушка, тётка племянницы, отболталась: мол, сквозняки.
Вор в законе и три автомата
Как раз перед распадом Союза всё еще советских, но уже явно не социалистических республик, посчастливилось мне принять участие в защите одного, можно сказать по жизни придурка.
Защита рядовая, преступление, им совершённое, хищение автоматов из кладовой воинской части, тоже не ахти какое мировое событие. А вот, посчастливилось…
Люди попались уж очень необычные. Для меня – необычные.
Давайте расскажу по порядку, чтоб понятнее было.
Итак, история началась несколько странновато.
В нашем паршивеньком городишке появилась одна особа Любаша, дама почти неграмотная, почти косноязычная, но обладавшая даром ясновидения. Люба почти мгновенно стала модной. И я, дура этакая, тоже поддалась глупой моде. Вот Любаша мне и поведала, что вскоре предстоит мне поездка.
Эва, нашла чем удивить. Адвокатская судьба мотала меня по России и Украине. Тюрьмы, суды, опять тюрьмы. Ничего экзотического.
Ну, думаю, чем Люба меня удивит? А она, я постараюсь воспроизвести язык оригинала: «поедешь туда, где много-много снега, белки на деревьях прыгают. Вижу странное здание, как клуб. Там, у клуба, будет стоять девушка, с громадными реснищами, в шапке меховой и платком на плечах.» Ну, думаю, врёт Любаша! Где сейчас встретишь девушку с платком на плечах. И никакой такой командировки не намечалось, планы строились чисто житейские типа благих намерений «буду делать ремонт».
Как вдруг!
Опять отвлекусь, пожалуюсь. У адвоката никогда не бывает в жизни гладко, размеренно, по графику и плану. Это профессия, если она тебе нравится, и если ты ей импонируешь, это клубок страстей, нервов, судеб. Театр абсурда, одним словом.
Итак, вдруг ко мне на приём приходит незнакомая молоденькая мать двоих крохотных детишек, зарёванная хохотушка. Слова и слезы лились бурным потоком. Второй муж «загремел под фанфары», что ей делать с такою бедою? Старшая пятилетняя девочка любит его как родного отца, малыш по нему скучает, жить у свекрови уже невозможно. Обычные слова обычной клиентки. Стоп! А почему клиентки? То есть это «вдруг» уже сыграло свою роль и я мысленно уже согласилась защищать её непутевого дурачка. Да и в словесном потоке стало проясняться, что муженек арестован больше двух месяцев, сидит где-то под Курском, свекровушка деньги на защиту сына не хочет отдавать, хотя может (быка продала). Короче пела жалкую песнь деревенского обитания обплёвання свекровью и жизнь молодка, до тех пор пела, пока не сказала коронную фразу: «подумаешь, он пару автоматов свистнул со склада».
Говорю, как это пару автоматов?
Короче, через день выехали в Курск, точнее, в Орёл.
Орёл тех времён, он как застыл в 19-ом веке, в купеческо-дворянском заповеднике, так, кажется, и не отошёл. Статус заповедника ему, видно, очень даже и нравился.
Почти пешком добираемся до военной прокуратуры, находим это паршивое здание, ползём на пятый этаж. Кушать хочется, аж не моги. Ночь тряслись в сонном поезде, спозаранку вышли в Орле, да пока искали и наконец то нашли многоэтажку, в которой на самом на пятом на этаже расположилась прокуратура, есть захотелось до бурчания в животе. Прощу прощения за такие подробности, но из песни слова не выкинешь.
В приёмной прокурора секретарша продержала минут пять, не больше, пока прокурор по телефону выяснял, почему у него в части капитан какой-то повесился. Затем в кабинет прокурора вползла я. Ах, как есть хотелось, а ещё больше чашечку литра на два крепчайшего кофе.
Прокурор с порога предложил мне: а, может, чашечку кофе? Я его сразу почти полюбила. Знаете, добрый по отношению к адвокату прокурор, это юридический нонсенс. Просто потом оказалось, что следователь Вадим, в производстве которого дело наше находилось, был женат на адвокатессе. Жена эта, тёлка глупая да безвредная, вот почему прокурор адвокатов и не боялся.
Пошли к Вадиму. После короткой беседы он нам предложил выехать в Курск, где, собственно, следствие и будет вестись.
Вот туда-то две дуры и направились: я да прицепом Ирка, жена того дурачка, свистнувшего автоматы в воинской части.
Заодно скажу, что я до сих пор сожалею, что не удалось побывать в Орловском знаменитом централе. В нём Дзержинский сидел, и острог этот уж очень славился своей крепостью. Да, жалко. Много тюрем видала, у меня почти хобби сложилось: весь народ по магазинам да рынкам в чужих городах ошивается, а я по СИЗО да по камерам экскурсии провожу.
Ну, да ладно.
Курск нам сразу страшно не понравился: грязный, какой-то цыгановатый. А гостиница в центре Курска, так это последнее цыганское пристанище со вшами на простынях и бутылками из-под дорогих коньяков под кроватями.
Нас из этой гостиницы через десять минут как ветром сдуло. Принимаю руководящее решение: едем в воинскую часть, где уже должен быть следователь Вадим. Трясёмся по зимней дороге в ПАЗике, приезжаем. А уже темнеет. Ирка (хохотушку Иркой звали) по дороге то смеётся, то плачет, вцепилась в меня, так ей страшно. Гостиницу нам не дают, какой-то голубой (воздушные войска) майор нехотя отказал в пристанище. Отговорку нашёл: гражданским гостиница не положена. Я в гневе и с голодухи почти ору на Вадима (жрать то как хочется!), попутно жалуюсь на голубого майора.
Вадим и второй военный в чинах (командир части, как оказался) поржали: что Вы хотите, от голубого майора? И через час мы в тёплой военной гостинице напиваемся чаю. Командир части суетится перед Вадимом, заодно перед нами. Ирка душой отогрелась, смеётся, сияет. Ну, почти оранжерейная атмосфера. Если не думать, что у Ирки муж на нарах третий месяц как парится, да командир части суетится, а вдруг да следователь военной прокуратуры начнет попутно и его делишки под прицел подбирать. Одному адвокату всё по барабану: наелась, тепло, ночлег обеспечен, а там утро вечера мудренее.
На намеки Вадима Ирка оказалась неподкупна, за что ей респект. Слова её в виду их нецензурности не воспроизвожу, а перевожу так: из-за проделок мужа я под следака не лягу. Я тут ни при чем. Мне Ира стала нравиться всё больше и больше, хороший она человечек.
А наутро Иру оставили скучать в гостинице. Мы поехали в СИЗО. То есть следователь и я, адвокат.
Как и положено, пообщались с отцом двух детей, укравшим на службе два автомата. Хотели с приятелем продать по выгодной цене двум барыгам. Там, в части, крали всё и все. Но! – офицеры, а ребята, насмотревшись на жульё в офицерских погонах, по второму году службы решили и себе штось да чтось подзаработать. Естественно, именно их и поймали. Вечный принцип, что за виноват только стрелочник, действует до сих пор.
Предполагалась очная ставка с покупателем двух автоматов.
Ананас в феврале… Почему это в тюрьмах так холодно, а?
Сижу в следственной комнате, холодной и мрачной. Вадим скрипит-пишет очередной протокол. Отец двух детей, а по совместительству глупый воришка, с предстоящим большим-пребольшим сроком отсидки скучает на намертво привинченном к полу табурете: ждём-с.
Грохнула дверь. Завели в камеру мужичка, бледного и худого, эдакого жилистого волчару. Он нас оглядел, как хозяин гостя непрошеного оглядает при входе: то ли побить, то ли водкой напоить? Серьезный такой мужичок…
А я возьми да и пошути: ох ты, как в камере ананасом запахло, и это в феврале… Мужичок мгновенно отреагировал: «сразу видно адвоката, кто ещё может знать запах да вкус ананаса»?
Пошутили-пошутили, потом поговорили и серьезно.
Я опущу скучное содержание очной ставки, оно здесь просто ни к чему.
Мне больше понравилось содержание того диалога с вором в законе, который со мной пообщался в тюрьме. Может, интересно будет и вам.
Что поразило и вспоминается и сейчас, через эдак много лет. В разговоре он заявил, что для него, сидельца на много лет, нет ни запоров, ни тюремных дверей. Он может выйти и войти в любую из камер любого централа, любой из многих колоний России. А ананасы в шампанском, это пустяк. И любая администрация колонии или тюрьмы для него, как прохожий на улице, хоть плюй ему вслед.
Потрепался про обычаи воровские. Это сейчас раскрутили тему по телеканалам да книжкам дешевым, романтику изобразили на дурость пацанью рассчитывая. А тогда это было внову. Слушали, уши развесив.
И про то, что если кто из воровского общага деньги похитит, ему на его выбор или руки по локоть отрубят, или в камеру к малолеткам кинут на раз. То есть к полным отморозкам запустят. Со всеми, как говорят, вытекающими.
И про честное слово своё рассказал. Вот он обещал прокурору, что автоматы вернёт. Вернул. Без расписок. Ночью на трассе у машины поговорили два крутых мужика, прокурор пяти областей, законник по должности и вор в законе, тоже «законник». Автоматы вернули. А один из них, между прочим, аж из Воркуты по его звоночку доставили. Ну, что взамен, я у него не спросила. Что я, полная дурёха, что ли?
Потом у прокурора спросила, так было дело? Так он почти матерился: с вором в законе по-мужски просто поговорил, что автоматы те, не просто вещдоки, они и стрелять начнут по безвинным. Тот и вернул. Зато менты, народ распроклятый, «телегу» в Москву накатали. Дескать, чего это ради прокурор пяти областей ночью на трассе с вором в законе общался? Не иначе, как миллион себе хапнул.
И тут прокурор поскорбел. Понимаешь, Петровна, было бы не обидно, если бы взял, а так ведь, под честное слово с вором в законе работал. Чуть не сказал, что вор тот в законе – мужик. То есть честный и правильный. Сказать не сказал, но думать, уж точно подумал.
Про ментов я слова его опускаю.
Ну, в трёпе про автоматы и выезд на трассу ночную. «законник» внезапно спросил, спросил как бы невзначай, какое такое у меня самое заветное желание? Я отшутилась. С чего бы это я ради постороннему человеку про свои мечты та стремления рассказала? Отшутилась, да он ответа и не ожидал.
Помолчав, погрустнел. Потом тихо сказал: «а для меня самое-самое заветное просто поспать. Часов пять. Просто поспать, не ожидая ни ножа в спину, ни вызова на ночной допрос, ни ночного кошмара. И повторил: просто поспать».
Тот разговор на двоих (Вадим с подзащитным моим допрос сочиняли, я краем глаза да уха следила за темой, адвокат как никак) я часто вспоминаю. Тот разговор не то что душу перевернул, нет, нет, это как бы переоценка ценностей произошла, что ли.
Вот у него деньги, что, разве проблема? И всё, что из них вытекает: ананасы да девочки, власть и свобода – авторитет!
Власть? Так у него её не меряно. Наверно, и губернатором, если б захотел, стал. Связи? Так те приходят и уходят в зависимости от паршивости человека.
Всё есть у него. И нет ничего.
Элементарное вроде для нас после работы, трудов и забот, утех завалиться на боковую, поспать часов эдак восемь, и утром снова в круговорот.
А у него, подумайте! самое что ни на есть да заветное, просто поспать. Так он это тихо сказал «просто поспать», что и сейчас вспоминаю.
Наверно, спокойная совесть – ценнейшее благо, почти дармовое.
Потому и не ценим, а?
Тихо следствие закончилось, и той же зимой прикатили мы с Иркой-хохотушкой в Курск, в ту же зимнюю часть. Именно там по прихоти судейской и должно было начинаться действо под названием «судебное следствие».
Прикатили, встретились с Вадимом, по его милости быстренько снова устроились в гостиницу. Ирку я оставила в номере скучать, а сама пошла на разведку к штабу, что рядом с клубом находился, где в привычном холоде вскоре суд состоится. На крылечке стоил прокурор, отрешённо стряхивая пепел в белейший снег. Ух ты! Раз сам прокурор приехал поддерживать обвинение, значит, скучно уж точно не будет.
Направляю бренные стопы свои в клуб.
И, о чудо! Стоит в холле девушка с громадными реснищами, в коричневом полушубке, в шапочке меховой. А на плечах полуплаток-полушаль в русских мотивах. Такая красивенькая да миленькая, что я не удержалась и спросила: «кто вы, милое создание?» Оказался этот милый ребёнок секретарем суда.
А Любаша то не обманула. Описала, пусть косноязычно, именно эту девушку. Только что имя её не назвала.
Быстренько, почти бегом, уж больно люто морозно было в отродясь не топленном клубе, провели судебное заседание.
Наутро быстренько провели остаток процесса, получил мой воришка минимум наказания и через три месяца он в родной ему Воинке уже куролесил.
Как сложилась в дальнейшем его судьба с женой-хохотушкой, не знаю. А интересно, вспоминал иногда он февральскую стужу, тюрьму и вора в законе, что ему судьбу подарил и свободу? Так, походя, невзначай, подарил, крепко держа слово мужское, данное прокурору?
Ой, спасибо, сыночки!
В те времена, когда модно было все проблемы решать у мафии, а не в милиции, пришла на консультацию селяночка лет так шестидесяти. В платочке да калошах. Сидит, стесняется. Впервые в жизни в суд пришла к «аблокату» на приём. «Ты, доченька, мне поможешь?» И по привычной схеме жалуется на жизнь: и дочка плохо замуж вышла, и гуси подохли, и хата валится, и председатель сельсовета скотина страшная. От привычных жалоб даже как-то успокоилась, разговорилась, и потихонечку до сути дошла.
К тому времени в суде обед начался, и девчонки-секретарши из соседних кабинетов слушают нас поневоле: лето, жара, двери кабинетов настежь открыты.
Вот наша Феня и жалкуется, плачет, сетует на судьбу. Дала зятю в долг денег много, а он вместо отдачи бандитов-мафиков позвал-натравил на неё, горемычную. Вечером, только-только стемнело, подкатили к дому две машины. Выскочили добры молодцы из машин. Хари поперёк себя толще, извилина есть, но одна. И то не в голове, а наоборот. Принялись бабку ногами «буцать». Бабка та в вой! Ой, хлопцы, за что убиваете? Те: не, бабка, убиваем мы за сто баксов, а за тебя всего пятьдесят уплачено. Жизни тебя учим, чтоб зятя не обидела. Потешились, аж намаялись. Вжик колёсами, укатили.
А утром селяночка к нам в суд и притопала.
Наплакалась вволю. Я ей: «ну, что, заявление пишем? На бандитов этих?».
Она аж подскочила: «да ты что, доченька. Спасибо им, сынкам: они ж, пока меня ногами лупили, да на пол свалили, раза три по позвоночнику дали, аж хрустнуло что-то. У меня и прошёл мой радикулит застарелый, что ни одна бабка вылечить не могла лет пятнадцать. Я ж ползала по двору едва. А теперь, видишь, бегаю. Так, что, спасибо, сыночки! И тебе, деточка!»
И ушла, не хромая.
Крот – непоседа
Крот – непоседа. Мотался по двору, по задворкам двора, закоулкам улицы мрачной, задворкам заброшенных предприятий. Мотался весь день, да и вечер прихватывал. Что-то где-то как-то воровал. Воровать стало страстью давным-давно, с детских послевоенных лет, когда голодный рот требовал пищи.
И война давно подзабылась, и жил подполковник в отставке вовсе не бедно. А подишь ты, осталась дурная привычка вкупе с другой: подшмыгивать носом да ежечасно поддёргивать не сползающие штаны.
Воровал да и прятал в глубине двух подвалов, что были под домом. Подвалы те были в два или три этажа. Слухи ходили, что ход вёл через бухту в сакские степи. Правда то или нет, кто теперь знает? Дом строился до революции, строен был крепко, мощно стоит в самом центре курортного города. Смотрит на море французскими окнами.
Подвалы сухие, мрачные и глубокие. Но Крот их освоил. Двор поневоле привык к страсти соседа. Иногда только правдивец врач-стоматолог ругался, увидев, что спёрли деталь от вечно ломавшегося «запорожца».
Когда Крота ловили, тот искренне обижался, даже слезу подпускал: меня кто жалел в довоенное детство? я так голодал, так голодал А на укоры людские, что и другие, мол, голодали, он снова твердил про свое: я голодал, так голодал!
Ловили Крота крайне редко. Бегал так быстро, что молодым не угнаться: закалка. Армия, спорт приучили к порядку, и занимался он ежедневно. Гири привязывал к стопам, и бегал, и прыгал, и отжимался с гирьками теми. Оно и полезно, поймать не поймают, и нужно, здоровье не купишь.
Юность и зрелость провел в Казахстане. Служил там в армейских частях, там и женился, на евпаторийской Наташе. Старшего сына Витюху лет этак в шесть бабке отдали на тёплое море загар набирать. Там он и вырос, в тёплой и солнечной евпаторийской среде. Бабка внучонка сильно любила, ругать ни за что не ругала, баловала, как могла. Буйные Витькины выходки сходу прощались. Бабка соседкам стонала, что зрение в Витеньки слабовато, что уже там пацаненка ругать. Рос Витька, рос. Детство, как губка, впитало одно: курортная жизнь лёгка и сладка. Бабка зашибала на курортниках лёгкие деньги, мальчонке хватало на сахар да сладости.
Родители, что приезжали с младшим сыночком, Витеньку мало вниманием баловали. Младший сынок забирал всё внимание обоих родителей. Обида Витькина не росла, не копилась. Те тётя и дядя, что наезжали раз в пятилетку, бабку не заменяли. Ну и фиг с ними да Лёшкой, младшим братком.
Бабка Мария двор обожала: где что случилось, Мария всё знала. Не в падлу было ей, старой, носиться по этажам и всем про всё и про вся байки болтать. Хобби старухи, это всё-таки хобби.
Лет так в шестнадцать Витюху застали за наркотой. Бабка заполошилась, вызвала дочку и зятя к себе положение исправлять. И поселились в двухкомнатной все: мама и папа, два родных сыночка и бабка Мария.
Днями дома сидела одна лишь Наталья, мать двоих обалдуев. День-деньской книжки читала, читала, читала. Работа и книги, так уходили сутки, года. Миловидная худенькая Наталья чтением занималась одна. Пацанам было некогда: мотались по городу, папочка тоже. Ходили оборванные, только не вшивые. Мать всё читала. Бабка Мария не отставала от мужской половины семьи: день-деньской в хлопотах новостей. Знать всё про всех требовало силы немалой. И времени тоже, а как же.
Балованный Лёшка чинил мотоцикл тем, что где-то нашёл. Запчасти то папа подбрасывал, то сам находил по свалкам и гаражам. Витьку дня по три или больше дома не видели. В итоге махнули рукой.
Бабка Мария в гробу была тихой. Двор удивлялся непривычной её тишине. Похоронили всем домом живенько, скинувшись по три рубля: у Крота вечно не было денег.
За нею Наталья умерла тихо, спокойно в больничной палате. Обнаружили рак. Крот горевал искренне очень, слезами умылся по шею. Витьку то арестовывали, то отпускали: доказать не смогли ни разбой, ни грабёж. Потом всё же поймали за наркоту. Провели чин по чину обыск, обнаружили зелье, изъяли. Витёк сел на три года.
Лёшка чинил мотоцикл.
Прошло не больше месяца-двух после смерти супруги, как Крот приискал себе бабу. Быстренько сел ей на шею, зажил красиво. Ел каждый день, даже три раза. За краешек стола присаживался скромненько-постно: я, мол, только чаю попью. Накушавшись здоровенной миской борща, слопав тарелку второго, приступал к вожделенному чаю. Чаевал с ватрушками да шоколадом.
Наевшись, пытался воспитывать сына бабенки. Как мог. То есть бил по лицу, пока мать случайно сей эпизод не застала. Выгнала приживалу мгновенно. Жалко Кроту борщей да супов. Так к хорошему быстренько привыкаешь! но всё же забрал он своё барахлишко, поплёл через двор. Соседям врал жутко. Стыдно уж очень, что баба прогнала его, такого несчастного, что голодал все годы войны, да и после.
Лёшка чинил мотоцикл.
Крот утишился скоро. Нашлась ему пара. Москвичка-шустриха, что ездила летом на море загар обновлять, денег жалела, что бешено тратила не на еду или тряпки, а за жильё много платила, на радость квартирным хозяйкам. А тут квартира у моря, прямо у моря. Плескалось оно, равнодушное синее море, метрах в трёхстах или меньше от дома.
Дети Крота? А кто где: старший сидит, младший женился, ему подфартило квартирку иметь в том же дворе. Мать помогла. Как помогла? А вот так, вы послушайте.
В том же дворе жил алкоголик, матери брат. Семья от него отказалась, так сильно буянил. Дочка росла где-то рядом, да какие с него алименты? Сестра, то есть Наталья, навещала, конечно. То постирать, то кашки подбросить. Брат за её доброту отписал ей квартиру. И оба тихо забыли, что дочка его все права на квартиру имела. Девчушке было лет этак десять, как папка их бросил. Девчушка раза два или три приходила навестить блудного папу, так ей лапши понавешали вдосталь все: и тётя родная, а дядя поддакивал, и братик двоюродный Лёшка.
Раз несолоно похлебала, другой. Поневоле девочка в папин двор дорогу забыла.
А как стукнуло ей шестнадцать, папочка возьми да умри. Водкой, что ли, он подавился. Схоронила сестра, да побежала бегом к нотариусу: оформлять квартиру от брата. И от всей души, от всей «чистой» совести в заявлении написала: других наследников нет. А что дочка родная у брата имеется, несовершеннолетняя, к чему вспоминать, когда двое своих сыновей болтаются по двору неприкаянными.
Вот Лёшка в квартиру дядьки родного быстро вселился. Сделал ремонт, быстро женился. Жил от отца через двор.
Ну, так вот. Времечко то идёт. Московская барышня Крота обаяла. Харчевала-кормила без устали. Всё экономнее, чем за хату платить бабкам, что злее-презлее мегер. Счастлив был и Крот. Нашёл свою долю, сытое счастье не приедалось.
А тут горе какое! Витьку из колонии отпустили. Досрочно, ибо амнистия подоспела.
Двор наконец-то достало воровство обоих Кротов. Зарешётились все. Красивые окна старинного дома запестрели решетками разными. У богатых – резными, у бедных – бедности некрасивыми. Два Крота воровали ужасно, с одним лишь отличием. Папа таскал в одиночку, сыночек с друзьями. Витёк да друзья московскую тётю быстро отшили. Та испугавшись, что всё отберут, исчезла из дома. Звоночки в Москву, что изредка Крот наговаривал в слабой надежде поездки в столицу, были излишнею тратою денег. В столичной Москве без Крота бабёнке жилось не погано.
Походит старший Крот по двору, погорюет. Забредает к бабкам, что и тёщу его помнят, и Наталью добрым словцом поминают. Пропоёт в который уж раз, как голодал в послевоенное время. Сердобольные бабки покормят.
Забредаёт к Алёшке. Сына квартира, вот она, рядом. Сын чинит мотоцикл. Отец рядом присядет, опять запоёт, как скудно, как бедно жили тогда, в сороковые. Алёшка пыхтит, ладит детали. Выйдет невестка Крота. Сразу видно, тестя не жалует. Вынесет миску с остатком еды: нате, доешьте, Алёша вчера не доел. Старший с жадностью жижу хлебает, сетует на житьё.
Витька? Витьку не давали даже вчерашних помоев. А тот не в обиде. Стащит бельё, что вывесит не знакомая с обычаем обоих Кротов воровать какая-то отдыхающая (по-местному, куржиха). Продаст за дозу иль две. И ему хорошо.
И бабки молчат. А чего говорить? По-первости, страшно. А вдруг дружбаны наркомана придут «пообщаться»? Во-вторых, кто жалеет тех отдыхающих? Уж точно не они, местные бабки.
Зимой, когда не сезон, Витёк не гнушался ничем. Тащил у своих. То есть местных. Бывало, побьют. Отлежится, и опять за своё.
Ну, победовал-погоревал большой двор от Кротов несколько лет. Наконец, передохнул народ посвободнее. Квартиру Кроту пришлось отдавать за Витькины за долги наркоманские. Еле-еле он променял квартирищу на убогонькое на жильё на окраине города, где селились бомжи да иная сволота. Деньги от мены отдал чужим людям, которые душу вытрясли за сыновьи долги.
Витёк куда то исчез.
С чем остался бывший бравый вояка?
Видела как-то. Шёл с особою женского пола. В том же одет, что и лет двадцать назад. Идут, оба за руки держатся. Только идут они оба рядом. Но не вместе: лица скучливые. Одним словом: рядом. Но не вместе по жизни идут.
А Лёшка мотоцикл починил! Катается по двору, на море жену и сыночка отвозит.
Не ворует. Зачем? Ему хорошо платит милицейский начальник, под началом которого банда орудует, машины воруют. Поговаривали, что украли новенький мерседес у судьи. Воров не нашли. Так вот, Алёшка в чужом гараже машины ворованные разбирает. Так хозяин велит. И Лёшка молчит. Ему это выгодно. С золотыми руками этот умелец не пропадёт.
Когда банду «накрыли», милицейский начальник ушёл в бега. Дело тихо-тихо закрыли.
Алексей, золотые руки, пристроился мигом. Куда? А бес его знает. Работа таким молчаливым найдётся всегда.
Так не бывает?
Абсолютно реальная история. Впрочем, как и все остальные.
Трое придурков, один из которых уже имел судимость, и суд, пожалев его малолетство, определил ему условную меру наказания, ночью влезли в дом к семейной паре с чистейше-хрестоматийной целью ограбления. Связали жену и мужа. Мужа побили слегка, забрали видеомагнитофон и скрылись в утреннем раннем тумане курортного Судака.
Ну, и что тут необычного и интересного, спросите Вы. Вполне резонный вопрос. Мало ли придурков лезут в ночные окна и грабят имущество наших граждан, честно и нечестно заработанное.
Поймали. Надо же так, милиция Судака отработала чётко и пареньков «повязали» почти сразу. Следствие длилось недолго, суд тоже обещал быть недолгим. «Светило» моему подзащитному на полную катушку, так как именно он уже шлёпал раньше соплями перед судом, но!..
Вот это-то не спасло моего подзащитного, всё равно по жизни придурка.
А чего влезли в домишко трухлявый, где из мебели один новёхонький видеомагнитофон самой последней модели? Семья жила бедненько: муж да жена, да пара детишек, сопливых ещё. С трудом наживали да обживали свои комнатушки, крохонькие две каморки в бараке на самом краю Судака. Таких потерпевших жалеть да жалеть, да калёным железом негодяев ночных наказывать строгим законом. Ан нет, это версия прокурора. А наша из жизни, где потерпевших жалеть-то не хочется. Нет, жалеть то надо, но как то нехотя. А причной дурость их, двух взрослых супругов.
В чём соль?
В необычном. Выиграли мужа да жена билет лотерейный. Да не простой, а с сюрпризом. Аж «волгу» новехонькую подфартило обоим. В те времена (советские) этот билетик обменять на 12 тысяч полноценных рублей, плюнуть да растереть. Или всучить билет драгоценный ушлому председателю горсовета. Тогда ордер на квартиру благополучно ляжет в карман. Вот радости было бы деткам сопливым.
У четы будущих потерпевших мгновенно появились друзья да радетели. Нашёлся и пан из спортсменов, предложил супругам продать тот счастливый билетик грузинам. Давно не секрет, что в те времена грузины от «волг» прямо тащились, а тут «волга» по лотерейному для грузинских воров просто находка. Конфисковать такой выигрыш и то невозможно. Почти что договорились, и покатил спортсмен в Грузию, с наслаждением по дороге считая будущие комиссионные с грузинских братков. Обернулся быстренько в опаске, что вдруг конкуренты переманут обалдуев, владельцев того драгоценного волгоносного лотерейного билетика. Ныло сердечко по близкой дороге. Да и не зря.
Успели супруги билетик то обменять. На что? Да на «видик», однако. Поверите? Нет? Вот и судья не поверила, пока мужа с женой в суде по моему ходатайству не допросила. Те подтвердили, что обменяли билет на «видак». Раз пять судья пыталась понять, как можно билет ценой в десять, а то и в двенадцать тысяч полновесных советских рублей обменять на «видак» ценой от силы что тыща. Не поняла.
Да и никто так и не понял. Ни суд, заседатели аж проснулись от такой небывальщины, что чистою былью была, ни прокурор, ни судакские жители.
А потерпевшие были довольны обменом. В трущобе живя, где дети спят на полу (кроватей-то не было) и вместо стола колченогая табуретка. Зато они – с «видаком».
И получил мой пацанчик минимум из минимального. И меньше бы еще получил, если не была до того «ходка по малолетке». Дала бы условно судья за «видак», точнее, за глупость невиданную потерпевших.
Рассказал тот пацан нам да поведал, что спортсмен, что злой был на пару супругов, (а кто бы его не понял?), нанял этих придурков числом трёх, чтоб выкрали злосчастный магнитофон. Ну сильно ему уж хотелось досадить потерпевшим.
А пареньки просто слегка перестарались, однако…
Маленькие истории большого Крыма
Можно и по-другому сказать, например, большие чудеса маленького Крыма. Чудеса или чуда и ранее были в Крыму, творятся они теперь. И вообще сам Крым – такое чудо! Я же хочу вам поведать о вовсе не давних, почти что вчера случившихся чудесах.
Мне их поведали, считай, очевидцы.
Слушайте подлинное.
В Крыму много источников, есть и святые. Тропка народная вьётся, петляет, ведёт к животворному благодатному свету воды, свету тепла, доброты.
В Старом Крыму источник такой есть один. Сейчас он заброшенный, властям никаким он не нужен. Нужен только народу. А народ, когда он и быдло, когда и безгрешен. Заброшено место святое, загажено. Но вьётся тропинка, плетётся народ окунуться в святую водичку в надежде, а вдруг да поможет? В последней надежде приходит люд человечий, богатый и бедный, щедрый, скупой, старый да малый. Идет, в надежде на доброго свет, на Того, кто дал нам небо и землю, горы и воду. Источник святой православными славится. Но Господу Богу все чада едины, все дети его и рабы.
Однажды к источнику приковылял или приполз почти что безногий бомжара. Голодный и злой, приполз от людей прокормиться. Выставил всем напоказ язвы и струпья оголенных стоп. Нате, дивитесь, авось пожалеете бродягу бездомного. Нищета, она интернациональна, и бомж из татар быстро нашёл место среди таких же, как он, убогих да нищих.
Кто хлеба кусочек подкинет, кто на бутылку подбросит деньжат. К вечеру, бывало, был сыт и доволен. Бывало, и бит, бывало нещадно. Но от источника не уходил. Тянуло к нему, ой, как тянуло. Раз осмелел: оглянулся, нет ли вокруг людей православных? Было тихо вокруг. И пусто. И одиноко.
Раз! Перекинулся телом в воду. Холодная. Раны заныли, мурашками боль покатилась по телу. Выполз из ванны природной. Забылся в бреду. Пролежал так то ли до вечера, то ли до ночи, толь до утра. Кому одинокий бомжик смердящий был интересен?
Очнулся. Жрать захотелось. Пополз к источнику снова объедочки подобрать. Отогнал палкой вечных конкурентов бродячих собак, приполз к водичке студёной, испить из грязных ладоней чистой воды.
Матерился на всех: на собак, таких же грязных и вечно голодных, как он сам, да и стал он почти что собакой. Маты гнал на людей городских, что понакидали оберток от чипсов да марсов, на бродяг-конкурентов. Темы для матов были обширны. Даром, что крымский татарин, он мог материться не хуже прораба из русских.
С матами вполз в воду студеную. Зачем? А сам он не знал, зачем вдругорядь полез в холод чистой воды. Вылез. Отполз. Снова злые мурашки тихого бреда полезли по телу, жар окатил такой же, как холод воды. Лежал уже дольше. Дня два или три.
Клонилось к закату, когда спал жар тот бредовый. Бледный, худой, отощавший до кости, полз бомжик к водице – испить! Собаки не тронули жалкого тела. Почти не жилец, он был ни добычей, ни конкурентом, так, помеха ползла к животворной воде. Еле дополз. Материться сил уже не было, сине-чёрные губы, в струпьях и ранах, едва прошептали, я думаю, так: помоги мне, Всевышний! Не Аллах всемогущий, не Господи боже, а именно так: Всевышний, спаси! Как в воду залез, он и не помнил. Как вылез из вод, тоже не знал.
Но сейчас в одном из крымских монастырей иноком служит отец Феодор, тот самый, что вовсе недавно был тем бомжем.
А ноги у него стали абсолютно здоровы.
В Крыму есть Мангуп. Это – место святое. В древние времена был там город большой, звался он крепость Мангуп-Кале. А сейчас на обширном горном плато археологи роются, бродят разные там экскурсанты, да монастырь прилепился к скале. Маленький монастырь, очень маленький, но возрождается он, как возрождаются и другие на месте древних монастырей. Служит там батюшка, инок из православных. Ещё есть на Мангупе крест деревянный, стоит на плато. А монастырь под скалой, под крестом, в нише пещерной.
Вот раз летят над Мангупом десантники ВДВ, народец отчаянный и весёлый. Ученья у них на Мангупском плато в условиях экстремальных. А что ещё надо для условий, максимально приближенных к боевым, как не плато, ущелья да скалы.
Вот один из парней ВДВ, летя над крестом, посмел грешное произнести, и только что крест тот ногами не сбил. Не случайно: созорничал.
Монах снизу крикнул: «не выпендривайся, глупый, не смей!» Да удалому что инока фразы? Лишь засмеялся. Только видит народ: все десантники приземляются на плато, как им должно да положено. А этого, жутко смешливого да удалого, закрутило меж скалами, понесло на верную гибель, на голые скалы. Потоки воздушные – коварная вещь! А что тут поделаешь? У парашюта руля-то ведь нету. Скалы всё ближе, всё ближе верная смерть.
Что есть мочи крикнул монах, за душу заблудшую Бога моля: «Господи, пощади!»
Молитва монаха – великая вещь! Пощадил Господь наш Всевышний того дуралея. Прилепился десантник к краю обрыва. А горы круты, каньоны глубоки, внизу ждёт верная смерть. Да пощадил Бог дурака по молитве монаха: зацепил парашют край дерева, что вырос у края обрыва. Спасся глупец. А надолго? Не знаю.
На Мангупе осталось много святилищ, древних храмов, где первые христиане молились и поклонялись Христу. Сейчас почти всё заброшено, запустело, на месте древних алтарей лишь очумелые от летней жары экскурсанты шатаются, да забредают любители вкусно поесть на природе да выпить.
Вот трое таких «любителей природы» (а на Мангупе природа – сокровище мира, дивно как хороша) пристроились да расселись. Местечко подобрали удачно. В нише устроились. Скала наверху от зноя спасает, место вымощено да обустроено кем-то из древних, есть полукруглый придел – интересно!
Постелили скатёрку. Разложили закуски, разлили поровну на брата. Как вдруг! Грохот грозы прокатился невдале. Вздрогнули от грохота да повеселились: дескать, гроза, а мы в теплоте да уюте.
Только что поднесли ко рту по стаканчику холодной водяры, как молния – сверк! Да как ударит по скале, что нависла над этими удальцами! Скала – бряк! Нет, не вся, но осколок был очень приличный! И раздавило всю водку, всю снедь, что была на скатерке. Людей пощадило Божественное провидение, нам всем на науку.
Не верите, поднимайтесь на Мангуп, идите – смотрите.
Сейчас то место трудами паломников да святыми молитвами монашеской братии расчищено: алтарь. Полукруглый алтарь древнего храма покоится в глубине уже открытого места. Скала, обвалившись, алтарь не затронула. Ставятся свечи. Возносятся Богу молитвы. А среди возносивших есть ли те трое, что хотели на святом алтаре спиртное распить? Не знаю, не ведаю, но хочется верить, что понимают, кто в доме Хозяин, кто нам всем Господин.
Рассказал мне историю сам самый что ни на есть непосредственный то ли участник, то ли виновник.
Итак. Было это недавно. Недавно, когда Крым был в Украине.
Служил на Мангупе монахом отец… Назовем его Иов. Настоящее имя его называть не могу: скромен до чрезвычайности. Впрочем, так монаху положено. Не светиться, а Богу служить.
Итак. Трудился на божьей ниве один. В послушниках ходит мирянин Василий. Хлопоты да труды. У обоих до ночи. Дни в хлопотах и молитвах, вечера да и ночи в молитвенных бдениях состоят. Когда-никогда удаётся монаху спуститься с Мангупа да дотопать в Бахчисарай: навестить дочку и сына, внука понянчить. Монахом Иов стал не с молоду, а в сильно зрелом своем возрастном положении. Призвал Господь, и пошел на Мангуп Богу служить, откинув земное.
Да земное не отпускало. То хочется родню навестить, то нужно договариваться о доставке просфорок на гору, то нужно воду носить за три-пять километров. Хлопоты они хлопоты есть и у монахов, и у простого народа.
Но в данном нашем конкретном случае-эпизоде спускался монах с чисто искренней целью навестить соскучившуюся по нему родню да внучонка.
Спускается с гор, добредает к Бахчисараю. И видит: столпился народ. Агрессивная масса! Татары скучились с одной стороны древней площади. По другую славяне стоят. Массово безоружны. А у татар не копья и вилы, но ножи и даже кое-где чернели и дула.
Что, отчего? Монаху неведомо. У него в келии, что выбита в пещере скалы, нет радио, нет телевизора. И тем более, интернета. Знал глухо от братии монастырской бахчисарайского монастыря, что хотела община татар оттяпать земли у монастыря. Но то ведь по слухам, а правду как знать? Власть? Та четко умалчивала об аппетитах меджлиса: толерантность, мать ее так. Власть Украины потворствовала нахальству меджлиса. Захватили те здание в центре города? Ну и пожалуйста. Не проходили регистрацию у государства как организация массы людей? Да ладно, чего уже там. Прокуратура, милиция или юстиция верхушку татар не трогала, не торкалась до них: толерантность. А что аппетит? А он всегда приходит во время еды. И показалось меджлису, что можно и дальше наглеть. И почему тогда не отхватить у славянского населения, у православного, то есть, частицу священной земли. Землю бахчисарайского монастыря.
Решили. И сделали. Кто уж и как кукловодил из-за океана или из-за моря татарами, мраком покрыто. Но в утренний час очень слаженно собрались татары. В толпе их мелькали и боевики, и организаторы «митинга» за спинами рядовых скрывали подлые лица. Масса собралась громадная. Толпа она всегда агрессивна. А если ее подогреть, становится непредсказуемой.
А что делает люд православный? Ведь покусились на самое на святое? На монастырь! Горячие головы есть везде: и у татар, и у русских. Мало-помалу подсобирался народ, тоже стали выкрикивать явно не лестное в сторону супротивников.
Видит монах: ох, не ладное затевается в Бахчисарае. Вспыхнет, как спичка, народ. Тогда беда неминучая, жертвы кровавые.
А ни милиции, ни власти другой, глаза выколи, а представителей власти не видно.
Что делать? Что делать?
Ноги сами собой потопали не в сторону дома родного, не в келию, не в монастырь посоветоваться с игуменом. Какие советы, когда вот-вот брань начнёт начинается в центре города-сада.
Какое оружие у братии иноков? Какое оружие у Иова было? Только крест! И молитва Господня. Перекрестился монах, взял крест в мощные руки и пошёл на толпу. Идёт, молчит, а про себя молитву творит Богородице.
Встал посередине толпы, ровно промеж массы татарской и массы славянской. Слышится за спиной православное «батюшка, батюшка с нами». Слышится из татар удивление, что, мол, вон монах посреди площади да с крестом руку поднял.
Замирает масса народа. Каждый ждёт: чего дальше ждать? Что дальше будет?
А у монаха в голове грешная мысль: не дай тебе Господи, Лазарь узнает (архиепископ Крымский и Симферопольский)! Как это я без благословения? Да в центр массы людской, разнимать?
Но то в голове. А на виду среди площади одинокая фигура мощного старца, ряса которого потом просолена, старая ряса бела от той соли. И каждому видится, и татарам, и русским: трудяга монах. И безоружен. И одинок. И оружием у него только крест православный в мощно поднятой руке. Не кричал монах, не увещевал, ни стыдил одноверцев. Стоял среди площади: крест и молитва. И мёртвая тишина.
Сколько так простоял, сам не ведал, не помнил. Но понимал, что в любую секунду прорвётся от крика татарская масса. И мёртвая тишина в мёртвое месиво превратится.
Как вдруг, слышится ему за спиною ровный шумок. Боялся и обернуться: что, началось? Сомнут? убьют? покалечат? Нет, не его: за себя не боялся. Некогда было бояться о жизни своей.
Вздрогнул, как от озноба от смертного, и стал уже вслух творить молитву заступнице сирых, Матери Господа: помоги!
И опять тишина. Но другая! Не та тишина, что от первого крика «Аллах Акбар!» понесётся кровавое месиво, а другая. Не молитвенная тишина, к которой привык за ночи бдения у икон и иконок своего монастырька, что выдолблен в скале мангупской, да трудами братии древней обихожен, да и его трудами умножен.
Нет, новая тишина была грозной.
Обернулся: ОМОН!
Вооруженные до зубов, в касках и бронежилетах стояли омоновцы. Ждали команды. Молча стояли. И грозно стояли.
И стал растекаться татарский народ, ручейками с площади стал растекаться по домам да жилищам.
И, скажете, кто ОМОН подогнал?
Власть симферопольская, жадная и трусливая?
Нет! БОГОРОДИЦА!
Об этой истории вы не прочтете в сводках казённых: власть умолчала, впрочем, как и всегда. Украинская власть труслива, жадна и подла.
А откуда я знаю? Да от народа. И от батюшки. От Иова.
Цыганская рапсодия
Впервые этот красавец попался в лапы закона при обычнейшей до скукоты краже не в очень юном, но всё же несовершеннолетнем возрасте. Закон обязывал назначение ему защитника. Привёл его к нам в консультацию следователь, почитала я его не очень большое дело. Вывод сделала: нет, рано ему было в тюрьму, по возрасту не созрел. Отпустили его восвояси. Я ему мелочь на дорогу дала, пошутила на «дорожку»: «что, Гопал, небось в Воинке все девки твои?» На что он с полной обидой отозвался: «это почему только в Воинке»? Посмеялись, разошлись, напоследок он мне в благодарность пообещал свинью украсть да принести в подарок. Забыла бы я этого красавчика-цыганёнка, но года через два в Воинке как раз под 8 марта случилась страшная трагедия: убили, да страшно убили бабульку. Но поражало даже не это. Поражало – за что? Богатством бабушка не отличалась. Плохонький домишко, скорее хибарка, да нищенская пенсия. Вот и весь скарб у бабуси.
Так вот за эту пенсию и убили. Влез ночью к бабушке в дом красавец-цыган Гопал, с которого хоть картину пиши, хоть в кино снимай индийском, где он запросто сошел бы за героя-любовника, так был красиво сложен. Полез красавец-цыган искать полученную накануне пенсию аж в тридцать рублей. На свою беду проснулась женщина, узнала вора: «Ты это, что ли, Гриша?»
Бабка, сызмальства знавшая Гопала, так и не привыкла звать его этим чуждым ей именем. Звала его попросту Гришей. Да и не просто знала его, а, как говорили в селе, практически воспитала его. Жили по соседству. Цыганская мать известно как воспитывает кучу своих сорванцов. А у соседки душа болела, глядючи на голодных сопливых детей. Ну и пригрела Гришку: кормила, одевала, молочком отпаивала.
Отблагодарил…
Услышав бабкин голос, Гришка с перепугу ни много ни мало нанёс ей больше восьми ножевых ранений. Бил куда не глядя. К утру женщина скончалась.
Гришка успел и телогрейку сжечь, и кроссовки туда же в огне спалить. Что для цыгана костер разжечь?
Да повязали добра-молодца в это же утро.
Недолгое прокурорское следствие крутилось около одного: за что так бабульку жизнь наказала? За тридцать рублей?
Да, за тридцать рублей. Дали Гришке четырнадцать лет. И как сложилась бедовая его биография, далее я не знаю. А что-то жалко его, очень красивого и молодого. И бабульку хочется пожалеть.
Не жалко было только цыганской матушки, ни разу не передавшей сыну ни сигаретины, ни куска колбасы. Отбросила, как кусок: пропадай, головушка буйная, пропадай.
Ватники
Сибирская сага
«Дедуня, в стороночку!» Почти детский окрик заставил мужчину свернуть с наезженной тропки в сугробы. Варька почти что бегом обогнала идущего. В сумерках раннего утра что-то в походке казалось знакомым, да некогда было ей оборачиваться, да глядеть, кто там шаркает теперь уж позаду её. Навстречу шли два знакомых с завода: смена ночная закончилась, что ли? И Варька прибавила шагу. Что-то в ранней брезжени зимнего утра, холодного и звенящего, стало резче и звонче толкать молодое сердечко. Но Варька спешила. Опоздать? Не дай тебе Бог! Три минуты за опоздание и прощай, милая жизнь.
Суровость войны нуждалась в суровых законах, и опоздавшему пощады не ждать. А уж секретарше директора никто не простит минутного опоздания. Каждый охочий в спину плевком засадит. А уж братец родной ручку точно приложит: зам. Генерального бдит дисциплину, каждое утро сводки приносят, кто да чего где-то нарушил. И, почти Генеральный, развалив в покойном кресле толстевшее брюшко, проводил воспитание масс.
За три месяца, что генералил, сколько людей по этапу ушли! И потому в тишине покойного полумрака кабинета братец Семен разливался ручьем. Остальные вжимались в твёрдые стулья. И, несмотря на то, что в кабинете масса народу, ни гука, ни вздоха. Так почти Генеральный наслаждался в лучах собственной власти.
«Гадёныш такой», – подумала Варька, – «ночью, небось, опять на заимке с верными псами своими гудел да кутил, развращая девчонок». Но утром, чуть свет, опять заскрипели полозья его розвальней, и Сёмка, отряхнув снег с белых бурок, шествовал в кабинет. Теперь уж почти его кабинет. Высокий и статный (только брюшко выпирало совсем уж некстати. Ночная жратва и попойки делали дело, и братец жирел), с вечно задранной вверх головой шествовал по этажам, по хозяйски хлопал дверьми да топал ногами.
Варькина участь ждать в «предбаннике» кабинета, тащить чайник пузатый из каморки охраны да готовить чаёк оборзевшему братцу. Братец картинно оставлял недопитый стакан на краю длиннющей, с вагон, и такого ж зелёной столешницы кабинетного стола, и принимался за воспитание масс.
Лёгкий запах лимона щекотал оголодавшие ноздри начальников всех цехов, мастеров и прочей, по мнению Сёмки, шушеры заводской. Серые лица, серые ватники, серые валенки. В кабинете было прохладно, да дело не в том. Сурова сибирская зимушка, суровы законы сибирского холода: без валенок не обойтись. Круглые сутки работал завод, круглые сутки работали люди, урывая для сна, зачастую кто у станка, кто в уголочке дальнего цеха, кто и в каморке у сторожей, драгоценное времечко. Кормили народ в сутки два раза. Утром кормили смену, что заступала на вахту. И вечером смену ночную. Кормили в Сибири сытней, чем за Уральским хребтом, да война отзывалась и здесь, а потому было голодно. Но всё ж вольный народ, что был пригнан со всей необъятной России в сибирскую глушь, и питался получше, и в одежонке своей имел послабление, чем там, на материке, где война.
Начальники цехов да мастера из завода практически не вылезали. От того одежда своя и износилась, и изгрязнилась. Само собой дресс-код выработался единый для всех: ватник на плечи, ватные штаны на ногах да серые бурки. Кого им стыдиться, раз все одинаковы в битве единой за Русь.
Лимонов в столовой не полагалось, знаменитый при прежнем директоре «директорский» фонд растаял в тумане, как только нынешний зам. Генерального к должности приступил.
Курили нещадно, табак заглушал и голод, и холод, и запах лимона.
Наконец в кабинете стало нечем дышать, и Зам. отпустил народ восвояси.
Варька открыла с заметным трудом форточки на окнах, и свежий ветер сдул клочья вонючего табака в открытую дверь. Братец зевал во всю щерь белозубого рта: так спать хотелось после гульки ночной да разноса его подчиненных. Но впереди ждло совещание с военпредами.
Совещание с военными было кратким и деловым. Те по-военному чётко изложили позиции, что да кому причитается за ночь. Боеприпасы, танки, орудия и лафеты давно шли под шифрами да кодами, и потому чётко озвучивались требования фронтов, четко вчеканенные под грифом «секретно» Варькиными руками в единственный экземпляр. Всё!
И братец, вытащив пузо из-за стола, удалялся в каморку поспать. Дрых там весь день, расчехляя глаза только к вечеру. К вечеру, только к вечеру, начиналась работа. Звонки с наркоматов, звонки от партийных вождей, звонки от заказчиков, всё начиналось к позднему вечеру. Так вся страна приноровилась к режиму дня Кормчего.
Ну, а уж ближе к ночи, собирались Сенькины холуи, заходили за братцем и начинался кутеж на таёжной заимке, где нет лишнего глаза, где много жратвы и «государственной». А то и спирт на столе красовался. Напивались, дрались, нажирались, дрались, чётко при том поднимая тосты за победу, за товарища Сталина.
Потом принимались за девчонок. По-первости, брали из лагерей дочерей из народа врагов. Тех не щадили. Хорошо ещё, если жертва выживала. Тогда кидали назад в барак, кишевший клопами и блохами. А так, что их считать, дочерей врагов государства. Сдохнет – кинут в общую яму, засыплют мёрзлой землей, ещё и хлорку сэкономят на этом.
Когда поднадоели тощие дочери «врагов народа», принялись за свежую плоть. Из западной Украины стали гонять эшелонами сёла и семьи за то, что жили под немцем. Отбирали прям из теплушек вагонов свежих девчат, гнали в специальный барак. А потом на заимку. И чем моложе юная дивчина, тем лучше для холуёв.
Раз брякнула по наивности дивчина из этих, из пригнанных, что лучше было при немцах, чем на заимке. Сразу всю партию и расстреляли. За что? Да известно за что. За «измену Родине». Выгнали девушек на мороз, гикнули «ату их, ату», погнали по полю. А те врассыпную босыми ногами месили снега, пока не ложились в снежок, сражённые пулей.
Завод жил свою жизнь. Зарево от мартенов багрило снега, отходили вагоны по единственной ветке, крытые полностью брезентовым полотнищем. Отходили на запад – на битву с врагом.
С запада тоже гнали вагоны. С запада гнали людей, с запада гнали запчасти да комплектующие, тот же брезент, или продукты. При каждом эшелоне охраны отряд, нкведисты и военпреды.
Эшелоны шли только в ночь что на запад, что на восток. Только ночью кипела работа по загрузке и выгрузке эшелонов. Худые тощие люди грузили вагоны, худые тощие люди выгружались из эшелонов. Отличишь разве что по одежде. Те, что пригонялись – в своём. Те, что были на месте – в ватниках сплошь.
Ватник быстро съедал и профессорский барский вид, и колоритность прим-балерины. Лагерный быт нивелировал и сводил всех к единому знаменателю: к рабской жизни. Серая масса рабов ела, пила и работала одинаково. Из-за очень высокой смертности притуплялся главный инстинкт самосохранения. Рабам было все равно когда умирать, как умирать, сколько их умирает. Смысл жизни куска сводился к единому: жить для Победы!
И для победы рабы, одни назывались условно свободными, другими были просто рабами с клеймом государства по той или иной статье уголовного кодекса, все рабы на благо страны трудились нещадно.
Работа сближала, работа сплотила. В цехах не было разделения на своих и чужих. Только после смены одни оставались в цеху, прикорнув у станка, других прогоняли к баракам. Серая масса истощенной плоти людей была серой. Да, была серой. Но серой массой людской, а не баранами. И не козлами.
А потому сёмкины розвальни, по барски подбитые шкурой медведя, его белые бурки да папаха, что по пьяни выменял у военпреда на очередную девчушку-хохлушку, его сытая челядь из холуёв Демагога, Лёвки из Военторга и пары-другой начальничков из цехов, беспокоили массу.
То сытые розвальни («эмка» начальницкая как-то не прижилась: мотор вмёртвую промерзал при сибирских морозах) загонят в сугробы по голову бредший к бараку этап, то задержится эшелон из-за подписи зам. Генерального, то запах лимона ворошит кишки вплоть до судорог.
Откуда лимоны? А то Сёмке пришла в голову шальная мыслишка выписать из столицы специалиста, ухаживать за лимонами да за фикусом, что горделиво торчал у него в кабинете.
И выписал таки, наглец!
Ночью братец опять укатил. Прискакала родная мамаша, которую сыночек устроил сводней иль «мамкой» к девчатам, которых она отбирала на похоть сыночку да Сёмкиным приближённым.
Поначалу мать он пристроил заведовать детским садом, что был при заводе. Но заводские мамаши такой гвалт и хай подняли на него, что Сёмка, испугавшись бабского гнева, пристроил мамашу поближе к себе. Потише работка её оказалась. Отбирала девчонок, учила их уму-разуму, готовила, шила. Дел и забот у мамаши было по горло. Отъелась да округлилась при сыновьих харчах.
Мамаша в предбанник вплыла. Была, как и все, в ватнике сером, в серой юбчонке, в валенках да сером платке. Издали не отличишь от заводской работяжки. Но сытое тело, румяные щёки и угольем взгляд – не спутаешь. Враз отличишь.
Мать с порога хлестанула дочурку едкостью фразы: «шоколад жрёшь, гадюка!» Варька чуть не поперхнулась долькою шоколадки, что угостил военпред, уходя с совещания.
Опомнилась: «что вам, мамаша?»
Та снова запела: «народ отощал, сена скотине скоро не станет, так народ отощал, а она шоколадки трескает за обе щёки!»
Варька вздохнула. Зная мамашу, лучше не трогать, пусть молотит своим помелом. Молча открыла дверь в кабинет к брату Семёну.
Выкатились вскоре оба из кабинета. Брат погрозил длинным пальцем: смотри, мол, сестрица, и укатились на розвальнях в сибирскую глушь.
Варька вздохнула, отёрла слезинки, и принялась за рутину секретарской работы.
До утра оставалось немного, и решила переспать тут же, в предбаннике. Молча привычно составила стулья, укрылась платком, но задремать не смогла.
И дело было не в плитке шоколада, что тайком она таки сунула матери в ватник.
Привычная с детства обида жгла сердце, разжигала огонь.
Сколько и помнит, мать её обижала: и не так села, и не так встала, не так воды принесла, и вообще неумёха. Зато сыночек Семен – ненаглядное чадо! Всё ладненько и хорошо у этого лодыря было. По воду к колодцу ходить это варькино дело, дрова наколоть мужички подсобляли, что к матери шастали. Ну, а полы подмести да жратву приготовить, то вовсе матери дело или Варьки подросшей. Сыром в масле катался мамкин любимчик, большой любитель поговорить. Любого учителя мог заговорить, заболтать пустословием.
Так село и решило, что Сёмка – точно сын Демагога. Самого Демагога по имени и забыли как звать. Как обозвала его в самых сердцах за дурное многословие та пустозвонство соседка Никитична, так вся Африкановка и привыкала: демагог он и есть демагог. А когда детвора у Никитичны уточняла, что за слово такое явно не местное «демагог», Никитична быстро нашлась: «а вот, когда будете Гоголя проходить в старших классах, там у Чичикова в «Мертвых душах» два коня. Один Заседатель, другой Демагог. Тот Демагог везти хозяина не хотел, отлынивал от работы, потому демагог». Детвора быстренько успокоилась коротким ответом, а село подхватило прозвище пустозвона, с тех пор Демагог. Работать он, точно что, не любил, все отлынивал да отлынивал от работы. Любил погулять, по бабам пошастывал с величайшим своим наслаждением. Те и подкормят, и подсластят горькую водочку своим разговором да телом душевным. Так и шарахался по селу, чаще и чаще заглядывал к матери. А потому Африкановка и решила: Сёмка – точно сын Демагога, раз копией папочки растёт такая же падаль.
Мать подхахатывала на бабьины пересуды, а на прямые слова находилась с ответом. Смотри, мол, не от твоего ли Ивана или Степана я родила, будешь дальше ко мне приставать, пожалеешь. И бабы отстали. Только шептались по сельским хатам, что Сёмкина с Варькой мамаша точно уж ведьма.
И находились быстренько аргументы для этой версии. То корова кровью цвиркала в ведро вместо жирного молока, то лошаденка западать стала на ногу, то чье-то дитё заболеет не кстати. А кто виноват, конечно же, ведьма.
А после случая одного село убедилось. Точно, ведьма, однако, Сёмкина мать.
Про этот случай особый стоит вам рассказать.
Никитична, что в соседках жила, растила мальчишку-питомца одна. Кто он ей был народу не весть. Сыном его она ни разу не называла, а мальчонка звал ее тёткой своей. Так и считали за тётку. Была не из местных. Как приблудилась в село перед первой мировой, так и осталась. Была скромной и грамотной, много читала. Пристроили в школу, не учительницей, нет. Для учителя был нужен серьёзнейший документ да разрешение властей на промывание мозгов сибирским детишкам. Сибирь велика, но догляд властей был всегда, да ещё при селе, где и храм, и урядник. Никитична частенько в храме бывала. Урядник да батюшка быстро сошлись, что пришедшая кстати к селу приблудилась, а потому не сильно расспросами мучили. Для порядка носитель полицейского произвола документы проверил. – Всё было в порядке. С тем Никитичну и отпустил, а на вопрос, откуда дитятя, получил скорый ответ: на тракте нашла. Покрутил было седой головой, но даже в «холодную» не стал определять: батюшка заступился. Ну, а уж когда заезжий богатый купец встретил Никитичну да стал расспрашивать поприлюдно: как там найденыш, живой? Порассказывал власти заезжий купец, как подвозил Никитичну как то раз по тракту по зимней дорожке, да подобрали на тракте полузамерзшего малолетнего пацана. Никитична по парнишке тому прям убивалась. Отогревала, искала по тракту молочко да какое-никакое одёжье для найдёнышмалыша. После того разговору отстали царские власти от Никитичны да пацана. Даже бумаги справили. Так, мол, и так, пусть считается опекуном для малолетнего, пока оба родителя не объявятся, или только мать не обнаружится.
Мать так и не была найдена, хотя по тракту бумаги по селам да станицам разосланы были с приметами малыша. Знать, замёрзла, несчастная на сибирских просторах, или кто лихой погубил, оставив мальца замерзать на дороге.
Жили Никитична с малышом при доме у храма, а когда большевистская власть батюшку упекла ещё дальше Сибири – на Сахалин, осталась при доме. Так и жила. Растила парнишку, лечила детишек, в школе стала читать русскую классику. С того и жила бедно и скудно, но с величайшим добром. Как к ней детишки ластились. Заместо детского сада, когда матери за работой своей на износ некогда было приглядеть за дитятей, вели деток к Никитичне. Просторна изба, радушна хозяйка, и дети присмотрены. Платили и молоком, и хлебами, а кто и материи поднесёт или гостинца мальчишке.
Короче, жили как все.
Никитична замуж не выходила, вековала сама. Не то что уродина, не то что нравом страшна. Сватались люди. И вдовцы и парни из холостых готовы были взять её в жены с «приданым». Всем отказала. Душу отдать готова была за мальчонку. Так и жила. Монашка не монашка, вдова не вдова, девка из старых – не весть.
Мальчишка смышлён, не по возрасту сильный. Ростом не вышел, ножки с кривцой, но взгляд смелый да честный. А уж работящий какой!
Что тётушке подсобить, что незнакомой старушке дровишек поднаколоть за спасибо завсегда наготов. Добротой пошел в тётку.
А уж когда Сёмка-сосед пытался лупить младшую Варьку, спуску не жди! Летел Сёмка головою в сугроб. Матушке Варьки он перечить не мог. Мать есть мать, какова б не была, а уж Сёмке от него доставалось. Дракой, пацаньей разборкой их схватки не назовёшь. Сёмка был трусоват, в открытый бой никогда не вступался, зато молоть без устали мог только поганым своим языком, а потому терпел от соседа тычки, утирал свои сопли, да матери во сто крат привирал про побои. Мать Варькина соседского найдёныша ненавидела. Нет, нет, да уколет то взглядом, то словам, что приблуда он, каторжник да найдёныш. Мальчишка терпел. Только раз и посмел у тётушки испросить: кто он, откуда? Тётушка честно ему рассказала, и с тех пор между ними связь родилась – не разлей вода, не разбей огонь.
Рассчитала было соседка, что мальчишка остынет к тётке чужой, ан случилось вовсе наоборот: мальчишка сердцем прирос ещё больше к Никитичне.
Да и то правда гуляет в народе: не та мать, что родила, а та, что воспитала.
Умён и смышлён, мальчонка перечитал у Никитичны библиотеку. Со временем, как подрос, признался, что хочет учиться, и тётушка отпустила. Страна, набиравшая обороты коллективизации-индустриализации, сильно нуждалась в грамотных кадрах.
Поехал парнишка в центр областной. Учился вначале в ремесленном, потом направили в промакадемию. В село вернулся учёный. Да вернулся не сам: привёз молодицу, красную девицу. Сибирская хата приютила обоих. От радости Никитична напекла своих шанежек, знаменитых на пол-Сибири, отдала молодым лучшую комнату, и невестку обихаживать стала, как могла. Правда, вскорости невестка отправилась на учебу: училась она медицине.
Стал мотаться Алёшка частенько в центр областной. Как выберется в выходной, так в столицу, как праздник какой, он к жене. Похудел, замотался, но был полностью счастлив. А уж совсем соколом залетал, как приехал с женой да младенцем. Родили парнишку, славного бутуза.
Соседка с лёту люто возненавидела и малыша, а ещё больше невестку Никитичны. Говорить ничего не сказала, только чёрными угольями чёрных глаз вела молодицу от колодца до дома, от дома до магазина. И досмотрелась. Как назло, Никитичну вызвали на заимку, где заболел старый егерь. Пару-тройку дней она вправляла косточки да выпаривала боль из его застаревшего тела, а как повернулась домой, застала беду: грудничок уже не дышал.
Кинулась было спасать. Да куда! Отплакали малыша, похоронили. А наутро, как встретились у колодца Никитична да Варькина мать, Никитична только что и спросила: «а ребёнка за что?» Вопрос в лоб обескуражил ведьмачку, та отмолчалась. А бабьё по селу понесло: точно ведьма она, точно ведьма. Кто стал бояться, приносил откупное вещами, яствами да таёжной едой. А кто не боялся, на всякий такой случай всё ж избегал её чёрных глаз.
А кто и стал обращаться ночами: помоги молодца приворожить, помоги грыжу заговорить, помоги, помоги. И ведьмачка старалась. Вовсю. С Никитичной не общалась, а вот Алёшку ее, наоборот, встречала где надо или не надо. Повод находила, нимало не беспокоясь, кстати он или нет. Говорлива была, словесами потоки изливались в Алёшкины уши про её да Сёмкины добродетели.
Только молчала Варькина мать, никому не смея сказ рассказать про странную странность. Как опустили в могилку мальца, и она вместе со всеми стала бросать горсти земли на маленький гробик, ей в голову бухнуло чётким «Раз».
Аж пошатнулась, так явственно голос, не различимый женский или мужской, произнес четкое слово. Короткое «раз», и как дверка захлопнулась. Ноги ватными стали, и добралась еле-еле до дома, лежала дня два, не вставая: не было сил.
Молодица, Алёшкина женушка, после смерти сыночка погоревала – потужила, да и уехала в город дальше учиться. Захотела из фельдшерицы доктором стать. Своего ребёночка не уберегла из-за недостатка опыта, знаний, как тогда людям ей помогать? Муж понимал, отпустил любимую с миром. Мотаться стал вдругорядь от работы в центр областной. А как возвернётся из города, тут и соседка навстречу. Как знала заранее, что прибудет сосед. А Алексей скажет только привычное «здравствуйте», да и мимо пройдёт. Так прошел и месяц, и два, и годочки текли чередой, а сосед только «здравствуйте».
Варькина мать исходила на нет. Варьку била чем ни попало под руку, а уж когда Варька однажды запела, забывшись при матери, так та чуть её не убила.
Спасибо, опять вмешался сосед. Алексей ворвался к соседке, рывком распахнул дверь, оттащил Варьку от матери, и в чём та была, увёл к себе в дом. Варьке тогда было лет двенадцать. Девчушка рыдала: «за что, за что? Я только пела, я только пела». Голос у Варьки был не силён, но мелодичен, напевен с редкою бархотцой.
Никитична отпоила девчушку отваром, приняла к себе в дом, как родную. Правда, долго жить в тёплой избе не пришлось. Пришел Сёмка, забрал сестрёнку. В хате остылой было надо работать, ну не ему же, красивому, надрываться на бабской работе.
Варька после того петь перестала надолго, очень надолго. Даже одна, в тишине, она песни не пела. Молча вязала, молчком вышивала, молча хату мела, молчком воду носила, стирала да колола дрова.
Мать теперь остереглась бить Варьку публично. Сосед Алексей выбивался в начальники, мог неприятности учинить для нее, и для Сёмки.
Сделала похитрее. Когда в очередной то разочек Алексей поехал к жене, и находился в области недели так две (жена как раз заканчивала институт), а Никитична укатила опять на заимку (у отшельника-егеря вновь обострилась подагра), мать пригласила «по случаю» в гости Демагога. Оставался в доме и сын. И под материнский хохот и смех эти двое изнасиловали, и не раз, двенадцатилетнюю девчонку, после чего мать от себя наградила дочурку наотмашь ударами по лицу: «тварь ты такая, не сдохнешь никак!».
Где уж тут петь? Приехала от заимки Никитична, посмотрела на Варьку, которая, заплетая ногами, несла коромысло с полными ведрами: очи до полу, слёзки на дорожную пыль. Никитична завела девчушку домой, молча отмыла, напоила отваром. Сон сразил девочку сразу. Домой не отпустила до приезда сына из города. Тому объяснила: заболела девчушка, пусть поживёт. Так эту тайну скрыли немногие. Демагог да Семён до времени промолчали: радости каторги им были вовсе и ни к чему. Мать? та боялась людского осуда. Никитична? Ну, тут всё понятно. А Варька тем более.
Варька с Никитичной подружились. И книжки читали, и вышивали. А как вскорости Алексей уехал в центр областной, так Варька за дочку у Никитичны прижилась.
Мать не тужила: ртом стало меньше. Сёмка скрипел да ругался. Он работницу потерял. Так мать в утешение сыночку привела в дом работницу-молодицу, которая сдуру влюбилась в Сёмкины речи да бравую стать.
Прошло сколько там времени, Варька росла, превращаясь в красавицу. Стала бойка на язык. Матери так отрезала принародно, что та аж вскипела. Встретились у колодца, мать пригрозила: «с силою уведу, ты мне дочь, нечего шляться по избам чужым объедочки собирать»!
А Варька в ответ: «я обглодки не собираю, от чужих семей отцов не зазываю, и тебе потакать больше не буду! В город уеду, учиться пойду»!
Мать как услышала про город да про учебу, заткнулась мгновенно. Учёная дочка найдёт в городе тропку в милицию, или куда там еще прошение подавать, и пойдёт сыночек её по этапу? Уж лучше молчать, да терпеть дочкины выходки.
Бедствие всенародное нагрянуло неожиданно. Грянула самая страшная из бед да напастей на род человеческий: война!
Пошли эшелоны за эшелонами. Страна обустраивала громадный завод на бескрайних просторах Сибири. Потекли массы народу: мужиков – по фронтам, баб да детей – к станкам, тракторам. Жена Алексея напросилась на фронт. Детский доктор за две недели курсов превратился в полевого хирурга. Покатил эшелон, отстучали колеса. Потерял Алексей верную жёнушку.
Самого Алексея война призвала на фронт трудовой. Поставили директором на цеха завода, что ставился близ Африкановки. Стране нужен был опытный кадр, толковый, из местных. На заводе стал пропадать и денно и нощно. Разрастался завод, эшелоны шли непрерывно. Специалистов хватали из лагерей, из вонючих бараков, из Сахалина и рудников магаданских. Не хватало суток, не хватало людей, хоть разорвись на две части!
Варька стала незаменимой помощницей-секретарём. Умела молчать, умела сказать. Научилась быстро и споро стучать на машинке, отвечать в чёрный эбонит телефона. Могла сутки не спать, если надо. Домой, то есть к Никитичне, вырывалась нечасто: некогда было. Но все ж вырывалась. Постирать единственный беленький воротничок, что Никитична ей связала редкой ажурною вязью, помыться самой, да прихватить шанежек для директора.
Но пробежки в село становились все реже и реже. Ритм завода воронкой затягивал всех, и африкановских тоже. Братец умудрился пристроиться при заводе, старался помочь тем, кому и так нечего было делать. Как ни странно, нашлись и такие.
Воронка времени и ритм работы завода старили люд. Молодые тоже быстро старели. Вот и соседа-директора очень быстро называть стали Петровичем, изредка только называя полным именем: Алексей Петрович. Кто так стал называть ещё не старого Генерального и не понять. Скорее из уважения по народу пошёл он по отчеству. Дошло до того, что областные начальники, даже и из партийных, звали директора только Петровичем.
Петрович жил при заводе, как все. Как все, оделся в ватину, как все, получил валенки из каптерки, как все, питался в столовой. Не спал и не ел, тоже как все.
Но не за то уважали его и ленинградская да московская бывшая профессура из вшивых бараков, и наркомовская челядь, и масса народа, всё прибывавшая и прибывавшая на завод ставить станки, обосновывать металлургию, ковать и варить трубы и сталь броневую. Завод чётко строился на оборону. И нужен был чёткий организатор без соплей и ненужной патетики.
Алексей оказался именно таковым. Мог обрезать партийного босса, если тот лез не туда и не так. Мог похвалить, как бы случайно, профессора старого за умелую, нужную мысль. А тому, мужу учёному, жившему до ареста почти сибаритом, а сейчас его жрут блохи да клопы в вонючем бараке лагеря под номером очередным, – ему похвала, как мёдом на раны. Мог поругать, и заслуженно, за халатность. Или за лень. Лень ненавидел. Сам работая на износ, того ж требовал от других, кто мог ноги свои дотащить до станка или пюпитра. Инженеры при нём старались не только чертить, вникали в суть по цехам. Мастера находили народных умельцев, где как могли, друг перед другом похваляясь находкой. Дескать, я откопал такого левшу, что куда вам стараться.
Лень высекал, за лень убирал с завода людишек, благо фронт требовал больше и больше новых и новых людей. Фронта боялись, но и просились на фронт.
Петрович спал при заводе. Когда за станком, когда на столе кабинета. Длинная «наркомовская» столешница служила пристанищем онемевшей спины. Накроется ватником и поспит часа три. Подскочит и в цех!
А дилекторские?
При нём всё как то само организовалось. Прислали даже и Военторг. Шустрый Лёва, начальничек торгашей из военных, наладил дело споро и скоро. На заводе в столовой стали появляться даже и деликатесы тушёнка и гречка, что предназначались для фронта. Лёва как то быстро договорился с Москвой, что завод этот равен такому же фронту, как на войне. И пошли эшелоны в Сибирь, текли вагоны с запчастями, брезентом, рабскою силой. А в каком то вагоне везли шоколад, белый хлеб, селёдку и осетрину.
Полагались пайки, полагался такой и директору. Положит Варька на петровичев стол месячный паек, глотая слюну: из-под бумажной обертки так пахло приятно то рыбкой копчёной, то шоколадом.
Петрович, если заскочит в свой кабинет, прихватит паёк, не раскроет, засунет за пазуху и опять убежит.
Нечаянно Варьке тайна открылась. При детсадике заводском… Да, да, при Петровиче был и такой. Вначале африкановские женщины постарались. Через Варьку пробились к Петровичу на приём, уговорили устроить закуточек при цехе любом, куда малых детишек можно будет пристроить на круглые сутки. Петрович кивнул, и вскорости за столовой открылся детсадик. Заскочат матери на минутку, поцелуют сопящее спящее чадо, или сопли утрут и снова в цеха, но с покойной душой. А коли душа покойна, то можно работать за четверых. И работали, да ещё как и работали. За африкановскими потянулись другие мамаши. Так садик заполнился детворой.
Так вот, на столе у ребяток, ну ровно как приходил паёк ежемесячный, появлялись кусочки, пусть крохотные, но появлялись. То колбаса под диковинным названием «салями», этот малый кусочек больше понюхать, чем съесть. И нюхали. И съедали, перед тем долго гоняя по нёбу шматочек редкого лакомства. Или плиточка шоколада делилась на микродоли. Но каждому доставался ароматный кусочек хрустящей и тающей в красном ротике чёрной массы. Или маленький, только что не светился, ломтик белого сыра на таком же тонком кусочке белого хлеба подавался в детские ручки. С лёгкой руки Павлушки, чья мать, как и все, из цеха не выходила неделями, эти пайки стали зваться «дилекторскими».
Просто Павлушка, увидев, как директор на ходу передал директрисе паёк, подошел и наивно спросил: чего это, тётя? Та отмахнулась: директорский фонд. Павлушка разнес новость про «дилекторский» по детворе, ребятня родителей известила. С тех пор так и пошло: «дилекторский».
За директором совестливые из начальства тоже, пусть и не все (у кого мать заболела, у кого самого дети дома есть просят), стали часть из пайка отдавать на нужды детсада.
Закрепилось. Затем Варька уж и не заносила паёк в директорский кабинет: отдавала сама директрисе детсада.
Поначалу мамаша её через сыночка напросилась на «тёплое» место. В детсадик. Да африкановские бабы так подняли бунт, что мамашку мигом прибрали от невинных созданий. Новая директриса была из приезжих. Потянулась за мужем в сибирскую глушь. Дело своё понимала, детишек любила. Короче, стала на место, как тут и была.
Иногда Варька насильно кормила директора. Разыщет его в дальнем цеху, притащит остывший чаёк да порцию застывшей еды из столовой. Встанет молча, постоит, с укоризной глядя на Генерального. Тот долгого взгляда не выдержит: перехватит кусок, запьёт на ходу остывшим чайком и побежал по заводу. Свита за ним.
Братец и тут не умолчит, ковырнёт. Ишь, как сестрица старается, видать, не только по службе рвение вытворяет. Найдутся уши свободные, братец разольётся в речах, смакуя подробности. Но мог и нарваться на тумаки. Народ знал ему цену, знал цену директору.
Как выбрался братец наверх, стал заместителем, про то Варьке не в толк. Но сын Демагога освоился быстро. Перехватил на себя право звонить и отвечать на звонки людям из центра, бодренько так рапортовал об успехах завода. Умел встретить спецов-военпредов, которые, как только завод стал выдавать «на-гора» первые партии, покатили принимать для фронтов то, что делал завод. Военпреды разными были. Одни, что с пылающих территорий сами в пыли и поту, принимали позиции, понимая цену каждому из снарядов, танков или другой военной продукции номерной. Но были ещё и другие. Лощёные, из Москвы или Самары. Те снюхивались с братцем на раз. Получали пайки от Лёвки из Военторга, увозили жёнам или вовсе даже не жёнам крепдешины да крепжоржеты, и уж само собой тушёнку везли да осетрину.
А потому Сёмка по лестнице по служебной двигался споро. Перебрался невесть откуда на самый на верх. Стал заместителем Генерального. Свои людишки нашлись у него и у самых у нужных: в НКВД! У тамошних жёны тоже хотели носить крепдешины и трескать за уши осетрину да белый хлеб.
Увозили Петровича в ночь.
Подъехала «эмка» к заводу, трое молчком поднялись в директорский кабинет, молча открыли пинком предбанника дверь, молча погрозили Варьке пальцем. Та задохнулась от страха. Молча вывели Петровича из кабинета, молча и увезли.
За что и про что кто осмелится вопросить, и у кого, разрешите, спросить?
Но, судя по тому, что братец ранёхоньким утром уже восседал в кабинете Петровича, явно ручонки свои приложил к поганому делу.
И понеслось! Ночные попойки, девчушки, жратва с осетриной. Затух сам собой директорский фонд, и детсад выживал из последних силенок. Кормить стали по остаточному принципу: главное – фронту! Потом кормить рабочих в цехах, потом инженеров и прочую дребедень, и только остатки (тянется написать просто объедки) доставались детишкам. Сунулась было директриса детсада вякнуть про деток да «директорский» фонд, так рот ей быстро заткнули: вы что, против Победы? Сын Демагога и сам демагог Сёмка по наторенному вправил мозги надоевшей до чёртиков радетельнице сопливых детишек.
Завод по накатанной колее работал с полгода. Запущенный Генеральным механизм работал как вечный двигатель месяца три.
А потом потихоньку начинались проблемы. Человеческий фактор начал срабатывать.
Женщина – мать человечества. Женщины, именно женщины двигают мир, толкают вперед всё человечество.
Это только ленинцы утверждали, что кадры решают всё, имея в виду прежде себя, то есть мужчин.
Ну что ж, пусть будет и так. Я к их совести призывать не стану, не собираюсь метать бисером.
Кадры и забеспокоились. Вначале мамаши, когда детишки стали уже совсем голодать, забеспокоились, заволновались. Стали таскать от себя в детский садик продукты. Кончится смена, и тянутся матери, кто с компанией (вместе не страшно), кто в одиночку, в основном по ночам, тащиться в Африкановку. К тому времени садик перевели в Африкановку, где воздух почище и простора для деток побольше.
Бабы меняли остатки прежнего быта на молоко, драгоценные сливки или даже сметану, это кому уж как повезёт. А под утро назад. Заскочат в детсад, озираясь, передадут ночной сторожихе для своей Манечки или своего Петечки драгоценную ношу, и снова к станкам.
К чему привело?
Первое. К прекращению мира. Из ровной массы однородных серых людей выделяться стало неравенство: Манечке – сливки? А Петечке что, на кулак сопли мотать?
Во-вторых, женщины стали ругаться. Африкановские детишки и так были сытей других, а тут бабьё африкановское стало более богатеть за счёт пришлых товаров. Доставали заводские женщины последние довоенные вещи, что сберегались на память о доме, который где-то на Брянщине или Смоленщине немцы сожгли. Доставали, вздыхали, и относили в деревню. Здоровье дитяти, а то и жизнь её крохотулечки разве заменишь тряпкой иль чем там еще, пусть даже самым памятным из далёкого дома.
Сибирские села богаты, сильны. Суровая жизнь приучала выживать самых сильнейших. А раз село стояло издавна на тракте, значит, село богатело из-за купцов да проезжих. И ночью и днем тракт не пустел. Сновали людишки кто – на Москву, кто – из далёкой Москвы дальше по тракту в таёжные дебри. А что нужно проходившим по тракту? Свежее сено сытым коням, свежая пища себе. Ну там молочко, да сметанка, да мясцо оленина да кабанина, мясо косули да птицы любой. Тракт съедал всё.
За годы власти советской как-то всё это присмирело, затихло до лучших времен. Бедовать то не бедовали и при советской власти. Тайга и шишки давала, и оленину, а кому и косулей кому удалось подстрелить. Тогда лепили пельмени. Кстати, настоящий рецепт настоящих пельменей сибирских обязательно должен был в качестве составляющей содержать в равных пропорцияъ мясо свиньи, дикой или домашней, то было неважно. Затем обязательно мясо медведя. Его брали немного, но обязательно брали. А дальше можно было кидать мясо косули, зайца, а на самый худой конец и курятину. Но мясо медведя быть обязательно. О, это целый сибирско-таёжный выработан ритуал. Обычай пельменей достался сибирякам от местного люда, делившего добытого хозяина леса-медведя на всё стойбище. Пельмени, это ритуал пиршества таёжного люда по убитому хозяину этих мест. К вкусному лакомству приучили и русских. Обычаи сохранились. Правда, в войну становилось не до пельменей.
Ну, так вот. По крайней мере, село жило сытно, как на взгляд заводчан. А тут, раз повод представился, возродилась в селе жилка коммерческая: менять на вещички бабья заводчан на мясо, на молоко, на любые припасы. Молоко для обмена делалось так. Разливалось надоенное молоко по тарелкам иль мискам. Ставилось на мороз. Лютый холод сибирский схватывал влагу, и ровные кругляши замёрзшего молока становились товаром. А корова то что? Правильно, доится каждый день. Значит, еженощно от завода будут тянуться бабьи следы в Африкановку. Село не резиновое, а завод агромадный! Там бабья не переведётся: эшелоны от фронта шли на восток каждый день. Выгружались детишки, выгружались их мамки. В узелочке у каждой тряпьё. А тряпью то дорожка одна – в Африкановку. За малую жменечку сахара отдавали и крепдешины и крепжоржеты, беретики, бусы, жакетки, а то и трусы. Перепадало африкановским бабам даже мужское белье тонкое, офицерское. Шерстяное.
В третьих, и самых главных. От недосыпаний, от вечного голодания бабы стали слабеть. А это что значит?
Правильно. Резко упала производительность их труда. Отсюда стало меньше орудий, стало меньше боеприпасов. И запущенный механизм разрушения стал набирать обороты.
Сёмка в угаре своего генеральства (звание генерала присвоили недели как две) не замечал спускового крючка разрушения механизма. Пил, ел, встречал дорогих гостей из столицы. И рапортовал! Очень бодренько рапортовал про успехи. А когда принесли настоящие, объективные сводки, поначалу занервничал, но успокоился быстро. Отправил на фронт самых что ни на есть саботажников из мужчин, парочке женщин из буйных тоже пришил саботаж, и в лагеря!
Завод встряхануло, но не надолго. Механизм разрушения набирал обороты. Тогда Сёмка, по совету Лёвки да Демагога, прибегнул в крайнему способу приписать пару нулей в нужных отчетах. И успокоился вдругорядь.
В третий раз отчет приказал составить Варюхе, её ж обязал отправиться в центр, отчет предоставить в обком. Варька молча оделась. Под мышку пакет. Старый конюх запряг не менее древнюю кобылку. Варька тронулась в путь.
Время в пути было долгим, долгими были Варькины мысли. К обкому подкатили к тёмному вечеру. Здание освещено: все кабинеты работали. Варька робела, но всё же зашла в просторное помещение. Хмурые нквдэшники из охраны осмотрели пакет, показали дорогу. Но она заблудилась, и, встретив на этаже, третьем, что ли по счёту, седовласого дядьку, одетого по-сталински в полуфренч, спросила, куда отчет относить? Дядька спросил: «а ты девонька, откелева будешь?» Варька сказала, откуда. Тогда седовласый провел её к кабинету, на котором золотая табличка гласила: первый секретарь обкома такого-то. Зашёл с нею внутрь. Охрана привстала. Мужичок сказал им: сидите, сидите, эта – ко мне. И девушка поняла: во, попала, так попала! К Первому секретарю. Молча попыталась отдать бумажный пакет, в страхе подумав, а кто ж мне распишется на приёме отчета, ведь братец голову снимет, не пожалев.
Но Первый присел на край чёрной кожи дивана, жестом махнул: садись. И стал расспрашивать, как дела, как завод?
И тут Варька решилась. Бухнула прямо в лицо, сама того не ожидая: верните Петровича! Первый насторожился. Посмотрел прямо в глаза: «а ну-ка, красавица, давай всё по порядку».
И Варьку несло. И про отчёты про липовые, и про детсад, и про «директорские», и про заимку с пьяными нквдэдистами. Стала уже понимать, чем грозит ей такое признание: барачные люди для неё не новье. Женщин в бараках тоже хватало. Лагеря кромсали жизни людские, не брезгуя и детворой, не то что юной девицей.
Остановить себя не могла, слова сами вырывались из пересохшего горла. А потом разревелась. Наступила разрядка, да ещё столько не ела и не пила. Первый молча дал ей платок носовой, насквозь пропахший табачною пылью. Крошки от табака оставались у Варьки на ноздрях.
Первый почему-то засмеялся, увидев эти забавные крошки, как веснушки, желтевшие на красивеньком личике.
Потом уточнил: «а что, зам. Генерального точно твой брат»?
Варька кивнула.
Первый покачал седой головой: «ну и дела». Повторил, хлопнув себя по коленям руками: «ну и дела». И кнопку нажал.
Варьку покормили в обкомовском буфете, на дорожку дали ещё шоколадку.
Всю дорогу назад проспала. Старый конюх прикрыл овчинной дохой, девка пригрелась, только сопела. А конюх и рад: всё живая душа, хоть и спит. Кобылка не торопилась. Скудненький рацион не позволил рысью махать по сибирским просторам. Ладно, что ноги передвигала, таща за собой сани с людьми.
Прошло недельки так две или три.
Варька в заутренней рани бежала к заводу. Обогнала какого-то старичка, с трудом передвигавшего ноги, шутливо успела крикнуть ему: «дедуня, дорогу».
Помните начало истории? Так это как раз по теме рассказа, сейчас расскажу, что дальше было.
«Старик», пропуская Варюху, окунулся в сугроб.
Навстречу Варюшке шли двое мужчин. Варюха мужчин не боялась. Тропка к заводу людьми была кучна, охальников не водилось.
Давно, в раннем её девичестве, где-то через полгодика или год после насилья над нею, Варька брела по тайге: относила гостинчик Никитичны на заимку к болевшему егерю. Старый егерь наотрез отказался от сытого дома в селе, бедовал на заимке, страдая суставами. По доброте Никитична то сама, то через Варьку передавала ему травы да снедь. То свежий хлебушек испечёт, то ватрушечек наготовит. Проведают, жив ли, здоров ли, и снова в село, к обычным суетностям.
Так вот. Бредёт Варюшка домой. Пение птиц да стрекозы: такая в тайге благодать! Варька егеря понимала. Куда от такой красоты да покоя в суетность их села.
Трое выскочили из кустов, осклабились: девка сама напросилась им в руки. Варька окаменела. Остались живы только глаза. И эти два чёрных шара стали как прожигать мерзкие существа. Глаза разгорались, становились пустыми, стеклянными. Такими же страшными и жестокими, как глаза двоих мучителей, братца и Демагога. Из глаз, зрительно видно, шёл свет. Не тот нежный свет материнской любви, не трепетный свет первой любови. Чёрный свет чёрного пламени изрыгался из глаз на оробевших мужчин. Варька вроде как и стояла на зелёной тропинке, а вроде как и висела над нею. Мужиков взяла дрожь. Ничего, кроме глаз, они уже и не видели. Ни роскошных прядей из-под синего цвета платочка, ни тонкого стана, одни только очи.
Такой свет случается при пожаре. И страшно, и глаз не оторвать от буйного пламени, сжирающего всё и вся без разбору. Вырывается чёрный огонь, струится клубами, хватая своим языком то древесину, то глину, а то и живое из плоти и крови, скотинку какую иль человека.
Сколько так простояли, Варька не ведала. Очнулась уже близ села, когда одуревший от счастья тёплого дня ошалевший петух кукарекнул вовсе не к времени.
И не заметила Варька, что мужички, более чем её страшных глаз, забоялись вида старого егеря.
Стоял старый за тропкой, готовый к атаке.
Вы замечали, как люди неравны? Бывалоча, смотришь на играющих пацанов. Один истошно вопит, предлагая сразиться ну там в лапту, или в салки сыграть. А ватага не слушает тщетного «воеводу». Другой выйдет из дома, скажет «айда, пацаны на речку рыбу ловить». И вся орава несётся за лидером. Что там за божья отметина на лидерах, нам не понять, но лидер лидер и есть. Командир! Ватажок, атаман!
Вот таким командиром и был старый егерь. Уж и стар, и вроде бы немощен. Но былая стать да вечная удаль, и, что самое главное, то решимость по достоинству оценитьбудущий «подвиг» тех удальцов, что явно были из Выселок, выдавала в нём ватажка. Атамана.
Ружьё у старого егеря никто не видал. Может, и было ружьишко, раз по должности полагалась, по егерской службе. Давно, при царизме, когда приблудился, осел на заимке, потаскали его по участкам. Полицейские долго мучили: кто да откуда? По выправке на офицера похож, в целом видно – порода, как тогда говорили. Дворянская косточка, пусть и без спеси, и без французского языка.
Урядник был далеко не дурак. Дурак он в сибирской тайге не долго протянет. Ума-разума много набраться надо по должности, раз Сибирь велика, да народец в ней разный. И ссыльных дворян тоже хватало. Сегодня ты ссыльный, а завтра, Бог весть, под амнистию попадешь, да в Петербург – по начальству. Обидишь такого и головы не сносить.
Богата Сибирь и разночинцами. Их тоже ссылала царская власть, рассыпая по тракту, по далёким подворьям. Эти были попроще, этих урядник не жаловал. Под амнистию разночинный народ едва ль попадал.
Но прижившийся на дальней заимке на разночинца явно не походил ни статью, ни говором, ни всем своим поведеньем. А когда урядник увидел божничку, где одиноко стояла старым-стара иконка с ликом Матери Пресвятой да Божьим младенцем на тонких руках, перекрестился, пошёл на попят. Послал по начальству нужную бумагу, получили согласие, и стал странный беглец егерем. А егерю что? Егерю оружие полагалось. Полагаться то полагалось, да не досталось. Не рискнул, побоялся урядник отдать в руки странного человека весомейший аргумент. Чем тот пропитание добывал? Силки ставил, рыбу ловил. Когда косулю найдёт, когда зайца поймает. Богата тайга орехом кедровым, разнотравьем каким, ягодами да грибами. Не пропадёт. И не пропал.
А, бывало, не только Никитична потчевала отшельника снедью. Как-то само повелось да проведалось по народу, что может таёжный жилец и лечить, и от опасности предостеречь.
То заплутавшего по сибирской метели охотника отогреет, отпоит снадобьем-варевом. Вылечит, не спрося ни имени ни фамилии. То мальцов-огольцов, бивших шишки кедровые, заставит слезть с дерева: опасно! Сгонит, отбежит пацанва, недовольная таким поведением хозяина леса. Как вдруг будто очень крепкое дерево похилится, наклонится, и с треском ложится на земь, круша молодые деревца.
Вроде вещи простые: знает таёжный жилец разные травы, потому и лечил. Увидел цепким намётанным взглядом, что дерево наклонилось, и вот-вот может рухнуть, и отогнал пацанов. Да молва по тайге, по селу да по Выселкам понеслась: непростой поселился сиделец на старой заимке, ох, не простой. Эва, сколько лет прозябает, а не сдох от мороза, не сгрыз его шатуном бродивший медведь, не ломал руки-ноги о коряги да сучья. Странный жилец глухомани таёжной, очень странный. Вылечит, а за работу ни хлеба краюху не просит, ни спасибо сказать, ни кланяться не велит. Пацанва, которую отогнал, за дразнилки да брошенный камень не наказал. Усмехнулся в бородку, и всё. Но добреньким не был. Это чувствовалось.
Вот и теперь. Стоит позаду Варьки-девчонки, чуть вперед корпусом наклонился, сжал руки в кулак, а кажется, что в рукаве то ли нож, то ли сабелька.
Перетрухнули трусы из Выселок, на всяк такой случай и дали они стрекача.
Ну и Варька спокойно домой добралась.
Никитична только молча посмотрела на Варьку, и снова стала отпаивать отроковицу каким-то отваром, и сновашептала над ней монотонные фразы, клонившие в сон. Варьке сквозь вату сна слышалось тихое: «Отче наш, иже еси…»
Какой такой отче, когда Варька отца своего знать и не знала, ведомого о нем ни разу не слыхивала. Мать тайну рождения дочери хранила на самом дне своего чёрного сердца.
Но переспросить Никитичну не осмелилась, сон убаюкал.
Не прошло и полгода, как по зиме мужичка из соседней деревни шатун задрал насмерть. Потом горе другое случилось в той деревушке: завалило бревном крепкого мужика. Третий утонул в половодье. Все смерти были случайны, но Никитична стала смотреть на Варьку как-то иначе. Без укоризны, но с тайным каким состраданием, что ли?
А живая молва приписала Варюхе все эти смерти. Народное мнение не могло опровергнуть ни пьяную удаль вышедшего в половодье на утлой лодчонке ухаря из деревеньки. Ни то обстоятельство, что мужичок, ну тот, которого завалило бревном, был только не в стелечку пьян. Молва всё твердила: пьяного Бог боронит. А тут раз! – и вдруг завалило! Ну, а про медведя-шатуна в местности давно слыхом не слыхивали, видом не видывали. А тут, на тебе, объявился. И не стал по медвежьей шатунской привычке новые жертвы искать, а пропал, будто не был.
Деревушка тех охальников-мужиков была вовсе и не деревней. Так себе, выселки. При старом режиме селили там всякую нечисть, отщепенцев села. Народ изгонял от себя разных изгоев: ворьё, насильников да жутко ленивых.
Выселки всё равно разрастались. Прибивался к ним люд, одинаково мерзкий. Выжимки из тайги кучковались, бесились, творя всякий грех.
Когда пропадала в селе борона или корова, или ещё какая пропажа случалась, народ собирался. На клич выезжали казаки. Окружались те выселки, и вора секли среди схода. Казаки секли, себя не жалея. Отрабатывали гонорар на славу, на совесть. Если кто выживал, надолго запоминал свист нагайки. Но выселки не исправлялись: били не каждого, и не всегда. Иногда вора не находили, особенно если скотина пропала. Тайга велика, медведь мог задрать или волки. Ну, борона, или седло, то, конечно, вещдоки. За них и пороли. И выселки становились поосторожней. Кучковались по двое, пр трое. Добычу старались сплавить мгновенно. А уж проверенный сбытчик способы находил, как потерянное (то есть сворованное) по тракту спустить.
Вот и понадеялись трое охальничков на легкость добычи. Девка одна, вокруг ни души. Потешатся да убьют, а вечно голодные волки и лисы тело растащат по норам. Поди, разыщи пропавшую девку.
Забубённые Выселки верили в чёрта больше чем в Бога, а потому встреча с Варюхой казалась им встречей с ведьмой, да ещё и какой. Мало-помалу, по пьяни растрезвонили о встрече с летающей ведьмой. А молва подхватила. О старом егере, знамо, помалкивали. Каково про себя, про трусость свою рассказать, что втроём не сладили с одиноким убогим?
И хоть Варька красива, хоть мужики и местная молодежь мимо окон Никитичны табунами ходили, а вот свататься – ни один. А Варька не горевала: подумаешь, женихи. Рановато ей было, думалось, о парнях грёзы строить, ночную подушку слезьми обливать. Ей хватило на всю её жизнь братца-урода и Демагога, да тех троих, что такими же были.
А тут и война, стало вовсе не до мужиков. В военную пору у серой массы людей остается инстинкт самый главный – самосохранения. Нужно было выжить при ноющем вечно желудке, поспать, не говоря про отоспаться. Не до интереса к полу другому. И женщины и мужчины, одинаковы в серых валенках, в серых ватниках с серыми лицами становились серы и в притязаниях к сексу.
Пробить эту серость могла только любовь, и только любовь. Но глушилось и это победное чувство: война!
Нет, сёмки и лёвки, всякая сытая шелупонь находила себе развлечения. Но Бог начисто и навсегда лишал их любви. Потому и бесились твари людские, мучая всех на своем поганом пути: свет теплой любови марится всем. Да даётся не каждому. Вот и мстят лёвки да сёмки остальным, чистым, за нечистое свое естество, за грязную душу.
И пусть Сёмкина мать вбила в голову сына, что любви не бывает, что мужчинки ей надобны для безудержья ласок да для безбедного существования. Сёмка он не дурка, Сёмка то видел, как мать смотрит на соседского Алексея. Как меняется голос, от матери даже пахло совсем по иному, когда проходил Алексей. Свет другой в глазах появлялся, менялась даже походка. Мать становилась вовсе иная, чем когда зазывала мужчин, поводила глазами, бедрами щекотала взгляды мужчин, притворно вздыхала, высоко поднимая и без того высокую грудь. Мужики велись, как младенцы. Млели, мечтая припасть к тёплым соскам. И дровишек наколят, и воды нанесут, и шишек таёжных из леса подбросят, да и Сёмке гостинцев отвалят от щедрости блуда.
Но при Алёшке мать становилась по странному тихой, покорной, как ни странно звучит, почти чистой. И это Сёмку пугало. По-настоящему.
Потому ненавидел соседа до капельки до последней чёрной жижи чёрной душонки. Если бы мать ненавидела соседского наглеца, упросил бы свести по тихой в могилу, как извела когда-то младенца Алёшки. Но понимал, мать Алёшку не тронет. А соседку Никитичну мать так просто боится.
И потому нужно было действовать самому. Самому пробиваться в начальство. Алёшкин путь труден: учиться, ходить в драных штанах, голодать в чужом городе. Сёмке хватило семь классов. По тем временам семь классов – дело большое. В селе была семилетка (село-то большое!). Среднюю школу заканчивать надобно было иль в городах или идти в «ремеслуху», как делал Алёшка.
Уж если в государстве маршалы Будённый и Ворошилов едва трёхлетку заканчивали, то семь классов вовсе было неплохо для молодого красавца. И Сёмка впрягся в работу: делать себя. Где тишком, где ползком, где через сладкие женские речи (многие подушки жёнушек из начальства знавали Сёмкину голову), где через собственное краснобайство и лесть лез Сёмка, пёрся наверх.
Ах, как кстати случилась война! Война открыла Сёмке дорогу. Не тропинку, а целый тракт – шагай, не хочу. Мужиков забирали на фронт. Туда была дорога и Сёмке, но дочь военкома (очередная жертва его красноречия) добилась слезами у папки отсрочки. А как Сёмушка миленький встал на завод, какой уж тут фронт. Завод приписали к военным объектам, и стал жировать оскотевший детина. С Лёвкой, директором Военторга, делили крепдешины, шелка, ковры и тушёнку. А от себя мог послать в столицу очень нужному человечку «скромный» подарок. Так, безделушку: шишек кедровых, масла таёжного, что бьется из этих шишек, мёда лесного. Вроде пустяк, а трогал столичных: запоминали подарочки.
И невдомек было Сёмке, что отвар из шишечек этих спасал ленинградцев. Витаминный удар поднимал умиравших, медком отпаивали детишек да старичков. В столичной семье гостинчики были в радость. Ну, а масло кедровое подносили высоким людишкам из самого из начальства.
Война меняла приоритеты ценностей: алмазы, рубины не витамины. Не съешь, не проглотишь, хоть жменями их греби.
А уж когда корешок из самого ведомства Берии подсобил стать замом самого Генерального, Сёмка от счастья запил на неделю.
Пусть Генеральный зубами скрипел, только головою покачивал на безудержье зама. Да куда Генеральному спрятаться от ока НКВД. Терпел, старался не соприкасаться. А Сёмка тому только рад да радёхонек. Торчать в грязных холодных, голодных цехах радости мало и без того, как поставят на смех грамотнющие люди, если вздумает Сёмка учить уму-разуму сталевара-токаря-кузнеца, да грамотную профессуру.
Сферы влияния на завод определились по молчаливому сговору. Генеральному досталась работа, а Сёмке – рапортовать.
Ах, как бодренько рапортовал по начальству доклады. Ночами не спал, бдел денно и нощно. Рапортовал, стелился перед начальством. Как сам себе говорил, «двигал прогресс».
Сестрица ему не мешала. Эта дура умела молчать, а потому была даже удобна. Многие военпреды, завидев Варюху, маслили глазки, а как узнавали, что эта красавица Сёмке не ППЖ (походно-полевая жена), а родная сеструха, расцветали, и просто за так могли подписать нужные Сёмке бумаги.
Ну, а как забрали Петровича, Сёмка был далеко не дурак, научился к тому понимать, кто да за что отвечает в цехах, в управлении, и стал драть с людишек только что не живьём шкуры за малейший промах-огрех.
Ну, так вот…
Это мы как бы опять вернулись как бы к началу.
Старик молча сунулся после окрика Варьки в сугроб. Двое встречных прохожих минули. Варька неслась к проходной. Вахта завода молча проверила пропуск. Варька понеслась дальше, к темневшему управлению.
Сутки гремевший завод озарял багровьём всю округу, и здание управления своей темнотой в общий ритм не вписалось. Только тускло светлело окно проходной в управлении. Варька бегом слово «здрасьте». Тут пропуск другой, специальный, показала охране. Засунула пропуск в карман кителя-пиджачка, на ходу подыскала ключи от приемной, открыла бегом и вздохнула – успела. Хриплый бой старых часов показал: успела ты, девонька.
Скоро стало сереть. Звёзды ночные перестали шептаться, круглый диск солнца своей багротой сравнялся с багрянцем цехов. Утро. Пора собираться летучке.
Варька успела прибрать в кабинете у брата. Точнее, в кабинете у Генерального. Вымела пол, постирала пыль с фикуса. Графинчик с водой на окошко поставила. Братец любил фикус свой поливать строго самостоятельно, картинно рисуясь перед каким-либо посетителем: «всё сам везде сам, вот, некому даже цветочек полить».
Пока подметала, выгребала окурки, в предбаннике стал невнятный слышаться говор сошедшихся на летучку людей. Варька не беспокоилась за предбанник. Вечно дежуривший нквэдист строго следил за порядком, и люди при нем в предбаннике вели себя тихо, чинно ведя разговоры про сибирский морозец.
Про работу речь не вели: остерегались даже в приёмной у Генерального. Недаром в кабинетах, в цехах весели вечно плакаты, о том, что болтун, то находка для шпиона. «Серые ватники» единым запахом да табаком засмердили предбанник, Варька поторопилась форточку открывать, на ходу весело здороваясь с прибывавшим народом. Кто-то уж стал ей подсоблять, пытаясь открыть насквозь промерзший отвор, как необычный шумок отвлёк внимание как и её, так и старательного подсобителя.
Возгласы были странно настороженно-радостными, слишком уж необычными, что ли. Варька отставила стул, с которого спрыгнул радетель за свежий воздух, повернулась ко входу. Люди кружком обступили одного из «серых ватников». Прибывавшие ко входу в приёмной напирали на них. А те не расступались, не пятились. Возгласы сдержанной радости шли именно от этой кучки столпившихся. Варька сделала было шажок вперёд, как остановил громкий начальственно-бархатный баритон заместителя Генерального.
Сёмка как раз вернулся с заимки, устало счастливый и радостный от утех и попойки. За ним холуи семенили гуськом, стараясь никак не опередить главного «принца». Между собой холуйва называла Сёмку именно так с разным оттенком, от пренебрежительного до подобострастного.
«Что тут такое, товарищи?» Сёмка грудью пошёл на стоявших кучком.
Те расступились, оборвав рукопожатия. В середине их круга на паркетном полу одиноко остался стоять невзрачный, худой до того, что ватник висел на плечах, ну ровно как на пугале в огороде, мужичок. Стылая бородёнка, отросшая, видно, за время дороги, седая щетина отраставших волос, лёгкая кривизна худых ног, и в пол-лица синие брызги радостных глаз.
Так вернулся к себе Генеральный.
Надтреснутый шепелявый (тройки-пары зубов во рту не хватало), но уверенный голос сказал: «проходите, товарищи, в кабинет». И добавил: «Приказ придет позже, с нарочным».
Варька так и осталась торчком, как будто столбняк девку хватил. Генеральный, пропуская людей в кабинет, задержался, шутливо сказал: «чайку, внучка, подай».
Шутливое «внучка» полыхнуло пламенем на щеках Варьки. Мигом дошло, как какого-такого дедуню просила сойти с проторенной дороги. Не удержусь, но скажу почти некрасиво: от стыда девушка чуть ли не обмочилась.
Проходившие в кабинет молчаливо, как сговорясь, огибали дугой заместителя Генерального. Свита его мигом сдулась, как сквозняком из наконец-то открывшейся форточки, на просторы пустых коридоров. Теперь уже Сёмка одиноко стоял посредине приемной. С бурок стекала снежная пыль, создавая два маленьких озерца чистой воды на паркете. Сёмка враз меньше стал ростом и похудел, плечи ссутулились, облегавший пузико френч и тот стал худеть: пузико Семки на глазах уменьшалось в объеме.
Варька кинулась мимо брата по воду, ставить пузатый объёмный алюминиевый чайник в каптёрке на вахте.
Братец злость умудрился сорвать только на Варьке. От подножки его она хряпнулась головой о бетон стены коридора. Но даже мигом вскочившая шишка настроение не изменило. Варька летела, будто крыльями хлопала за спиной.
Просторный холл управления был до отказа заполнен народом. Молча стоял разношерстный народ. «Серые ватники» откуда то мигом прознали, что вернулся вроде назад Генеральный. Стояли молча, с одинаковым взглядом надежды. Головы всех повернуты к верхним ступеням новой мраморной лестницы. Очередная Сёмкина блажь – сделать свое управление солидным. И по прихоти «принца» зэки из политических сотворили мраморный вход, обукрасив чугунным перилом. Поговаривали, что и мрамор, и перила чугунные привезли спецэшелоном из какого-то Дворца пионеров, то ли из Брянска, то ли из Мурома. В середине портала мраморный бюст товарища Сталина. Мимо него все и всегда проходили на цыпочках. Если бы в здание пропускали пионеров, салютовали бы усатой той голове.
Летевшая вниз Варькина стать вызвала вздох единенный: «ну?». На что девушка радостно закивала: «пришёл, правда, правда, пришёл, приказ будет позже, с нарочным».
Через полминуты холл опустел. Люди бежали в цеха, в управления. Гонцы возвращались в цеха с вестью счастливой.
Сёмку с поплечниками забрали тоже в ночи. Прям на заимке.
Подъехали розвальни-сани, крыты соломой. Побросали на них пьяных до синего угара молодцов. Те поначалу даже не поняли, что с ними стало. Ещё и хохотали на свежем морозце, добавив порцию пьяного воздуха в лёгкие. Поначалу подумалось, что «принцу» пришла в голову забава из новых: прокатиться по свежему ветерку, как не раз уж бывало, повытаскивать из бараков сонных узниц. И назад на заимку, с гоготом закрывая тем рты.
Первым опамятался дружбан из ведомства Берии. Стал выхватывать из несуществующей кобуры (захватили то прямо в исподнем) свой пистолет. Но приклада удар остудил его норов. С полупьяни да пьяни не все заметили жест конвоира, как по сигналу из первых саней удары посыпались по пьяным телам разжиревших подручных, Сёмкиных братанов.
Сёмку не трогали, но тот вздрагивал каждый раз, как поднимались приклады над головами то лёвки, то бериевского дружбана, то остальных тихо визжавших его сотоварищей.
Белая ткань белых исподних краснела полосками и рвалась. Клочья белья веерами метались, остужая рваное тело.
Били привычно, без злобы, без устали. Тренировались, нарабатывая навык и мощность ударов. Бить нужды никакой не было. Знали, что каждый из визжавших в санях расскажет под протокол про себя и про Лёвку, про Сёмку, и не забудет замазать грехом человек так пятнадцать в расчёте на милость, на хлеба кусок или баланду.
Сани ровным намётом неслись, миновали завод.
К городу Сёмка не дожил: умер со страха! Заячье сердце не вынесло волчьей напасти, и дёрнулось сердце. И клапан закрылся.
Чекист только плюнул в сердцах, увидев его околевшее тело.
Доложил по команде. Вскрытие произвели, и опытный врач из застенков подтвердил: клапан митральный подвёл на почве внезапного стресса на фоне алкогольной интоксикации. Мудрёный диагноз занесли куда было надо, и дело вместе с телом списали в архив.
Мамаша влетела в приёмную. Волосы в простоволось, без платка, капельки пота стекали на шею. Ватник на пол, платок кинула рядом, и к Варьке – где сын? Варька аж отступила от наседавшей мамаши. Та обезумела, пена из рта, руки трясутся, взгляд встал.
«Ненавижу тебя, ненавижу, всё никак сдохнуть не можешь, гадюка!» Проклятья неслись Варьке в лицо, как булыжные камни.
Еле руки её оторвал от Варькиной шеи охранник. И то, пока сзади подсечку бабе не сделал, и та от того не упала, не успокоилась б, стерва. Мать остановила свой чёрный взгляд на охраннике. Тот только поёжился, и она вылетела из приёмной.
Варька молча вытерла слезы. Охранник, как только мамашка вылетела из приемной, снова поёжился, да привычно присел у окна.
За окнами вечерело. Сонное солнце обещало красивый закат, круглым блином розовея по небу. Мороз ослабел, и лёгкие с удовольствием вдыхали свежий воздух набегавшей весны.
Как вдруг неожиданно погода завыла. Такого бурана не видели даже сибиряки. Ветер выл, хохотал, набирал обороты. Шутка ли дело, единственный раз в эту ночь не вышли составы с завода, так ветер кидал что людей, что вагоны. Подмял и согнул даже башенный кран. Из цехов никто не смел и носа высунуть на простор заводской, мигом бы закрутило в «отвёртку». Громадные ворота цехов казались жестянкой, так ветер кидал свою силу. А на одном из цехов, где зазевались, сорвало ворота. С грохотом падали вниз, прибивая и снег, и стоявшие у входа машины. Ветер, ослабший, гулял по цеху, и горячий цех становился быстро цехом холодным.
Ветер взял в помощь снежную силу, и клочья бурана стали носиться по заводскому подворью.
Ветер двигался как-то странно, крутил от завода к селу. В дальней дали мерцали звёздочки слабо. Косая синь луны выхватывала даль стоявших лесов. Их буран не коснулся. Ветер двигался к кладбищу, что затерялось в снежной пыли за африкановским луговьём. Настигнул село, и буран завыл по просторам подворий. Жались, вжимались коровы к стене. Овцы в кошарах покорно легли. Собаки скрывались под крыльцами, вырываясь с цепи конуры. Ветер носил по селу то сено, почти что стогами. То, вырывая столбы у ворот, стучал и столбами, и самими воротами то по избам, то по клетям со скотиной. С пары домов полетели и крыши.
Печи в домах моментально застыли. Ветер задувал тёплый дым назад, и горькая сажа клубьём стала виться по избам. Ветер стучал в каждую избу, и избы от страха тряслись: такого давно не бывало. Старожилы потом вспоминали, что ветер такой был тогда, когда умирала старая бабка Варькиной матери. Тогда ветер снёс крышу избенки, и только после того бабка преставилась. А то не умирала неделю: ругалась, плевалась, понося всех святых. Но то было давно, ещё при царизме.
А бурану-пурге наплевать, царизм то или советская власть: разгулялся на славу. Вырвавшись на свободу из плена цехов, ветер крепчал, взметая снежную пыль почти что до неба. Африкановку занесло: где дороги или избы, где тракт или дорожка в тайгу, не понять, не видать. Ветер разносил сугробы, игрался: нахлобучит сугроб на дорогу, и не поймёшь, изба то или сарай. А то понесёт стог сена в снежной пыли, и посреди поля встанет, как вкопанный и торчит стог покосившейся пирамидкой.
Добрался до кладбища дикий буран. Кресты над покоем лежавших носил будто спички, землю с могил поднимал вместе со снегом – воевал! И, если б кто видел картину снежной войны, то сильно бы поразился. В самом центре бурана неслось над землей человеческое существо. Ведьма летала, махала руками, как крыльями вороньё, хохотала, кричала, и голос поднимался наверх с клочьем тумана: «верните мне сына!».
Побуранило да попаскудило над кладбищем, и ветер понес ведьму далее в степь. Руками пыталась вцепиться в надгробья могил, но ветер отрывал от могильников, гнал её дальше.
Мало-помалу холод обвил её тело. Платок сдуло ещё на заводе, и седые клочья волос сравнялись с клочьем бурана. Вата из куртки лезла наружу. И ветер сдувал вату, ровно как пух. Где-то на кладбище потеряла один валенок.
Остывал её пыл, остывало и тело. И, странно, через снег, попадавший в горло и нос, в ноздри протекал аромат шоколада. Горько-сладкий запах раздувал тонкие ноздри, добавляя ей злости: «Варька, подлюка, матери пожалела плиточку шоколада!» Сыпала проклятиями и на село, и на Варюху, и на Никитичну, и на Сталина самого. Хохотала, кружилась в странном танце безумия.
Холода не ощущала.
Внезапно в головушке трезвой мыслью бухнуло: «Три». И содрогнулась. И онемела. И околела в буранной степи.
Так и нашли по весне околевшую, без платка, в одном только валенке. С надкусанной плиткой чёрного шоколада в кармане ватника. На кладбище по молчаливому сговору не хоронили. Там же, в степи, наскоро вырыли яму, бросили в талую землю остывшее тело. Забросали землей. Ни креста, ни звёздочки, ни даже жердиночки с номером над могилой.
Люди старались стороночкой обходить то местечко: приметное было. Росли там крапива да чертополох да расторопша выше двух метров. Не ошибётся никто: странное место. Ровным кружочком росли заросли расторопши, бросая колючки свои по степи. Крапива жалила людям ноги босые, да чертополох колючки вонзал.
Варька весь день и весь вечер гоняла в больной голове мамкины «поздравления», и крутилось одно: «за что мне, за что»?
Готовила чай, относила бумаги по кабинетам, шутила, пыль протирала, печатала сверхсрочные и сверхнужные всем бумаги, а в голове крутилось, как пластинка, крутилось: за что?
Обрывками памяти раннее детство. Мать, подоив козу Изабеллу (нарочно назвала, так дразнила село), несёт крыночку с дымящимся молочком. Трёхлетняя дочка бежит, спотыкается вслед за мамашей. Та, полушутливо, полугрозя повторяя: «кто-то молочко будет пить, а кто-то посматривать», шаг не сбавляя, проходит в чистую избу.
Там уже Сёмка ломает свеженький каравай, мать наливает в две кружки жирное молочко. Первым пьет Сёмка, с наслаждением рукавом вытирает лицо, белые усики исчезают. Затем напивается мать.
Девчонкины большие глаза наливаются свежей и чистой слезой. Не отрываясь следит, как пьёт братец и мать. Мать, брезгливо смотря на малышку, забеливает чай оставшимся молочком, подает чаёк дочери. А та и радешенька тёплому чаю да солоноватому хлеба куску.
А то Варька могла остаться вовсе без чая: братец мог выпить всё молоко, и Варькины слезы капали на лопухи за избёнкой. Выкатится из избы, проскользнёт к своему тайному месту, наплачется там и уснет. Большие зеленые лопухи накроют девчушку, колышет их ветерок, принося успокоение.
Соседки из сердобольных (немало известно, что лучше соседей о нас никто не расскажет, даже мы сами), покормят бедняжку. Кто сладость морковки преподнесёт, кто от души даст стакан молока от коровы, кто шанежки испечёт, и для полсиротинки оставит. Про шанежки – это Никитична. Или сама или Алёшка найдут в лопухах (коли дело летом случается), а зимой постучатся в оконце, занесут к себе избу. Алёшка подхватит девчушку, покружит. Та от счастья визжит. Занесёт сосед в избу чистую, посадит за стол. А что есть на столе небогатом, тем и поделятся.
Так и питалась Варюшка от жалости бабьей села. А мать и радешенька. Гора с плеч, как девчонка из дома.
В доме Никитичны вечная толкотня. К Алёшке мальчишки залетают гурьбой по страшно таким важным пацаньим проделкам: то кататься на санках, то в тайгу за орехом сорвутся, а то сядут уроки творить. Толкотня!
И девочки Никитичны частые гости. Кто на коклюшках учится кружевам, кто на пяльцах старается овладевать бабьей наукой, кто учится шить или вязать вечное бабское рукоделье.
А Никитична сядет за стол, книгу откроет и сказки читает. К тому времени разрешили детворе слушать сказки, прекратили считать их буржуазным хламьём. Мальчишки и те попритихнут, как скоро садится Никитична, накрываясь пуховым платком. Старенький плат аккуратно подштопан, поднавязаны кружева, и чистый уют струится от движений старухи. Детворе Никитична казалась очень древней старухой, ей явно было больше, чем тридцать годов. Чистый голос читает то про царевен да про царей Салтана, Дадона, то про витязей-богатырей, про Руслана с Людмилой.
«Несёт меня лиса за синие леса…». Как сейчас, слышится Вареньке старая добрая сказка про избавителя, всегда верного, всегда рядом, всегда доброго.
Из детства сказочный персонаж доброты и спасения плавно переходил в отрочества грёзы. Избавитель, это Алёшка, которого трёхлетняя девочка первая назвала когда-то Петровичем. Забавный лепет «Алёска» дети высмеяли в голос, и девчушка перешла на «Петровича», четко выговаривая букву «р».
Как ни гостюй, как там ни хорошо у Никитичны да у Алёшки, но ночевала Варенька всегда дома. Для ребёнка мать, какая там никакая, она мать, любимая до самоотдачи. Не замечает дитя ни скудости бытия, ни грязного пола, ни вечной груды грязных тарелок на краю стола. Тянется девочка к матери, тянется, тянется. А в ответ? «Чтоб ты сдохла, проклятая»!
Тёплые руки Никитичны волосы приберут, косички сплетут, молочко поднесут. А мать всё же милее, раз она мать.
За что мне, за что? На давний вопрос ответа ей не было.
А уж после того дикого случая, когда ей было всего лишь двенадцать, ответа уже не ждала. Плёнкою льда покрылось сердечко. А мозг ответа искал: за что же, за что так её мать возненавидела.
И невдомёк красавице-девке, что мать, ни разу никому не сказавшая от кого понесла свою девочку, видела в ней изначально соперницу.
Варьке не было и полгода, как мать стала взгляды кидать на соседа-юнца. Безусый подросток, не совсем уж и взрачный на вид (от слова «взор»), чистыми синими брызгами чистых невинных глаз притянул видавшую виды бабёнку. Как уж она обихаживала паренька! Как старалась! Весь арсенал запустила, все чары.
Отработанный до автоматизма приём приворожения не сработал.
Как-то раз зазвала паренька к себе в гости под самым на что благовидным предлогом: дровец нарубить. Паренек постарался: до пота работал. В избу зазвала чайком напоить соседа уставшего. Никитична где-то была на побывках, и такой случай удобный нельзя упустить. За сладкими разговорами наливала чаёк, осторожно в густую заварку бросила зелье, поднесла гостю стакан.
А только Алёшка поднес стакан к пересохшим губам, заревела Варюха. Децибелы младенчества ора глушили. Мать бросилась ко дитяти: младенец требовал есть.
Стыдливый Алешка из хаты исчез. Наскоро покормила младенца, перепеленала, коротенько так обернулась, а Алёшки в хате уже и не видно. Кинулась на крыльцо, вдогонку Алёшке про чай. Тот на ходу обернулся: «спасибо, мол, тётя! Потом…»
Резануло ухо про тётю, повернулась в избу, и злость перекинулась на младенца. Из-за неё, этой младшенькой, упустила такого. Невинного, а от того более сладкого, паренька. Из-за этой девчонки, что, слышь как угукает за занавеской, слюни пускает.
Сколько потом ни старалась соседка заманить паренька к себе в избу, тот ни в какую. От дел не отказывался, и дровишек нарубит, и воды принесёт. А в избу старался ногой не ступать, инстинктивно чувствуя опасение.
Видел, конечно же, замечал соседкино обихаживание, но как-то противны были ему зрелой женщины липкие взгляды. Противно спине ощущать, как смотрела она на него, рубавшего на старой колоде дрова, как раздувались тонкие ноздри, когда подходила ближе к нему подобрать щепки, поленья, как вертела полными бёдрами. Особенно чёрный взгляд чёрных глаз будто дёгтем мазал по телу. И воняет тот дёготь и жжёт липкой чёрной своей полужижей. Мутными становились глазищи соседки, как будто в чистый колодец бросили мусор, и скрывается чистое зеркало пресных вод от глаза дурного.
Вот у Варюшки тоже очи огромны. Но большие глаза смотрели так чисто, наивно на окружающий мир. Любопытство ребенка наивно и чисто. Поднимет глазищи, и спросит: «Петрович, а сколько у кошки глазов? А почему это Изабелла котят не приносит, а только козлят? А почему Демагог с моей мамкой ночует?».
Варькина мать вроде должна только радостней быть от неотлучной дружбы ребёнка с полюбившимся ей пареньком. Через ребенка лапищи свои легче к нему протянуть, а мать – в ревность!
Смастерил как-то Алёшка, ну, уж если быть совсем откровенным, не сам смастерил, а вместе с егерем, деревянную куклу. Пришли с Никитичной от заимки, развернули тряпицу, Алёшка дал в руки ребёнка забаву. Отдавало дерево запахом чистоты. Желтизна тела куклы, чернота больших глаз (самое долгое и трудное было для мастеров сотворить кукле глазки, такие же большие и чёрные, как у Варюшки) для взрослых – забава, для ребёнка – целая жизнь. Ребенок аж задохнулся от счастья. Молчит Варька, куклу прижала, глазищи слезами полны. Алёшка сам счастлив, что угодил.
Опомнилась девочка, понеслась за Никитичной в избу, споткнувшись босыми ножонками о порог. Но куклу не упустила. «Никитична, куколка голая, давай платьишко шить».
Набежали подружки, затискали куколку, и понеслась: кто чепчик для куколки вяжет, кто сарафан мастерит, а Алёшка выточил крохотные сапожки. А девчонки требуют уже и посудку им источить, и даже ложечку расписную.
Забавы хватило подружкам на день.
К вечеру мать спохватилась, пошла за ребёнком в надежде пересечься с заветным соседом.
Девчонки гурьбой играли у лопухов, кормили куклу обедом. Ни Никитичны, ни Алёшки во дворе не видать.
Варенька, заигравшись, как раз произносила: «вот, несу молочко, кто будет то молочко мое пить, а кто и посматривать…». Подружки на детский лепет совсем без вниманья: нужно постельку куколке соорудить, нужно из глины разбитый горшочек слепить воедино. Им не до смысла речей пятилетки.
Цепкие руки выхватили куклу из лапок ребенка. Крохотная головка вместе с надетым на неё розовым чепчиком полетела в даль лопухов, сама кукла полетела в крапиву.
Подружки хором, как сговорились, реветь! Варька едва трепыхалась в лапищах у матери. Чёрные очи в озёрах слезищ. А мать с разворотом свободной ладонью ей – раз, по губам!
Разбежались девчонки, бежали по избам, неся своё детское горе по мамкам да бабкам.
А куклу потом Алёшка таки достал из крапивы. Выточил новую голову и клеем столярным приклеил к тельцу из дерева. Варенька прятала куклу от матери и Семёна, как только могла: в своих лопухах, у Никитичны в сенях, у Алёшки в портфеле сховала однажды. Вот смеху в классе то было, когда он из сумки достал вместо тетради и карандаша детскую куклу. Вместе с классом смеялся мальчишка до колик.
Тельце куколки почернело со временем, трещинки по тельцу пошли, голову не раз приходилось клеить снова и снова. Но сапожки держались на крохотных ножках, и Варька красила их то синим, то красным, слюнявя карандаши.
После того, как мать вырвала куклу, Алёшка совсем не взлюбил тётку-соседку. По детски обидно было ему вспоминать, как куколку он вытачивал под надзором старого егеря, как куколка сохла, как искали состав для черноты чёрных глаз, как не давалась головка. Пальцы себе источил, добиваясь округлости формы.
Сам чуть не плакал, нет, не от крапивы, доставая куклу из гущи травы. Обида жгла очи: за что такая немилость к ребёнку?
И чёрная кошка обиды на соседку-мегеру не давала даже малейшей возможности ко сближению.
А у матери вновь виновата девчонка. Из-за неё вновь соседушка смотрит волчонком.
Пыталась вызвать на ревность. Табунками мужичонки ходили в избу, а сосед только брезгливо взгляд отворачивал.
Многолетняя борьба нравов не давала матери Варьки спокойно заснуть. И не понять, была то любовь или крайняя степень гордыни. Все мужички были рады-радешеньки переночевать с красавицей-ведьмой, а невинный парнишка пренебрёг, отказавшись от эдакой чести.
А уж когда Алёшка женился, да родили малютку, лютая ярость застила ей разум.
Ночной приворот не помог, так поможет зла процедура иная.
И стих младенец навеки, а Алёшка снова взгляд отводил. А тут ещё Никитична пороху в огонь сыпанула там, на похоронах.
А Варька здесь то при чём, спросите вы? А подрастала деваха, вот-вот станет красавицей. Куда её матери деться? В расход? А чем тогда жить? Чем унимать буйство плоти, грызшее изнутри еженощно? Зачем ей обуза, эта треклятая тварь?
И подпоила сыночка зельем злосчастным, заодно отравы хлебнул Демагог. И понеслась оргия чёрного в надежде власти над светлым.
Только страшно не любила она напоминать самой себе про чёткое «два», что торкнуло в голову, когда хохотала она при действии, как сыночек и Демагог ломали девчонку. Чёткое «два» стукнуло, как набат. Долго потом звенело в её голове, как от церковного звона. Старалась забыть, да никак не удавалось. Страшно становилось ведьмачке, страх вмёртвую въелся в душу.
Тешилась мыслью, думала, что после того надруганья Варька, если не сдохнет, то превратится в уродку, или «с катушек» сойдёт. А та гадина, та соседка отмолила девчонку, да отпоила ключевою водой.
Мучилось тело ведьмицы, мучилось сердце. Казалось, отдаст за ночку с любимым Алёшкой всю свою власть. Так паренька приголубит, что забудет и Варьку, и тётку свою. Ишь, Варька как прижилась в соседском дому, как к чужому дому прилипла.
И поползли по селу грязные слухи, напевала соседкам она, напевал и сыночек. А грязь не прилипла ни к Варьке, ни к добрым соседям.
И за то ещё большую ненависть вызывала гордая поступь собственной дочери.
Мать даже пыталась перекрутить ситуацию, перетянуть дочку на свою сторону. Но опоздала. Льдинки на сердце застыли надолго. Варька мать не понимала, не желала понять, не желала сочувствовать. За каждым медовым словцом видела пропасть, и видела, как лезут из пропасти черви, глисты, змеи и твари неведомые.
Мать вначале почувствовала, потом поняла: дочь становилась сильнее. Ненависть к дочери возрастала и крепла.
Воединым клубком любовь к мальчишке-соседу, ненависть к дочери и страх перед Никитичной сплелись в сердце, давили кошмаром ночным.
Так все сплелось, не разовьёшь, не отрубишь.
Петрович умер тихонечко-тихо. За станочком прилёг, как уснул.
Раненько утром Варька несла ему чай да столовскую кашу в тарелке. Каша остыла, пока добралась по цехам до станка, да и чай охолонул. Торопилась, спешила: горяченького бы поесть Генеральному. Да где там! Как застрял с полночи в цехах, так и прилёг на кучу ветоши разной в уголочке горячего цеха.
Начальство глаза закрывало на кучи ветоши, черневшей в разных углах необъятных цехов. Люди валились, подкошены сном, на эти кучи хламья, без силы добраться до дому или к бараку. Отключится часа так на три или четыре и вновь вскинется работящий народ. Снова к станку – Победу ковать для страны. Никто и ни разу не высказал страха, дескать, враг завоюет Урал, подберётся к Сибири. Как ни рыскали нквдэдишные люди, как ни искали пораженцев в необъятных цехах, никого не нашли. Рабочий народ знал и верил в Победу. Именно так, именно так с большой буквы величали её, грядущую и долгожданную. Ради неё, ради Победы терпели лишенья, нужду, вшей и НКВД.
«Серые ватники» ковали победу, ковали страну. Это издали масса серого люда, а присмотрись ка вблизи, и окажется человек не песчинкой, а глыбой гранитной. Грызи такого до стирания клыков, а глыба стоит, не ворохнётся.
Малой песчинкой глыбы народной был и Петрович.
Уснул, а точнее, грубее, «вырубился» у станка. И затих. Даже истошный Варенькин вопль не разбудит уснувшего навеки. Спал Петрович с тихой улыбкой, блаженной от счастья.
Сбежался народ на Варькины вопли. Кто-то закрыл очи усопшего, кто-то бежал с горестной вестью по цехам, по куткам, по управлениям завода. Цех быстро стал заполняться народом, люди прибывали и прибывали, задние напирали, передние пятились.
Перед умершим с шапками в исхудалых руках кружком стояли молчаливые близкие. Серость на лицах резко разнилась с белевшим лицом Генерального.
Соорудились носилки. Множество рук подняло лёгкое тело. Успели руки сложить на груди и очи закрыть, и прикрыть тело белой тряпицей (сгодилось трофейное белое полотно, на котором иногда показывали хронику «с полей войны» да до дыр протёртую «Волгу-Волгу»).
Сомлевшую Варьку оттащили в глубь цеха, да там и оставили на груде хламья.
Со времени буйной метели, когда сгинула Варькина мать, завод не стоял.
А тут встал.
Громадная серая масса людей тихо и молча шажками плелась к вечным покоям уснувших навек. Погост ждал своего постояльца. Погост не от слова ль «гостить»? Погостил на бренном веку человек, да ложись вечным покоем в вечную яму, как время придёт. Кладбище было готово принять постояльца. Вырыта яма, заготовлены партийцами нужные речи, топтались невдалеке пригнанные из бараков людишки яму засыпать.
Скорбная масса безмолвной толпы приближалась к погосту. Поднимались на взгорок, оступались да спотыкались, но шли под единой незримой командой. Варька плелась позаду народа: бежать поперёд совесть не дозволяла. Как очнулась на стылом тряпье в обледеневшем цеху, так с тех пор слова не молвила, как остыла, заледенела. Накинула чёрный плат, что Нититична ей подсунула, так с тех пор третьи сутки не ела и не спала.
Словом, ледышка ледышкой. Никитична шла, вернее, её почти что несли в первых рядах массы народа. У старой путались ноженьки, плат сбился с враз поседевших волос. Ей то и дело под нос докторша заводская тыкала нашатырём. Но добрела до могилки. Встала, шатаясь, на самом на краю.
Готовый сценарий сломался народом. Как-то сами люди выходили из толпившейся массы, комкали шапки, и говорили коряво, но от души. На белом лице покойника застыла улыбка блаженства, снежинки не таяли на лице, но скатывались в кумач гроба, как заиндевевшие слезы. Говорили помалу, но говоривших было так много. Партийцы пытались как то соорганизоваться, ляпать дежурное: «смерть вырвала из наших рядов стойкого ленинца…», но их оттеснили молча плечами. К могиле выходили станочники, токаря, мастера, «горячники» (работники горячего цеха), да двое-трое из барачного люда, интеллигенты.
Для засыпки могилы людишки специальные не пригодились. Каждый по жменьке ссыпал на гроб горсточку стылой земли, и гроб быстро засыпан, и яма сравнялась с землей, а потом и холм высоченный над той ямой снегом покрылся.
Установили временный конус с фотографией Генерального, коряво написаны чёрным даты рождения, смерти. Соорудили звезду на навершии конуса. Так был упокоен навек Генеральный Петрович.
Поговаривали шепотком, что на девятый день по смерти Петровича приводила на кладбище Никитична старого попика, помахал тот кадилом, пропел «вечную память». Было то или нет, нам неведомо, может, то просто бабские пересуды. Нквэдисты розыск не учиняли. Наверно, простили старухе её заблуждение. Простили и сбитую наземь звезду, что валялась у могильного холма. Даже не тронули крест, деревянный, что возвысился над могилой.
Варька как будто потухла с тех похорон, сделалась ни жива ни мертва. Стало ей все равно что есть, что пить, с кем говорить, какие бумажки печатать.
Вот такую её полусонную, полуживую и увез в град-столицу ботаник, который, как приехал, востребованный Сёмкой для ухода за лимонными деревцами, так и остался почти что до окончания войны на заводе. Тынялся по управлениям, помогал тем, кому и так нечего было делать, да всё старался тереться в приемной у Варьки. Как уболтал, уговорил молодицу невесть, но в столицу вернулся с женой.
Московская сага
Варька по приезду в Москву ни разу не пела. Мало-помалу отошла от тоски неизбывной, стала втираться в московскую жизнь. «Ботаник», как она звала муженька, от жёнушки не отходил. В магазин за обувкой – он с ней, за хлебцем – он с ней, карточки отоваривать. Вареньке карточки не полагались. Жила на всём на готовом, как часто ей приговаривала её свекровь.
Аглая царствовала в барских хоромах. По правде, звали свекровь просто Глафирой, но, как перебралась с мужем в Москву, стала речься Аглаей: красившее. Простонародное имя «Глафира» коробило нежные ушки её и подружек, а так как одна из многочисленных девок прислуги тоже прозывалась Глафирой, хозяйка быстренько приучила и челядь и сына к звучному имени. То есть Аглаи.
Созвучно: Аглаша и Глаша. Вот как славненько вышло. Муж, правда, к новому имени не привык. Всё чаще и чаще стал супружницу звать по-сухому «мать». Ему она, естественно, не перечила.
Академик могуч. Глебка пошел не в него: сухощав, близорук, в чёрных круглых очёчках ну, точно ботаник.
По приезду невестки академика в доме не было. Мотался геолог по сибирям да по алтайским полям, как сам частенько любил поговаривать. Вот и сейчас застрял где-то в глубинке, не вытащищь. Молва ему приносила весточки с дому: сынок ваш женился. Потом кто-то с заезжих геологов весточку передал, что, вроде у вас прибавление в семействе. Геолог кивал: ну, ладно, женился. Ну, ладно, родил кого-то. Дело житейское: молодой, вот и женился, понятное дело, как молодой семье без младенца. Кивал почти равнодушно. К сыну как-то не прикипел, не прирос к нему сердцем.
Да оно и понятно: мотался с юности по бездорожьям, снегам да по сопкам амурским да безбрежной тайге или тундре. Геолог родине нужен? Нужен! Вот и служил верой и правдой. За очередное открытие, почти перед самой войной, получил академика сильно досрочно. Тогда же семья переехала из старого дома брата его, педиатра, в почти что хоромы. Комнаты в ширь-ширину, коридор, на байдарке плыть можно, а кухня, а кухня!
На кухне той суетилась вечная нянька, что когда-то нянчила Глеба. Сейчас нянька освоила кухню. Нужна Аглае прислуга, а как же, престиж! Менялись и девки, что назывались домработницами, челядью да прислугой. Домработницами называли их в ЖЭКе, где регистрировали этих девчушек.
Прислугой их Аглая звала, челядью полупрезрительно (но не по отношению к девушкам, а к Аглае), звал брат родной академика, простой детский доктор.
Менялись девчонки, менялись частенько. Аглая глаза закрывала на игры подросшего сына с прислугой, по надобности водила забеременевших к знакомому гинекологу. Потом выгоняла прислугу из дома и набирала других, не менее глупых, не меньше несчастных. Когда Глебушка жил при заводе в Сибири, набирала прислугу из некрасивых. Чётко помнила, муж тоже мужик, и мало ли что может случиться?
Академик так и подумал: женился, наверно, сынок на очередной несчастной девице. Или лучше того, мать подсунула заневестившуюся дочь того самого гинеколога, Сонечку.
Академик терпеть не мог ни Соньку, ни её мать. Вечная лесть в стылых устах, сплетни, наряды, тасканье по магазинам. Когда академика в доме не было (а его очень часто и не было дома. По году, по два мотался в тайге), эти две кумушки из дома не выходили, дружили с Аглаей крепко-накрепко. У каждой из трех цели единые: породниться.
Аглая любила и мужа и сына, зачастую сама не понимая, кто ей дороже, кого любит больше.
Муж рослый красавец, большой, из крестьянской семьи. Отбила его когда-то от той, кого он любил больше жизни, да ни разу не пожалела об этом. Не жалела, когда голодали, когда он учился в своей Промакадемии, а она кусок хлеба делила на три: завтрак, обед, а ещё оставался кусочек на ужин.
Не жалела, когда стояла в громадных очередях за молочишком для сына. Стыли ноги на сильном морозе, ребенок тяжестью тельца руки у ней отнимал, но стояла. Молча стояла за вожделенным для сыночка молочком.
Кстати, в такой вот громадной очередищи и познакомилась с нянькой. Та пожалела её, молодицу, подержала ребеночка на руках, пока Глашка бегала по нужде в подворотню. Вернулась, разговорились. Да с тех пор нянька и прижилась: за ребёночком присмотреть, кашку ему приготовить. Была чистоплотна, честна, потому и приглянулась жадной Глафире. Многого не просила, так, уголочка для сна да хлебца шматок. В голодные и холодные времена и это одно уже было счастьем. Прижилась, приноровилась к Глафире, когда-никогда терпела побои. Да, Глафирушка могла ручечку приложить за разбитый стакан, за не вовремя приготовленный суп да рассыпанный сахар.
Нянька Глебушку вынянчила, осталась при доме. Терпела побои, носила дамам обеды в «приёмную залу», как любила подчеркнуть свой престиж новоявленная академичка. Сонечка с мамой угощения жрали, не лопались. Тем у дам к обсужденью – не перечесть. Тот разошёлся, тот с новой сошёлся, там крепдешин из-под полы по дешёвке (ворованный? или трофейный?) можно приобрести. Город большой, всех не обсудишь, все магазины не обойдешь.
Прошли времена, когда Глафира стояла в очередищах за молочком или сметаной. Теперь в дом приносили и молоко, и сметану, и творог. Так полагалось семье академика.
Перепадало того творожку Сонечке с мамой. Глафире приятно было им передавать творог вчерашний, который, что называется, выкинуть жалко, а благодеяние оказать – само то. Да ещё и булавочкой ковырнуть при встрече, ожидая жиденького «благодарствую».
Глафира, расщедрившись, могла угостить даже американской ветчинкой или волжскою осетриной. А что тут такого? Привезли осетра благодарные ученики академика. Тот был в отъезде, сыночек в Сибири без мамки скучал. Так того осетра в одиночку она ела, ела, пока от вида его рвать не тянуло. А рыбка стала уже и попахивать. Знамое дело, не бриллиант. Стало портиться яство залётное. Угостила подружку. Так славненько посидели, стольким косточки поперемыли за осетринкой, не передать.
Академик долго ли, коротко ли мотал и себя, и экспедицию по таёжным туманам да болотам сибирским, но возвратился в Москву.
Но не сразу поехал домой. По приезду в столицу заехал в свой институт, потом на пару секунд мотнулся к брату проведать. Чай, больше года родного брата не видел. А как поднялся по лестнице к двери квартиры (лифт не любил, тесноват был для могучего статью), постучал (как правило, ключи от квартиры то забывал, то терял, то просто не брал под лозунгом: зачем они мне, опять потеряю), да не дождавшись ответа, открыл не запертую дверь, так на пороге чемоданчик с гостинцами и выпал из рук.
Стоит на пороге молодица с годовалым мальцом на руках.
Мальчишка – копия академик. Такие же синие брызги младенческих глаз, статью тоже в дедулю. Лапища – лопата, высокий лоб чист. Сразу видно: малец молчалив и спокоен.
Варька только спросить: «кого Вам, товарищ?», как мальчонка рванул к высокому дяде. Мать еле удержала его. Дед подхватил внука правой рукой, левой бросил громадный рюкзак с образцами породы, поднял мальчишку почти к потолку, подбросил разок. Пацан завизжал от восторга!
Мгновенно влюбились дедушка в внука, внук в громадного деда. И всё. Не оторвать друг от друга, не отнять силам земным.
С приездом академика в доме стало проще и чище. Тот уходил ранёхонько-рано, возвращался с работы почти что и в ночь. А всё равно внучек, как только дед заходил осторожно в прихожую, открывал сонные глазки: «деда пришел?». И засыпал вдругорядь уже на коленках у деда. А то и сопел в его кабинете, когда дед, прикрыв лампу бумагой, корпел то над отчетом, то над статьей, то правил диссертации учеников.
А когда заболел, дед бросил бумаги, отчёты и диссертации, заменяя Вареньку, когда та уже падала с ног от усталости.
Что сталось с ребенком? Температура под сорок, мечется по кровати дитя, бредит и все время зовет: «дедушка, деда!» Академик бежит, берёт малыша в громадные лапы, носит по барским покоям, не стесняясь осуждающих взглядов жены. А мальчишка горит в пламени жара. Докторов набилось в хату не счесть. Умные речи они говорили. Знаменитостей набрала, конечно, Аглая. Ей хотелось, прежде всего, угодить муженьку. Пусть видит, как старается добрая женушка, благодаря, так чтобы все видели, очередного светилу конвертиком. А во-вторых, всё-таки внук. Если бы академик год прожил в городе, можно подумать, что его копия родилась бы точнёхонько от него. Но академик то больше года мёрз по сибирским метелям.
Светила от медицины были точно светилами, но, как бы поточнее сказать, уж очень узкого направления. Кто офтальмолог, кто гельминтолог, кто вообще фтизиатр. Звучно звучали их направления, да толку то от того.
Спас ребёнка не случай, судьба.
Заскочил на минутку брат академика, «гномик», как звался Аглаей. Невысок, худощав, росточком, и правда, не вышел: кнопка иль гномик. А голосом был басист.
Заскакивал редко. Аглая терпеть не могла простого братца знаменитого мужа. «Гномик» ни ростом не вышел, ни даже профессией. Да что говорить, мотался по поликлиникам, детишек лечил с перерывом на докторский стаж по госпиталям фронтовым. Детишек лечил из простого народа, сам был простецкий на вид. Да ещё матерился, правда, не при детворе. Детей обожал. Дети висли на нем, как на папе родном, хотя с ними не цацкался и был суров. Но дети чувствуют доброту, их не обманешь. Жил в старом домишке, то ли в Сокольниках, то ли в Мытищах. Аглая знать не хотела, где проживал её деверь. Было не в радость мёрзнуть в трамвае не час и не два, чтобы стучаться в насквозь промерзший домишко. Хватит, намаялись, нажились до переезда в высотку.
Педиатр заскочил на минутку возвратить брату очки. У академика очков было много, а у него, вот напасть, стёкла полопались от мороза. Академик поделился очками, да и забыл. Но брат щепетлив. Потому и нашел минуту свободного времени для возврата одолженного. Его, простого на вид, еле впустили в предбанник громадного дома. Вахтенная дама долго мурыжила кто он да откуда, пока он по матушке по простой не послал её в дали далекие. С тем и поднялся.
А по прихожей мотается академик с мальцом на руках. Стонет мальчишка, бредит в угаре. Брат с ходу в кабинет академика, баб выгнал на кухню (и Варьку, и няньку, и Глафиру також). Засучил рукава, да поставил диагноз: ну, брат мой, ветрянка. Погорит денька три, а когда высыпь пойдёт, тогда руки держите, не то оспой покроется весь, не давайте чесаться. Выписал пенициллин, выгнал Аглаю: доставай, мать, по связям своим дефицит, выручай пацана.
Аглая всполошилась: инфекция в доме. Инфекция! С мужем и внуком стала общаться, как с прокажёнными. Глебушку удалила в дальнюю комнату. Нянька жить стала просто на кухне. Варька моталась меж мужем и сыном. Спала невесть где, невесть чем и питалась.
Ну, естественно, оспинки проявились в положенный час. От зуда ребёнок извивался и плакал, каверны сыпали по лицу и по тельцу, зуд не давал спать ни ночью, ни днём.
Брат-педиатр выписал порошочки, сам их заваривал вместе с какими-то травами. Зуд утихал. Мальчишка стал спать сном непробудным: выздоровление намечалось.
Аглая страшно боялась, что заболеет её муженек, контактов с больным ребёнком невозможно и избежать. На простой намёк про опасность инфекции муж так вызверился на бедную женщину, что та тихо прикрыла дверь кабинета и суток трое в него не посмела войти.
Заодно и инфекции избежала.
Внук поправлялся. Дед не заболел, не чихнул даже ни разу. Варенька тоже избежала инфекции, няньку тоже Бог миловал.
А вот Глебушка заболел. Вот тут Аглая-Глафира переполошилась не на шутку. Академик уже стал выходить на работу, догоняя в спешном труде недоделанное. Домой приходил только в ночь, с порога кидаясь к внучонку. Подхватит тельце мальчишки, обнимет. Так вот обнявшись, и спят до утра в его кабинете. Старинной кожи диван был громаден, принимал их обоих. В чистых перинах сон был хорош.
Болел Глебушка долго. Измучил себя, измучил других, даже Вареньку не щадил. Та, не отошедши от страха за сына, теперь носилась со своим муженьком. Глебка в болезни капризен, противен, ну просто садист. Казалось, ему удовольствие доставляло мучить жену. То питьё слишком тёплое, то горячо. То требовал, чтобы жёнка его руки держала, не давая чесаться. Аглая даже пожалела бедняжку: перехватывала руки сына, но тот вырывался, требовал Вареньку.
Дядька навещал и его, не давал пичкать больного новомодными средствами. Опять Аглая насозывала консилиум, опять бормотали учёные вещи фтизиатры и вертебрологи. А толку ни в грош. Мучилась Варенька, устала Аглая, зато Глеб выздоравливал.
Когда окончательно он пошёл на поправку, брат, зазвав в кабинет брата Аглаю, сообщил родителям новость. Скорее всего, Глеб станет бесплодным. Ветрянка по взрослому типу так просто не сдастся, отомстит по полной программе. И вздохнул: лучше бы Глебка в младенчестве переболел этой оказией.
После Глеба болезни дед внука только что с ложечки не кормил. Пестовал, баловал: внучек единственный, ненаглядное солнышко.
Варенька для него стала дочерью. И так сложилось, что она его «Батя», он «дочкой» зовёт, а малыша то Мишенькой, то Мишаней, то Мишуткой. Иногда дед проговаривал: наследник растёт.
Лет с трёх Мишаня стал разбираться в камнях. Бывало, и деда поправит: «дед, не серый колчедан. А серный. Знать надо, понятно!». Деду приятно, особенно когда не один. Ученики то в гостях, или знакомые специалисты, геологи, травники, металлурги, или свои академики, – дед с гордостью внуком похвастает.
При этом при всем внук был не балован. Рос без капризов, деда и мать слушал, всегда веря на слово.
Отца и тётю Аглаю (Аглая потребовала от него бабушкой не называть, рановато при её красоте зваться обидным «бабуля») он любить, конечно, любил, но как то ошмётками, что ли, по правде сказать. Чувствовал мальчик явную нелюбовь родной бабки, какое то эхо отдалённой любви родного отца. А батюшка родный настолько был поглощен своей Варенькой, что сына как то не видел, не замечал. Чаще сын был помехой, отнимая любовь его матери от него, её мужа.
Вари нет дома, Глебушка мечется, считая секунды. Мишки нет дома, Глеб сыт и спокоен: куда ему деться, при таком то надзоре деда и матери, няньки и бабки Аглаи.
В воспитание сына не лез. Растёт и растёт в кабинете отца, перенимая привычки, пристрастия и интересы.
Да и то, что ему, ботаником становиться? Глеб ненавидел свой хлеб. Мать по приезду в Москву пристроила его в сильно научную лабораторию, где он отбывал свое пребывание, без интереса, без страсти к науке. Отцовские споры с коллегами, доходившие иногда чуть не драки, его нимало не интересовали. Полеты фантазий научных коллег по коллекциям растений из разных стран тем более были не интересны. Раз мать выпросила для него участие в заграничной командировке, так кроме тоски, оттуда ничего не привёз. Варенька далеко, в покрытой снегом Москве, а пыль Африки да вялые стебли каких то растений, – ну их подальше. По приезду в Москву знакомые с тайной завистью было спросили: как там, в африканской саванне? Скучно ответил: там грязно и пыльно. И мошкара. Вот и весь сказ про красоты саванны, закаты, восходы экзотики дальней. Переглянулись знакомые да вздохнули: ботаник. Ни тебе сувениров, ни деликатесов. Хорошо, хоть малярию не подхватил или заграничных глистов.
А Мишутка прямо таки с большим наслаждением перекладывал деда коллекцию. В четыре года, научившись читать, читал названия «булыжников», как звал камни отца Глеб. По ходу замучил деда вопросами, что за камни, откуда и для чего. Дед говорил как со взрослым. Садился на пол рядом с мальцом и часами вдвоём болтали про камни. Почти что старик один, второй из пелёнок только что вырос, а похожи, как капли воды. Оба лобасты, молчаливы с другими, они всегда находили друг с другом общий язык. Если во время их долгих бесед в кабинет вкатывалась «тётя Аглая» или отец, мальчишка недовольно хмурил бровишки, ну ровно как и его дед. Если мать или нянька, тогда взгляд вопросительный: что уже, кушать?
Дед ловил редкие счастья минуты. Громаден работы объем, трудов: институт, какие-то заседания в разных советах, научных и не совсем, конференции, семинары, ученики. Не хватало ни суток, ни времени. Но как вырывался из тяжкого бремени забот и хлопот, садился с внуком на пол кабинета. Тогда в доме ходили на цыпочках: дед отдыхал! И внук постепенно набирал ума-разума.
Итак, Варенька долго не пела. Когда сын заболел, сил не хватало запеть, а в обычные дни свекровь недовольна. Впрочем, она всегда недовольна невесткой своей. Тут не до песен. Нет, конечно, же колыбельные пела, но тихонечко очень, прямо в ушки младенцу. Так не слышит свекровь, спит её муж. Ну да и ладно.
Как то день выдался солнечный, ясный, зимне-морозный. Варя забрала сына из дома, повела на прогулку. Санки скрипят по морозцу, свежий воздух румянит щеки её и сыночка. Оба веселые, оба смеются. Скатились под горку, да прямо под ноги прохожим. Варенька извиняться, да вдруг перебил её голосок: «ты что ли, Варюха?» Вгляделась, всмотрелась. Ба, африкановские! Баба в тулупе, в таком же тулупе и старичок, да мальчик-подросток в засаленном ватничке мнётся от скуки. Баба руками всплеснула вдругорядь: «Варенька, ты ли?!» И закудахтала: «ой, стала какая, какая», качнула головой, обряженной в серую шаль. Старичок сослепа присмотрелся: точно, Варюха!
Встрече обрадовались все, и Варька, и африкановские. Долго стоять на морозе было не можно: ребенок замёрз. Варька приняла решение смело и быстро, и зазвала односельчан в ресторан. Да не в простой ресторан, а в «Пекин».
То ли Варькина красота тронула бравого молодчагу у входа, то ли для плана денег элитарному заведению не хватало, но впустил нарядную дамочку в щегольских бурочках с сынишкой, да тройку явно из деревенских, обутых в ужасные рыже-серые валенки.
Выбрали им отдельный кабинет. Не из самых из лучших, а так, для люда попроще. Но для приезжих, в том числе и для Варьки, ресторан ослепителен своей роскошью. Для честности я скажу, что позолота облуплена, стулья из старых, официант был не скор. Но для деревенского люда позолота, хрусталь, кабинеты, это роскошь богатства, прихоть коммунистического боярства в самом центре столицы.
От стеснения долго молчали. Потом засуетились, стали помалу вспоминать про былое, вспомнили про подростка. Варенька долго удивлялась, как вырос Павлуша, несколько раз напоминая ему про «дилекторский фонд». Подросток краснел, отворачивался от неприятного внимания старших.
Принесли и еду, тоже попроще. С голода да с мороза аппетит был удвоен, вместе со взрослыми уплетал и малец. Наелись, да вдруг и решились на что-то спиртное.
С простенькой водочки захмелели. Деда потянуло было на стариковскую сонь-дремоту. Бабёнку, наоборот, потянуло на плясовую. А Варьку – запеть. И тихий хрустальный её голосок вырвался из кабинетика и поплыл по звонам ресторанных бокалов, по однообразной стукотне вилок, ножей. Стихал звон пьяных бокалов, стихал вялый стукоток вилок-ножей. Мало-помалу чистый горный хрусталь варькиной песни вливался в уши разного сброда, собравшегося отобедать в дорогущей ресторанной тиши. Будь то вечер с шумным оркестром, Варькин слабенький голосок никто б не расслышал. Но время было обеднее, оркестра не полагалось, патефона тоже не разрешалось включать без особого на то дозволения важного метрдотеля.
Тихая старая песня про любовь старого Хазбулата к молоденькой жёнке, да про буйное отсечение его головы трогало каждого: сочетание нежных стихов и ангельского голосочка тронет и мёртвого.
Потихоньку Варенька разошлась. Пение становилось погромче, звон голоса тяжелел, как будто бы новенький колокольчик менял звук на более опытный, более мощный колокольный звон. Дед давно позабыл про дремоту, тётка румянилась от тепла, от рюмашки спиртного, от нахлынувших про давнюю молодость воспоминаний. Павлушка с аппетитом доедал царское угощенье, ёрзал на стуле: молоденькое тело хотело движений, но боялся и встать, и голос подать. Понимал, будет неправильно. Чистый голос пел старинную чистую песню про греховный смысл старинной любви, завораживал, пеленал, убаюкивал. Мишутку и убаюкало: уснул на тёплых материнских руках после борща да гурьевской каши.
За Хазбулатом последовала и «Калитка», за «Калиткой» другой старинный романс, сейчас уж и не вспомню какой. Варенька сознательно не пела про всеми любимые валенки, про ямщика, замерзавшего в голой степи. Валенки не привлекали её пыльной пошлостью, я ямщик напоминал до горькой боли про сибирскую степь, и тогда б хватануло по сердцу ностальгия по родине малой. А тогда тоску ничем не заглушишь, не обойдёшь.
Глебка ворвался в тишь кабинета, как пьяный купчишка в тишину дортуара благородных девиц: нелепо, неумно, громко и зря. Мишутка открыл спросонья глазёнки, оттолкнул отца от себя: «уходи, спать мне мешаешь, не видишь, как маменька, что ли, поёт»?
Деревенские будто очнулись, съежились враз. Заспешили за Глебкой, тащившим мальца к выходу из ресторанного балагана. Варенька на ходу скинула шаль, сунула тётке из Африкановки: «Никитичне передай»! Перед выходом из ресторана скинула щегольские бурочки, приложила их к шали, повторяя: «Никитичне, передай!» Уже на выходе их догнал красавец-джигит с Кавказских хребтов: «Спасибо, красавица, за песни твои!» Поданные им роскошный букет, конфеты, бутылку вина Варька сунула в бурочки-валенки. Мол, это тоже Никитичне передайте.
Раздражённого до нельзя Глебушку не узнать. Ревность кипела, смердила, от злости словно окреп. С силой тащил полуодетого сына в ждавший сына академика автомобиль, еле дождался жену, что упрашивала деревенских погостить у неё денька три. Те отказались: дескать, явно спешим на вокзал, поезд уходит. Скрепя сердце, поверила. Уже от машины крикнула: «не забудьте Никитичне гостинчика передать»!
В машине молчали. Глебка приучен при обслуге лишнего не говорить, Варя мыслями ударилась в воспоминания об Африкановке, Мишутка молча жевал сопли обиды на отца и на мать, не допевшую ему бархат песни душевной.
Дома Глебушка разошелся не в шутку. Как вспомнит про красавца с дальних Кавказских хребтов, так и зайдётся, меля всякую ересь. Варя молчала. Молча уложила сынишку, молча попила чайку с нянькой на кухне, молча слушала бредни свекрови и мужа.
Раз только зыркнула на мужнины бредни, когда он ляпнул, что такой «небрежной», так и сказал, «небрежной», матери нельзя доверять малышей. Напомнил и про ветрянку, договорившись, что чуть ли не Варенька сама заразила сыночка.
Муж в упоении своей ерунды, что блевотиной сочилась из рта, не заметил чёрной молнии глаз супруги. Натешившись, Глебушка успокоился. Наконец, вспомнил, что рано утром ему на работу, завалился поспать. Варька просидела на кухне всю ночь. Уже перестала шелками павлиньего халата шелестеть Аглая, нянька всхрапнула на топчане, а Варька сидела, уставившись в московский пейзаж за окном. В синей ночи сонный снег кружился, как будто снежинки пели и танцевали под слабенький ветерок. Яркие фонари центра столицы освещали сонную тишь мощного города, уставшего за день и теперь спавшего почти беспробудно. А ей не спалось. И было так одиноко в сонной глуши миллионного города. Только вот эти снежинки были родными, да тесть. Да кто его знает, где сейчас академик?
К вечеру Глеб ввалился в квартиру пьянее вина да с размаху и ходу всадил жёнушке кулаком под глаза. Нянька остолбенела, охнула и полетела на кухню, подальше от барского гнева. Аглая, выглянув из дверей опочивальни, оценив ситуацию, сделала вид, что ничего не случилось. Двери закрылись, и Глеб постарался выместить на супруге всю силу своих кулаков. Бил неудачно и неумело: ботаник! Но как было больно, как было больно! Как будто братец ожил и наворачивал кулаки по спине и груди, животу и коленям. Братец умел бить жестоко. И почти что без синяков. Эти навыки избиений сестры потом ему пригодились на должности на высокой, когда избивал не подчинявшихся девушек или интеллигентов.
Глеб бил неумело, но так же жестоко, как Сёмка. Бил, пока Варенька на свалилась на пол паркета. Перешагнул, и скрылся у матери в спальне.
Аглая торжествовала! И она и сыночек часа два или три перемывали косточки Варьке, не щадили ни в чём. Вспомнили и про бурки, и про оренбургскую шаль, что она подарила какой-то там деревенщине, и про то, как она защищала няньку, которую Аглая пыталась побить за забытое на плите молоко. О, поводов для разговора матери с сыном скопилось так много! Аглая даже удачно ввернула про Сонечку, дочь гинеколога. Мол, та из приличной семьи, не то что эта паскудная деревенщина.
Ввернула Аглая и про поход в театр, куда вместе с семьей вместо академика, которому вечно некогда, пошли Сонечка с матерью. Аглаю до сих пор бесило то обстоятельство, что пришлось на скорую руку шить невестушке платье, отдавать свой трофейный панбархат. Правда, платье вышло очень удачным. Шила его мастерица поплоше, ровесница Варьки. Молодки быстро сошлись: обе смешливые, обе из деревенских. Контуры платья удачно ложились на стройность фигуры, панбархат высвечивал всю красоту чистого тела. В театре мужская половина глаз оторвать не могла от варькиной красоты. Косы короной, глазищи, что в пол-лица на белом лице, румянец, что на здоровых щеках, да доброта, что струилась от Варьки. Как не смотреть, не наслаждаться! В музее, на Венеру милосскую можно смотреть чисто с эстетическим удовольствием, а тут живёхонькая, плотская красота.
Варька не знала, деться куда от такого внимания: стыд жёг ей щеки. Поневоле скрылась за частотой мраморных колонн холла театра, и страшно обрадовалась, что статная дама, перед которой Аглая извивалась в лестных потоках, пригласила невестку в буфет. Варька только что не бегом последовала за Ниной (так звали знакомую Аглаи) в буфет.
И, надо сказать, достаточно вовремя дамы скрылись в буфетной: в холл театра Берия заходил вместе с челядью. Увидел бы Вареньку – ой, то беда! Не миновать ей его поцелуев! То более всего понимала супруга всесильного Берии, та самая Нина, что уводила девчонку от вечно несытого мужа. Тогда Глеб нашел супругу в буфете. Дамы мило болтали, вернее, Нина внимательно слушала Варькино милое хвастовсто о ребёнке. Нина очень любила детей, и искренность девочки-матери тронула сердце. Дамы расстались почти что подругами, хотя разница в возрасте была почти вдвое. С удовольствием Нина смотрела, как уплетает Варька пирожное, как пьёт сельтерскую воду. Как мило морщит при этом курносенький носик, когда газ от сельтерской щекочет ей ноздри. Искренняя чистота искренней молодухи вызывали удивление у много повидавшей супруги всесильного Берия. Чего эта такая да вышла за этого прощелыгу, сына хорошего человека? Чем взял этот ботаник сильный характер? А что у новой подружки характер не слабый, Нину учить не надо.
Так вот, Аглая эту историю перевернула в свете ином. Ещё бы, до смерти обидно, когда вся сволочь мужская таращится не на неё, дышащую свежестью косметического салона, пудры, духов и обалденного платья, а на эту дурнушку-простушку из деревенского бытия незнакомой сибирской глубинки. Но даже сыну в этом признаться нельзя, и Аглая старалась изо всех своих сил наводить тень на плетень. Обидно, и очень обидно, что всесильная Нина не стала болтать с ней и супружницей гинеколога, а удалилась с Варькой в буфет, где угощала деревенщину деликатесами. Злые языки быстренько донесли, чем Нина Берия потчевала черноокую. Поднесли дамам два бутерброда с чёрной икрой, два с красной, пирожное «волнован», бутылку сельтерской и даже по чашечке кофе. Вино не полагалось даже Нине Берия: кавказские дамы к вину не приучены, и остальным зелье не к чему принимать.
Мыли, мыли косточки Варьке, шумели, кричали, благо академика дома не было. Опять укатил на полевые работы куда-то в Сибирь. Мыли да перемывали, подогревая друг друга, не замечая длительной тишины громады квартиры.
Меж тем, как муженёк скрылся в опочивальне у маменьки, Варенька поднялась с паркетного пола, тихонько прошла в комнату деда, где Мишка сопел девятым младенческим сном.
Почему Варенька даже не вскрикнула? Да просто боялась, что Мишка проснётся, увидит ужас такой, как папка бьет маму: как потом жить? Как ребёнку родному в глазёнки смотреть?
Проскользнула в комнату сына, тихонечко разбудила, тихонечко собрала, одела по-зимнему. Вытащила из комнаты Глеба свои старые вещи, которые Аглая брезгливо приказала убрать с глаз подальше долой. А вот, пригодились! Повесила на спинку стула платья панбархат, шикарные туфли, что к нему прилагались. Сняла обручальное колечко, положила на стол.
Мишка молча смотрел на мамкино собиранье: думал, может, игра такая новая? Полусонного мальчишку мать вывела из кабинета, в громадной прихожей отыскала саночки сына, тихонечко открыла двери входные, тихонечко двери прикрыла. И были таковы мать с сыном!
Санки тихо скрипели в вечерней мгле вечного города. Мишка уснул заново в тёплых санях. Тишину морозного вечера нарушил только звоночек трамвая, что рейсом последним в Сокольники неспешно стучал по стыкам. Варенька подхватилась, почти на бегу втолкнула санки в трамвай, впорхнула сама. Полудремавшая кондукторша покачала седой головой: что ты рискуешь, так, девонька! Слава Богу, в кармане старой шубейки нашлась таки мелочь. Так Варенька с сыном благополучно добрались к жилищу старого педиатра.
Старый ворчун так обрадовался поздним гостям и сопевшему Мишке, и его непутёвой мамаше, что у Варьки отпали сомнения, удобно ли будет проситься к нему на ночлег. Не стали будить малыша. Так и проспал в санях до утра. Взрослые проговорили всю ночь. А наутро проводил педиатр братова внука с его непутёвой мамашей на поезд, в плацкартный вагон, что увозил их в сибирскую даль, в Африкановку. А почему непутёвой, спросите вы? Так педиатр Вареньку обозвал: «кто ж умный за Глебку пойдёт, разве что непутёвая сыщется? Вот ты и сыскалась».
Оставаться у академика брата Варенька не согласилась. Понимала и знала, что достанет её Глебка и здесь, страшно подумать, отнимет ребёнка. Свекровушка поднимет на ноги все связи, чтобы вернуть академику внука. Только под утро педиатр осознал, что Варька права. Невестка способна на всякую подлость, познал на себе, какова Глафирка на деле. Несколько лет братья не общались совсем, дулись друг на друга по-чёрному, пока случайно не вскрылось, что кошку меж ними Глашенька и подкинула.
В барских хоромах спохватились не сразу. Аглая спала после ночи бессонной чуть не до вечера. Нянька не смела и носа казать в господские помещения. Глеб? А что, Глеб? Утром вскочил и бегом на работу. На секундочку заскочил в свою комнату, мельком взгляд бросил на платье, на туфли, на застеленную кровать. Покойно подумал: жена спит у отца в кабинете рядом с сынишкой. Дверь в кабинет открывать не решился, скандал поутру затевать было сильно некогда. На работу пора, на треклятую эту работу.
Вой подняла всё же Аглая. Часам так к пяти вечера, когда за окошком смеркалось, и свежий московский снежок стал припорашивать подоконник, она, проснувшись, с ходу решила продолжить с невесткой свой, уже чисто по-женски, «сердечнейший» разговор.
Поплыла в комнату сына, без стука (чего это ради хозяйке стучать в собственные апартаменты) вплыла в тёмную, без даже скудного освещения комнату. Ласковый свет из окошка двумя квадратами освещал край стола, спинку стула, на котором покоилось платье. Тускло светилось кольцо на столе. Белое покрывало кровати бледным пятном виднелось в алькове. «Спит, мерзавка, опять в кабинете!», – мелькнула свежая мысль, и Аглая уже без признаков задушевности, понеслась в кабинет. Ногой торкнула дверь, скрип тяжёлого дуба отозвался болью зубной. В кабинете тихо, покойно, камни тусклят в громадных, до потолка, стеллажах. Мрачно-дубовый стол с львиными лапами занял полкабинета. В комнате никого.
Хриплые с боем часы откомандовали половину шестого. В голове Аглаи привычно мелькнуло: «скоро Глебушка с работы вернется». Батюшки, а она ещё не успела невестушке даже «здрасьте» сказать! Аглая повернула свои телеса к коже дивана.
Диванище пуст! Полускомкано одеяло, простынь свесилась на пол, подушка ещё держала вмятину детского тела. Ан, ни невестки, ни внука в кабинете и нет! Что-то не сильно хорошее вползало в душонку, но надежда держалась, и Аглая заорала «нянька, ты где?». Не дожидаясь ответа, кинулась в кухню. Может, чаевничают в тишине, как всегда. Сколько ни приучала невестку снедь кушать в столовой, та норовила на кухне с нянькой присесть, да и ребёнка стала приучивать к неправильному поведению. Нянька и рада поговорить по душам, чаи погонять, досыта наговориться про бедную юность, про Глебкино детство, про московское житие ещё при царизме. А и слушатели благодарны. Что Варька, что Мишка, откроют роты и слушают бабкины россказни, словно что сказку.
Ещё больше сблизились нянька и Варька, когда (тогда Мишке было где-то около года) нянюшка оплошала: переварила бульон. Аглая привычно взвизгнула, наотмашь вмазала ручкой тяжёлой по нянькиной голове. Нянька с ходу присела, щёки задергались, задрожали губёнки, но промолчала. Малыш, увидев слёзы бабульки, ударился в рёв, Варька схватила сына на руки, крикнула свекрови: «вы, что?». Аглая торжественно удалилась, а вечером, когда Варька мужу пожалилась, тот только плечами пожал: для него матери выходки давно не в новину.
Столкнулись в темноте коридорища. Аглая налетела на щуплую няньку, железными пальцами ухватила за плечи: «где эта мерзавка?». Нянька только тупо моргала, по привычке съёжившись в ожидании тумаков. В кухне нет никого. Чайник мирно сопит на плите, ворчит умывальник, сонные радиаторы батарей песни поют. Так уютно, так тихо-покойно было на кухне, что и не удивительно даже, что Варька с мальцом обожали время на кухоньке коротать.
Нет подлецов и на кухне! Аглая рванула в коридор к телефону. Нянька, успев только включить свет и на кухне и в коридоре, растерянно ожидала хозяйку у двери в кабинет академика. А у входной двери уже замаячил силуэт тощего Глеба. Тот растерянно держал в правой руке ключи от квартиры. Предполагая, что нянька, по стариковской привычке опять забыла запереть двери в квартиру, он слишком уж бодренько так стал не спрашивать, а прямо таки вопрошать: «а где моя жёнушка, где мой сыночек?».
Весь день рабочий вертел в голове, как он вернётся домой, как начнёт разговор с побитой супругой. Вина перед женой когтями терзала вперемешку с обидой на жёнино поведение. Обыгрывал ситуацию. Вот он волевым подбородком слегка только и кивнет жене, что выбежит покорно встречать его с сыном. То ли он сам кинется к сыночку, виновато при этом смотря в глазищи супруги. Топтался перед квартирой минут десять, вновь и вновь обыгрывая поведение. Решился, вздохнул, сунул ключ в двери входные. Оказалось, не заперто.
В левой руке букетище алых роз, очень даже не хуже, чем преподнёс в ресторане треклятый кавказец, коробка круглого торта для Мишки висела на нитях шпагата на сгибе локтя. Красавец!
Навстречу несётся мамаша с криками: «где эта сука с …нищем». Матерщина в устах у мамаши давно не секрет для домашних, абы академик не слышал да люди чужие. Нянька, что вжалась в дверь кабинет, будто дубовые двери смогут скрыть её от Аглаи, при звуках рассвирепевшей хозяйки тихонечко ойкнула, и шмыгнула в свой закуток.
«Глебушка, Глебушка», – мать кинулась к сыну, – «нету их дома, пропала тварь эта, исчезла». При словах, что пропала, в голове у Аглаи крутнуло: а вдруг обокрала невестушка дом академика? Она с визгом взмахнула руками и понеслась по квартире, с треском открывая двери жилища.
Вначале кинулась в комнату Глеба, Глеб следомом за ней. Одновременно щелкнули выключателем, комната осветилась, бросая брызги от люстры (трофейной, немецкой, богемского хрусталя!) на стол и кровать, на стулья и этажерки и на старый дубовый шкафина в углу. Мать кинулась к шкафу: всё было в порядке, всё на местах. Перерыла постель: всё на местах. Кинулась и к этажеркам: мало ли что невестке в голову припадёт, книги тоже ценность имеют. Глеб сразу рванул ко столу: заблестевшее под бликами богемского хрусталя колечко одиноко царствовало на тёмной столешнице.
Как-то сразу обмяк, ноги ватными стали. Присел на стул, опершись на панбархат.
Стало уже доходить до свекрови. Что-то сильно не так, если вещи на месте, подарки (платье, туфли, колечко) торчат на виду. В голове промелькнуло, что не больно то разжилась невестка добром на академичьих харчах. Присела напротив сына: «что делать будем, сыночек? Отец нас за Мишку убьёт!».
Тишина протянулась вначале на час, потом и на два. Часы прохрипели третий час ожиданья. Ни Варьки, ни сына. Догадки, что мол, погуляют, да возвернутся, отпали. Учинили няньке допрос. Та прорыскала квартиру, доложила, что саночек мишкиных нет. Но версия про прогулку отпала. Шёл двенадцатый час, скоро полночь, какие уж тут прогулки с ребёнком.
Опять учинили допрос козлу отпущенья. Нянька искренне побожилась, что не знает, не ведает, где молодица с ребёнком. Поверили, наконец.
Мать убеждала подождать до утра, Глеб отмахнулся. Насели на телефон. Морги, больницы отрицали наличие молодой женщины, да ещё и с ребёнком.
Как только забрезжило позднее утро Москвы, Глебка рванул за порог. Объехал (благо, машина за академиком закреплена круглогодично) по переулкам и улицам, моргам, больницам. Аглая села на телефон теперь уже жалиться по подружкам про свою такую нелёгкую жизнь. Те охали да вздыхали, притворно жалея страдалицу. А Сонечка с мамочкой, не наохавшись по телефону, быстренько сами и прилетели утешать, батистовые платочки вовремя подавать.
К сонному вечеру до Глебки дошло заехать и к дядьке. Сокольники уже засинели ранними сумерками, дома затеплились огнями, вился дымок над кирпичными трубами, сонно брехали собаки: идиллия! Дальний трамвай звенел стуком колёс. Чистый морозный воздух освежал лёгкие и лицо.
Старый детский доктор вышел на крыльцо, заметённое сугробами вровень с завалинкой, поеживаясь от свежего морозца (к ночи крепчало). Открестился (взял грех на душу, а что делать, соврал): не знаю, не ведаю, где твоя жёнка с ребёнком.
Жалкий вид Глеба дядьку не трогал. Глеб, был как та курица мокрая. Щёки обвисли, выперла худоба, щегольские белые бурки не к месту красовались на тощих ногах. Переминался у крылечка, уминая снег щегольскими белыми бурками, минут этак десять. Затем отмахнулся от дядьки, ворвался в домишко. На столе сиротливая хлеба краюха, в чайнике жестяном кипяток. Вместо солонки банка от трофейной консервы. Ни тебе покрывал, ни нарядненьких занавесок. Педиатр в полной мере хлебал холостяцкое житиё.
Выскочил из домишка, уселся в машину, даже не отряхнув снег со своих валенок. Шофёр, покосившись на баловня, академика сына, кивком попрощался с братом хозяина, спросил: «ну, а теперича мы куда?».
«На вокзал!». На вокзале ни Варьки, ни сына.
С того вечера Глебка запил. После работы мотался по улицам, искал жену и ребёнка. Его узнавали все постовые, издали отрицательно качали головами. А Глеб всё ж подойдёт, заглянет в глаза: ну, а вдруг, да найдутся, не иголки в стогу. Москва хоть большая, и много по ней рыскает разного люда, но всё же органы власти работать умеют, может, нашли беглецов?
День прошёл, два, за ними неделя, там и месяц протянулся, как год. И год протянулся, как жизнь, а Вареньки нет, и Мишутки не видно.
Академик застрял где-то в амурских болотах. Как провалился под лёд с неумёху (кочки на болотах создают кажущесть мощной земли, а под кочками – лёд, а под лёдом ледяное болото), так и провалялся по районным больничкам амурским с полгода. То воспаление лёгких вначале лечили, потом пришёл черед радикулитных болей. А как поднялся с постели, навалилась работа, не переделать. Экспедиция без него худо-бедно справлялась, собирая по дикой тайге да по сопкам манчьжурским нужные данные. Образцы занимали почти всю палату, где академик валялся, борясь с навалившимися так не ко времени болячками.
Хорошо хоть, что помогла современная медицина. Выпускники Хабаровского мединститута валом ходили в народ, как они говорили. Шатались по стойбищам, по селениям ульчей, нанайцев, орочей и прочих аборигенов тайги. На такого выпускника и набрёл академик. Точнее, врач молодо проходил стажировку в больничке, где в аптеке зелёнка да йод. Вот и вся медицина.
Врач мотнулся в тайгу, притащил свежей травки. Отрекомендовал: прострел поникающий, по-местному уйгуй. В рот не берите: он ядовит. А вот простуду мы вылечим. И вылечил. И радикулит отступил от какой то травы, боле чем местного происхождения.
Когда-никогда пошлёт весточку в далёкую Москву: мол, всё чудненько у меня. Про болячки ни слова. Москва верила, да и жене было не до вечно отсутствовавшего муженька: Глеб отнимал все её время.
Глеб, разуверившись и в милиции, и в докторах, стал находить утешение в водке. Редкий уж вечер приходил домой трезвым, ой, как уж редко. Мать не ругала: жалела. Сын пьяные сопли таскал по квартире, тыняясь из комнаты в комнату. Эхом пустым отзывались шаги в коридоре и спальне, кабинете отца, в мамкиной комнате, в столовой и библиотеке отца.
Вначале поддерживал мать, которая сквернословила про Варвару. Так прошло месяца три. А потом, вдруг сорвавшись, когда мать снова запела песни свои про невестку, заорал: «это ты во всем виновата, ты!», и избил мать до полукрови.
Пролежала мать, охая да вздыхая, в кровати. То плакала, жалея сыночка, а то матами извергалась на Варьку. К вечеру поднялась, ожидая Глеба прихода. Тот опять пришел пьяным, оттолкнул мать, заперся в комнате. Мать испугалась: вдруг сыночек руки наложит, кинулась в спальню. И была снова избита.
Доставалось и няньке, да так, что после очередного тычка хрустнуло что-то в её пояснице. Скрючило бабку. От барского гнева старушка избавилась, переселясь в Сокольники, к педиатру.
Ни тебе пенсии, ни сытой жизни. Хорошо, хоть тепло, как домик протопят. Скудненько, бедненько, а всё лучше, чем битой в хоромах хромать, ожидая, когда же добьют.
Мать спохватилась, когда стало поздно. Всё через того врача-гинеколога вышла на связи, на докторов, лечивших страдальцев от алкоголизма. Выносила из дома не меряно денег и драгоценностей. Вся зарплата академика, что получалась по доверенности мужа, уходила на шарлатанов, на препараты.
Пара умных врачей предлагали условия клиники: не решилась. Психушка для сына, то последнее дело.
Вначале соседи сердобольствовали горю мамаши. А когда Глеб обмочил стены подъезда, стали сторониться Аглаи. Даже Сонечка с мамой, поначалу ни на шаг не отходившие от Аглаи в надежде нажиться, стали брезговать семьёй академика: Глеб быстро опускался, превращаясь в полубомжа. Из квартиры стали пропадать хорошие вещи. Вначале Глеб выносил их, стыдясь. Потом стыд куда-то исчез, и Глеб стал уже требовать на спиртное. Аглая боялась скандалов, побоев. Безропотно отдавала и книги (но их перекупщики брали так неохотно: неходовой товарец, неходовой!) и тряпки. Тряпки уходили с лёту: полувоенная, полуголодная Москва хотела жить полноценно, люди хотели жить, наслаждаясь мирским. За тряпками пошли скатерти, да посуда. Всё пропивалось на вынос.
Потом Глеб стал пропадать из квартиры. Работу забросил. Вернее, прогнали, несмотря на заслуги отца. Шатался по улицам, по закоулкам, по полуподвалам, где наливалось бодяга. Аглая ходила, искала. Искала и находила. Теперь постовые уже привычно здоровались с ней. Зима и весна, тёплое лето, всё уходило, ничто не цепляло за душу. Прошёл день – и ладно. Теперь уже мать гулко стучала по пустым обиталищам дома. Мебель, та ещё оставалась в квартире: казённая мебель пронумерована, фиолетовый штамп красовался на этажерках, шкафах, диванах, столах и на кроватях.
Глебка вынес бы ещё ковёр, но громоздкие вещи привлекли бы внимание вечных дежурных, чьи любопытные носики торчали в будке сталинки холла. А за растрату казённого барахла светила тюрьма, это понимал даже пьяный мозг алкоголика.
Академик появился дома неожиданно. Толкнул дверь ногами: Аглая давно перестала запирать двери из-за полной бесполезности этой затеи. Давно, очень давно, может с полгода, пыталась от сына она запираться на ключ, так он такие разборки учинял прямо в подъезде, понося мать и раскрывая секреты, чуть не добравшись до её деревенской родни, что мать лучше переносила побои, чем жало соседей.
Грохнул о пол паркета рюкзак с образцами, бесполезные ключи брошены на тумбочку коридора. Могучая поступь направилась в кабинет. Всполошилась Аглая, заметелила перед муженьком словесами.
Академики дураками не бывают, и он, прервав словеса драгоценной супруги коротким «ну?», стал ожидать полноценного и правдивого отчета. Аглая очень путанно и издалека стала было рассказывать о своих бедствиях да напастях, как академик прервал её коротким: «где внук?».
Отчленив из рассказа брехню про невестку, он понял: и Варя, и внук сбежали из дома, оставалось только узнать – куда?
Не дослушав отчёта, бросился в коридор. Шляпу на голову и за порог. Аглая даже обрадовалась поначалу: до горестей сына очередь не дошла.
Первым, с кем встретился академик, была встреча с братом. Сели два мужика на завалинку перед домом. Нянька суетилась в огородике, рвала лучок да редиску, готовила нехитрую снедь. Братьям она не помеха.
«Африкановка, значит?», уточнил академик. Брат порылся в карманах, отдал затёртое письмецо. Варька в письме коротенько поведала, что устроилась хорошо. Что взялась обустраивать вроде как дом-музей, посвященный Петровичу, как хлопотала про экспонаты, как чуткие люди несли в дом Никитичны память свою о директоре, как суетится Павлушка, ну тот, что «дилекторский» фонд.
Про быт в письмеце ничего. Только вскольз упомянуто, что Мишанька в детском садике выучил некрасовское стихотворение, чем порадовал и её и других на детском утреннике. Да камушки собирает в тайге, готовит коллекцию.
Академик передохнул, опустил правую руку, что держалась за сердце. Брат покачал головой: «да, мил мой, с сердцем не шутят». Брат отшутился: «я ещё, ой, какой молодец». Доктор шутку не принял: «мне-то не ври, я тебе не нянька, не бабка! Давно так сердце лопатишь? Колись!».
Пришлось рассказать про дебри болотов, как провалялся в больничке таёжной, как лечили-кололи только не дёгтем: откуда в тайге пенициллин? Хорошо хоть нанайские травки спасли.
Брат встал, поковылял в комнатушку, принес свое врачебное «ухо», пощупал, постукал по богатырской спине родного брательника. Похмыкал, головой покачал. И вынес вердикт: «держись, брат, держись! Совета всё равно слушать не будешь, а то я не знаю твой норов упрямый. А лучше бы всё-таки отлежаться, и, самое что ни главное, покой тебе нужен, страшно как нужен покой. Эх, на курорты б тебе, где-то в Абхазию, на моря. Или в Крым, подышать можжевельником, прямо как Чехов».
С надеждой всмотрелся брату в глаза: «может, поедешь? Что тебя академия не отпустит? За столько то лет разик только и вырваться, ну, не в Сухуми, так езжай в Ялту, Массандру. Можно даже винца понемногу отхлебывать, хоть не князь ты Голицын шампанское распивать».
Брат слушал, кивал головой, почти согласился: «завтра займусь!».
Чтобы отвлечь врача от заботы, разговор перевёл на иное, некстати вспомнив войну: «вишь, меня на курорт посылаешь, а сам что, здоров как бугай?». Теперь черед отшутиться настал педиатру. Шутили, шутили, вспомнили про забавное. Это сейчас, забавно, смешно, а когда рвутся снаряды, да некому раненых отволочь в какой никакой полевой лазарет, какие уж шутки!
Да психология человека, нормального человека, тем хороша, что найдёт стимул жизни даже в ужасных условиях. Например, на войне. Вот и вспомнился педиатру один фронтовой эпизод.
Дело было в зимнюю пору. Зима то зима, да вдруг дождик пошёл, не летний и тёплый, а фронтовой, как прозвали его санитары. Редкий их перекур закончил этот внезапный дождь да к тому же с грозой. Молния сверканула, гром прогремел. Нет, не дальних орудий залп прокатил. На орудия внимание не обращалось из-за привычности, залпы давно вошли в обиход. Рокот с неба, и санитарки с визгом хватают бельё с наспех накинутых на сучья деревьев верёвок. Раненые заковыляют, торопясь в обманчивую тишину палаток полевого лазарета. Санитары аккуратно загасили «бычки», рассовав по карманам окурки: ещё пригодятся.
Замешкался доктор. Тогда его звали не доктором и педиатром, а по-военному чётко «товарищем военным хирургом». Военхирург, естественно без знаков различия, госпиталь! Так, на плечи накинута обыкновеннейшая серо-бурая шинелишка, сапоги вдрызг разбиты, на проплешине головы ни фуражки, ни пилотки. Он как раз доедал свою кашу, с наслаждением макая хлеба серый кусок в остаточки каши, что маслом блестела в глубине котелка. Расстаралась седая повариха Настасья в стремлении хоть чем то доктору угодить. Работал по двадцать четыре часа, спал урывками между боями да операциями на ходу в оборудованной операционной, то есть в самой большой из палаток. А то и на поле, где вперемешку лежали трупы и раненые, мог сделать срочную операцию, вырвав осколок мины, гранаты из тела бойца. В чём мог быть отдых? Да вот в таком поедании пищи из солдатского котелка. Свой, офицерский, насквозь пуля пробила, и пришлось выбросить щегольский, зелёный полукотелок-полуфлягу. Котелок ему притащил санитар: берите, товарищи хирург, пригодится.
Доедает хирург свою пищу, глядь, а под этим странным дождём видно, как к нему в госпиталь две машины несутся. Офицерская «эмка» и охранников взвод на «полуторке» мчатся на всех парах, с визгом скользя по враз замокревшему полотнищу временной военной дороги – рокады.
Вздохнул: «Эва! Какое начальство к нам скачет, наверно, беда». Отложил котелок, поправил шинельку. Из «эмки» на полном ходу выскочил бравенький адъютант и издали прокричал: «давай-ка, служивый, зови командира!» Естественно, в речь прибавлялась та матерца, без которой ни машина не заводится, ни речь командира перед бойцами не могла говориться в полную силу.
Постарался прибавить себе командирского вида. Да куда там! Шинелишка, кирза, щетина на пол-лица. Какой командир? Так себе, санитар из последних или вообще ездовой при конях.
«Ты что, брат, не понял?», – кричал адъютант, прибавляя на каждом шагу матерщину.
А из госпиталя, из лазарета бежали к ним санитары. Так громко орал чужой адъютант, что и мёртвый бы понял, что начальство, неладное будь оно во все веки, примчалось.
«Эмка» ещё ползёт, выкарабкиваясь из переплёта дорожной распутицы. Её занесло на склизком на повороте, да, наверно, водитель был из самых из лучших. Однако развернул машину, и к военхирургу из автомобиля выполз кто? А да маршал, да Р…й!
Каждый раз, вспоминая свою единственную встречу с прославленным героем войны, педиатр хитренько улыбался. «Выползает маршал из автомобиля, ставит ноженьку на ступенечку», – это так передает свои впечатления педиатр, – «адъютант на своих полусогнутых к начальству спешит, лебезит, берёт под белые рученьки. А маршалу плохо! Задыхается военоначальник, руку у горла держит, а рука то дрожит. Адъютант разоряется в полной мере молодых своих лёгких: «Где эта падла, где военный хирург? Дрыхнет с какой-нибудь там молодицей, своей ППЖ! (походно-полевая жена, прозвище женщин, походный жён офицеров из призванных в армию женщин).
Санитары стоят, санитары молчат: какой-то там генерал из «эмки» выходит, разоряется его адъютант, а их командир команды им не дает носилки тащить. Странно. Адъютант разоряется, межая маты с угрозами: «я вас под трибунал, вы пораженцы, вы саботажники». Ну и т. д. А доктор молчит, не обращает никакого внимания ни на ор адъютанта, ни на поёживание подчинённых при словах трибунал, саботаж.
Доктора странность объяснялась банально и буднично: военный хирург ставил диагноз. На ранение не похоже. На заболевание соматическое тоже. В войну люди редко страдали обычнейшими заболеваниями: бронхитом, подагрой, гриппом или обыкновеннейшей простудой. Почему на войне заболевания не дозволялись? То тема отдельной какой диссертации, а не наша тематика.
Молчание, если можно молчанием обозвать визг адъютанта, несколько затянулось, пока до доктора не дошло: косточка! Обыкновеннейшая косточка. Может, вишня-черешня застряла в горле крупнейшего военоначальника, прямо как у какого-то пацана из подворотни московской. Сколько он косточек повытаскивал у таких пацанов. А тут крупный военоначальник, шутка сказать, маршал Союза, и – косточка!
Засмеялся бы, если бы было смешно. Пустяковая вещь, эта косточка, а как попадёт не в то горло? Летальный исход! Хрип становился всё тише, удушье охватило гортань. Времени думать не оставалось. Подскочил к герою войны, самым обычным приёмом извлек косточку. Поглядел: абрикосовая. Крупная, она почти перекрыла гортань, и ещё пару часов, и прославленный маршал погиб бы от банальнейшего, абсолютно не военного заболевания.
Короче, позор для героя войны. Маршал, как только воздух попал в освобождённые лёгкие, задышал-подышал да откашлялся: «ну, спасибо, боец. Спасибо огромное. И зови командира, просить его буду тебя наградить, чай, спас жизнь не только мне, но и фронту».
Когда до прославленного командира дошло, что этот вот, в шинелишке старой да кирзовых сапогах, с проплешиной на голове мужичок есть тот самый знаменитый на весь фронт военно-полевой хирург, которого между собой командиры звали просто «гномик», маршал про себя выругался. Сам догадаться бы мог, что при такой дырявой шинелишке и раздолбанных сапогах уж больно чистые лицо и особенно руки у этого мужичка. Ну, да ладно, подкатил с извинением: «ты, мол, прости, подполковник, маху я дал, извиняюсь».
Извинения приняты. Маршал, довольный, покатил было восвояси, на прощание взяв обещание, что до конца дней доктор будет молчать про позорный диагноз: про косточку.
Вот доктор молчал, лишь сегодня брату под откровенный душевный лад разговора поведал, как байку, как спас жизнь самому что ни на есть Р…у.
Да и то, не рассказывал бы, если бы брат не стал спрашивать, да расспрашивать, куда орден девался? Ведь хирургу военному орден присвоен, еще до Победы. Маршал не обманул.
И история с косточкой ещё не закончена.
Итак, сел было маршал в машину, да повернулся назад. Подошёл к педиатру: «слышь, брат, ещё раз меня извини. Обмишулился я. А всё-таки постараюсь представить тебя к ордену. Ты спас жизнь старшему по званию. Ну, а уж как спас, то дело десятое, ты уж молчи».
Педиатр, доскрёбывая со дня котелка уже почти замерзшую кашу, покивал головой, да и забыл про забавный такой эпизод. Мало, ли, что ли, война эпизодов подбросит, забавных, не очень, и уж совсем трагедийных.
А вскорости трагедийный такой эпизод и случился. Закрыл его телом, когда бомбёжка была, санитар. Здоровый, под два почти метра сибиряк, навалился на него могучим туловом, и осколки пробили его, как решето. Тридцать три осколка. Из них пара смертельных. Охнул сибиряк, пытался улыбнуться доктору напоследок, прошептал: «не дожил до Победы, прощайте». Затих.
В пустую воронку помещено тело, на лицо легла пилотка со звездой, документы забраны, оставлено лишь письмишко супруге да номерок, что хранился у каждого красноармейца.
А на грудь положен орден. Это военный хирург приказал положить свой, именной знак нагрудный положить на тело бойца. Заслужил! Спас жизнь командиру, и эта награда ему. И безо всякой на то бюрократии.
Гномик бюрократию ненавидел. Был случай, поехал на раздолбанной полуторке в штаб: просить силы рабочей. Раненых много, госпиталь-лазарет завален живыми, трупов тоже хватало, а некому оттащить! Девчонки-медсёстры да санитарочки с ног сбивались, спали практически на ходу, а всё равно не успевали. Мясорубка большая на фронте случилась, раненых везли, волокли на себе, на полуторках в «гномика» лазарет.
Не выдержал военхирург, отправился в штаб: авось, выпрошу хоть-кого, хоть одноногих.
Трясётся в полуторке, пыль наравне с другими бойцами глотает. Глядь, а полуторка обгоняет колонну пеших. Бредут люди, безо всяких погон и иных знаков различия.
Кто-то с полуторки крикнул: «вы, братцы, кто?» Колонна молчала, месила кирзой дорожную грязь. Тут к полуторке подскочил оченно даже бравый вояка при чинах-погонах. Сразу видно, что выскочка-особист. Да как начал кричать, да как начал орать, что чего это вы штрафников моих балуете? Их ведут на расстрел, этих предателей Родины, а вы им братцы кричите?
Доктор вначале на ситуацию внимания не обращал: переворачивал в голове сложный случай черепно-мозговой (травмы). А вот при словах особиста «веду на расстрел», выглянул из полуторки.
Колонна людей так в пять сот, здоровые мужики, явно не школьного вида, головы опустив, шли на расстрел.
Вот тогда доктора и зацепило! Подскочил, встал на скамеечку (росточком таки не вышел!), на ходу кителёк накинул, чтобы особисту стали видны погоны старшего по званию, и заорал: «мать тебя так, распаскуда ты эдакий! Ты бойцов на расход, а у меня госпиталь без людей загибается? Ты и есть самый на что ни на есть саботажник и враг народа! Я тебя самого под трибунал и немедленно!» И стал хвататься рукой за воображаемую кобуру.
Полуторка замолчала. Молчала колонна, вперив глаза в картину невиданную: маленький человечек с большими погонами честит по матушке особиста. Колонна стоит. Машина стоит. Человечек стоит. И перед тем человечком на вытяжку встал особист, покрытый потом, как пугливая мышь.
Так в госпиталь и попали штрафники. Не все, естественно, конечно, не все. Но с десяток людей военный хирург выторговал у особистов. И среди них того самого санитара. Санитар тот был из этих, ну, из старообрядцев. Как его в армию загребли, нам не понять. Но дело в том, что санитар тот, двухметровый мужик, отказался оружие в руки брать: религия не позволяла. Его с ходу – в штрафбат. И в расход. Если бы помощь доктора не подоспела.
Санитар в госпитале был нарасхват, вкалывал, как и все, по двадцать пять часов в сутки. Но оружие в руке не брал. До одного жуткого случая.
А так дело случилось. Прибилась к военному лазарету девчушка. Лет так двенадцати. Худая, оборванная – дитя войны. Прибилась, отъелась. С первого дня стала нянечкам помогать: воду носила, стирала бинты, раненым песенки пела, костыли подавала. И приходилось глаза умиравшим закрывать – госпиталь, дело такое. Звали девочку просто «дочкой». Дочка, и всё. Ни тебе имени, ни фамилии. Няньки из старых сшили ей формочку, дали косыночку с красным крестом. Так и жила безо всякой какой бюрократии при лазарете. Что она, разве кого объела? Наоборот, лучший кусочек относила в палату к тяжелораненым.
И на поле боя ползала раненых подбирать. В очередной раз пополза на поле. Щупленькая, она прошмыгивала через любое заграждение. На этот раз поползла за связистом. У того вражьей пулей руки поранены, и не мог сам справиться с этой бедой, не мог сам дотащить аппаратуру. Девчонка и поползла.
Ранним утром связист молодой с совершенно седыми волосами, шатаясь, дошёл до своих. За спиной аппаратура привязана да примотана проволокой из колючки. Да не в том беда. А в другом: на руках тельце девчушки, обескровленное да надруганное. А с той стороны, из вражьих окопов на русском чистейшем языке в мегафон слышат люди слова: «вот так мы над вашими дочерьми и сёстрами надругаемся, как Москву заберём!» И хохот, как лошадиное ржание.
Девчонка без памяти и умерла. Доктор только покачал головой, как увидел, что сотворили поганые с девочкой. Места живого не было. Матка порвана в клочья. И у кого? У невинного чистого детства.
После такого раненые рвались в бои. А старообрядец взял в руки оружие. Ночами уходил. Никто никогда не спрашивал, куда ноченькой темною рвётся боец. А на прикладе после таких вот отлучек насечки новые появлялись. Вот так.
Грустная как-то получилась концовка беседы, с тем и свернулся мужской разговор. Перекусили, похрустев свежим зеленым лучком, редисочкой да картошкой в мундирах, на наскоро собранном под старой черемухой деревянном корявом столе. Нянька старалась угостить братьев на славу. Сдобренный добрым сердцем лучок, редисочка да крупной солью осыпанная картошечка в чугунке, ломти чёрного хлеба внавалку на клеёночке в пёструю клетку, – куда там ресторанам с их хрусталями, графинами да пьяным оркестром.
Тут благодать, тут такая идиллия, что академик прочувствовал, понял, как славно, покойно вокруг.
Черёмуха, пчёлы, надоедливо мухи, вода из колодца. Ах, как хорошо, по-семейному посидели.
При расставании брат вырвал у академика согласие на поездку: тот хлопнув ладонью, заявил: «сказал, завтра займусь, что я враг себе, что ли?».
Домой вернулся почти за полночь: пока в институте решал неотложно ждущие кучи бумаг, пока успокоил ревущий телефон, пока то, пока сё, еле добрался.
Аглая ждала в лучшем платье, тускло крахмальная скатерть блестела, хрусталь на столе пылал маленькими огоньками от люстры громадной – тишина, благодать. День деньской пробыв на работе, в разговорах с братом, в бесконечных пустых разговорах в министерских кабинетищах, практически одинаковых с разницей только зеленые или багровые дорожки ковровые тянулись по бесконечным коридорам исполнительной власти, про перекус у брата уже подзабыл, и жрать захотелось до рвотных позывов. Утрясся лучок, утряслась и картошечка. Ветка черёмухи позабыта в машине.
Накинулся на еду, а уж как Аглаюшка расстаралась. Балычок да икорочка, свежая водочка в хрустальном графинчике, копчёный язык да картошка с селедкой. На столе только что не хватало гранатов да мандаринов.
Накинулся на самое на любимое: дымящаяся картошечка, истолчённая с маслом до полной воздушности, селёдка с лучком да с маслицем вмиг исчезли, даже хвост от селёдки обсосан на нет.
Напитался, насытился, едва дополз до дивана.
Аглая на цыпочках, чуть не дыша, поубирала в столовой, скрепя сердцем, губёнки кривя, перемыла посуду. В какой уже раз пожалела, что нянька ушла. Сколько растрат из-за старой дурёхи, сколько хлопот. Попробуй ка срочно найти поваров наилучших на скорую руку. Телефон покраснел от натуги хозяйки, а всё-таки выкрутилась, всё обошлось.
Повара из «Пекина», «Астории» постарались поугодить привереде: подано да приготовлено с шиком, со вкусом. Предлагали и официантов прислать на подмогу хозяйке, та отказалась: повод не тот. Хотелось семейного, тихого вечера за дубовым столом. Повара понимающе покивали: а как же, а как же, семья то святое. Раскланялись, получили свой гонорар. На редкость прижимистая академша на сей раз расщедрилась, отвалила за счастье семейное по полной программе.
Остались довольны и служители культа еды, и служительница домашнего очага: стол был богат, вина из дорогих, скатерть, салфетки, куверты – настоящее чудо.
Остался доволен и поедатель обилья, уполз от стола почивать в кабинет.
Скрип старого дивана успокоил Аглаю. Села на стул, от пережитого волнения ноги дрожали. Передохнула, доела язык, перехватила икорки, и спать.
Сереньким утром, когда серый московский туман накрыл полстолицы, академик проснулся с сердцем тяжёлым. Полежал, покрутился, перелопатил в большой голове планы на день. Вроде, нормально, всё успеваю. Может, успею заскочить разузнать про путевку. Но такой же серый туман, что стелил за окном свои клочья, покоя не дал: вползал в тишь кабинета ядовитым серым клубком, давил на мозги: что-то не так, что-то не клеится.
И вдруг набатом в висок: Мишка, внучок!
Подорвался, на ходу втиснув ноги в разношенные тапки (сколько Аглая мечтала их выбросить, да не давал, больно привык к тёплой овчине), потопал на кухню.
Вспомнил, что няньки то нет, гостюет у брата. Нянька сама вчера говорливо поведала свою версию перехода к старому доктору: поясница замучила, стеснительно у Глафиры Федуловны (ах, как было проговорено это Глафира Федуловна, как было сказано! Если бы академик был чуть прозорливей в отношении баб, сразу б всё понял, а так, мимо ушей пропустил сарказмы старушки) каждый раз докторов вызывать, когда свой доктор имеется. Брат покивал, стрельнув взглядом: молодец, таки, бабка, не стала дрязги наружу вытаскивать, помои хозяину на голову выливать.
На ходу развернулся (снова кольнуло где-то сзади, ближе к лопатке), потопал к спальне Аглаи. Та дрыхла, храпя и постанывая. Свесившаяся с кровати рука покрыта сине-багровым налётом: проделки сыночка. Вчерашний наряд скрывал эти руки, и плечи, а сегодня смотри, как разукрасил сыночек мамульку.
Во сне постаревшие тело, лицо, где морщины гуляли тёмными оврагами без пудры и кремов, во сне Аглая была настоящей. Постарела она, постарела. Вроде отлучка с мужем была по привычке недолгой: всю жизнь ожидала его из дальних и близких отлучек, но сейчас резко видно, как постарела супруга. Академик тихо поднял скользнувшее на настоящий персидский ковёр (особо приближенным людишкам Аглая шепотом хвасталась, что ковёр этот привезли после встречи глав государств в Тегеране. Ковёр, и вправду, шикарен: толстый ворс, а ноги скользят, как по шелкам, рисунок не бросок, а идеален, ну, просто таки очень дорогая скромность валялась под ногами академши) вчерашнее платье супруги, осторожно поправил подушку.
Жалко стало супругу. Почему то подумал, что лучше стареть вместе. Тогда не видно как бороздят морщинки лицо, как виснет шарпеем кожа на теле, как обрюзгший живот не удержит ремень.
Посмотрел на багровые синяки: может, ударилась где, подскользнулась? Пожалеть бы жену, да за утренним чаем обсудить, посочувствовать, но только вздохнул академик. Ждали дела, ожидали людские проблемы. Двери квартиры закрылись. Академик отправился в люди.
Глеб разминулся с отцом в двух-трёх метрах. Машина отца только свернула на шумную магистраль, как Глеб нырнул в подворотню двора из другого угла, из переулка.
В столовой крахмал скатертей, лилии в хрустале, отцовский пиджак небрежно наброшен креслу на спинку.
Ого! Полупьяная тварь почуяла нюхом беду, и Глеб тихо, на цыпочках выскользнул из квартиры.
Академик пробыл три недели в хлопотах, чаще заезжая к брательнику в гости, чем повечерять домой. Добирался, стараясь не сильно шуметь, к кабинету, укладывался на всегда свежую простыню, а утром, чуть свет, на работу.
Ну, и, конечно, забыл про путёвку. Да и брат больше не стал напрягать: понадеялся на честное братнино слово. За хлопотами по работе забылись женины синяки. А когда вспомнил, она отшутилась, что, мол, с непривычки на кухне она навернулась на мраморный подоконник.
Был бы врачом, так понял бы сразу по характеру повреждений, что жёнушка врёт оголтело, а он что, он геолог. Подоконник так подоконник, «ты уж поосторожней».
Про сына наврала, что в лаборатории его ценят, вот отправили в командировку недельки на три. Тем успокоила мужа. Для него командировки дело привычное, дело обычное.
Жена ожидала, что осенний сезон не отнимет супруга, раз полёвка (полевое лето в экспедициях на жаргоне геологов) закончилась. Ан нет, где-то там, наверху было мнение, что нужно срочно, очень сильно и срочненько так, отправиться академику на поля. Страна ожидала новой руды. И поехал трястись в вагонном удушье он то ли в Забайкалье то ли на Алтай. Аглая не помнила, географию знала слабенько. Ни в Забайкалье, ни на Алтае ковров персидских отродясь не бывало, так чего ей было знать про захолустье страны?
Уехал. И тут началось! Что ни день, то пьянки, попойки. Теперь уже дружки Глеба протоптали дорожку в квартиру богатую. Разойдутся дружки, подначат его, и Глеб принимается за работу клянчить или силком отнимать у матери деньги, благо академик опять оставил доверенность матери. В пьяном угаре порвал фотографии сына, стоявшие в кабинете отца. Мать после этого на три замка заперла дверь в кабинет. За утрату камней, книг, телефона с правительственной связью, и, главное, фотографии внука муженёк «наградил» бы сполна и её и сыночка.
Пропадать стал подольше. Академика деньги кормили, поили всю окрестную шелупонь. А как кончились деньги, забегал «покормить» мамашу тумаками, тычками, та откупится, он снова на гульки.
Зарос щетиной, завонялся. Чехол благолепья давно соскользнул с тощего тела. То ли бомжара, то ли какой-то другой отщепенец, ну, уж никак не сынишка величавого академика.
Как-то столкнулся нечаянно с Сонечкиной мамой, так та не узнала, брезгливо отшатнувшись на мраморе лестницы от пьяного оборванца.
Да и что ему оставалось? Драгоценности матери? Так всё поистрачено на бесполезняк его пребывания у лучших и самых лучших у врачевателей. Одежонка да книжки ушли на рынки блошиные. Мало ли их, что ли, в громадной Москве? Оставалась постоянная, до противности регулярная масса купюр зарплат академика. Их и тянул. А что, много матери надо? На кашу да творог ей денежек хватит.
Дошло до того, что стала должать она за квартиру. Куда-то тихо пропали молочницы и мастера, особенно после того, как отказалась платить за замки на дверь кабинета рабочему, которого вытребовала из домоуправления.
Квартира стала быстро дряхлеть, догоняя хозяйку. Стали двери скрипеть, стены посерели от пыли, бывший блеск мастики паркета местами чернел. На кухне месяцами не мытая метлахская плитка. Плита закоричневела, повспучивалась от пригорелой еды. Мусорный бак валялся картинно чуть не на середине помрачневшего помещения.
Зашел бы сейчас академик и ахнул: где всё, где? Но академика не было месяц, и три, полгода прошло, уже и зима перекатила на свою половинку.
Глеб как раз находился в стадии жуткого безденежья, не набрав у матери и на чекушку. Та вовремя не смогла отправиться в институт за очередной порцией сторублевок: приболела. Стало шалить давление, и на погоду мигрень разыгрывалась не на шутку, едва доползала к крану с водой. Ей давненько-давно было не до паркета, плиты или мытья плитки метлахской. Самой мыть не царское дело, нанять баб, а деньги откуда? Сынок отнимал до последней копеечки.
Сын от злости привычно набросал матери кулаками по рукам и спине, с налету (научился же где-то, подонок) ногой добавил по пояснице, хлопнул дверьми, и затрусил с весьма деловитым видом по улице, перебирая ногами, перебирая мыслями: где поразжиться на пару чекушек.
А что не попробовать смотаться в Сокольники? Затрусил на трамвае. Вагоновожатая не осмелилась подойти за билетиком: уж больно пьяная харя была агрессивной.
Перебрался через дорогу, поплыл вдоль заборов, палкой стуча по штакетникам. Псы разрывались, шавки помельче скулили за будками. Переполошил округу, страшно довольный своим поведением.
Доктора не было дома. Работа с детьми отнимала все зимние дни, а, зачастую, и ночи. Детей в Москве много, детишки болеют. Куда им деваться от корей да коклюшей, ветрянки или какой там другой детской напасти. Мотался старый доктор, ковыляя по лестницам, по подвалам, по этажам. К вечеру нога ныла, крутила, и характерная поступь, что в просторечии называлась «рупь двадцать» (рупь – тон голоса выше, двадцать – тон опускается) становилась отчётливее и заметнее.
Ногу поломали давно, ещё при царском режиме: отхайдакали молодца казаки плетями, да так, что-то там хрустнуло, перебилось. И стал молодец добрый калекой. С тех стало «рупь двадцать» натурой. Сам себе пошучивал, что «замуж меня кто же возьмет?» Так и ходил характерной походкой: так кто б его вылечил, бедолагу? На всю сибирскую глушь не то что хирурга, просто доктора не найдёшь. Коновала чаще в селе или деревне повстречаешь, чем врача по людскому составу. С тех пор вбил себе в голову: пойду в доктора. А тут революция. Вот и подался учиться в Москву. С отличием кончил он медицинский, получил в больнице работу: врачи нарасхват. Даже домик в Сокольниках главврач ему выбил: живи.
Со временем вытащил брата из сельской таёжной глубинки. А тот, эвона, как развернулся. В гору пошёл, академиком стал.
Почему пошел в педиатры? Так дети честнее, хотя с ними намного труднее: иной ребятёнок не может ни гукнуть, ни слова сказать, что там болит, где там проблема. С пол-Москвы вылечил ребятишек. Дети имеются у академиков, у кухарок, министров и даже у партийных работников. Сам ставил диагнозы, ставил уколы. И странно. Дети его совсем не боялись, больше боялись да охали мамки и няньки, да иные мамаши картинно так падали в обморок при виде шприца.
Время летело: вначале месяцы или дни, а потом и годочки со свистом летели, добавляя болячек, но никак не зарплаты. Сколько уж лет отработал, а всё врач рядовой, в обычной больнице, в обычном районе.
Даром, что пол-Москвы к нему ездило за советом, благодарили, конечно, но всё улетало то в детский дом подкормить ребятишек, то на ремонт старого дома, то на книги. До книг старый доктор был страстен, как брат. Оба мечтали о книгах, великие книгочеи.
Зарплата у интеллигента известно какая: не больно то разживёшься, но Глеб вознамерился вытянуть хоть парочку пятаков.
Нянька подслеповато, накинув шалёнку на сгнутые плечи, шаркала валенками до калитки: кто там озорничает по улочке тихой?
Свежий мороз не пьянил, наоборот, отрезвил, и Глебка добрался почти молодцом до заветной калитки. Старая бабка обрадовалась молодцу: «Глебушка, миленький, ты ли то будешь?». Захлопотала, стараясь поднять примерзавшее к крылечку ведёрко со свежей водицей: «чай, оголодал, добираючись. Сейчас, сейчас, внучек, чайку подогрею, сахарком поделюсь».
От подзабытого «внучек», от «сахарком поделюсь» ком в горле, и Глеб чуть не всплакнул от доброты старой няньки.
В ранних сумерках посидели, разговорились два одиночества за чайком да душевным ладком. Тихо снежок синел за окошком, заметав Глебкин след в маленький домик, тихо урчал старый кот, тихо ворчал старый чайник. Ах, как хорошо, как славненько посидели.
Старушка заохала: «что при темноте то сидим». Поднялась было зажечь лампу. Эта процедура давалась ей ежевечерне с великим трудом: лампу нужно было зажигать непосредственно, покрутив её по часовой. Выключателя в комнате не было, и старушке нужно было передвигать табуретку, двигать к столу, вскорячиваться на табуретку, чуть не на цыпочках тянуться к лампе треклятой, а потом умудриться сползти с табуретки, дотянувшись вначале одной ножкой до пола, а уж потом и второй. А посему часто и густо сидела в потёмках, а то и за свечкой. А что, не страшно при свете, и ладно.
Глеб перехватил инициативу старухи. Покрутил лампу, и стоваттовка залила комнатушку резким светом. Кот шарахнулся за порог, старушка за ним. Глеб решил скатёрку-клеёнку поправить. Поправил, и на столе забелел конверт треугольный. Чисто из любопытства посмотрел на конверт. Резкий свет осветил адресок на конверте, но главное, почерк! Ухнуло сердце, ударившись в пятки, опять подскочило на место: Варенькин почерк, жены. Схватанул тот конвертик, почти на бегу попрощался с старушкой, поцеловав на прощанье морщинки: «спасибо, нянька, спасибо!», – и побежал.
Ах, если бы знала старушка, чем обернется то чаепитие, оторвала бы руки себе, которые гостя кормили, сахарочком попотчевали.
А так растрогалась старушенция, рассопливелась: Глебку то вынянчила с младенцев, поди, как не растрогаться, как не поплакать, нашел всё же времечко проведать бабульку.
Доктор доплелся до дома чуть не с последним трамваем. Свет в доме озарял и черёмуху за окошком, и страдальца-кота, задрыгшего у порожка, и открытую настежь калитку (Глеб так старался бежать, что в голову не пришло калитку прикрыть), которая так и болталась на стылом ветру, скрипя и страдая от наглого поведения редкого гостя.
Старушка невинно сопела в своём закуточке. Доктор доел остатки пиршеств, завернул стоваттовку и задремал, убаюкивая свои ноги. Не до конверта, не до Варюхи. А утром, рано-ранёхо подался в больницу, на ранний приём, стараясь не разбудить чуткий старушечий сон.
Нянька, что нянька? Склероз, чёртов склероз, и нянька забыла про письмецо от Варюшки, что давеча почтальон принесла.
А в том коротеньком письмеце Варенька доложила, что Мишка здоров, что сама не хворает. Просила передать академику, что всё у них ладно, в гости звала. О Глебе или свекрови ни слова. Но, главное, был на письме адресок. Африкановский.
Глебка разжился деньгами немедля. Матери как раз дома не оказалось, где-то шныряла в поисках счастья. Сорвал золочёные кисти со шторок, схватил пару книг с золотым переплётом, что чудом дома остались после его татарских набегов, пошарил глазами, где что лежит, добрался до кабинета.
Вот как на грех, забыла Аглая дверь в кабинет запереть. В голове кружило давление, сердце пошатывало, вот и зашла в кабинет за порошками, которые когда то доктор оставил. Ну и забыла дверь запереть.
Глеб хватанул со стола драгоценный пюпитр малахита. Его подарили на академика юбилей какие-то люди. Затем открыл ящик стола – и, о счастье. Прям на виду – пистолет!
Академику по должности полагалось оружие. Он никогда им не пользовался, считал, что зачем? Пару раз было сдавал на хранение, куда надо, но серьёзные дядечки приносили обратно: положено. Так и валялся в столе с парой пачек патронов.
Пистолет и патроны засунул в карман: брюки широки, и не заметишь опасной игрушки. Сложил в скатерть поживки и за порог. Вахта у входа скучающе посмотрела на странно трезвого сына академика из *** квартиры: подниматься со стула да открывать ему двери? Чего это ради, не академик. И снова вздремнула.
Бегом – на вокзал. Прямо там, на вокзале спустил знакомой барыге пожитки, едва хватило на общий вагон – ну, и ладно. Жратву? Так в поезде разживемся. И покатил шумный поезд подаль от столицы в сибирскую глухомань.
Мишка бежал по сугробам к вокзалу. Мать сзади плелась, на ходу окрикая: «Мишаня, не беги же так, не беги». Да куда там. Что плестись рядом с мамой, которая уже месяца два тихо ходила, бережно неся в животе драгоценную ношу. Варька была почти на сносях. Свежий морозец, свежая стёжка к вокзалу, поезд, что уже ревел вдалеке, подавал сигналы о своём приближении.
Здоровый мальчишка, а значит, энергия требует выхода. Естественно, что егоза бежал к вокзалу быстрее мамаши.
Бежал, торопился: поезд примчит его папу.
Когда сел тогда с матушкой в поезд, даже не хныкал. Мать была такой измочаленной теми невзгодами, что навалились в Москве, что мальчонка своей детской чуйкой понял, как матери плохо. Сели в поезде, подремали.
Ну что. Двое-трое или четверо суток в поезде не посидишь, дремотой не обойдешься, хоть спи беспробудно: мальцу надо есть, да и матери в голоде долго не протянуть. Сидели, молчали: Вареньке стыдно попрошайкою становиться. Вон проводник косит взглядом на молодицу: чай ни себе, ни мальцу не берёт, от печенья и то отказалась. Бурчал, звеня подстаканниками, а Варенька отворачивалась к стылому пейзажу за тусклым окном.
Мишка, увидев капельки слёз на лице матери, тоже терпел, сопел молча.
Так длилось почти до обеда наступного дня. В вагон с шумом зашёл гражданин. Проводник показал ему место, нижнее, между прочим. Проводник попросил: «вы бы, мамаша, место бы уступили товарищу, он ведь с билетом на ваше местечко», но гражданин наладил быстро порядок: «товарищ, я лягу наверх, там быстренько укачаюсь, и так славненько будет, чего мальца трогать, пусть себе спит».
Варенька благодарно подняла очи на гражданина: высок и могуч, пол купе фигурой занял. Тот улыбнулся в ответ, побросал чемоданы на третью, верхнюю полку, сел на край места, хлопнул руками по коленям и приказал: «сооруди нам чаёк, а, товарищ? И неси, что там имеется у вагонного сервиса: чая стакана так три для начала, печенья, или что там ещё». Обрадованный проводник понёсся в каптерку, обернулся за три минуты. Стаканы звенели на весь плацкартный вагон.
Товарищ перехватил три стакана, забрал у проводника сахар да ломти галетного (небось, еще с ленд-лиза оставшегося заокеанского галетного печенья), поставил на стол. Из чемодана достал узел. В нём картинно соль белым белела на белом же сале, чёрный хлеб щекотал голодные ноздри. Товарищ смущенно: «товарищи в дорожку собрали». И добавил, глядя на проснувшегося проголодавшего малыша и Варюху: «ну что же, семья, давайте обедать».
Вот так враз и решил! С первого хлеба, что переломили в плацкартном вагоне.
Ехали долго, вдоволь наговорились. Варенька про себя рассказала, про Африкановку. Про свекровь да про мужа старалась не думать, обходила их в разговоре. Более баяла про Никитичну, про завод да Петровича. Товарищ в пути занимался и Мишкой: повторял упражнения, стихи вспоминали, рассуждали про зимний пейзаж, что летел мимо окон, про города и деревни, что оставались за дымком паровоза.
В Африкановке поезд стоял три минуты. Варя замешкалась, одевая Мишутку, а товарищ кому-то на вокзальном перроне помахал лопатой руки. В вагон забежали шустрые молодцы. Раз! И чемоданы товарища помчались к вокзалу на дюжих плечах. Два! Варькины тощие пожитки уносил другой гражданин. Три! Товарищ взял Мишку на руки, глазами показал Варьке – идём!
На перроне оркестр, свита мнётся на стылом морозе: Сибирь! Ранние звёзды шепчут в морозном тумане, синие сумерки ложатся на белые снеги степи. Варька успеть не успела и охнуть, как товарищ, взяв её под руку, подвел к группе встречавших, коротко отрекомендовал: «знакомьтесь, моя семья».
Вот так Варька и вышла впервые замуж за гражданина, за товарища, что являлся вновь назначенным директором её завода.
Как-то с лёту влюбилась она, как-то с ходу Мишка признал гражданина-директора за отца. Так же просто приняли за данность его такое уж в самом деле самостоятельное решение о семье.
Это потом уже выяснится, что погибли жена и ребёнок в минских пожарищах, что мать и отца замучили в лихие военные за него, раз служил в Красной Армии сын-герой. Остался один, прокрутился короткое послевоенное время по кабинетам, да напросился на фронт трудовой. С лёгкой душой отправился в Африкановку. Заводу как раз нужен стал руководитель, серьёзный мужик. Вот он и сгодился.
А Варьку он заприметил ещё на вокзале, в Москве. Как провожал её в плацкартный вагон какой-то дедуля хромой, как Мишка плакал по дедушке, как тощие Варькины пожитки проводник забросал в глубь вагона.
А потому с лёгкой душой променял «командирский» вагон с сытыми холуями на дребезжавший плацкарт с синими одеялами да суровым проводником.
Просто почти до обеда наступного дня не решался: робел. Это тебе не в атаку на танки ходить, это будет страшнее. Женщины, они (вздохнул про себя), они – женщины!
А потом, будет, что будет, решился. Чемоданы схватил и в вагон, где Варька сидела, старательно вглядываясь в толщу наледи на тощем окне.
Что ребятёнок голоден и сама Варька не сыта, чего объяснять, сам в детстве наголодался, голодные глаза детей с тех пор видеть не мог.
Женщина гордая, сразу видно, и такая красивая. И крепкий бутуз, помладше, конечно, чем стал бы сейчас его сын, но неуловимо похожий на сына крепеньким телом, спокойным норовом.
А раз мужчина, ты принимаешь решение? Так принимай! Он и принял.
В Африкановке, во избежание кривотолков, заехали, куда надо, подали заявления о вступлении в брак. Расписали мгновенно: директор завода, поди откажи.
Директору выделен был особняк. Оставался после Сёмкиных диких загулов, но Варенька перебралась к Никитичне: так привычней. А уж как та была рада, не передать. Над Мишкой боялась дышать. Варенька даже иногда и поварчивала: не балуйте Мишутку, вон как пестуете.
А та отмахнется, и ну давай потчевать своими шанежками да ватрушками мальца-удальца.
Работа Вареньке сразу сыскалась: стала создавать что-то вроде музея про завод, про Петровича.
Петровичу памятник выставлен при заводе. Ночами из сэкономленного железа мастерили макет, скульптор нашелся из практически местных. В голодных и вшивых бараках интеллигенции много, были не то что скульпторы и живописцы, была даже пара писателей и музыкант.
Макет есть, железа навалом (брали, конечно, бракованное), кузнецов-ковалей на заводе греблей греби. Каждый цех, каждый рабочий старался внести свою лепту, хоть чем-то помочь обустройству памятника первому Директору, лучшему человеку. Памятник так и получился: без натуги, без академщины, без помпеза. Поставлен памятник хорошему человеку. И если б не надпись на постаменте, не похожая схожесть лица с чертами Петровича, получился памятник бы человеку, Рабочему Человеку.
Без римской тоги, без френча иль пиджака стоял на постаменте Петрович в завуалированном, но все же читаемом ватнике. Правда, вместо валенок на ногах кирза. Но так стало и достоверней.
Приезжали из Москвы некоторые «доброхоты», придирались к словам постамента, к ватнику или кирзе – не солидно. Но постарался, на самом верху оказавшийся, бывший Первый секретарь обкома партии, заявивший на заседании Политбюро, что страна в неоплатном долгу перед простыми «ватными» мужиками, бабами в застарелых платках. Без них Победу не выкуешь, сидючи в кабинетах.
Первый трубкой пыхнул, усмехнулся в усы. Так памятник устоял.
Знал бы скульптор, что этот затерянный на просторах Сибири памятник человеку лучший из всех, что лепил на потеху и ставил в парижах. А, может, и знал, да помалкивал в тишине вонючих бараков, где нашёл свою смерть.
Так победила голая правда, мужицкая правда, рабочая правда, и не стыдно большому художнику за ваяния мастерство, за лепту в большую работу.
По ходу жизни семейной выяснилось, наконец, обстоятельство, почему Варвара при ребёнке осталась без мужа. Выяснилось и то, что замужем то, она, оказывается, и не была.
По-первости, когда увозил Глебка в Москву, оба и не подумали оформиться в столе записи актов гражданского состояния. А в Москве Аглая быстренько сообразила: зачем ей обуза? Квартиру делить? Ну, уж подвиньтесь. Жить пусть живёт, ребёночка родила? Ну и славненько, младенцу место найдётся в богатых хоромах. Ну и мамаше найдём уголок, куда ребёнку без матери?
А когда уж сильно интересовался домоуправ, кто ж такая за молодица да при ребёночке проживает, ему рот затыкался подарочком: коньячком, балычком. Сильно не баловали. Хватит с него дармового коньячного пойла, и с душком балычка.
Работать Варенька не работала, без прописки московской не взяли бы даже уборщицей, а потому Аглая терпела «нахлебницу», чтобы тайна сия не всплыла.
Академику невдомёк про юридические тонкости замужества Вареньки и проживания. Домоуправ к нему не осмелится подойти: академик! А другой кто заложит? Глеб, так ему всё равно, со штампом в паспорте или без жёнушка ненаглядная. Няньке? ну, не смешите меня.
А теперь бегство из стольного града не потребовало всяких ненужных формальностей. Нет штампа в паспорте о прописке, нет и москвички. Нет штампа о браке, ну и не надо, мать у ребёночка есть? Есть! Вот и славненько, на одну мать-одиночку в стране больше стало. Ну и славненько. После войны люди нужнее воздуха стали, а где их набрать, не в капусте ж искать? Вот пусть бабы рожают. Для зачатия или рождения штамп в паспорте вовсе не нужен.
Аглая сама ходила метрику справить, громко и явно жалела невестку: чего ей идти с младенцем на руках метрику выписать. Уж возьму на себя эту обузу, говорила Аглая, помогу семье молодой.
Так и оказалась Варвара не замужем, а в свидетельстве о рождении (метрике, как тогда говорили) у ребенка вместо отца зиял прочерк в графе. Это Варя узнала уже в Африкановке: как Мишку устраивать в садик, так метрику и потребовали. А в метрике вместо родителя прочерк позорный.
Хорошо ещё, что директриса, знавшая Варьку с военных времён, тактично молчала, но самой Вареньке как стало обидно. Дома кинулась чуть ли не в рёв, Никитична утешать, да умные мысли высказывать.
Когда муж в ночных полутёмках вернулся домой, Варенька и Никитична (обе ещё не ложились, ждали кормильца) доложили про Варькин огрех. Алексей решения принимал чётко и быстро, по-военному: «что забор городить? Завтра Мишку оформлю, запишу на себя. Сын подрастает? Растёт! Вырастет сын, и фамилия моя не закончится». Хлопнул ладонями по коленкам: «возражения есть? Нет возражений? Ну, тогда, бабоньки, слёзки утрите, и на боковую пора».
Ощущение счастья не оставляло семейства главу. Алексей как будто находился в состоянии полупокоя, полублаженства. Работы невпроворот, знай, поворачивайся, суток времени часа категорически не хватало: где это время, где его брать? Работал, ругался, хвалил, торопился. Завода дела захлёстывали, как при шторме кораблик. А ему всё за счастье, всё в радость. И толкотня в заводских проходных была в радость. И это при голоде на людей на сибирских просторах! У него народу валом, и он тактично отмалчивался на бесконечных совещаниях в министерстве, когда другие директора заводов жаловались на людскую нехватку. Радость была и девятом вале работы. Разве то лучше, когда работы то нет? Со скуки подохнешь, запьёшь. Крутится сутками на заводе, вырвется на пару минут (не часов) в Африкановку, и опять счастье накроет тёплой волной.
Заскочит в избу, а там за столом Мишка ногами болтает, успевая одновременно и ногами в толстых носках (Никитична постаралась) болтать, и шанежку лопать, и молоко из большой деревянной жёлтой кружки отхлебывать, и Никитичну поправлять: «не серый колчедан, а серный! Так дедушка говорил!».
Никитична в таких же толстых носках, шалёнка накинута на старые плечи (Варькин московский подарок грел и душу, и плечи), пережёвывая мягкую шанежку, ворчит на Варюху: «хватит полы то отдраивать, садись-ка за стол, шанежки стынут».
А Варя поёт!
Как вернулась домой, в Африкановку, так будто не говорила. Все время поёт-напевает чистым голосом горнего хрусталя.
Вот и сейчас напевая «Помню я еще молодушкой была», Варька елозит на деревянном полу, оттирая скребком жёлтые половицы. Чистое дерево источает свой аромат, парком наполняя избушку: «сейчас я, сейчас, я быстренько управляюся». Шанежки на большом деревянном блюде тоже источают свой аромат, вторит дымок тёплых шанежек тёплому чистому аромату чистых досок. Благодать!
И накатит волна ощущения счастья, что впору взрослому мужику слёзы ронять. Вместо слёз, утаив в горле комок, подскочит к мальчишке, вытрет белые усики над розовым ртом, и айда к потолку сынишку подбрасывать.
Бабы суетятся: «он же только поел, не подбрасывай. Сам лучше сядь, перекуси, пока тёплые шанежки». А Мишка визжит от полной шенячьей своей радости: «ещё, папка, ещё!».
Посмотрит на часы-то – пора. Варька сунет ему узелок с тёплыми шанежками, молока нальёт в деревянную флягу (в Сибири керамика не приживалась. То ли глины подходящей, как на Украине, не оказалось, то ли от переизбытка леса – тайга! и потому посуда чаще была деревянной, а то и металлической. Побогаче держали из серебра, победнее из олова мастерили, лудильщики-мастера зачастую в почёте), и айда директор в машину. По дороге на завод наедятся с шофёром шанежек, пока не остыли, молоко разопьют, и опять хорошо.
В другой раз заскочит: полна хата народу. Пацаны на полу устраивают танковые бои. Мишка за заводилу. Предмет гордости – танк. Как настоящий, выточен из дерева танк. На одном светло-жёлтом боку надпись чернеется «На Берлин!» и «Смерть фашистам», на другом ярко-красная звезда алеет, уже захватанная пацаньими пальцами. Выточены трак и гусеницы, даже дуло смастерено умелыми чуткими пальцами. Это Никитична постаралась. Когда навещала друга старого, что так и мыкался отшельником на заимке, взяла с собой Мишку. А тот старика вовсе умучил своими глубочайшими познаниями в танковых делах. Зря, что ли, всю дорогу до Африкановки они с папкой про танки беседы беседовали. Мишка выучил и про часть ходовую, и про угол поворота орудия, про пулемёт. Всё знал о танках сопливый мальчишка. Отшельник и расстарался. Вместе со свежей порцией посуды, что наточил для хозяйства Никитичне (и туеса, и блюда для шанежек, и кружки, от самой большой для хозяина, до самой маленькой. Нет, не для Мишки, а для будущего поколения, что народится вскоре в семье Алексея) передал для ребёнка модель танка Т-34.
Мишка, как только танк получил, рванул к дружбанам. И наполнилась хата мальчишек оравой. Орали, визжали, танковый бой был в самом разгаре. За танки фашистов сошли старые рваные башмаки, за танки Мишкиного полка (Мишка заважничал, став целым танкистским полковником, прямо как батя) шли машинки-полуторки. Это пацаны натащили богатство своё. За пехоту, куда на войне без пехоты! сошли щепки, что приготовили на растопку печи. Война, брат, серьёзное дело, и пацаны на вошедшего взрослого не обращали внимания. Танк в этом время как раз преодолевал водяную преграду, и старый таз, что изображал то ли Одер то ли Вислу, сочился водой, и это становилось громадной проблемой для воевавших сторон.
У стола, за которым сидела Никитична с вышиваньем коклюшками тихо. Как мышки, столпились девчушки, сопят потихоньку, глядят как Никитична ловко стучит потемневшими от старости коклюшками. И как будто само по себе рождается кружево. То ли покрывало на подушки рождается, то ли скатерть ещё одна, то ли беленький треугольник к покрывальцу младенца. Стол в доме, по обыкновению, покрывался ажурною скатертью. Но сейчас эта скатерть аккуратненько сложена, лежит на подоконнике. Голое дерево стола покрыто коклюшками, белеют нитки боббинами. Девочкам страшно некогда: едва успевают следить за ловкими тонкими старушечьими пальцами, что не путаются ни в коклюшках, ни в нитках. Никитична за разговором сетует: научить бы вас и вышивке, да где ж мулине то найдешь? И объясняет девчушечкам про ниточки мулине, про пяльцы, основу, крестик да гладь.
Варя у печки, что-то стряпает на скорую руку такой то ораве. И тихонько мурлыкает про бродягу, про баргузин (байкальский ветер).
Муж на цыпочках подойдет, она смущённо пожалится: еда не готова. Руки в муке, носик тоже в белой пудре муки. Смешно. И вновь хочется плакать. Проводит жена за порог, в тёплых сенях поцелует жену в губы (на людях стеснялись и он, и она проявлять свои чувства), шутливым жестом смахнет с носа жены белую пудру муки, и айда за порог. Голодный, а всё же счастливый до верхушечки до маковой головы.
В третий раз заскочит в тихую избу. Старушка и сын сопят в сладкой сне младенческой чистоты своих сонных грёз. Мишка свернулся клубком, голова на коленях старушки. Та носом клюёт да тихонько посвистывает носом, вторя сапу ребёнка. Варюха сидит за столом, разбирает экспонаты для будущего музея. Кто фотографии передал из старых рабочих из заводских, кто старый плакат, ещё довоенный, кто вещицу какую. Старается Варенька, занося экспонаты в тетрадь. Язычок прикусила, скрипит старым пёрышком, окуная в чернила, и фиолетовая вязь ровных строк ложится на серые листы старой тетрадки.
Напевает в полголоса, ещё больше убаюкивая сына с Никитичной, про чёрные очи да Дон казаков, да напевные украинские песни про кари очи чёрны брови. И где только понабирала старинных мелодий?
Поднимет на мужа глаза, заалеет. Брызжет счастье из громадных глазищ, волной накрывает. Бесшумно (ножки в теплых носках, что связала старушка) подойдёт, прижмётся к супругу. Век бы стоял, век бы держал тёплое тело в объятьях. Накормит прямо из чугунка (некогда стол накрывать, некогда обихаживать) тёплой картошкой в «мундире», он серого хлеба шматок проглотит, – пора. Опять пора за работу.
Уж как умудрились и смастерить себе пополнение, а таки успели.
Бежит Мишка к перрону, утопая в снегу. Варенька сзади (ну как ей успеть за своим сорванцом!) в старых валенках (бурки сняла, от беременности ноги так отекали, какие уж бурки) семенит по нахоженной тропке к вокзалу.
Пёс по кличке Буран мечется между Мишкой и Варей. Саблей хвост, крепкие лапы скользят по накату натоптанной тропки.
Пса подобрал ещё малым щенком всё тот же отшельник. Верней, отобрал у мальчишек, что бежали со Выселок топить замученного чуть не до смерти щенка. Выселки так и остались выселками. Люд там худой, ребятня подрастала, готовилась на отсидку по тюрьмам, колониям, истинные дети своих горе-родителей.
Отобрал щенка, выходил. Вырос пёс ровно что волком. Стал сер и громаден. Но верен, как пёс. От старика ни на шаг. А как преставился Богу старый отшельник месяца три как назад, Буран (кличку кто-то на Выселках дал Гураном, но отшельник почти не стал переучивать пса на новую кличку, просто слегка видоизменил с гурана (гуран – созвучное индейскому «гурон», так в Сибири называют метисов, т. е. людей от смешанных браков русских с местным населением) на Буран. Пёс сам пришёл ко двору, уложил своё тулово калитки вблизи, голову на лапы и ждал, пока Никитична не вышла по надобностям, по хозяйству. А как Никитичну то увидел, потащил до заимки. Так и узнали, что умер старик. Положили в могилу. Алексей вырыл её не на кладбище, а там же, в тайге, как и было приказано старым анахоретом. Пёс молчал, не выл, не скулил по хозяину. Никитична отпела старинного друга по христианскому обряду. Пёс и тут не завыл. Поставили крест над могилкой. Никитична настояла, и Алексей не посмел перечить старухе. Конечно, если на кладбище крест, тогда жди беды. Хотя на переломе войны отношение к церкви переменилось, и народу позволили в церковь ходить, но редко-редко кто бы осмелился водрузить крест над могилкой, разве что над самой над древней из местных старух. Может, Никитична и батюшку приводила, нам то не весть, а сама она тайны сберечь могла до могилы.
И сколько к ней народу подкатывалось разведать да разузнать, кто он, откуда странный пришелец, что на заимке жил одиноко, зачем поселился в безлюдной тайге? То урядник, ещё при той, при царской эпохе, как возвернётся с тайги, вызовет на допрос: что знаешь, рассказывай? Отмолчится, с тем и отпустит. Потом при новой власти комиссары допытывались: кто там в тайге гнездовище свил, не царский лазутчик? И тут отмолчится. В тридцатые НКВД прицепится к ней: кто да откуда на старой заимке избушку срубил, проживает безо всякого разрешения. Молчит и теперь.
Отставали все власти, приобвыкли в молчанию старой.
А что ей рассказывать старые тайны? Не свои тайны, чужие. Хотел бы дружище старинный сам рассказать, рассказал бы опричникам, что от старой да новой властей шатались без делу, крамолу искали, свой грязный хлеб отработав на нужды державы. Сколько раз хотелось ей крикнуть, что, мол, не там ищите, не ищи среди праведников волка в шкуре овечьей, среди своих массу найдёте. Да разве ляпнешь этим подонкам правду да истину: захомутают, да в каторгу. А Алёшку – куда? Ну и терпела ради приёмыша. И ради отшельника тоже.
Мало-помалу стал прозываться в народе как старец. Так и прилипло. С тем прозвищем и отошел мирно к Царским Чертогам на Небе, земля ему пухом. Никогда никого не обидел, к каждому с миром. А как ребятишек любил. Бывало, и разбойникам помогал. Увидит, кто в тайге замерзает, не в силах добраться до пожитья человеческого, кряхтит, а тащит на закорках исхудалого человека. Ну и что, чтоу того на руках иль ногах кандалы звоном звенят на морозе? Человек он и есть человек. Пусть там власти себе разбираются, за что заковали они человека в кандалы да оковы. А ему, раз человек погибает на стуже-морозе, выручать надобно. И выручал. Притащит в избёнку полумертвого беглеца, руки-ноги его в тазу с холодной водой отмочит. В тёплую или горячую воду нельзя: слезут и кожа и мясо, только косточки забелеют. Отваром горячим отпоит болящего, за пару недель откормит таёжной едой.
Бывало, что и слова в ответ доброго не услышит. Добредёт к вечеру на заимку, добывая в тайге пропитанье, а гостя след уж простыл. Иной гость не брезговал и пожитками старика: то миску прихватит, то старые унты. А старый только покрутит седой головой, усмехнется в бородку: что миска? Новую сточим. Что унты? Эва, валенки есть.
Ружья не имел. Ножи, да, ножи были. Как в тайге без ножей. Но таскал их с собой всегда обязательно: и себе в тайге надобно, и гостям с кандалами ножи ни к чему.
Это потом уже, когда избушка его на заимке разрушилась без хозяина от старости да от ветхости, обнаружился и тайник. Вырыт в полу, в вечной мерзлоте аккуратный квадрат, обложенный мохом и камнем. А там в старом знамени, в стяге, что от сырости да от годов весь поцвёл да истлел, стопка бумаг, да награды царизма, да погоны поручика царской гвардии. И фото, на котором едва что едва угадывалось лицо очень статной дамы, сидящей перед камерой аппарата, да лицо бравого офицера, стоявшего чуть позади её. Кто они, что они? А Бог его весть. Нашедшие клад не стали в музей относить: в советский музей да царские шмотки? Стяг на портянки, бумаги в растопку, медали детям в игрушки, а фото теперь и не помню, куда подевались. Был тот поручик отшельником старым, не знаю, не ведаю. Может, и был. А, может, и схоронил в погребке тайну чужую в годину лихую. Не знаю, а врать не научена.
Так вот, Варька бежит-семенит к перрону, где скорый поезд стал уже выгружать приезжий народ. Мишка уже почти на перроне, звонко кричит на свежем морозце: «папка, папуля», Буран в двух метрах, сзади за Мишкой.
И тут, как в кадрах немого кино перрон. К перрону несётся мальчишка, кричит узнаваемое «папа». Сзади собака, здоровенная псина. Дальше, метрах так в ста, женщина на сносях, семенит туда же, к перрону. На перроне народ. Немного. Толстые тётки с вечными семечками в вечных кульках. Толстые не от природы, а от одёжи, что надевалось на тело в защиту от сибирских метель. Постовой, что окидывал цепким намётанным взглядом всех приезжающих, приезжий народ, что суетился близ своей ноши, чемоданов, узлов. Кое-кто отличался от пришлого люда: вон, тощий какой почти оборванец, одетый явно не как для Сибири. Пальтецо «на рыбьем меху», ботиночки, и ни валенок, ни шарфа вовсе нет. Ни клади, ни багажа. И явно со следами недавнего пития на несытом лице. Вот этот оборванец, что выполз из самого из дальнего из общего из вагона, так рванул, с такой прытью на это детское «папа, папуля!», что постовой не успел среагировать. А должен был, должен был среагировать!
Мужчинка схватил под мышку мальчишку. Мишка опешил от нападения мужика, но через доли секунды стал вырываться из цепких объятий пьяного дяди. Немытое тело незнакомца воняло спиртным, общим вагоном, ещё гадостью неизвестной, что въелась в кровь похитителя.
Варька? А Варька остолбенела, узнав в полупьяном том мужике бывшего мужа.
А Глеб, почти всхлипывая от радости, что сынишка папку узнал, тащил сына в чрево вокзала. Сам себе умиляясь своим поведеньем, что вот, он, сынишку в вокзал принесёт, накормит, сам рюмочку выпьет за счастье такое, расспросит про мамку. И уже с сыном придёт к Варе в дом. Поди, тогда она его и не выгонит, поймёт, наконец, какого мужа утратила, потеряла. Мысли такие и в полсекунды вместились в его голове, а в следующие пол-мгновенья он обернулся на женский вопль: отдай сына, отдай! То Варька очнулась, рванула к перрону.
Глеб обернулся, как и все на перроне, на крик какой-то беременной тётки в валенках старых, что бежала к перрону, орала во всю глотку: «сына отдай». И только тут, и только сейчас опознал в этой грузной, сильно беременной женщине свою бывшую жёнушку.
Мальчишку из под правой руки перекинул под левую, зажав как клещами детское тельце, а в правой руке оказался пистолет. В пьяном угаре вагона нашлись ему собутыльники, кормившие и поившие его до самой Африкановки за слезливые его рассказы про сынишку, про Вареньку, да про обиды людей. Мужики охали, горевали ему на сочувствие, да поили-кормили страдальца, так невинно терпевшего муки людские. Навеселе Глебка был классным рассказчиком.
И теперь из окна отъезжавшего от перрона вагона наблюдали его собутыльнички, как Глеб хватает ребёнка, как из-под полы достаёт пистолет, и как целится на добегавшую к белому от снега перрону женщину на сносях. И что удивительно. Не пропил Глеб находку свою пистолет, будто знал, что вот так пригодится. Спал в одежонке? Но так спали все в общем вагоне: и холодно, и чужой кто не сможет позариться на барахлишко. И когда только смог зарядить пистолет?
И уже не смогли увидать враз прилипшие к окнам вагона скучавшие до того отправляющиеся, как медленно-медленно (так Варьке казалось) поднимается тощая рука. В голых руках без варежек-рукавичек чёрное дуло чёрного пистолета. Как из круглого дула летит к ней медленно-медленно жёлтая пуля, как ровно на середине пути маленькой жёлтой смерти рывком распласталось в воздухе серое тело громадного пса. Как первая пуля багрянцем кропит тело Бурана, вторая направлена в голову ей.
Но то ли Бог отвел руку стрелявшего, то ли руки его дрожали от вечных пьянок (тремор пальцев рук – явный признак алкоголизма), но попала пуля вторая опять в верного пса. Медленно-медленно тело собаки вздрогнуло, а потом стало мелко-мелко трястись сколько мгновений. Опускается медленно туша собаки на белый снег, окропляя его алой кровью.
И тут пёс не скулил и не ныл. Посмотрел большущими почти человеческими глазами, нет, не глазами, очами, полными боли, на Варьку. Прошла последняя судорога по всему туловищу, и пёс сдох. Только что тёплое, мощное тело собаки неподвижным комком плавно ложится на белым-белым снег, припорошивший наледь тропинки.
Это последнее, что видится Вареньке. Беззвучно она опускается на тёплый от крови снежок, валится так не картинно, так некрасиво. Как народ называет, ложится кулём.
И не видит Варвара, как набрасывается на того мужика её муж, запоздавший к перрону. Это его, в окнах первого вагона, увидели зоркие глазёнки сынишки, это ему предназначалось звонкое «папа, папуля!».
Выбивается пистолет из рук проходимца, вырывается из когтей тело сынишки, с размаху подножка дана, и валится тело на перронный бетон. А Глеб всё орёт, аж пеной рот покрывается: «паскуда, паскуда! Бл…кая тварь, чья ты подстилка? убью и тебя, и паскудного выродка!!!».
От дикой ревности, только как осознал, что та беременная, что смешно ковыляла к перрону, являлась любимейшей Варенькой, что та, которую он так обожал, так лелеял и холил почти в царских московских хоромах, носила в брюхе своём чье-то чужое потомство, только как осознал, так рука, будто сама по себе, выхватила отцовский пистолет, сама навела на цель – на изменницу.
Собаку сперва не заметил. Видел лишь Варьку, с большим округлым таким животом, с некрасивой походкой, видел только эту паскуду, которая заслужила его пистолета!
Первая пуля пришлась по собаке. Какая досада! – мелькнуло в его голове. Вторую точно прицелил по животу бывшей супруги: пусть сдохнет она и та тварь, что вот-вот должна народиться. А что будет дальше? Да зачем ему знать? Главное, сдохнут она и младенец. Не можно жить этой стерве, нельзя!
И, когда тащил его по перрону подбежавший, замешкавшийся было доселе, постовой, он всё кричал, оборачиваясь непрестанно на валявшееся на белом снегу женщины тело: «сдохла, паскуда, сдохла, бл…ая тварь! «Сдохла!!!», вопил крик его торжества.
Постовой насилу втащил его в глубь вокзала, запер в холодной камере, которая и предназначалась для таких вот, в основном, пересыльных преступников. И побежал к телефону докладывать по начальству скандал. А уж потом на перрон, фиксировать тело до приезда следственной группы.
«Эмка» уже увозила Варюху. Подбежавшие муж да ребёнок засуетились близ Варьки. Парнишка, мешая сопли со слёзами, звонко кричал: «маменька, мама, очнись!», дёргал мать за руку, за ногу, не замечая, как слёзы сосульками стынут на морозце.
Алексей первым понял, что Варенька в обмороке, крикнул парнишке: «Жива мамка, жива!». А тут уже набежали и тётки, побросавшие семечки, и детвора, что невесть как ниоткуда взялась на вокзале. Даже буфетчица бросила своё вечное место с застывшими пирожками. Вокзал наполнился слухами, что убили директора. Вокзал опустел так мгновенно, что выбегавший постовой одиноко стучал каблуками кирзовых сапог по бетону вокзала, и эхо гулко разнесло этот стук, как одиночными выстрелами по тишине.
«Эмка» мчалась к больнице. Вареньку нужно спасти, а, может, отчаянная мысль и у Алексея и у Мишаньки, удастся спасти околевавшее тело Бурана?
Из окон больницы весь персонал наблюдал, как мчится «эмка» директора: что-то случилось, что-то стряслось! Выбежали люди в белых халатах, на носилки погрузили грузное тело роженицы (муж рвался отнести Вареньку сам, да санитары не дали, оттолкнули директора), уважительно так отказали: «мы сами, мы сами».
В суете, второпях забыли про Мишку, а про Никитичну вовсе никто и не вспомнил.
А Никитична уже бежала на стариковских ногах к больничке. Скорострельная молва донесла до села, что на вокзале бандиты, человек этак шесть или семь, все с револьверами, убили директора, убили и жёнку его, а мальчишку в больничку свезли, может, спасут.
Обгоняли Никитичну машины начальников, машина НКВД. Слух про теракт обгонял и Никитичну, и бежавших к больнице людей. Нквдисты только тогда вздохнули свободно, как в коридоре пред дверью родзала (громко как сказано: родильный зал, на самом деле маленькая комнатушка, в которой кроме стола для родильницы и умывальника для доктора, ничего то и не было) метался директор, живой, здоровёхонький. А тот только рукой махнул на вошедших: тихо вы, тихо. Мишка птенчиком приютился на табуретке, замер: как там мамуля? Ни вздоха, ни плача. Сидел, как старик, с больными глазами.
И уже нквдисты не дали прорваться толпе, оттеснили наружу самых охочих до сплетен. Вышли на белое крылечко старой больнички, крикнули в народ: все нормально, товарищи, директор живой, ожидает, так как жена рожает ребёнка.
Эти слова услышала и Никитична, добежавшая к тому времени. Её пропустили. Села рядом с Мишуткой, обняла застылое тельце мальчишки. Только сердечко ребёнка билось так часто-частенько, ну ровно как птичка.
Села, обняла пацана, потом встала на колени, и вслух, не таясь, стала Богу молиться, отбивая поклоны. И только тогда Варя очнулась. И родила здорового пацанёнка, славного бутуза. Крепкого, почти в четыре кило. Богатырь! Богатырь заорал паровозным гудком, да так громко, так звонко, что рассмеялись даже чекисты: эка, какой молодец! А директор заплакал.
Глеб бился в истерике, понемногу приходя к осознанию происходящего. Был бы сейчас пистолет, застрелился. Но пистолет выбили на перроне…
Кстати, пистолет нашёлся не сразу. Еле-еле нашли у какого-то сорванца. Мальчишки с Выселок мотались по вокзалу, ища добычу, и наткнулись после нападения какого-то дядьки на брюхатую тётку, на черневшее на белом перроне оружие. Подняли оружие, подрались, кому присвоить такую бесценность, поклялись схоронить в тайне глубокой от взрослых находку. И молчали, как партизаны, только в тесном кругу обсуждая всё то, что тогда происходило на белом вокзале. Но НКВД умело работать, и пистолет был изъят, и приложен к вещдокам.
Но пистолета у Глеба не было. Не было ни ножа, ни даже ручки. А то бы острым пером процарапал бы вены, и дело с концом. Голые стены мрачного кабинета, намертво к полу привинченный табурет, намертво к полу привинчен такой же железный, как табурет, маленький стол. Окна в решётку. За высоким оконцем снег белеет в синеньком сумраке. Глушь. Тишина. И впереди только мрачная перспектива. Завоешь. И Глебка завыл! Полудикий взвой постояльца тюремной каморки пронял до дрожи буфетчицу, что задремала привычно, ожидая окончания смены на вахте питанья, да пару-тройку засидевшихся мужиков, что разложили на скамейке вокзала нехитрую снедь. Буфетчица уже устала их прогонять из вокзала: от её снеди казённой их, вишь, воротит. Но рабочим после смены ударной так хотелось хоть чуть-чуть посидеть, отдохнуть от работы, пусть даже на стылом вокзале. Разложили съестное, распили «по маленькой», очень живенько обсуждая всё то, что днем было на старом вокзале.
Вот их-то первыми, как свидетелей, и допросили. Нквдисты тщательно, под протокол, расспросили и мужиков, враз протрезвевших, и буфетчицу: что да как, да почему. Что знали, сказали. Да и расписались под тем, что им подсказали. А НКВД, пока ехало от больницы к вокзалу, решение приняло: оформить теракт. Раз население эту мыслишку муссировало, так, значит, тому и быть. Страсть как хотелось погончики увеличить, а кому и в столицу не грех перебраться за раскрытие террористического акта врага народа на красного на директора оборонного предприятия.
И обыкновеннейшая «бытовуха» раскрутилась по полной.
Забыли про Варьку, забыли про Мишку. Но не про Бурана. Тулово собаки торжественно-тщательно было обследовано, пулечки извлечены и приобщены в толстом жёлтом конвертике к делу. Жалко, пальчики на пистолете не сохранились. Пацаньё захватало рукоятку и ствол до самой до невозможности, заодно расстреляв ещё два патрона. Попали в собаку и в старого злого козла, который немало их мучил летними долгими днями. Мог неожиданно подкрасться к щуплому тельцу, да как навернуть рогами по попке. Ненависть была обоюдна. Козёл ненавидел мальчишечье племя, пацаны отвечали полной взаимностью. Наконец победил человек. С первого выстрела козёл поперхнулся жёлтенькой пулей, и сдох. Пацанва не успела нарадоваться недолгому счастью, как история получила огласку. Так и вышли чекисты на след пистолета.
Козла съели, пулечку извлекли, но приобщать к вещдокам не стали: начальство, поди, засмеёт.
Но и без пальчиков на пистолете вина Глебки доказана. Пухлый том содержал кучу свидетельств. Да и Глеб не стал отпираться. А как узнал, что Варька жива, да ещё родила здорового пацанёнка, сильно духом упал. И подписал, не читая, про предательство Родины, что он учинил, про теракт, что готовил заранее. Подробненько описал, как украл у отца-академика пистолет, как ехал в общем вагоне, оружие сторожил, как заряжал пистолет не полной обоймой (помните, что всего два выстрела произвел?). И на последний вопрос садиста-чекиста: мол, раскаиваетесь или нет в нападении (чекист скромненько умолчал, о каком именно нападении идет речь: нападении на директора или случайную жертву всех обстоятельств по делу), Глебка честно ответил: «я снова убил бы тварь, не задумаясь». Собственноручно написал на бумаге коряво это признание. И что ещё надо в те времена, когда признание было царицей всех доказательств (выражение тогдашнего Генерального прокурора Вышинского).
И что интересно. Глебку даже не били, что страшная редкость в те страшные времена. Редко редкое дело обошлось без доносов, без пыток, нелепиц в делах.
Тем и закончили короткое следствие. Толстых три тома накропали ретивые. Присвоен порядковый номер, как было положено, и докладывать по начальству скорей. Начальство тоже обрадовано до невозможности. Раскрыт, да так быстро, оперативно, да с такой доказательственной базой, террористический акт. И ничуть никого не смутило, что в деле отсутствовал допрос потерпевшего: ну, а как директор честно расскажет, как происходило? Зачем нам такое? Правильно, незачем. Естественно, Варьку тоже не было сильной охоты в ЧК вызывать. Кормящая мать о ребёнке лишь думает, стараясь забыть про ужас прошедшего. Пожалели бедняжку. Не стали ворошить свежие раны. За что им спасибо.
В деле есть террорист? Есть. Признание без раскаяния тоже присутствует? На полтома хватило. В Москве дело получило огласку, нужные люди развернули как надо. Вышестоящим доложено. Доложено Берии, доложено Сталину.
Берия правду узнал, посмеялся над дураком, спросил: «что, девка красавица»? Чекисты ответили честно. Беременная, на сносях, женщина особого вожделения не вызывала. Ещё раз посмеялся всесильный министр: «ну и дурак этот сын академика».
Кстати, об академике. Семья врага народа в те времена подлежала физическому уничтожению, и академика вырвали из таёжных глубин, присвоили приговором «десять лет без права переписки», и вышел старик стариком из застенка в 1956-ом, получив полную реабилитацию. Вскоре и умер.
С Аглаей поступили по-честному. По закону.
Поскольку квартира числилась за врагами народа, то есть за академиком и сыном его, террористом, жена академика подлежала немедленному выселению. И уважительных обстоятельств у неё не было, не нашлось. Побегала по юристам, поотносила последнее золотишко да панбархат невестки. А ей почти хором ответили, что, мол, был бы ребёнок какой никакой прописан в квартире, тогда бы у вас квартиру то отобрали, а взамен выделили бы где-то в Сокольниках, Марьиной роще, или на какой другой окраине комнату в коммуналке: живи. А так нет, не положено. Покусала бы локти Аглая, да невозможно сие. Повинила опять, в какой раз, невестушку бывшую, покляла непутёвую, пожалела себя, муженька, да сыночка. Но что, она, бессильная поделает с государственным гнётом?
Выбросили её барахлишко (в один узелочек поместилось былое богатство) на мрамор подъезда. Подняла академша пожитки и восвояси поплелась со двора.
Пока силы-силёнки совсем не оставили, искала сыночка. И не нашла. Про мужа получила известочку. Сухое казённое письмецо извещало, что такой-то тогда-то осужден советским судом по статье такой-то с формулировочкой приговора «за измену Родине».
И последняя степень надежды рухнула в пропасть: амба, конец.
Часто потом видели люди старую побирушку. Вокзалов в Москве не один, места хватало убогим и нищим, хватило и ей.
Кстати, на квартиру сильно претендовали Сонечка с мамой и папочкой-гинекологом, но отдали народной артистке. Той пригодилась и мебель, и хрустали, и кое-где сохранившаяся желтизна дорогого паркета.
А что с Глебкой? Да расстреляли сатрапы. Буднично-хладнокровно приставили пистолет к лысой проплешине, пулю всадили и нет молодца, несчастливого удальца, неудачливого ревнивца.
Я бы могла вам наврать, как окончание сказки со счастливым концом, что нашел-таки директор с помощью подраставшего Мишки деда его, академика, да как скончался старик на руках у горевавшей семьи. Но врать вам не буду, а правды не знаю.
Знаю одно. Труды академика издаются поныне. Внук стал на дедовый путь, на научную стезю жизни, и сегодня известен на пол-России, как хороший, добротный учёный. Правда, по медицине. Пошёл по стопам, значит, не в деда, а в старого доброго педиатра. Был бы жив старый добряк, порадовался бы за внука, за Варьку, да покоятся кости на кладбище старом в самой обычной могилке. Но изредка появляются там цветы. Незнамо-неведомо, что за добрые люди вспомнили старика. И то хорошо. Пока помнится о человеке, добром вспоминается, душа покойна его отдыхает на небе, в Божием Царствии.
И ещё. На семейном совете решили. Так захотел подросший сын Михаил, чтобы вернуть ему фамилию деда. И гордо носит фамилию деда внук, а теперь и дети его, и их дети честно служат России под скромной простой чисто русской фамилией, не уроняя ни чести, ни дедовой славы.
И фамилия та вовсе не Иванов-Петров или Сидоров. Нет, чистая русская, или, если изволите, славянская фамилия у него. Не спутаешь, не перевернешь на аглицкий образец: что-то вроде Смердяев или Крестьянкин, или вроде того. Может, просто Навозов? Или Холопов? Или Челядин он?
Красавица и монах
(крымская легенда)
В бескрайней пустыне жил то ли хан, то ли шейх. Богатый-ботагый, и… старый. Старый-то старый, но как он любил юных красавиц! Так любил, что решил раз созвать со всех концов своей страны юных девиц: и беленьких и чернявых, полненьких и худых, высоких и низеньких – всяких! А на самой красивой пообещал даже жениться!
И собрались красавицы с дальних краев, с ближнего мира – каждой желалось победить всех соперниц – стать самой красивой! Да еще и женой богатого шейха! Ручьями текли красотки к дворцу.
Отбор шел весь день, шел и на другой день, шел и на третий…
Как хороши были девицы! Как прекрасны глаза, груди и лица! От обилья красоток болели глаза, сердца стучали громко и сильно – комиссия по отбору работала честно.
К концу третьего дня шейх подустал, и решил для себя, что выберет ту, что придет триста тридцать третьей по счету – все тут красивы, чего уже там перебирать!
И жил в той стране бедный горшечник: товар его, хрупкий и ломкий, хотя часто и бился, но был так дешев! Вот и кормил голодные рты своих деток не щедро: халву да хурму только вприглядку и ели!
И выросла дочь у него, прекрасная пери: глаза – бездонны, как небо, и так же синели своей чистотой. Лицо – круглым кругло, ну, прям как луна на черном небе пустыни. Руки – нежны, ноги – длинны, рост – можно прямо сказать, был невысоким. Талия – тоненька и гибка. А две пышные груди не висели как дыни – так принято у египтянок, не торчали в разные стороны – как у нубиек. Нет, груди были эталоном грудей: круглы и высоки. Им соперничать могли только бедра самой прекрасной из пери.
Вот и решился отец отвести дочку прямо к шейха дворцу: а вдруг повезет, и дочка шансик получит – глядишь, какой из шейха придворных присмотрит себе его дочь – ему на потеху, семье бедной пери – кормиться еще не один год.
Тащил девку волоком! Идти не хотела, плакала да просилась обратно, да рыдала дорогой «сжалься, отец!». Но отцовская воля была непреклонна!
Но поскольку дочь упиралась, к началу церемонии отбора невест отец не поспел – притащились только к исходу третьего дня. И глашатай объявил его дочь только триста тридцать третьей по счету!
Когда пери подвели к ханскому взору, тот аж вскочил: девчонка без помады и пудры, притираний и масла была так прекрасна! Естественная и мила, а как была прекрасна для взора! То ли хан, то ли шейх выставил палец, так обильно унизанный перстнями и кольцами, что даже на длинных ногтях были кольца, и закричал: «Вот она, вот! Её берем себе в жены! Её!».
Зажили в прекрасном дворце прекрасная пери и старый-престарый дряхленький шейх почти что прекрасно! И вправду, что пери тужить? Халвы да хурмы – ешь, хоть заешься, одежды любой – можно каждую минуту новое платье носить, щелкни только пальцем – и любое желание будет исполнено в точности в срок. Пели певицы, танцоры взлетали, выплясывая мудреные па, музыканты старались…
Юная дама страдала от скуки. Старый муж скоро наскучил, больше вошкался на жирной перине, чем делал справно мужнино дело – пери ждала, когда муженек её сдохнет.
Тот вскорости умер, счастливый от брачных утех.
И зажила пери дивно! Отбирала себе красавцев на день по прихоти юной: кто победит на скачках верблюдов, или в умении петь, или в ремесле будет горазд – пожаловал в её спальню, где на шелковых простынях юная пери отдавала ему свое прекрасное тело. Ах, как она была прекрасна! Молва об её красоте летела со свистом стрелы – юноши, зрелые мужи – все стремились к ней, все слетались на мёд её тела.
И богатела страна людьми и деньгами: лучшие из лучших приходили в страну эту: и умелый кузнец, и торговец искусный, и даже простой водонос – будешь лучшим из лучших, пойдешь к ханше на день. А если сильно тебе повезет – и на ночь.
Богатела страна! Но все сильнее страдался народ: пришедший от ханши не мог смотреть на другую, жену иль невесту – не столь было важно. Ханша, прекрасная пери, одна только ханша была у них на уме и на сердце. Плоть так страдала по ханше прекрасной, что хирели семьи простые. Мало рождалось детей, ох как мало! Но эти «отбросы», как называла мужей на день иль ночь эта ханша, все множились, множились и умножались – молва растекалась по странам и весям. А если хотел какой из властителей стран заступиться за подданных да страну ханши прекрасной войною забрать – так воины смелые за пери свою растерзали горе-владыку.
Юные девы, видя, как пери живет в наслажденьи, мечтали так жить, как прекрасная ханша. Младые юнцы мечтали о пери – прекрасной как день, страстной, как ночь.
Так прошло несколько лет. Пери с каждым днем расцветала, красотой затмевая всех женщин на свете. От золота пухла страна, в которой бродили несчастные люди: сохли по пери кузнецы и певцы, воины и торговцы, женщины не имели возможности нянчить детей – какой тут ребенок, если муж только о пери поет дни и ночи! Старость болталась, никому не нужна – а пери все пела, играла и танцевала.
Раз захотела она пуститься в дорогу: один из торговцев ей рассказал, что живет в пустыне нестарый мудрец, что раньше был воином, а теперь стал монахом. В пустыне, голой и жалкой, в нем теплится жизнь: он днями, ночами умаливает грозного бога, выпрашивая сострадание за свои грехи и чужие. И так много грехов, говорят, у людей, что некогда ему даже поесть и поспать… А про женщин он вовсе не думает…
И загорелось пери победить твердого в вере монаха! И пошел караван в дальний путь, веселясь по дороге песнями, танцами, музыкой и стихами. И пришел караван в голую степь иль пустыню, где только осколки из камня да пыль, да песок. Дикие заросли саксаула да суслики – вот и весь пейзаж «на пленэре».
На дикой скале под палящим лучом жалящего солнца сидел крепкий монах. Одежда так обветшала, что походила больше на сеть, чем на рясу монаха. Ребра торчали, кадык выдвигался из сохшей гортани, серо-пегая борода колыхалась под ветра струей – монах как прирос к обиталищу скал. Закрыты глаза, и только рот шевелился, моля бога единого и живого о прощении многим живым за не счесть их грехов.
Караван по знаку шахини остановился. Шахиня повернулась к монаху лицом: их лица встали на уровень: скала и спина верблюда были однаки.
Шахиня, смеясь, подняла покрывало, выставила ножку: свита застонала от вожделения – прекрасная белая ножка! Розовые ноготки прекрасной той ножки манили и звали – приди! Поцелуй! Браслеты ножные звенели – приди, поцелуй! Громадные синие очи смеялись – приди, поцелуй!
И шахиня спросила:
«Ну что, что видишь, монах? Открой свои очи, разве я не прекрасна? Что видишь ты, глупый монах? Ты сколько лет не видел ни пищи, ни одеяния, у тебя нет шатра и даже воды! А сколько лет ты женщин не видел? Так что видишь ты, презренный монах, что?».
И внезапно очи монаха раскрылись, и острый взгляд пронзил взор царицы. Воспаленный от жажды язык прогремел, как ей показалось на десять пустынь:
«Чёрную душу! Чёрную душу!».
Истории на троицу
В разное время, в разных странах, в разное время происходило то странное, необъяснимое, что случалось на Троицу.
Сами судите, что тут такое, сами выводы делайте.
История первая. Ирочка
Прекрасная семья, растет в семье прекрасный ребенок – Ирочка, Иринка, чернушка лет девяти. Отец, мой коллега по адвокатуре, назовем его Александр, был талантлив: с ходу схватывал тонкости юридически, был востребован, клиент к нему валом валил. По пути занимался и бизнесом: крутился, как все, выживая в суровые девяностые.
Мать девчушки держала семью, как могла: Александр был гулякой, каких поискать. Но супруга держалась, старалась узы семьи сохранить: ради Иринки.
А Иринка умница и затейница, отличница и помощница матери.
В общем, можно жить да радоваться жизни, достатку. А достаток в доме имелся, раз Александр крутился, как мог, добывая копейку. Так вот, разбогател Александр до степени до такой, что решился на яхту. Не громадная роскошь, но все-таки яхта, пусть не с алыми парусами, но диковинка по тем временам.
Решили покупку яхты отметить на море, то есть собралась компания близких людей: Александр с семьей, да пара-тройка друзей во главе с капитаном.
Вечером, накануне намеченной пьянки, Александр заехал на собственном «жигуле» – редкая редкость в то время! к матери в село, где на каникулах отдыхала Иринка.
А мать то-ли побоялась, что сын засмеёт за причуды бабские, то-ли сама не поверила, что такое может случиться, но сыну родному не стала поведывать про странности странные.
Гуляет Иринка с подружками около дома: салочки да скакалочки, куколки да игрушки – девчонки шумят! Мимо идет старушонка, видом не видная, в черном платке. Попросила водицы испить, Иринка в дом заскочила, кружку воды ей поднесла. Та спасибо, спасибо, и подалась со двора, а вышед на улицу матери Александра, то бишь бабке родной нашей Иринки, в лицо посмотрела да и сказала такое: «у девчушки глаза-то пустые, не жилец она будет, если к воде на Троицу подойдет», и сгинула с глаз, как не была по деревне.
Бабка родная отмахнулась от старой вещуньи, а к вечеру сын прикатил – за Иринкой – яхточку обмывать.
Мать на обмывку покупки не взяли – чего старой делать на яхте средь молодых! Александр по дороге заехал за нами – пригласить поплавать на море. Мне было некогда, и детей не пустила – вечер и море, простудятся, не дай Бог.
А следующим днем, как гром среди неба: Ирочка утонула!
Вечером, вечером – а было то на Троицу, яхта ходила вдоль берега: опытный капитан суденышко далече в море не запускал: проходила обкатку обновка семьи, дорогая обновка. Берег – вот он, рядом синеет в сумерках поздних июньского вечера, да волны поднялись, как будто не штиль. Три-два удара волны по легкому корпусу, и скорлупка суденышка опрокинулись – и вся ватага веселая в море теплом оказалась. Весело, не весело, а ни Ирочка, ни мать ее плавать то не умели!
И стал Александр тащить своих самых близких девчонок, как их называл, на берег: в левой руке – дочка барахтается, в правой – жена. Еле-еле, но выплыл на берег. С берега люди, отдыхающих много на море в летнюю пору, и вечером люд собирался поплавать, так вот люди кричали, люди старались помочь, кто чем мог. И «скорую» вызвали, и одеяла нашли отогреться невольным купальщикам. Догадаетесь, как скоро «скорая» прибыла? Короче, жена Александра, хоть и нахлебалась соленой водицы по горло, но выжила. А Ирочка – нет!
И хоронили красавицу-девочку, погибшую в девять лет, мы теплым погожим июньским нерадостным днем. Все честь по чести, все, как положено. На поминках бабушка нам и поведала про странницу странную, про предостереженье ее насчет Троицы и воды. Каялась, плакала, ревом ревела, что внученьку не уберегла.
Вот так Троица себя показала мне первый раз свою мощь.
История вторая. Немига
Есть такая речка – Немыга (Немига), течет по самому центру белорусской столицы, неприхотливая речка-речушка, закованная бетонными берегами.
Как-то опять таки в девяностых, занесла судьбина моя в столицу-красавицу Белоруссии – в Минск. Позвали на семинар аж международный по защите прав и свобод человека – я и поехала. А встречающие нас милые девчушки-щебетушки извиняются, что заказанная заранее для нас гостиница срочно занята: приказал Лукашенко! Чего да чего? Девчонки и рассказали про трагедию, про вчерашнюю.
Вчера была Троица, и по случаю праздника разрешил президент пивной фестиваль в самом центре столицы. Народу собралось, что саранчи на поле весеннем. И все – молодежь! Совсем зеленая молодежь! Подростки. Пели, плясали, пивко на халяву пили, не считая стаканы, и мало-немало не обращали внимание на прихожан, что поутру подсобрались на Троицу в храм. В собор, что стоял на холмике на берегу прыткой реки Свислочь. Ну, ходят там старики да старушки около храма (крестный ход, наверное, был), да в церкви поют.
И никто никому не мешает: молодежь на низине у бережков милой реки свои хороводы водит, пивко попивая, старичье – на высоком на бережке свой крестный ход учиняет, да группа заезжая, из самой из Москвы наяривает на своих барабанах-гитарах, оправдывая спонсорский гонорар на пивном фестивале.
Как вдруг, ни с того, ни с сего, да гроза! Громы, молнии, ветер – и с неба поток! И не просто поток – а градом! Не дождик, не ливень – поток! И что было странно (историю эту я слышала с самых разных концов: и от горничных отеля, и от попутчиков в поезде и в вагонах метро, и от участников семинара, минских жителей-обывателей, так что пазлы сошлись), так вот что было странно: и громы, и молнии, и ливень-поток шли над самым сборищем молодежи. Как будто громы небесные собрались вместе с тучами черными да с градом только над этим местечком, что в самом центре столицы.
И кинулась молодежь, кто куда: а куда? Наверху, на высоком на бережку уже не прыткой, а бурной Свислочи, стоял-красовался дворец. Здание власти. Туда – никто и ни шагу! Там охрана стояла из молодцов – туда молодежь попросту побоялась бежать. С другой стороны – собор. Туда тоже никто и не думал бежать.
Почему? Доселе мне странно: там – ни охраны, ни молодцов. Двери – открыты, в церкви свечи да звон по случаю двунадесятого праздника Троицы. Но туда – ни один! Ни один и не думал бежать, спасаться от лютых потоков. И холмик-то не высокий, пусть даже и скользко от отсырелой земли, но что подростку холмик небрежный? Два, три прыжка – и ты наверху, и иди отогревайся в милой тиши милого храма. Но! Ни один, ни девица, ни хлопец к церкви и шага не сделали.
А рванула толпа, это дикое буйное стадо, в низину прохода метро, что зевом зияло среди площади буйства пивного хмельного. А было на празднике около двух с половиною тысяч человек!
Рванула толпа – и было задавлено насмерть пятьдесят три человека: девчушки лет так пятнадцати да пареньки молодые. Пробежали по трупам полупьяные зрители фестиваля пивного, спасая себя от дождя. Оставили трупы да тяжко пораненных, а их было около двухсот человек.
И случилось это 30 мая 1999 года. Принял туннель смерти – злосчастный тот переход к станции метро свои жертвы, а потом хоронила вся Беларусь этих созданий невинных, этих пятьдесят три жертвы Троицы.
И что, будем разве Троицу мы винить? И в смерти Ирочки, и в смерти тех, 53-х?
На поверхности – Троица виновата, а вдумаешься хоть чуток – и истина на поверхности.
Предупреждение было? Было! Явилась кровной бабушке маленькой Ирочки странница странная, сказала, не лезьте на Троицу в воду? Сказала! Но выбрали люди свое: пьянку на море в праздник святой.
И так же, и так же в буйную пьянку сборища малолетних на хмельном том пивном фестивале не стояло разве спасение, там, наверху берега милой реки? Стояла там церковь, стоит и теперь. Но опять люди выбрали, и что выбрали? Пьянку, давку – и смерть!
Чадо ненаглядное, Тимур
Рос, как сыр в масле. Мать свое чадушко по театрам, музеям да выставкам водила-возила, уму-разуму учила. Растила рыцарем. Не просто бабульке место в трамвайчике уступить, не просто соседке сумочку донести. Нет, растила, холила, мечтая о рыцарстве да благородстве его в делах и поступках.
И домечталась. Вырос рыцарем благородным, чадо единственное, ненаглядное. Любо-дорого посмотреть. К матери с пиететом, к отцу с уважением, к женщинам с пониманием. Собак да кошек домой переносил не счесть, сколько их выходил.
Гордость матери, одно слово. И красавец то был ровно по писаному: брови в разлёт, взглядом чистый да ясный.
Но как рано женился. И как он женился. Прямо по благородному поступил, в чистом сознании по кодексу чести рыцарей да поэтов. Почти с улицы подобрал, точнее, не с улицы, а от соседнего двора взял себе в жены Сашку-малолетку. Малолетка та с малых лет намыкалась при живой то матери, настрадалась, оттого то ли с тоской то ли с охотцей по мужикам стала таскаться. С отчима начала, когда ей было годочков двенадцать. По местным гордо сказать барам, по наливайкам, точнее, сидела до ночи-полуночи, ища приключений.
Естественно, психика и изломалась с сознанием «наоборот». Тимур так матери и сказал: хватит над девочкой измываться. Стану ей мужем верным, мужем единственным, в люди вытащу, перевоспитаю заблудшую.
Вот тут мать за голову и схватилась. Да разве камень уговорить? Принял решение рыцарь, так принял. Женился чин чином, да и увёз жёнушку малолетнюю от дома. Штамп мне велит говорить от дома родного, да разве родным её дом назовешь?
Переселились молодая семья в Севастополь. Родили девчушку, назвали её Маргариткой. Тимур от счастья только что не летал. Работал с утренней зари до вечерней по стройкам, шабашил, где мог. Домой приносил кучу денег: стройка деньги приносит, если вкалывать да не пить. Нужно ли говорить, что Тимур не то не пил, был чистым трезвенником. Кстати, и не курил.
Был молод. Стукнуло только двадцать один, а уже уважаем в бригаде да в среде заказчиков. Из рук в руки передавали его, как драгоценность, хвалили за честность да за умение рук.
За работой за Сашкой не уследил. Да и то, рыцарь считал, что женушка в холе, тепле, с грудным младенчиком на руках куда от дома уйдёт, потащится ли куда? По себе мерил людей, по себе.
Сашка роль жены терпела недолго. Как только «мокрый период» в жизни дочки прошёл, снюхалась мигом с милым сердцу народом. Притоны приняли девку в захлёб: молода да горяча, мозги с вывертом наоборот, куда слаще ещё?
Тимур, как известно, узнал всё последним. Прощал и мирился, учил уму разуму, просвещал да советовал, а Сашке об стенку горох.
Уходил, когда жизнь доставала, опять возвращался в надежде на милость жизни поганой.
Сашка катилась под гору всё круче и круче. Наркоманы любили, её как свою. Своей и была. Отнять ребенка у матери никто не решался. Страдала и девочка.
Мягкость Тимура достала и мать.
Та, в который уж раз, приезжала в достойный гордости город, била пороги ментов, прокуроров. Искала невестушку не ради нее, погани рода людского. Искала невестушку, ведь с ней был младенец.
Сжалился участковый, дал адрес притона. Наведалась мать в злополучную хату. Стыда натерпелась по самые уши. Как спросит про адрес, старушки кто в мат, кто глазоньки прячет. Спросит у молодых, те ржут ей в лицо: куда тебе, тётка, ты старовата будешь для плотских утех.
Нашла. Постучалась. Никто не ответил. Дверь легонько толкнула. Та мрачно открыла свой зев. Описать ту хатинку словами не можно: вонища, грязища, мебели нет. На том, что называется ложем, лежало «создание божие», проще молвить тварюка. Среди этих «апартаментов» двигалось инвалидное кресло, в нем сгнивало тело девицы, на вид лет этак сорок пять или «полтинник», по жизни едва двадцать лет было не было. Хорошего от хозяйки жилища ждать не случалось и мать кинулась в объяснения. Через угрозы да маты сожителя «дамы», чьё тело сгнивало от наркоты, едва поняла: Сашки здесь нет, мотанулась куда-то. Ищи ветра в поле, ага. Заживо сгнившая вслед матери ухнула: я бы ничего тебе не сказала, да девочку жалко, помрёт ведь младенец при матери разтакой.
Как нашла Сашку, разговор долгий, и здесь он не к месту. Кончилось тем, что мать через суд лишила прав материнских горе-мамашу. Вы будете удивляться, но Сашка на суд появилась. И не то что явилась. Она качала права. А как не качать, коль государство на девочку помощь оказывало, и деньги те были для Сашки немалые. Потому и свекровушку грязюкою обливала, и свидетелей привела, подтверждавших её честность да материнские чувства к малышке.
Да на её неудачу судья попался честный да опытный (кстати, бывают в жизни такие, и даже частенько). Разобрался по сути, хотя по началу на мать смотрел косо: чего младенца от матери отрывает, не ради ли денег старается?
Да Сашка себе всю картину испортила. Когда мать дала показания, что Сашка даже на день рождения Маргариты не появилась, и подарочек не передала, Сашка возьми и спроси: «А когда у девочки день рождения?».
Вот тут то судья и оторвался по полной. Сашку лишили прав материнских, заодно и Тимура. Он тоже родитель.
Мать перетерпела и это.
Маргарита осталась при бабушке. Мать стала пестовать девочку, отучать от ненужного сора, что накопился в сознании девочки, приучать к обыденной жизни: ложку держать, на горшочек мочиться, супчик свеженький кушать. Да ежевечерними сказками из ярких книжек напитываться. Сложностей в воспитании девочки хватало по горло: младенчество с горе-мамашей сказывалось на каждом шагу. Приходилось даже к помощи психолога прибегать, да с величайшим терпением реализовывать в жизни советы специалиста.
Так, для примера…
Ребенку нельзя было (категорически!) говорить слово «нет». Так мать вот что придумала: надо идти, а дитя вся в капризах. Так мать произносит: «вот мама-птица сейчас улетит, а что птенчик то будет делать?». И девочка собирается вслед за «птицей» на выход.
За уходом за внученькой ненаглядной мать слегка упустила Тимура. Нет, не подумайте, не стал он вслед за женушкой наркоманить да жизнь прожигать.
Непутёвую он не бросил. При серьёзном разговоре с матерью он сказал: я дал себе слово вытащить её из дурмана и я слово буду держать.
Пахал, как обычно, на стройках. Снимали жильё в Севастополе, заводились знакомыми да друзьями.
А вот теперь перехожу к сути рассказа. К уголовному делу.
То была только присказка. Слово начинается здесь.
Каждый день мать с Тимуром общалась по телефону: про дела поговорить, про здоровье, про Маргариткины выходки да проделки. Ездить к сыну в даль в Севастополь денег не напасёшься, деньги лучше на апельсины для внучки потратить. Да и на невестушку посмотреть много охоты? Да та про дочку и не взгадывала.
Вот, однажды, ясным синим вечером Тимур странные вещи стал матери говорить да поведывать: мол, смерть, чувствую, в спину мне дышит.
Мать от таких слов почти обалдела: ты что, сыночек, тебе всего-то двадцать один. А тот затвердил: чувствую, мама, я просто чувствую, что «косая» крутится рядом.
Тот странный вечерний звонок мать будет помнить всю свою жизнь.
Позвонил ей Тимур, поговорили немного о жизни, и он перешёл к главному для себя и для нее, матери.
Ниже я приведу недолгий их диалог.
«Понимаешь, мать, видел Христа рядом с собой…»
«Во сне?»
«Нет, наяву. Стоял рядом, смотрел… Он, мама, высокий и светлый…»
Потом Он спросил ровно, сурово: «Ты со мной или с этими, с Сашей?»
«Я, мать, думал недолго. Честно ответил: я обещал сам себе, что вытащу Сашу из омута наркоты, я это сделаю!»
«Ну, а Христос?»
«Он мне ответил: ты сам сделал выбор!»
«И еще, мать, был Он высокий и светлый».
Мать что-то пыталась ответить, увещевала сына да уговаривала, что все обойдётся, минется как-нибудь.
А сердце ёкало чаще и чаще.
Поговорили, миновал вечер. Спать уложила свою Маргаритку. Сон шёл и не шёл, была в забытьи.
А в три часа ночи ворвался в сознание мобильника звон: невестушка в трубку кричала, что Тимура убили.
Пока поняла, пока осознала…
В раннюю рань собралась, Маргаритку оставила на прабабку, да кинулась в путь-дорогу.
В Севастополе ждал уже следователь. Битый жизнью, но не потерявший человечности, всё делал по совести. Следствие произвёл, как положено. Кинул в камеру того, что убил её кровушку, пытался допрашивать Сашку да пару свидетелей.
А Сашка раз только дала объяснение, что не видела, и даже не слышала из соседней комнатки, как убивали мужа, как добивали, вонзая в спину ножичек аж одиннадцать раз. Не видела, да не слышала, ну и что? Ну и что, что пригласили их в гости друзья: парень знакомый с сожительницей. Да, выпили по чуть-чуть, то есть пару бутылок водяры, да пивом заполировали драгоценный напиток. Да, она с подружкой спать улеглись в комнатушке, что к кухоньке примыкала, где пили они на троих (Тимур, помните, был непьющим). Да, мужики оставались на кухне одни, о чём говорили, о чём поругались, про то ей, Сашке, неведомо.
Подружка следователю подтвердила слова Сашки: знать ничего не знаю, ничего не слыхала, ничего не видала. Да после таких показаний и лахнула из города восвояси.
Следом за ней укатила из города и Сашка-невестушка.
Суд дал убийце 13 лет за решёткой. Убивчик не согласился с таким приговором. Жалобу накатал: мол, Тимур сам пытался убить меня ни за что, ни про что, побрезговал моим гостеприимством. Я, дескать, пытался увернуться, а Тимур тот хотел меня то ли побить, то ли прикончить. Вот я в порядке, так сказать, самообороны и нанес ему много ударов ножом. Сколько? Да я не считал. Где ж тут вина то моя? Это «скорая» виновата, что не спасли мужичка.
А как тут было спасти: одиннадцать ножевых ранений, из них пара смертельных. И все в спину. Всем было понятно: Тимур в тесной кухоньке пытался и увернуться, и убежать, но от здорового обалдевшего от спиртного «приятеля» скрыться не смог.
«Скорая» прибыла минут через сорок и смогла только констатировать смерть.
Те фото, что в деле остались, у матери есть. Каждый раз с ужасом смотрит на сына, точнее, на труп её сына. На убогую кухоньки обстановку. На следы «пиршества». Да на крови следы, что по всей кухне разбрызганы.
Ой, чуть не забыла сказать: зазвала в гости Тимура к «приятелям» именно Сашка!
А теперь о матерях.
Всё в жизни идет от матери, всё живое создается именно ею. Истина так проста, не лукава и хрестоматийна, что оскомину набивает.
А когда в жизни столкнешься с хрестоматией жизни, истина так открывается, как небо навзничь падёт.
Вспоминаю почти уже забытую историю из очень уж лихих девяностых.
Умоляла женщина мужа спасти, из-под стражи за кражу его, дурака, вытащить. Договорились, сошлись по цене адвокатских услуг. Вечером перезванивает: мол, извините, пойду лучше к мафии, там бесплатно обещают помочь.
Ну, ладно, обидно, но что же. Выбрала сама путь, ну и иди по нему, спотыкайся.
Утром иду на работу, планы строю глобальные: и отчёт подоспел, и досье накопилось писать не одно. В те времена мы для себя и для зоркого глаза начальства писали досье, отчёты о работе проделанной. Занятие донельзя скучное и отвратное, но делать то надо. Так вот, тащу себя на работу. Утро раннее, птички щебечут, дороги политы свежей водой – красотища!
А у порога консультации уже мается та, вчерашняя тётенька. Я глазёнки то вытаращила: чего, мол, пожаловала?
Та кинулась в слёзы с повинной головушкой.
Трубку вчера положила после краткой беседы со мной и отправилась в гости к браткам. Тот райончик держали два брата, крутые хлопцы. Потом они вылезли в депутаты. А тогда просто «держали» район.
Тётенька в слезы: ребята, спасите, родненький муж попался на краже, сидит в ИВС (изолятор временного содержания) в местной милиции…
Братки покивали, посочувствовали. Сами когда-то баланду хлебали, почём даже не фунт лиха, а целая тонна его на шкуре своей осознали.
Согласились. Бесплатно!
Тётка на радостях кинулась в дверь. А вслед ей старший браток: так говоришь, муж попался? Мужа мы вытащим. А доченьки пусть сегодня же к работе приступят в нашем баре ночном. Прислуживать будут. И братки захихикали.
У тётеньки сердце ухнуло в ноги: две дочери, две кровных кровинушки: старшей – 14, младшей – 13. Поняла баба (не дура же в общем), что девочки не посуду мыть будут ночью с братками.
Вот утром ко мне и приехала издалека: выручайте!
Кстати, мужа её я таки вытащила из «кутузки», но он, подлец такой этакий, скоро попался на краже то ли гусей, то ли кур, то коз. Короче, следователь мне потом говорил, что он с величайшим своим удовольствием посадил таки того дурака. Вдругорядь я воришку не ездила защищать. Супруга его поняла, что не стоит он тех хлопот, что она натерпелась.
Так вот, тут мать смогла подняться над бабской природой, поняла, что дочери выше, дороже, чем воришенька-муженёк. Крал живность по дачам, по хатам – зачем? Да на бутылку, конечно. И за него кару нести должны дети? Нет, уж, подвинься, решила она. И молодец!
А в случае с Сашей?
Кто виноват в конечном то счете? Конечно же, мать ее родная. Где она упустила за дочкой контроль? Точнее, за мужем контроль упустила. А муж то вовсе и отчим девчушке.
Что мать, не знала, что девчонку по барам таскают с двенадцати лет? Чай, не Москва, а захудалое городишко или большое село, где все друг о друге знают лучше, чем о себе.
Не хотела упускать муженька? А потеряла родное ей существо – дочурку.
И покатилась юная Сашка по стежкам дорожкам кривым, да все вниз, в жизни омут, в болото наркотиков.
И повторила она путь своей матери. Равнодушно ей было как её дочка растет. Не до дочери, когда молодость пропадает. Прожигать жизнь девчонка мешает.
Всё в жизни от матери достается. Да и сама жизнь Богом дается, да женщиной нарождается.
А уж дальше сам делаешь выбор.
Как сделал Тимур.
Настасья, дура из редкостных
Это история не из моей практики адвоката, мне поведал ее, рассказал старый, опытный адвокат из семьи адвокатской старинной. Династия их адвокатской среды уходила корнями в империю царскую, в дела давние да старинные. Вот оттуда память его вытащила историйку про Настасью-дурёху.
Стоим мы, адвокаты, в суде, стены подпираем, озираем обшарпанные стены да обдрипанный потолок судейского здания, да рассуждаем о кардинальном отличии грабежа от разбоя. Ожидаем, когда судья выйдет из совещательной, огласит приговор. Потому отлучаться нельзя, потому языки в свободной беседе развязаны.
Ну, вот, этот адвокат из династии зацепил тему тем, что, дескать, дед и отец его говорили, что до революции, до октябрьской, то бишь, в этом здании тогда тоже суд находился. Называлось зало суда присутственным местом, вдоль стен стояли кресла, скамьи, чтобы вошедшие в суд дискомфорта не ощущали (мы дружненько повздыхали на этакое благолепие), по коридору дорожка стелилась ковровая. Ну, чтобы народ понимал, где он находится и заранее трепетал перед императорским правосудием.
И вот как то пришлось деду дурочку защищать, Настасью, ей вменялся то ли разбой, то ли грабеж (это к слову о размежевании понятий разбоя и грабежа, о которых мы, адвокаты, у стены суда спорили, рассуждали, умишко показывали, какой есть у кого).
Дура Настатья была не по медицинской тематике, а по жизни дурой была. А как попала под статью уголовную, тяжкую, сейчас расскажу, как помню из рассказа того адвоката.
Жила Настасья, почти что не бедствовала. Муж попался ей работящий, и вовсе не пьющий. Зато молчаливый и по характеру такой, что никогда ни во что не вмешивался, хоть гром разрази. Село, где они проживали, небогатое было, в верстах восьми от губернского города. Мазанка называлось оно, да и сейчас так называется. Иван-муж дом наладил, небогатый домишко, да им хватало, хотя нарожали они шестерых: пять дочек подряд, копии Анастасии, да сыночек родился у них, последыш, Феденькой мать его называла. Сын Федор удался в отца.
Иван, когда дети уже подрастали, сооружил себе то ли в сарайчике, то ли в летней кухоньке, то ли в хибарке такой верстачок, на котором наладил игрушечки делать. Баловство? Баловство! Да невольное баловство получилось. А дело было так: каково на пять девок одну куклу иметь? Драки одни, ругань да слёзы. Девки-погодки куклу разодрали на клочья, да все вместе дружно реветь… От Настасьи ласки, кроме тычков да пощёчин не сышещь, побежали к отцу. Тот повздыхал, повертел куклу разодранную, дочек по головкам погладил, да и сказал: налажу вам куклы. И наладил, да так, что все девчонки села обзавидовались. Теперь по остальным хатам села пошли сопли с рыданиями: куклу хочу! Пошли матери к Ивану с гостинцами: сладь куколку дочери. Иван безотказен, и стал мастерить, да с выдумкой, да с «изюминкой», не на поток дело поставил, не на шаблон, а талантливым мастером оказался. Матери девочек и рады стараться: кто пироги в дом Ивана притащит, кто вареники притарабанит, кто кашу из тыквы несёт (это самые бедные женщины их села). А Иван всякому рад: шестерых нужно кормить, а от Настасьи проку и толку не жди: неумёха. И в домике грязно, и варить не умела, да и учиться бабскому вечному труда охота у ней была дюже мала.
А что, пацаны, разве не люди? Первым Феденька запротестовал: а мне, батюшка, игрушечку смастеришь? Иван смастерил, да такое, что ахнуло все село. Паровоз смастерил, и колесики, и даже маленький машинист из окошечка выглядывал, нарядный такой да с улыбкой. Ну, тут орава мальчишечья возопила: хотим! Отцы понесли не вареники да кашу из тыквы, а кто ведро принесет, кто корыто, кто косу наладит – сено косить. Глядишь, хозяйство Ивана наладилось. Настасья, хоть и не перестала ворчать: ей ругаться переставать, что не дышать, такая злобная баба попалась Ивану, что страсть. Так вот, Настасья, хоть не переставала ворчать, а приносимое в дом добро место свое находило. Шутка ли, в доме пять девок растёт, это же пятерым надо ладить приданое.
Ну так годочки и шли. Ах да, Иван так наладился мастерить, что избыток Настасья на рынок тащила, в город губернский, аж в Симферополь. Первый то раз Иван сам пошёл, да вернулся без денег и без игрушек. Улыбнулся детишкам виновато, высыпал пряники им на стол: ешьте, ребята.
Дальше Настасья сама стала торговать: чего с непутёвого взять? На хозяйстве дочек оставит, и ну на базар. Не каждый же день в город моталась, это понятно. Но как какой праздник престольный или там ярмарка, Настасья с рани уже на ногах. С вечерочка напросится кому из соседей ее подвезти, и с товаром из домика шасть! А вечером тащит домой добро городское. Какую деньгу добывала, Иван сроду не знал, и дети не знали. Не голодали, и ладно.
Ну вот, деточки выросли, девки по хатам чужим разбрелись, приданое каждое в дом свекрови несли путь не на телеге, а в руках узелочки таскали, но все же про людски замуж выскочили, как им след по традиции да по бабской породе.
А тут и Федька женился! Настасья вся изошлась, изкостерила невестку, еще ни разу не видевшу молодую: умудрился сыночек немчуру найти.
Крым того времени был сильно разноплемённым: вперемешку, не ссорившись, жили татары и немцы, малороссы, болгары, армяне и греки, караимы и кто там еще. Жили, не ссорились, веру чужих уважали. Иноди (иногда) и роднились, ну как вот Фёдор женился на немке. Ну, как немке. Немка из русских: как Екатерина Вторая переселила немцев на Крым, так немцы и обрусели, родной немецкий язык старались не забывать, да русский им более стал привычен. Вот из таких обрусевших Паулина и оказалась. Шестнадцать годков, да такая ладная девушка оказалась. Не посмотрела на слезы матери-немки, исплакавшей все глаза, что, мол, в какую семью ты идёшь, какого горя с Настасьей хлебнёшь, никто не завидует. А Паулина одно: я люблю!
Ну, отгуляли свадебку на стороне невесты, забрала Паулина приданое и пошла к мужу – жить.
С первого дня жизнь со свекровушкой не заладилась. Перво-наперво всё приданое Паулины ушло к родным дочкам. Молодым на постель постелить простыни не нашлось, кинули рядно какое, и ладно. Терпела пока Паулина, молчала. Домишко был небольшой, комната да что то вроде сеней или кладовки. Вот в той кладовке молодые и жили, да так славно все было у них, так глаза от счастья светились, что только слезу умиления утирай. Это как про кого, да не про Настасью. Отняла девка сына от матери, да еще и порядки свои наводить? Ишь, повычищала пылищу из хаты, вывела тараканов, стол и полы выскоблила набело – сразу видно породу чужую, немчурка она. Это я перевожу ругань Настасьи на привычный язык.
Иван… А что Иван? Иван никогда и ни во что, особенно в дела жены, не вмешивался. Паулина терпела. Федька выходки матери не замечал: с младенчества попривык, мать она мать, хоть то Настасья, хоть Домна иль Фекла какая.
Конфликт, как чирей, вызрел, когда Настасья плюнула в только что приготовленный Паулиной обед. Молодица старалась, щец натомила: пыхтела, училась русской еде. Щи вышли наваристые, ароматные, кипели в горшке, у Федьки аж слюнки потекли от предвкушения рая.
Настасья, только что пришедшая из города, оттоптавшая восемь вёрст, не присела отдохнуть или прилечь с дальней дороги. Нет, с порога кинулась на невестку, узрев как сыночек пялится на горшок. Поднеслась к печке, ухватом вытащила котелок, да как плюнет в кипящую жижу! С чего? Словом, баба дурная. А плюнув, кинулась на невестку, замахнулась на нее кулаком. В брани свекрови все прояснилось: невестка запасы еды взяла, не спросясь, перевела за раз то, что готовилось на неделю. Ну вот, кинулась баба на молодую в сладком предвкушении, как оттаскает ту за косу, передник порвёт.
Ага! Паулинка оказалась сильнее. Молодица повернула остервеневшую бабу к двери лицом, да как жахнет по заднице той сапожком!
Федька аж ахнул. Охнула Анастасия.
Короче, выгнала молодых. Те подались в сараюшку Ивана, а где же им ночевать? Помыкались так немного, с неделю. А тут случай такой, случай-оказия.
К Ивану заглянула городская из Симферополя. Дамочка в шляпке прикатила в коляске за игрушечкой именной, которую ладил ей по заказу Иван. Иван к сроку то не успевал, и налаживал игрушечку заводную, а дама ждала в коляске своей. Сидела, скучала, смотрела и видела. Что видела? А как молодая хозяйничает, как Федька косит траву, как Настасья, нимало не стесняясь посторонней особы, костерит из дома Ивана, невестку и весь род людской (однако, Феденьку пощадила).
Посмотрела, посмотрела дамочка на весь этот бардак, да и говорит Паулине: «а перебирайся ты, девонька, вместе с мужем ко мне в флигелёк в Симферополь. Я сама из Москвы, в вашем городе прикупила дом небольшой, вроде как дачу. А дом обихаживать надо, стеречь. Вижу я, ты очень аккуратная, муж твой непьющий, перебирайся, будете жить во флигелечке, я вам и жалование положу».
Как услышала Паулина про жалование да про дом, согласилась, нимало не думая. Ну и Федька за ней, хоть в прорубь, хоть в воду.
В городе ладно сложилось. Барыня в шляпке оказалась жуткой, как бы сейчас сказали, фанаткой А.П. Чехова, а тогда говорили, пламенной сторонницей великого писателя. Это ради него она заказала Ивану игрушку, ему и повезла оную то ли в Париж, то ли в Саратов.
А Паулину с Феденькой-муженьком оставила «на хояйстве». Дел то делов: дом сторожить, собаку кормить, да дом принаряживать к приезду хозяйки. Отвела им обещанный флигелек, жалование заплатила, не обманула. И так радостно зажилось, словно в сказке. Работы то – тьфу! А денежка есть, и у хозяйственной и по-немецки скупой Паулины денежка не транжирилась, а приросла. Как? А как ниоткуда. Федя от скуки стал обихаживать, ремонтировать дом. Славненько получилось, соседи шеи посворачивали, как смог удалец из ничего конфеточку сделать. То наличнички смастерит, то навесик какой, а так ладно выходит, в таком этаком древнерусском стиле-орнаменте. А как дом покрасил, за садик взялся. Беседку приладил, с балясинами да крылечком полукруглым. Понасадил роды, магнолии всякие. А что не садить, коли зимы в Крыму почти нет, и розы цветут чуть ли не год. Сад небольшой, не сильно и развернёшься, так Федя и улицу приободрил. С обоих сторон калитки, выкрашенной разноцветно, посадил два деревца с такими разлапистыми ветками, что тенечёк по улочке сразу пошёл. Улицу стал подметать. Не за плату, охота к чистоте Паулинкой ему уже привилась.
Соседи аж обзавидовались. Что сделает глупый сосед? Собаку отравит, калитку измажет дерьмом, деревья сломает.
Что делает умный сосед? Переманивает украшателя. У той дамочки, что Чехова обожала, умный сосед оказался, немец и доктор в одной ипостаси. Он первым к Феденьке подошёл, заплатил, как положено, и Федька стал пропадать в соседнем дворе. Еще одним домом чище стало на улице, а там и другие соседи в очередь встали к непьющему молодцу.
Как улица называется официально, никто и не помнит. Стали улицу Чистою называть, вот это название прижилось. Стал мало помалу народец по улочке той прохаживаться в тени малых дерев. И дамочкам хорошо, их подолы грязью не пачкаются, и их кавалерам приятно с такой чистой дамой пройтись. А на улочке тень, а на улочке благодать. Там, где гуляющие, обязательно, хоть один, но торговец окажется. Так и тут, шустрый татарин опередил конкурентов-евреев, и стал предлагать дамочкам разные сласти. А где сласти, там водичка нужна. Так появилось ситро, его приносили из-под Петровской балки (там чище вода). А когда Федя наладил у конечного обитателя улицы беседку, которой как бы закруглил улицу эту, улица почти официально стала местом выгула горожан. Тогда покатали по улочке этой особ великих фамилий, может, и царских, а почему бы и нет?
И слава Феденьки возросла до того, что сам митрополит пригласил его сад у епархии обиходить. Правда, денежку не заплатил, зато те, кто за митрополитом в очередь встали, деньги давали не в счёт.
Ну а Паулинка? У ней дел было столько, что суток не хватит, хоть занимай. Первенец народился, назвали Иваном. За малышом глаз да глаз, да и хозяйство внимания требует.
А тут еще одна оказия приключилась.
Старший Иван все делал и дела игрушки. А кто продавал? Анастасия! Да как то она занемогла, и пришлось продавать Феде-сыночку, который ее в селе навещал: мать она все таки, как сыну мать не любить, хотя Паулинка ее в дом в городе не впустила, отговорившись, что дом то не их, а хозяйка чужих в дом пускать не велела. Ну а какой с Феди купец? Такой, как отец, задарма игрушки отдал. На другой раз Паулина встала рядом с мужем. День был приветный, солнце играло, Паулинка оделась по русски в сарафан ярко-жёлтого цвета, ленты зелёные в волосы приплела, мужа одела в косоворотку тоже жёлтого цвета. Издалека видна красота, и люди скружались посмотреть на красавицу-молодицу и мужа ее. А Паулинка старается, игрушки на свет выставляет, хвалит работу тестя Ивана, как будто свою. Ребятня ротики поооткрыла, на красивую тётеньку посмотрев, за игрушкой ручоночки тянет. Родители денежку отдают, да раз в пять подороже, чем Настасья торговала. Да и то: у Настасьи личико злое, иной раз и игрушку в руки брать не хочет никто. А тут молодица, а тут молодец, да русские прибаутки, да косоворотка.
Подходят скучающие офицерики. Их роту или полк подогнали в южный город на упреждение бунта татар. Бунта, слава Тебе Господи, не случилось, и офицерики заскучали. Пошли по театрам, по кабакам. Вот одной актрисулечке они подарочек выбирали, а тут глядь, красавица-молодица торгует красивым товаром.
Офицерики глазками заиграли, эполетами засверкали: почем, дескать, красивый товар у такой распрекрасной девицы? Паулиночка цену им называет, а один, самый нахальный штабс-капитан ей говорит: «за поцелуй, моя душечка, я тебе в десять раз заплачу!»
А Паулинка брови настрожила, да говорила ему: «вот мой муж рядом стоит, его и целуйте, если захочет».
Народ рядом заржал: эка умыла девчонка нахальников. А офицер не обиделся, наоборот, зауважал, и положил перед красавицей денежку, агромадную! И говорит, это тебе на ленты да бусы, красавица, да за чистоту твою да за верность своему молодцу. И игрушку самую ладную, куколку, обнаряженную, как испаночка, выбрал актрисульке в подарок.
Паулина мужу часть денежек отсчитала, чтобы отвёз матери в дом, как положено, на молчаливый вопрос, где остальная, большая часть, Паулина ответила: это как бы возврат моего приданого, что твоя матушка прикарманила. Федьке нечем и крыть.
Только с тех пор Паулина приналадилась игрушечки торговать.
Тут опять случилась оказия: стал прихварывать тесть Иван, прихварывать да покашливать. Так раскашлялся, что поневоле к доктору повезли в город губернский, аж в Симферополь. Паулинка тестюшку привела к соседу: посмотрите, соседушка, сильно ли плох тестюшка мой? А доктор и приказал: будем лечиться в городе, ищите жильё. А чего искать? Поместился тесть во флигелечке, теснота, зато в дружбе. Федька смотался в село, притащил отцовы прилады, и Иван стал мастерить. Чем не житьё? Федя по людям сады-огороды устраивает, денежку Паулиночке отдаёт, Паулинка игрушечки на базаре торгует, тесть мастерит да за внуком присматривает. Красота!
Красота да не очень. Прибредёт мужа жена, Анастасия, да враз учиняет скандал: чего мол, в городе ошиваешься, делаешь вид, что больной. Вот так пошумит, денежку у Ивана отберёт, пнет старого пса, и за порог. На внука даже не глянет, а тот, как увидит бабусю, так шасть в конуру, к верному Атаману (так звали пса).
Не устали? Мы где то посередине. Ну, дальше история была так.
Ну вот, как то раз сильно шумела Настасья, да так, что доктора дочка вызвала околоточного: у нее случилась мигрень, и головная боль была адской, а тут у соседа драма такая, что ор Настасьин слышен в конце улицы, у беседки той, закруглённой. Околоточный как раз и стоял на посту у самой беседки. Прибежал, Настасью за шиворот, и в участок потащил. А что Иван? А вы помните, что он никогда и ни во что не вмешиваелся, особенно в дела жены? Ну и тут не вмешался.
Короче, в участке Настасью избили. Плетьми отстегали, чтобы не нарушала порядок на улице Чистой. И поплелась баба домой, еле дотопала, так было больно. А что сыночек ее, Феденька? А он как раз сад обихаживал у епархии, и оттуда не слышно, не видно родную улицу. А вечером дома никто ему не сказал про проделки Настасьи, только сынок что то пролепетал, да кто же его, младенчика, понимал?
Как то раз навестила доктора его родственница, вдова купца. Тот купец, собственно, и был родственником доктора, вроде как двоюродным или каким то иным кузеном ему приходился. А вдова прибыла за советом знающего доктора: что то серчишко стало пошаливать. Да и доктор по родству меньше возьмёт, чем иной какой доктор в округе. Доктор был занят, осматривал пациента. И купчиха стала глазами смотреть, чего глазам зря пропадать, коли рядом природа красивая. А в соседнем дворе бравый мужик с мальчонкой играет, то ли сыном ему, то ли внуком. Мальчишка в руках игрушку вращает, красивую, ладную, яркую. Посмотрела, посмотрела купчиха на эту красоту, отметила в уме, что красива игрушка, ладная очень. Ну и поитересовалась у доктора, кто тут и как в соседях живет. Доктор и рассказал про мастера, мужика явно непьющего, мастерового, про Паулинку и Федю. Из чувства тактичности про Настасью доктор предпочёл промолчать.
Опять таки случилась оказия!
Прикатила из столиц государства обрёванная хозяйка жилья Паулины. Умер великий писатель, и дамочке дом стал ни к чему. Она его быстренько продала, да взяла чутьне вдесятеро, так Федя наладил дом и садик при нем. А в благодарность новому приобретателю присоветовала Паулину и мужа. А тот и рад: новый хозяин был из Санкт-Петербурга, и дом навещал раз в год, а то и меньше. Дом считал вложением капитала, и был прав. Так этот владелец, санктпетербуржец, как любил себя называть, охальник какой, стал приставать к Паулине! А что его, бить? Короче, стали искать да подыскивать пристанище новое. А ждать не пришлось: купчиха нарисовалась. Сама предложила им перейти к ней. Не в дом, хотя двумя домами в городе она владела. В одном доме сама проживала, другой дом был доходным, сдавала квартиры, тем и жила. У мужа ее были склады, там, за домами. Ну, не склады, а так два длинных барака. Правда, каменные, и с печами. Вот она и предложила семье: «я тут посоветовалась с батюшкой, и мы предположили, почему вам, Иван, не наладить производство игрушек? А вам в подмастерья дадим учеников, парнишек из бедных. И им хорошо, болтаться не будут, и вам хорошо, вдруг да кому опыт свой передадите. И деньги будут другие: наладим так производство, что игрушки пойдут и в Москву, Саратов и в Питер. Вон, говорят, ваша игрушка здорово понравилась Чехову, мне говорила ваша хозяйка. И жить будете тут: два барака, в одном – мастерская, а другой приспособите под жилье, у Федора руки, не руки – талант».
Ударили по рукам, и нехитрый скарб «благородного семейства» перекочевал в первый барак. Наладилось производство, детишки из бедных не баловали, приучались к казенному мастерству, домой денежку приносили, малую, но несли.
Паулина наладила новое дело: с немецкой тщательностью и настойчивостью стала собирать с жильцов вдовицы «квартирные деньги». Паулину ни соплями, ни слезами не проймёшь, она закаленная опытом жизни с Настасьей, и квартиранты, хошь там или не хошь, приучились вовремя денежку отдавать. А купчиха и рада, такой воз с шеи свалился, да и некогда ей. Она занята.
А чем, почему? Да влюбилась в Ивана. А что? Мужик еще ничего, высокий и статный, и кашель куда то пропал. Округлился на паулиных щах, а, может, от спокойствия худоба то пропала. Синие очи, да еще и молчит! Золото, не мужик, а купцам мимо золота проходить не положено. Ну и Иван был не прочь, раз купчиха была в самом соку, да и бездетна. Это к тому, что фигура испортиться не успела. Короче, сладились оба, Иван перешел жить в покои вдовы, Паулина с ребёнком и мужем обиходила первый барак, во дворе ребятни мало-нимало обучаются мастерству, по ходу играясь в сделанные ими игрушки. Одним словом, жизнь просто кипит белым ключом. Некогда и вроде некому думать про Анастасию.
А она сама о себе людям напомнила. Как?
Вот тут начинается криминальный сюжет, а то вы подумали, что я уже подзабыла про грабеж и разбой и россказни адвоката? Извольте, начну.
Праздник престольный, гуляет народ. Игрушки Паулинка давно расторговала, осталась одна, она и оставила мастера Ивана последнюю распродать, и убежала к церкви, где женщины хлопотали, готовя общий обед. Паулинка с купчихой сдружились с батюшкой и его семьей, и стали матушке чуть не подругами. Вот Паулинка и бежала помочь. У церкви Федор, рядом сынок. Федору тоже работа находится: ладить столы и скамейки, утварь таскать, да мало ли что. Весело всем, спорится дело.
Иван скучает один на торжище, он бы ушёл, да невестушка приказала остаток продать. Ребятишки давно разбежались по торжищу, заполучив заработанную на игрушках деньгу. Голодных мальчишек давно ждут баранки и «французские» булочки с маком, ситро и щипящий изюмный квас. А там, глядишь, карусели-качели манят, иная какая забава найдётся сытым ребятам. Так что «прощай, дядя Иван!» и стрекача босыми пятками.
Стоит Иван одинёшенек, переминается. Купчиха его дома осталась, не хворала, а так, беспокоился за нее: на восьмом месяце женщина, ей нечего по рынкам бродить, пусть лучше дома лежит, ребеночка сохраняет.
Тут подходит к Ивану благородная дама. Вся в кисее, даже зонтик, явно из-за границы, тоже весь в кружевах. Дамочка та подплыла, интересуясь игрушкой. Только что стали они торговать, при чем дамочка постаралась очаровать продающего: глядишь, скинет с товара какую деньгу, посмотря на ее личико под беленькой шляпкой. Да и мужичок был очень даже и очень совсем ничего, ладный, высокий и чистый. Стреляет глазами дамочка в кисее, перчаточкой тоненькой игрушечку трогает, как вдруг раз! кто то ей в спину кулак.
А это Настасья! Кому же еще? Наконец то, подумалось бабе, застала я муженька с тварью его (слово у Настасьи было другое, его применить не могу). И чего тут думать да песенки петь? Нужно твари по роже наподдавать, да чтоб кровью умылась, да желательно хребет ей, паскуде, перешибить!
Вот с этими самыми благими намерениями Настасья и приступила. Для началу хряснула бабу по спине кулаком, потом с ноги ударила по толстой заднице.
Дамочка было опешила, повернулась, увидев обидчицу: «ты что, баба, сдурела?»
Мигом рядом – толпа. Иван стоит отрешённо. Вы помните принцип его? Особенно, если дело касается жены, попом венчанной? Вот он и стоял ровным столбиком, млякая синими очами.
Не успела дамочка сообщить, что, мол, тетенька, вы ошиблись случаем, как получила кулачищем по роже. Мгновенно умылась соплями в крови, кровь потекла по беленькой кисее, оставляя следочки в базарной пыли. Захлебнулась дама в крови, а народ рядом стоит, рты поразинул.
Откуда то издалека городовые бегут, услышали дамочки крик или на зрелище толпы набежали?
Дама, увидев, что некому ей помочь, на инстинкте уразумела, что она русской крови, и вознамерилась дать сдачи безумной, особенно как увидала, что осатанелая баба рвёт в клочья зонтик ажурненький, по случаю привезённый из самого центра Парижа, как уверял дотошный купец. Сколько денжищ отдала за ажурненький, чтобы дамой света казаться, а тут озверелая баба топчет в грязной пыли красоту в тонком кружеве!
Только что собралась навернуть парочку оплеух простолюдинке обезумевшей, только что собралась вцепиться в волосья нечёсанной, как только…
Но победил опыт! И опередивший полицмейстершу кулак Настасьи пришёлся по левому уху дамы кисейной, а правой рукой со словами: «нажрались кровинушки нашей, делиться пора!», она сорвала с уха дамы серёжку. Мочка разорвана, серёжка в руке. Не простая серёжка, а изумрудная. Муж подарил, и по случаю престольного праздника жена полицмейстера, а это была именно она, нацепила в ушки свои драгоценности. На беду, муженёк отлучился якобы по делам, на самом деле искал милый подарочек очередной актрисульке, да замешкался, и побежал, только услышав голос супруги: «Иван!»
Как Настасья услышит «Иван», так вдвое иль втрое сила прибавилась, приободрилась баба: точно же, наконец то прищучила я эту паскуду! А то никак не получалось увидеть разлучницу: два раза ходила к дому разлучницы, да невпопад. То на Паулинку наткнулась, пришлось развернуть стопы назад, то на собаку. Пёс обиду запомнил надолго, и так зарычал, что Настасья решила не спорить. А тут на тебе, получилось!
И вдругорядь произнесла, протянула с надрывом: «напились кровушки нашей, паскуды! Пришло время отнять!», и вознамерилась повторить процедуру вырывания серьги из ушей мнимой разлучницы.
Тут её и скрутили.
Свидетелей было, не счесть. И Иван, которого первого допросили, и пару зевак, и полицейские. Все дают показания, ничего не тая.
Полицмейстер, так тот вознамерился Настасье дело пришить, политическое: дескать, кричала она, что кровушки напились? А кто так кричит? Политические, кто же еще!
Осадил его судья, слывший большим либералом: «вы что, батенька, опомнитесь! Разве ваша жена похожа на особу царской крови»? И ехидно добавил: «вот если бы у вас серьги из уха тащили, тогда да, тогда несомненно был бы политический окрас этому делу. Или дали бы вам по сытой то роже, тогда, простите, конечно, явно аспект вреда строю великой нашей империи, а так простите, простая уголовщина».
И пошла Настасья-Анастасия по уголовной статье.
Адвокат настоял на присяжных, либерал согласился.
Адвокат перед самым судом навестил бедолашную и говорил: «вы, милая, только молчите, можете плакать. Я сам все скажу. Я вам назначен от государства, за денежки не беспокойтесь, но не обижусь, коли отблагодарите потом после суда».
Про деньги Настасья враз поняла, а вот остальное? Попробуйте марсианину объяснить про наши дела, он с ходу поймёт? Так и Настасья не вразумела, кто такой адвокат, для чего он, собственно, нужен, какой такой суд, какие такие присяжные заседатели, когда она всего-навсего разлучнице рожу расквасила. Сколько баб по селу ходят, битые ею, и ничего. А тут подумаешь, неженка горожанка получила по полной программе, и было за что, нечего мужей уводить от венчанной пары. И за это судить?
Однако судить. Зало судебное заполнено до отказа. Только что не висели на люстре да на окне. Студентики, барышни из кисейных, пара заезжих бунтовщиков, для размыва публики на передних скамьях восседали отцы благородных семейств и их разнаряженные спутницы жизни. Процесс обещался быть громким, однако, слушок по городу шелестел, что не простая то баба на скамеечке жмётся, а политическая! Что приехала из самой столицы особа, принарядилась под простолюдинку, да и в центре губернского города учинила расправу над женой полицмейстера, этого царского сатрапа.
Нда, процесс обещал быть бурным и сложным. Замерли двенадцать присяжных, «большое жюри», как называют во франциях. Замерло зало. Ждали судью.
Воссел либерал, ровно король на своем возвышении, покашлял, покашлял, и начал процесс.
Первой стали допрашивать пострадавшую. Полицмейстерша постаралась! Блузон из муаровой ткани серебрил высокую грудь, юбка из шерсти шотландской, скромного серого цвета, такого, что сразу видно даже самым отсталым, что ткань жутко как дорогая. Ботиночки на шнуровочке тоже скромного серого цвета, правда, из замши, тоже явно не за рубль или червонец прикуплены. И шляпка! Ах, какая на даме шляпка была! Скромного серого фетра, и ленточкой перевязана ровно в тон ткани блузона. А из-под шляпки вроде не нарочито, но так, чтобы всем было видно, ушко перевязанное видно с бинтиком свежим. А впридачу к тому благоухает дама французским флёр-ароматом, явно доставленным из Парижа.
Кто то из записных остряков, а такие всегда есть в любой толпе и любого народа, аж крякнул от зависти: «смачная баба!» Порозовела потерпевшая от похвалы, глазки скромно потупила. Муженёк потерпевшей приосанился с ходу, новым взгядом присмотрелся к супруге, поднадоевшей доселе до степени походов к акрисочкам: «а что, моя, ничего, не зря тратился на эти наряды».
Сочувствие массы толпы потерпевшей было уже обеспечено. Но что она станет тут говорить? А она, то есть, потерпевшая от лютой расправы, почти что не говорила. Так, тихонько слёзоньки капали, носиком шмыгала, да повторяла: «за что мне такое, за что? Я только хотела игрушечку прикупить, да бедным девочкам в честь православного праздника в приют отнести, пусть детки порадуются. Не порадовались…» Во как дело то обернулось, женщина еще и доброй самаритянкой оказалась!
И женщины в зале, до того обсмотревшие потерпевшую с пяток до верху, и застрадавшие от того, что не одеты, как эта принцесса, и мужичье, до того тоже смотревшее больше на высокую грудь да на тонкую талию невинной, да рисовавшее в уме чулочки из кружева, да белье кружевное, короче зало суда вмиг приняло сторону потерпевшей.
Один полицмейстер головой закрутил, да будь его воля, затылок чесал бы полдня: эва, какая умная баба, а он об этом не знал, сколько лет по утрам чаи с «самаритянкой» распивая.
Звёздный час потерпевшей продолжился, когда стала она отвечать на вопросы суда.
«Нет, господин прокурор, со свидетелем не знакома», – это с Иваном, то бишь.
Настасья аж охнула на такой беспредел, но по первости промолчала, тем более что адвокат дёрнул за руку да прошипел: «помолчи!»
Далее невинная сторона рассказала, как игрушечку выбирала, заодно похвалив мастеров, что сделали такую славную вещь, как неожиданно сзади ей ударили кулаком в область спины (про пинок по ягодицам тактично умалчивая). Как обернулась лицом к нападавшей, и та неожиданно нанесла ей удар в область лица.
Нда, дамочка показания давала ровно по писанному, недаром учила два дня наизусть листочки бумаги, что дал ей супруг.
Присяжные слушают, головами кивают. Зал рты приоткрыл: ишь ты как брешет, красивая сучка! Почему я применила такое грубое слово? А посудите: завидно бабам, что не они на пъедестале стоят, в нарядах парижских? Еще как обзавидно особам женского полу! Значит, кто она, эта красавица, которую, конечно, жалко, временами даже и сильно жалко за разорванное ушко, но все таки она – сучка.
А мужики? Хоть сто раз обсмотри красивую бабу с ног и обратно до головы, хоть спереди и сзаду ее обсмотри, а толку? Слюной изойдёшь, а она явно из верных супружниц, значит кто она? Правильно – сучка! Но сочувствие ей обеспечено, а среди молодёжи даже и нередкое обожание, особенно если учесть флёр-аромат.
Бесстрастен судья. Кипятится защитник. У него версии две для защиты. Первое, это называется в юридической среде, «ошибка в выборе объекта», то есть по-простому, баба просто ошиблась. Не на ту напала, короче говоря. И тут пригодилась бы до чрезмерности линия правды, то есть ревность супруги. И изумрудик, что лежал на столе у судьи, как вещественное доказательство по ограблению, лёг бы в строку защитительной речи, как нечаянная вещь. И прокатило бы, явно бы прокатило!
Вторая, запасная версия, была той самой, политической. Развернул бы ее, если бы версия ревности провалилась, да так, что и в Питере ахнули! И тогда такая слава ему, такая заслуга, что не надо копеек от государства за защиту Настасьиной дури.
Кипятится защитник, готовится.
А допрос потерпевшей продолжается, и после вопроса прокурора: «это ваша вещица?» (прокурор берёт со стола серёжечку изумрудную и тычет залу в глаза), потерпевшая скромно потупилась: «да, моя». Тогда защитник задал встречный вопрос: «а откуда взялась драгоценность такая, извольте сказать».
Потерпевшая чуть-чуть прищурилась, взяла серёжку в ладошки (ах, как не хотелось её отдавать!) скромно ответила: «тятенька подарил. По случаю бракосочетания моего с Иваном Ивановичем».
Два человека из зала аж хмыкнули: полицмейстер, что вовсе недавно выкупил изумруд у купца первой гильдии за немалую денежку, и тот самый купец, что хотел взять за изумруда серёжечки сумму раза в два или три подороже, чем выманил сквалыга блюститель закона. Оба подумали, не сговорясь: экая умная баба, однако.
Допрос плавно перешёл собственно к нанесению удара по лицу и вырыванию серьги. Потерпевшая было в мельчайших подробностях стала произносить, как наносился удар кулаком в область носа, как виновная особа (дама Настасью иначе как этим термином не называла, ни разу не назвала ее дрянью или, хуже того, паскудой, все «виновная особа» да «виновная особа», чем, кстати, снискала у зала добавочной популярности) с возгласом…
Тут её дружно прервали и прокурор, и защитник, и сам судья, в голос один произнёсшие: «что именно произнесла подсудимая, когда вырывала серьгу?»
Потерпевшая успела сказать: «виновная особа сказала, что досыта напились нашей кровушки…» и хотела дальше продолжить свою «тронную» речь, как Настасьюшка взорвалась: «и еще раз бы вырвала, паскуда ты этакая!»
Всё.
Ахнул зал, защитник руками схватился за голову, попытался в отчаянии Настасию усадить, да та вырвала руку, и в пылу гнева праведного (ведь мужа уводят!) ответствовала адвокату: «молчи уж, старый дурак! Денежку от меня захотел, еврейская рожа?»
Тут, к слову сказать, из всей речи адвоката перед процессом она поняла лишь одно: что хочет отнять ее денежки этот еврейчик. А за что, не поняла, не вразумела, не догадалась, не разобралась. А что еврейчиком обозвала, так испокон адвокатская среда состоит из представителей этого народа, чего тут против правды грешить. Это все понимают и по молчаливому уговору про это молчат. Все то все, но не Настасья.
Зал взорвался, заржал. Заскучавшие до этого отдельные лица снова встряхнулись: эвона, какой поворот, и заострили внимание на «виновной особе».
Потерпевшая растерялась: что теперь говорить? Прокурор привстал со своего места, два солдатика, что стояли «на караул» у скамейки подсудимой, встряхнулись. Судья тоже привстал, и призвал к порядку и подсудимую и зал присутственного места.
Шумок поневоле стихал, и судья предложил вернуться к допросу.
Потерпевшая славно закончила речь, свидетели слово в слово повторили слова подсудимой про кровушку и про зажравшихся, что подсудимая не нечаянно вырывала сережку из уха, а преднамеренно со словами «надо делиться» и т. д. и т. п.
Настасья на слова потерпевшей, что боль от раны до сих пор не зажила, выкрикнула: «неженка! Сколько баб по селу бродят с ухами оторванными, и ничего! Их проучила, и тебя научу!»
На эти слова зал отреагировал бурно, а кое кто от избытка чувств даже присвистнул.
Но это зал, юридически не искушённый, в юристы молча переглянулись, с выражением посмотрели на присяжных, те тоже попереглядывались, и участь Настасьи предрешена.
Настасью еще пару раз призывали к порядку, грозили выставить из зала, пока допросят свидетелей всех. Без толку были угрозы суда, подсудимая разгорячилась, что тот кипяток.
Зато адвокат приуныл и только рукою махнул, когда предложил судья и ему задать пару вопросов. Приободрился разве что при допросе Ивана (заготовил заранее пару хитрых ловушек, начиная с первого, про фамилию его и его подзащитной. Услышали бы присяжные, что перед ними супруги, по иному стали бы смотреть на происходящие в зале вещи, и версия ревности стала бы преобладать), да опять помешала Настасья.
Как увидела Ивана в зале суда, так разъярилась так, что пыталась со скамьи соскочить, кинуться на супруга, да удержали солдаты.
В полушуме Иван успел проговорить, что фамилия с этой особой однакова, только Настасья именно эти слова не услышала: была занята, пыталась она стукнуть солдата по темечку, да адвоката лягнуть. Ну а дальше ей было не интересно: Иван говорил то, что до него говорили остальные свидетели. На уточняющий вопрос прокурора, знаком ли с потерпевшей, правду ответил, что не знаком, что подошла дама за игрушкой, что они как раз торговались за цену товара.
Тут адвокату и проявить свою принципальность к рассмотрению дела, но он промолчал: отомстил Настасье за причинённую боль. Умела драться Настасья, умела, так навернула ему, что нога сразу опухла и потом долго болела. И он промолчал, массируя ногу: «чёрт с ней, с бабой паскудной! За бесплатно еще и увечье от нее принимать? Нет уж, спасибо, пусть дальше парится без участия адвоката».
А что неграмотной против стольких юристов?
Хотела им всем рассказать, как трудно ей, одинокой, живётся, какой паскудный у нее муженёк, как страдает она без мужниной ласки, как голодно, холодно по вечерам. Да как отлупили ее полицейские, и еле-еле она добралась да не до дома родного, а забрела нечаянно к сватам в гости.
Немецкая слобода была по пути, вот Настасья решилась проведать какую никакую, а таки родню. Нашла дом по фамилии, там ахнули, увидев ее, но все ж накормили. И даже оставили ночевать. А утром сватья передала для дочурки пару хлебов из утренней выпечки. Не донесла до невестки хлебы, съела, запила родниковой водой. Это в степном Крыму воды нетути, а в предгорьях родников то, родников то течёт, ровно не меряно. Какие то добрые люди обиходят родник, камушком выложат, да камни большие для сидения приспособят, а кое-где даже скамейки поставят. Хороша водичка у родников, пьёшь, не напьёшься. Вот и Настасья съела хлебы, напилась за бесплатно водички и домой подалась, в дом опустевший, где ни детей, ни даже собаки. Одни тараканы усами из-за печки шевелят, ожидая крошек-добычи. И так снова захотелось поесть, что на слова судьи: «вам предоставляется последнее слово, подсудимая, что хотите сказать суду?», она честно-пречестно ответила: «курочку бы сейчас!»
Через полторысекундное замешательство зал снова грохнул, и долго не умолкал.
Удалились присяжные, вернулись, и вынесен приговор, и присяжные однозначно сказали: виновна. И на вопрос, заслуживает ли подсудимая снисхождения, тоже одноголосно ответили, что нет, не заслуживает.
И пошла по этапам Настасья, осуждённая за открытый грабёж. Пересыльные тюрьмы, Сибирь вместо цветущего Симферополя. Короче, сломана жизнь.
Как и что дальше было, мне не известно. Знаю одно, что сын Паулины фашистами был расстрелян за участие в партизанском движении. Надо же, НКВД его пощадило за немецкое происхождение, а вот немцы не прониклись сочувствием: расстреляли.
Вот такая история про Настасьину дурь. И разве важно, когда это происходило?
Меняются времена, да не меняются люди.
Ваше великолепие, или Ну, что, поиграем?
Старик терпеть не любил манную кашу, зато жёнушка обожала. И каждое утро он брезгливо смотрел, как она давит комочки в жёлтенькой жиже, как вечно сухим язычком облизывает мокрую ложку, как с наслаждением хряхтит, макая белый хлебушек в кашу. Он допивал свой утренний чай, и, если погода соизволяла быть бодрой, отправляся на «выгул», как жена говорила. Такие же как и он старички садились на лавку, на ободранный стол ложились, не карты, конечно, не карты, ложились то домино, то квадратики шашек. В шахматы не играли – нервенно очень для старческих организмов. Им всем давно перевалило, наверно, за тысячу. Конкретно нашему старичку было за семьдесят, чуть-чуть, если и доживёт, стукнет все восемьдесят. Играли почти что молчали. Давным давно обговорены сплетни, былые заслуги, давняя военнная молодость, красивые девки и бабы. Доказать что не помер, можно одним: вот так вот выйти на лавочку, да поиграть в домино или в шашечки. Вот и играли.
Сын давным давно отделился, работал, где жил, где то в Сибири. Появлялся в Москве крайне редко, и то по делам. Заскочит, притащит ненужную дрянь вроде рогов, и опять умчится то ли в Сибирь, то ли по каким министерствам поскачет. Старик покряхтит, рога отнесет на балкон, и снова сонная тишь стариковского бытия считается тиканием больших часов в кабинете. Был ещё внук, но того привозили так редко, что визиты с мальцом можно по пальцам считать. Но старики внука любили и сильно, правда, поневоле заочно.
Старуха днями сидела перед ящиком говорящим, как называл ее муж телевизор. Не вязала: глазами слаба, не читала по той же причине. У окошечка сядет и смотрит весь день на облака, небо и тучи, на зелень двора, на орущих мальчишек. Ногами слаба стала к старости и отучнела, и хождение лестниц не сильно давалось слабым ногам. В лифт старуха не верила и сильно его опасалась. Было ей скучно? Не знаю, может, и скучно, но монотонная жизнь прерывалась готовкою пищи, мойкой полов и прочей бабскою канителью. По-научному, по пенсионному Фонду, такое времяпроживание называется «сроком дожития». Некрасиво, но правильно.
Сильный был дождь, он прихватил старика по дороге из магазина. И, главное, оставалось идти то через дорогу, а там и подъезд. Но так зарядило, что пузырями луж ноги старика промочило бы до подмышек, да и ступать в вонючую жижу мокрых московских дворов не хотелось. Наконец дождь перестал, и старик, ровно ступая через остатки лужиц асфальта, тронулся в путь.
У дренажной решётки что то пищало, мокрый комочек отчаянно старался не попасть в дырку решетки. Любопытство заело, что там и как, и старик, привычно кряхтя от натуги, нагнулся. И в руку лёг маленький, страшненький до невозможности, мокрый и грязный котёнок. Старик повертел находку в руке, даже понюхал: от котёнка смердило асфальтом бензина. Выбросить? Жалко. Домой принести, так бабка совсем ошалеет. Котёнок в руке не пищал, не стонал, не огрызался и не кусался, а молча смотрел громадными голубыми глазами на нечто большое, такое большое, что он весь уместился в исходящем от этого «нечто» отростке с пятью отростками меньше.
Что делать? Вопрос одинаков у старика и котёнка. Что делать? А ничего! И старик с грязным комочком в руке притащился к квартире. Молча открыл дверь, молча пошаркал на кухню, молча поставил на стол небольшие покупки (тихо звякнуло молоко в стеклянной бутылке), так же молча раскрыл руку и положил перед старухой комочек. Та вначале отпрянула. Именно этой реакции и боялся старик. Затем сослепу пригляделась, взяла комочек на руки, и котёнок отчаянно запищал. Через секунду вода из-под крана хлестала по мокрому тельцу: котёнок всё так же отчаянно возопиял про несправедливость его бытия. Старик притащил своё банное полотенце, и мокрый комочек стал просыхать, открывая рыжую-рыжим сущность свою. Подогретое молочко напоило вопящего, и котёнок уснул у старухи на полных коленках.
Она звала приобретение не иначе, как Ваше великолепие, баловала до невозможности, гоняя старика в магазин за печёнкой и свеженьким молочком. Котёнок был рыжим, значит, был наглым. Ему разрешалось пачкать ковёр, ему разрешалось лазить по шторам. Старик незлобиво ворчал: не котенок, одно баловство, но по своему утешался общением со спасённым.
Кот быстро рос, и вскорости приучился уходить вместе со стариком в шашечки поиграть. То есть играл то старик, а котёнок, нарезвившись лазаньем по деревьям, прыгал старику на плечо, и так засыпал, пока старик дулся в шашки. А старуха скучала, ожидая шагов у двери. А в квартире ее очередь наступала баловать сорванца. Иногда, когда думала, что старик не слышит, называла котёнка «сыночком». Старик не смеялся: был рад, что старуха его ожила, ровно как помолодела. Да и он похудел, по три раза на день ходя в магазин за печёнкой и свеженьким молочком. Собраться по домино подтрунивали над стариком, но очень беззлобно, так, чисто побалагурить да порадовать новой шутке.
Как снег на голову – внук! Поступил в академию, и стал проживать у дедов. С молодым котом внук молодой язык нашли сообща и мгновенно! Не дом, а бедлам: носятся, прыгают, в прятки играют.
А у старухи вроде как и морщинки прошли, целый день суетится на кухне, готовит, старается. Даже книгу заставила снять с антресолей о вкусной и здоровой пище.
Впрочем, внук прожил у стариков месяц или немного больше, да отпросился пожить в институтской общаге. Весело там, а для стариков версия, что учебников маловато, и учат они сообща, казалась правдоподобной. Ведь именно так учились они по одной книге на курс или группу.
Невестка по телефону поворчала, покапризничала, да ничего, обошлось. Внук заскочит раза два в месяц: пожрать, как он говорил, или перехватить у старика пару сотен на жизнь. Ничего, пенсия позволяла, да и что старику деньги солить? В радость себе совал внуку деньги, и больше, чем сотня. И оба, довольные жизнью донельзя, расставались в прихожей. Внук, обкормленный бабкой и снабжённый дедом деньгами, мчался в общагу, старик плёлся на кухню, где кот, довольно урча, объедался печёнкой.
Кот вырос громадным ярко-желтым сокровищем. Глаза его давно порыжели, но так и остались громадны, и зеленились в ночной темноте, что фары автомобиля. Он уже не лазал по шторам, не пачкал ковры, а стал пропадать, заставляя старуху скучать и мотаться по комнатам дня два или три в отчаянно нервном напряжении. Старик утешал: «да что ему будет? Подерётся, понапроказничает и придёт». Кот приходил, вернее, впрыгивал через окошко на кухне, и мчался к кормёжке, на ходу орал благим матом, дескать, бабка, корми! А та уж бежит, на ходу одевая халат, несется на кухню кормить сыночка страсть как любимой котом печёнкой. Нажрётся и ляжет у нее на коленях, сытно урча. И бабка со счастливым лицом гладит кота и смотрит на улицу, где ласковый дождь дребезжит подоконником.
Давным давно и не нами подмечено, что счастье долгим ни у кого не бывает. Почему так, не знает никто, наверно, так положено, не нам осуждать деяния Высших.
Старики как раз наигрались на сей раз в домино, и старик, привычно кряхтя, позвал Лорда (так на людях он звал Ваше великолепие): пора домой, старуха уж заждалась.
Почему Лорд не вскочил привччно на плечи хозяину, уже не узнать, но на сей раз кот решил опередить и бросился через дорогу в подъезд. Ровно на середине дороги сбивает его чёрный джип. Джип нёсся со скоростью, больше приличной для автобана, чем узкой дороги между дворами. Кот, подброшенный мощностью многократных сил лошадиных, перевернулся в воздухе несколько раз, и упал на асфальт, опять ровно по середине дороги. За эти секунды джип, сделавший круг около дома, вернулся, и высунувшийся из двери молодой красавец произнес: «я что, сбил кошака?» Затем, не дожидаясь ответа, джип снова проехал по дергавшемуся в конвульсиях тельцу кота. И умчался, взвизгнув на повороте тормозами.
Как старик дошёл до квартиры, он и не помнил. Как старухе сказал, тоже не помнил. Не помнил, и всё! Старуха слегла. Просто легла на кровать, отвернулась к узорам ковра, и молчала. Не ела и не пила. Лежала. Молчала. Внук прискакал, погладил старуху, вроде как она ожила. Внук заставил старуху попить молочка, за которым сбегал «пулемётом», потом сварил манную кашу, и ложки три бабушка проглотила. Внук произнес: «я сейчас», и куда то умчался. Пришёл часа через два, с ободранными кулаками и рваной курткой. Помялся у двери комнаты старика и произнёс: «дед, мне на учёбу пора, сессия, завтра экзамен, как сдам, я вернусь…», и дверь хлопнула, закрываясь.
Не обманул стариков, правда, вернулся, стал жить, стал жить, как положено. Старик внука прописал по квартире со словами: «мало ли что…» Внук понял и не ломался.
Старик сильно сдал, стал горбатиться, чего сроду не было. Старуха исхудала, держалась лишь тем, что внук в доме хозяйничал: пылесосил и прибирал, носился по аптекам и магазинам. Да разве молодого к кровати старухи привяжешь? То сессия у него, то девочки появились, то на концерты куда то спешит. Жизнь молодая бурлит, тем более что столица.
Прискочит: «баба, ты как?» и унесётся по молодёжным делам.
Между собой старики не говорили. И так то последние леть этак семь мало что говорили друг другу, наговорившись за больше чем пятьдесят лет, а сейчас старуха молчала. Обиделась, что не углядел? Обиделась! И не прощала. Лишь перед смертью сказала: «прости» и тихо вздохнула. Так и ушла, тихонько, как и жила.
Старик и внук возвращались из ветеранского отдела, куда старику было нужно зачем то. Под аркой, которая разделяла большой дом ровно наполовину, внук показал старику чёрный джип: «этот, что ли, дедуля?» Старик молча кивнул.
Когда они подошли от арки к подъезду, джип, взвигзнув тормозами, остановился, и молодой красавец, высунувшись из дверки наполовину, с угрозой сказал: «ты что, молодой, позабыл, кто я есть? Вздумал со мною подраться? Или ты хочешь, что ваш рыжий кот, на асфальте валяться?» Старик не успел даже ахнуть, как джип исчез за поворотом двора, где за домом гудел проспект мегаполиса.
Внук скрипнул зубами, но дед удержал: «не надо, не время!»
Дед сам приказал: «сессия у тебя, в общаге живи! Не бабка я, не волнуйся, как-нибудь проживу».
Остался один, долго шарахался по квартире. Тяжело в восемьдесят двигать мебелью, но подвигал, потом отдыхал, валялся почти неделю, так поясницу схватило, что впору кричать «караул». Встал наконец, вывил прокисшее молоко в умывальник, покачал головой, потопал в магазин и аптеку. Заодно зашёл и в хозяйственный магазин.
Долго на кухне сидел, что то сооружал, ковырялся и хмыкал. Долгих три дня протекло, как старик, наконец, хмыкнул довольно.
Дождик накрапал пару лужиц, асфальт почернел, деревья дрожали осеннею стужей. Тишина во дворе. Темнота. Ранний октябрь солнечный свет убирает раненько, люди спешат по домам от дождя и осеннего ветра. Тишина во дворе, и под аркою тишина.
Гордо стоят у обочин асфальта джипы и мерседесы, майбахи и рено. Старик хмыкнул: надо же, как незаметно двор превратился в элитное проживание московских семей. Скажи лет так двадцать назад, что вместо волг и одной чайки во дворе будут стоять роскоши автопрома, не поверил бы ни за что. А вот ведь стоят, и дождик их омывает. Покрутился возле машин и, промокнув, пошаркал домой.
Рвануло так, что загудели сигналы всех машин во дворе. Владельцы повыскакивали из квартир, ломая ноги, неслись к любимцам. Машины стоят, отчаянно сигнализации воют противно. Во дворе – никого, кроме дворника. Тот как рот разинул, так и стоит, только пальцами тычет. А за поворотом, туда, где за домом начинается проспект мегаполиса, кувыркаются остатки джпа. Как в замедленной съёмке, крутится колесо, руль догоняет крыло или бампер. Между рулём или бампером видно нога или конечность передняя человека тоже крутится на весу. Люди бегут к повороту, да вдруг останавливаются: а вдруг ещё раз рванёт?
Не рвануло. И, медленно поспешая, люди к джипу идут. На рваных остатках лохмотьях переднего сидения тоже ошмётки, но человека. В них трудно узнать владельца чёрного джипа, молодого красавца, до вчерашнего дня бывшего помощником судьи, а с сегодняшнего дня, как успешно сдавший экзамен, он приступл, точнее, обязан был приступить, к должности судьи, и даже не мирового, а федерального! Не приступил.
Ну, вскорости набежали полиция и СК (следственный комитет РФ), и фсбэшники подскочили: взрывное устройство нашли. Не иначе, терракт, ведь судью «замочили».
На старика вышли быстро: спецслужбы умеют работать.
Не отрицал: да, это я взрывное устройство соорудил и наладил, и под машину я положил, куда надо. Естественно, следствие. Естественно, адвокат. Его старику предоставило государство. «Не парился» адвокат, да и старик был откровенен.
Затем начался суд. В зале суда внук заявил: «деда, ты молодец! Деда, не дрейфи!» Старик улыбнулся, всего один раз улыбка мелькнула, и снова потухли глаза.
Как разорялся государственный обвинитель! Ах, как как гвоздил старика! Ах, как старался, не забыл даже напомнить, что из-за того, что потерпевший был из … района, пришлось дело передавать в район другой, и ему, прокурору, приходится наматывать лишние километры. Не забыл напомнить и о заслугах отца потерпевшего, полковника МВД.
Слушали присяжные, головами кивали, искоса взгляды бросали на старика: из-за кота молодого красавца жизни лишать? Не сумасшедший ли подсудимый? Да нет, экспертиза сказала, что старик вменяемый полностью.
Вот и качали головами «большое жюри», рассуждая (естественно, про себя, ведь вмешиваться в ход процесса присяжным не дозволяют), чего так сбрендил старик, чего ему не хватало?
На процесс сын прикатил, прихватив адвоката. Этот сухонький адвокат был въедлив, что та заноза. Грамотный был и дотошный. Такие редко бывают, но этот был из таких. Притащил на процесс стариков, тех самых, что играли в лото и дулись в шашечки.
Старики на процесс надели медали, вытащили из нафталинов свои ордена. Адвокат на стол судье положил ордена старика и данные личности.
Оказалось, старик – боевой генерал. Подрывник. Ас со стажем, как сказал его давний друг.
Прокурор тут задрыгал довольно ногами: «именно это и отягощает его ответственность, господа, именно это, запомните, присяжные заседатели!»
При этих словах взвился свидетель, поневоле забренчав орденами, что, как иконостас, увенчали мундир: «а если бы вашему внуку смертью угрожали, вы бы как, промолчали? Ведь если этот подонок умышленно переехал дважды(!) кота, он разве бы остановился? Я бы тоже его подорвал, только не догадался».
Судья молча перебирал ордена, затем тихо спросил: «это, правда, все ваши?»
Старик молча кивнул.
Нанец, присяжные удалились.
Сколько там заседали, не важно, но вот выходят в зало суда все двенадцать.
И судья говорит: «вы вынесли вердикт подсудимому?»
Присяжные: «да».
И вот тут, милые господа, давайте мы поиграем. То есть возможность предоставляется вам стать на короткое время присяжными или судьёй.
Итак, три варианта ответа:
Первый – виновен.
Второй – невиновен.
И третий – виновен, но заслуживает снисхождения.
Какой выберите именно вы, мой читатель?
Я подожду…
Исповедь живодёра
(рассказ без времени)
Белая, белая скатерть. Тихо колышутся кисти её под свежим утренним ветерком. На столе самовар блестит и сияет, ровно невеста. А на столе, на столе то! И шанежки, и печенья, и пирожки, и варенья. Ломится утренний стол, как перед начальством. Чистые кружки, чистые блюдца. Чистенькая нянька сидит на краю белой скатерти, теребит бахрому. Варенька суетится, все носит и носит из кухни блинцы, блинчики и блины. Белые розы в белой вазе кичатся своей белизной.
И маменька в беленьком пеньюаре, скучает, сидит, его дожидаясь, да крутит в белых руках кофейную белую кружечку.
Маменька не чаевничает никогда. Утром в спаленку Варенька ей приносит первую чашечку кофе. Тогда мама встаёт, приводит в порядок себя, и выходит к столу. Варенька ей подает вторую чашечку чёрного кофе, иногда с молочком или сливками, но чаще всего просто чашечку чёрного и густого, будто дёгтя в кружку накапали. Маменька кофе выпьет до донышка, и сидит, и скучает, его ожидая, его, то есть меня, сыночка единственного.
Сколько мне лет? Четыре, пять или шесть, но не больше. Я врываюсь в столовую, с размаху кидаюсь к матери на колени. Матушка так приятно пахнет утренним кофейком. Или конфеткой, что поедает вместе с горьким кофе. Оба только что не визжим от тихой радости, что мы вместе, что нам обоим так хорошо! Я полупричёсан: вырвался из Вареньких рук, да помчался в столовую, иногда и с расческой в тугих волосах. Матушка волосы мне поправит, поцелует. И как мне становится хорошо. Свистит самовар, розы белеют, блины тёплым парком манят к себе.
Я, как всегда, слегка покапризничаю: мне хочется вкусной конфетки, такой же, что только что съела моя мать. Блинов хочется и варенья. А матушка на капризы мои ноль внимания, пока я не съем положенный мне на тарелку творог, яйцо и не выпью тёплую кружку свежего молока. А уж тогда я могу власть наесться варенья, блинков и ватрушек. Но уже не хочу, наедаясь творогу до отвала. Но конфетка мне полагается завсегда. Такая же, как у мамочки, шоколадная. И пока я лопаю творог, о чём только с матушкой не переговорю: и о проказах, и о печалях (опять у машины отвалились два колеса), и об утреннем пении красненьких птичек, что разбудили меня своей неумолчностью.
Бывало, редко, но все же бывало, за столом утренним чаем балуется мой отец. Тогда Варенька подавала котлеты. Отец чаю нальёт, обязательно с молоком, кинет три куска рафинада, и так ловко подкинет мне на тарелку котлет, что мать не успеет и ойкнуть. Ещё и подмигнёт мне, дескать, не выдавай. Я лопаю ту котлетку, а матушка отцу выговаривает: котлета ему за обедом будет положена. Это вам, милый друг, наедаться с утра, чтоб аж пузо трещало (при этих словах я смеюсь: как это пузо может трещать, смешно слушать), вы ведь за весь день крошки в рот не берёте, вечно без обеда пропадаете на работе своей. Мне опять смешно до упада: как это пропадать на работе? Как будто в прятки играть, что ли: появляться и исчезать? Но за смехом своим не успеваю спросить ни мать, ни отца, отец уже спешит на работу – ездил в город. А маменька, встав, ненадолго уходит к себе: переодеться.
За столом остаётся сидеть дядя мой, то ли отца брат, то ли маменькин. Сидит вечною серою тенью, молчит и сопит, и вкушает чай стакан за стаканом, да ватрушки летят в его рот, как в топку дрова.
А мы с маменькой идём на прогулки. Долго гуляем, так долго, что я успеваю так есть захотеть, так есть захотеть, что чуть не бегом мы мчимся домой. Матушка на каблучках, и я, иногда босоногий. Дождик застанет нас на пути, тут и матушка скидывает каблучки, и наперегонки мы несёмся домой, визжим. И никто не остановит ни бега, ни визга, ни радости бытия.
Пока мы гуляем, Варенька, нянька и кто-то, скорей всего, все тот же дядя, слопает шанежки и ватрушки, блины и блинцы.
Но матушка никогда не сердилась, говорила всегда: хуже голода нет напасти.
Ещё помню, как один день поутру не задался. С разбега, с размаху, я прыг матери на колени, да так резво вскочил, что не успела она чашку прозрачную на стол поставить.
Чашечка та блямс, да и вдребезги. Варенька как заорёт: китайский фарфор, китайский фарфор! А матушка мне на ушко: не порезался ты, мой голубчик? И я плачу и плачу, так жалко той чашечки, так жалко. Прозрачная чашка звенела так тоненько, так звонко, когда осторожненько стукнешь по ней серебряной ложечкой. А сейчас брызги беленькой чашечки некрасиво качаются на полу, такие же некрасивые брызги гущи кофейной сползают по маминой юбке. И я плачу, так жалко мне красивенькой чашечки.
А тут ещё дождь припустил. Вначале несмелый, он потом развернулся, и заливал всё подворье весь день. Какая уж тут прогулка.
Маменька села у окошка дождливого, я приладился рядышком, Варенька с нянькой сели поодаль, и маменька стала рассказывать мне почти шёпотом, и оттого намного было интересней слушать рассказы её про Китай и Пекин, про бумагу и шёлк, и как фарфор делается. А мы, то есть я, шестилетка, старая нянька и всегда бодрая Варенька уши развесим, и слушаем, слушаем, слушаем. И кажется нам, что там, в далёком Китае, там хорошо. Там яблоки крепки и сладки, там шёлк прямо с дерева гусеницы нам подают, извиваются в тонких изгибах, и там много-много китайцев. Маменька говорила, что китайцев в Китае, как звёздочек на небесах. И все те китайцы заняты делом: месят белую глину, что называется «каолин». Мы все втроем, то есть я, Варенька да и нянька шепчем, заучиваем странно красивое слово то «каолин». Белая глина звучит так некрасиво, обыденно, что ли, не то каолин. И месят китайцы белую глину, и все поголовно делают чашечки, прозрачные до голубизны.
А потом маменька переходит к Африке, к пока незнакомым словам: Мадагаскар и Белый Нил, Нил голубой, Килиманджаро. Мы еле-еле втроем, смеясь и понарошку сердясь, заучиваем волшебное слово Килиманджаро. А означало оно, просто гора.
Моя детская цепкая память врезала в мозг и снега, что шапкой лежали на той горе посреди знойной Африки, и Нил голубой, и, естественно, Нил белый с Египтом и пирамидами.
Я вообще на память не жалуюсь: всё помню. Вот вы обратили внимание, как я следака (следователя) поправлял? Он мне читает своё обвинение, извините, моё обвинение, а я его поправляю: и там слово не то, и там было не так. Так что на память свою я не жалуюсь, не отбили пока (и ухмыльнулся).
Как кончилось детство? А сразу: бряк по башке, и нету его, как не бывало.
В белой гостиной на белой скатерке или покрывале, не суть, стоит гроб, тоже белый. Маменька с белым лицом в белом гробу. И нянька мне шепчет: спит мамочка, спит, бедолошная, вечным сном.
С белым гробом ушли белая скатерть и белые розы (с тех пор я ненавижу и эти цветы, и белый цвет), и ватрушки исчезли, и даже блинки. И творожок мой исчез, и свежие яйца. Но утреннее чаепитие вошло в обиход, как в обычай. Варенька суетится, отцу подаёт котлетки и чай. Всё так же отец бросает свой рафинад в крутой кипяток, всё так же мне на тарелку котлеты подбрасывает: ешь, сын, наедайся, пока молодой. Всё так же дядя серою тенью молчком сидит за столом, поедает, как саранча, и хлеб и белые булки. После завтраков отец – на работу. Дядя – не знаю, наверно, в кухне сидит, где Варенька с нянькой барское доедают.
Я? А я сам по себе. Когда волос расчёсан, но чаще патлы вихрятся, как им задумалось. Да ничего, ветер причешет. Одежонка моя нараспашку, вместо шапки вихры. Мотаюсь, как ботало на шее коровьей: без дела, без толку.
Кончилось лето, кончилась дача. А в городе, где у нас квартира была, отец стал пить. Сильно пить, прям запиваться. Потихоньку исчезли котлетки и белые булки, пропала белая скатерть, и чашки-кружки грязью-мохом покрылись. Потом исчезла и Варенька с маминым (все-таки мамин то был брательник-бездельник) братцем. Нянька мне разболтала, что братец, как близкий родственник, отхватил большой куш. Получил по суду с того негодяя, что маменьку сбил насмерть машиной, да и укатил с Варенькой то ли в Париж, то ли в Ригу, нянька точно не знала. Отец от тех денег паршивых тогда отказался, сказал, что жену не воротишь никакими деньжищами, а братец от не побрезговал, струсил с лихача огроменные деньги.
И вот как оно получилось, однако: маменька под цветами на кладбище упокоилась, папенька пьёт беспробудно, Варька с хахалем чужие деньжищи проматывают по незнамым местам, я боталом по жизни болтаюсь, а виновник аварии колесит по дорогам, радёхонький, что откупился.
Ну и где справедливость? Да просто-напросто вместо неё люди придумали кучу законов, откупились от этой от самой справедливости, что ли? И всё у нас по закону. По закону убийца раскатывает по дорогам живой и счастливый, невинная жертва в гробу червями поедена, да сынок её давно уж не ищет той «справедливости».
Потом и нянька, как нас из квартиры то выселили за долги, подалась мыть полы по людям, да и пропала. Стал я скитаться с отцом по подвалам, по чердакам. Жалко было его, очень жалко. Пока не избил меня ни за что. Тогда жалость ушла. Обида осталась. И я ударил в бега. Быстро снюхался с такими же бедолагами, как и я. И как нас много то оказалось! За место под солнцем драться мне приходилось чуть ли не каждый день. И дрался. А было мне уже лет двенадцать.
Крепко я скорешился с двумя: хлопцем постарше, и посильнее намного. Он в команде моей, шайке, если хотите, был силой. Я – мозг нашего «триумиварата». Младшенький, ему около семи-десяти, его мы держали из жалости. Да и ловкий был очень: в любую форточку мог влезть безо всякого шума. И нюх имел на деньги и драгоценности: враз знал, где золотишко хозяевами прячется.
Как промышляли? Сильно по-разному: уж очень мы голодали.
Я вот что скажу: если убьёте живую собаку, то человека хлопнуть потом – нечего делать. Первую суку, что вот-вот ощенилась, мы убили не сразу: так страшно было смотреть в её человечьи глаза. Она плакала, истинно, плакала, и мы понимали: не за себя, за щенят она плакала. Большие глаза изливались слезами, и слёзы капали на первый снежок, образуя маленькие такие вороночки на земле. Её новорожденные четыре щенка скулили, ещё света не видя, дрожали от холода, как и мы.
Заодно мы убили и их: пожалели. Как убили? Да просто: камнями. Каждый из трёх взял по камушку: всё должно было быть по-честному. Каждый наелся соплями своими и слезами горохом, молча глотал рыдания, и бил камнем по тёплому телу собаки и четырех малышей. Тех щенят и жалеть было нечего: они так ведь ничего и не поняли, успев народиться, тут же от камня и сдохнуть, не пискнув. А вот мать их я помню. Иногда я жалею, что такая память досталась мне: всё помнить.
Ну, да ладно, наелись мы собачатины не скажу до отвала, маловато тогда показалось, так мы тогда голодали. На худом костерце сварганили «шашлычки», нажрались полусырого мясца, и так нам пить захотелось. И подались к ближним домам, что серели там, за лесочком. Около дома бабулька вертелась, кур своих загоняла. Мы тихо-спокойно попросили попить. Всего-навсего попросили воды. Ей что, жалко было воды? Наверное, жалко, раз разоралась на нас, стала чехвостить нас матами, как последних бродяг. А что, бродяги, разве не люди? Стоят на дворе три пацана, худые, оборванные, пить просят. Так дай им воды, авось, и отстанут. А она, как начала нас материть, и отцов наших задела, и матерей. Ни за что, ни прочто обвинила нас во всех смертных грехах.
Мы поначалу с бабкой связываться не хотели, и уже подались со двора, как она сама нам идейку то подала: заорала, что нас, вот таких, вшивых, оборванных, мало что удушить, камнями по бошкам, чтоб небо не гадили.
Короче, бабку мы затолкали в её же избенку. В коридорчике стояло ведро, не с водой: капуста там квасилась. На капусте круг деревянный, на круге камень большой. Потом я узнал, камень тот «гнётом» зовётся. Вот тем камнем большой наш бабку и ахнул по голове. Она и не дрыгнула. Мы её затащили в единственную комнатёнку, затащили на кровать, укрыли гобеленовым покрывалом. Со стороны чисто бабушка спит. И то интересно: от удара такого на её голове ни дыры, ни кровинки. Короче, бабка как вроде заснула. Мы аккуратненько дверь закрыли на крючок изнутри. Свет не зажигали: мы сторожились. Наелись зато до отвала картошки, что бабка сварила, хлеба нажрались, и взяли с собой. До одури напились чистой водицы. И выбрались. Как? А через чердак. Ночевать в доме не стали: кто его знает, хватятся бабки, нас и накроют в ночной тишине.
Отошли от домов тех по раннему по снежку да по изморози на полкилометра и разошлись. Так я решил: боялся, что если нас схватят, младший нас выдаст: мал он еще. Ему ничего, он малолетка, а старшому за «подвиг» срок мог светить. Наплакались вдоволь: и себя было жалко, и нашу дружбу, и ту собаку, что убили зазря. Да кто знал, что у бабки и картошка была и капуста, и вода пей не хочу. Нам бы хватило… Да кто знал? Разделили по-честному деньги, что малышок отыскал под подушкой у бабки. Для нас то были деньжищи огромные. Поровну разделили, чтобы хватило каждому на Китай.
Бабку? Бабку не жалко. Пожалела воды…
Так кончилось детство второе, не младенческое, с белой скатертью с бахромой и кистями, а настоящее детство, не сказочное.
Мотался я по детдомам и приютам, скитался по громадной стране. Всё в Китай дорожку искал. Да где тот Китай? За Сибирью с морозами? Я и Сибирь повидал. На Крайний Север и то заносило. Вот вы знаете такое село Мейныпильгино? То то же! А я знаю. В тундре, под сопками, между двух или трёх речек лежит село маленькое-маленькое, прямо смех. Там наших, русских, раз, два и обчёлся. Там олени и тундра, ягоды да грибы. Для кого и романтика, а для меня холод, холод и холод опять. А напротив его Америка. А через пролив, не сильно и далеко. Но я в Америку не подался. Очень странное дело, сам себе удивляюсь, но я – патриот.
Вот смеху то, сколько я статистики перепортил. Как поймают, я назовусь то Романовым Романом Романовичем, то Петровым Петром, то, естественно, Сидоровым. Пока в четырнадцать не попался, да пальчики мне не откатали, я и был то Петром, то Романом, то Иваном мог слыть.
Зато «погоняло» моё не меняется: как назвали когда-то меня живодёром, так и живу живодёром. И сдохну я опять живодёром. Знаю, плохо я кончу, знать бы когда.
Грамоту постигал после первых уроков моей маменьки на ходу. Про падежи мне неведомо, а вот вокзалы, расписание поездов, статьи уголовного кодекса надобно знать? Вот оно то! Кино люблю посмотреть. Любое. Лишь бы кино. Там завсегда всё понарошку, всё сказки и враки. За то и люблю. А вот жизни я навидался, никому не хочу такое «кино».
Я знаете, что удивляюсь, что вы не спросили ни разу, сколько раз и кого я убил. Или хитрый очень, или всё нипочем? Ну да ладно, не спросили, и ладно. И хорошо. Всё равно правду вам знать не положено, и мне годочки за свою откровенность наматывать смысла нет. На чём сейчас я попался – отвечу. Если докажут. Ничего, в тепле отсижусь, и опять на свободу. На свободе всё-таки лучше: и воздух и ветер, и кормёжка сытней. И бабы встречаются, я ж не «голубой». «Петушков» не люблю, и сам не петушуся. Сидеть не хочу. Защищайте, старайтесь. Я свободу люблю!
Жалею о чём? Что так не узнал я имени того гада, что мать мою задавил. Живёт, небось, гад, жирует на свете. А ведь зря он живёт, согласитесь? Жалко ли бабку, отца? Да бросьте, какая тут жалость? Бабка зря небо коптила с чёрной душонкой. И отец мой, слабак, сломался после смерти маменьки, пить стал, нимало не думая о сынке. Слабак, так чего его мне жалеть? Был бы сильней, мы оба бы выжили, как человеки. Я со своей памятью академиком мог бы стать, кто его знает? А то проводником на дорогу устроился бы, Китай повидать. А вместо Китая – пересыльные тюрьмы да колонии-лагеря. Романтика, мать её! Так за что мне папашку жалеть?
Что вы, какая такая воля божия на все? На убийство матери моей воля божия? Вот это расклад! Ну, вы даете, однако! Прямо, тьфу, как в душу мне плюнули.
Чего вы там мне бормочете? Стихи Лермонтова? Это как? А ну, повторите: «Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит, ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда с звездою говорит…» Надо же, как красиво. И – правда.
А кто такой этот Лермонтов? Убит в двадцать семь? Кем и за что? Ну, ты посмотри, какая судьба у этого Лермонтова, какая судьба? А как его звали? Михаилом Юрьевичем? Ну, ты посмотри, надо же, надо же…
А что, после смерти его детки остались? Только бабка его престарелая? А мать умерла, когда ему только четыре исполнилось? Вот невезуха у паренька! А отец? Ну, понятно, снова женился…
Нет, а мне всё ж интересно, за что это Боженька ваш нас, Михаилов Юрьевичей так не любит?
Постскриптум, послесловие, то есть по-нашему. Самое странное то, что его отпустили. За недоказанностью улик, ибо следов на месте своего очередного, уж и не знаю, какого по счету, преступления он никаких не оставил. Умён был и осторожен. Но мне, как анекдот, передавали, что в небольшом книжном магазинчике взлом был, и кража. А что украли? Посмейтесь и вы. Томик Лермонтова. С биографией и портретом поэта. Дело, кстати, открывать и не стали: смешить судей за томик поэта? Пусть даже и гениального?
В аду ангелов нет
(футуро)
Когда-то меня звали Салах. Но это было давно. Очень давно. Я уже отвык от этого имени, так часто звучит моё новое имя: Карающий меч Аллаха Всевышнего.
Как нас поймали? Не знаю, Аллах только ведает, но поймали белые свиньи и притащили на суд.
Нет, к суду, собственно, нет претензий. Пока шло долгое следствие целых два года, пока шел собственно суд, суд специальный, Международный, мы жили в чести и достатке. Нас мыли, и это было неплохо. Кормили нас, как на убой, телевизор и всё остальное – пожалуйста! Вежливы с нами аж до противности! Да и мы не крысились, а чего? Кормят и поят, суры Корана читай хоть до одури. Называлось красиво обхождение с нами – толерантность.
А чего, собственно, плакать?
Ради нас создали трибунал. Тот самый, Первый международный по борьбе с терроризмом. Здание выстроили специально в центре Европы, в Люксембурге. За два долгих года следствия я выучил не только это название, что сломаешь язык, но и другие словечки типа «толерантность», «соблюдение прав человека», «высокие договаривающиеся стороны». Эта белых людей словесная шелуха прочно села нам в уши.
Сразу дали нам адвокатов. А как же! Права человека и право на самый справедливый суд в мире. Ну, пока мы дружненько отмели назначенного адвоката из этих, их презренных врагов-иудеев, он успел нам шепнуть, что смертной казни не ждите. Та самая толерантность. Ура! И жидёнок пошел восвояси.
Нас послушались. И послушно нам дали новеньких адвокатов. Причём, каждому из сорока по целому адвокату. Такие важные, напыщенные, ну точно мыльные пузыри. Шелестят перед нами бумажками, объясняют через переводчика. Ну да, каждому дали по целому переводчику. Вы не забыли про толерантность и права человека? Прибыли адвокаты и переводчики «по назначению». Что это значит? А то, что мы никакой копейки, ни драхмы, ни доллара или евро не дали на адвокатов. Нам их дали совершенно бесплатно. Ура!
Во, белые сволочи как повелись.
Суд создавали множество государств. Как рассказали нам словоохотливые адвокаты, отмели государства, где введена смертная казнь. Ну, там Россия, за ней Пакистан и Китай. Сербия тоже вошла в этот список. Ну и ещё сколько там государств. Для нас главное, что нас не сдали России. Ура! И мы плясали от радости. Все сорок плясали. А чего? Кто остановит? Опять толерантность!
Отовсюду мы были: сирийцы, арабы, несколько штук чернокожих, мы звали их между собой «чернозадыми», пара людишек с Кавказа, из русских. Мы не разбирали меж ними, чеченец он или туркмен. Из России, значитца, русские. Эти были особенно злыми. Иногда и мы их боялись, не то что стражники, или там переводчик. Целых полгода ушло у белых свиней найти им каждому переводчика. Не на русский. Хотя они русский знали прекрасно, такие маты нам гнули, что только держись, не боялись Аллаха, скверные твари. Нет, им находили переводчиков на их языки. Ребятки, конечное дело, издевались над западным правосудием. Оно и понятно, раз белые твари ведутся, так чего не поржать. Мы, знамо дело, встали на сторону наших, и целых полгода прокайфовали на чистеньких простынях.
Одно было плохо. И очень плохо. Не было баб. Очень скверное дело для мусульманина отсутствие баб. Поневоле мы вспоминали про бабью прослойку, которую мы «шмарили» там, у себя на войне. И сириек, и египтянок, и экзотику из славян.
Одну вспомнил сейчас, обхохочешься. Собрался отряд: привезли новеньких женщин. Из этих, из дурочек-добровольцев. Среди них было несколько беленьких. Понятное дело, шейх отобрал (старый шакал!) самых свеженьких, даже нетронутых.
Затем моя очередь наступила. А как же. Я – командир. И богатенький командир. Целых два бензовоза моих качали мне денежку, клали на счёт. А счёт, кстати вспомнил, хранился у этих, у белых свиней. В Женеве счётик имелся, счёт тайный. Я проверял, когда парочку актов делал в Париже. Наверно, нас на этих парижских актах и вычисляли. И вычислили, подлюки, белые твари. Судя по обвинению, никакие наши «дела», что мы творили там, на нашей войне, белые не доказали. Ну, например, про этих девчонок, что добровольно пришли к нам воевать за Аллаха, за мусульманское государство в масштабах белого мира.
Ну, отобрал я пару девчушек. Славянки, они без чадры. Лица и груди открытые, ноги в стоптанных босоножках от долгой ходьбы по пустыням жаркой страны. Но юбочки – до колен.
А как на это смотреть моим верным бойцам? Понятное дело: с вожделением величайшим! Ну, я для смеху у беленькой и спросил, откуда она? Ответила: Киев. Я: где это? Ответила с гордостью: Украина. А зачем ты пришла, если там дело есть, и братья воюют за правое дело? Ответ: Аллаха пришла защищать. Вот где заржала моя голодная братия. Я ей в ответ: Аллаха пришла защищать? Всевышнего – от кого? Если он всемогущ, от кого его защищать?
Ну и отдал эту белую девку моим. Всем отрядом мы «парили» эту девчонку. Уже мёртвую пару раз, пока тепленькую, пара бойцов «отпарила», то есть «добавила жару». Любители оказались они до мёртвого тела. Белые это как по-мудрёному называют, брезгуют этим, ну а нам ничего, если желание есть.
Остальные из пришедшего бабья смотрели на эту жуткую казнь киевлянки. А пусть смотрят, отродья, что нельзя не уважать Всевышнего и поношать его оскудением разума. Видишь ли, дура пришла защищать Всевышнего, как будто он смертен и жалок. Поделом белой дуре! Отшвырнули мёртвое тело на обочину трассы, и дальше пошли в лагерь, на остановку.
Ну, это так, я вспомнил к слову.
Ну, вот, наконец начался белый суд. Смехота. Судьи, их много, штук этак двадцать. Напополам бабы и мужики. У белых это называется «равность по гендерному типу». Выучили и это за год словоблудия европейского.
Мы, было, пытались протестовать против баб, однако, не получилось. Смирились. Да и между собой «перетёрли»: какие же это бабы? Сморщенные личики, в глазах пустота. Ни грудей, ни аппетитных двух половинок заднего места. Как будто не бабы, а так, что среднее между человеком и кем-то еще. Потому и смирились. И что интересно. Целых два года следствия и год рассмотрения дела в суде, мы к этим судьям, как к женщинам, отнестись не могли. Ни разу не вызвали вожделения эти белые твари с уродов лицом и впалыми грудями. Из разных стран были они, а все, как одна, страшилища.
И что ещё интересно. Судьи были только из белых! Только эти белые твари сидели в креслах с высокими спинками, и только они, эти белые твари, шелестели бумажками, и, так сказать, как они постоянно твердили, «отправляли правосудие».
Как так у них получилось, нам не понять. Европа, старая шлюха, давно стала нашей. Эти белые откатились на Север. Ужались в Норвегии, Северной Швеции и в Финляндии на островах. Материковая часть старой Европы давно уже мусульманская. Гордо в небо минареты мечетей, оттесняя рыбьи кости соборов католиков. До сих пор жалко мне, что не дали нам стереть все храмы неверных. Где-то там, наверху, откуда идут в наши отряды команды, почему тот решили, что соборам стоять. И те стоят, оскверняя пространство. Одинокие и безлюдные, окружённые минаретами наших мечетей, они всё же стоят. Непорядок. Много раз вслух я высказывал недовольство, много раз предлагал подорвать во имя Аллаха храмы неверных. Не дали. Зачем? Они же пустые. Белых в них нет. Белые, они давным-давно к Всевышнему подзабывали дороги. В соборах устраивали пьянки и полуголые девки разносили там пиво. Называли красиво: фестиваль пива или рок-фестиваль. Оскверняли веру, свою, между прочим, святотатством. Так зачем им соборы?
Опять я отвлёкся.
Так вот. Европа давно стала нашей, поделена между нами, как вкусный пирог. На кусочки. Турки Германию отхватили. Турки, они умные твари. Зажали немцев в тиски своей демографией. Той и конец. На одного немца по десять турок, каково? И все поголовно имеют гражданство. Да, туркам в уме не откажешь.
Ср…ную Польшу никто брать не хотел. Холодно там и отголосок Чернобыля понижает рождаемость. В Польшу ссылали ненужных людишек. Такие, к сожалению, бывают у нас. Вот их и ссылали. Всяких учёных, писателей и поэтов. Короче, хлам отсылался. Для смеху скажу. Они и там, в ср…ой Польше, между собой передрались да перессорились. Небо не поделили, славу, или что там ещё?
Ну, в мелкие страны, в Румынию, Венгрию, Косово да Албанию мы вступили, как саранча. И безо всякого сопротивления. А кто будет нам там противостоять? Албанцы? Смешно.
Чего говорите? Сербия? Держится, падла. На русских и держится. Там базы русских стоят. Ощетинились на Адриатике, в горах на Балканах. Везде. Там ходу нету. Нет, мы, конечно, взрываем то да сё. Но по мелочи. А они, то есть сербы и с ними хорваты (замирились они перед нашей угрозой) только злее становятся. Нет, нехорошие люди славяне. Что сербы, что русские, что те же хорваты. Я бы их всех… (скрипнул зубами).
Ладно. Вернёмся к суду. Ну не понятно арабу! Почему только белые восседают в том трибунале? От Германии белый, от Норвегии, ну это понятно, белый совсем, даже рыжий. От Франции черноволосенький, но тоже белый. И так ото всех стран-осколков Европы. А от Америки целых три белых придурка сидели на возвышении трибунала.
Они, белые, между собой какие-то сильно неровные. Я говорил, что не пустили в состав трибунала те страны, где введена смертная казнь? Говорил. Тогда почему в трибунале американцы? У них электрический стул и инъекции давно существуют! Во!
Сколько их, истинных европейцев, точнее, белых осталось? Миллионов с десяток. А нас? К миллиарду! Не вру. Считаю вместе с индийскими и малайскими братьями.
Опять я отвлёкся. Ну всё. Вернёмся к суду.
Да, позабыл рассказать. Я для брата, для младшего, Салема, добился нового адвоката. Разрешили мне с шейхом связаться. Понятное дело, зачем разрешили. Хотели проследить наши каналы. Но и я не дурак. Была у нас тайная связь для экстренных случаев, дорогущая правда, но брат этого стоил. И предоставили брату нового адвоката за деньги шейха.
Итак, год длился суд. Посмешище, а не суд.
Месяца три только наши личности устанавливали. Спросили меня, я ответил: Карающий меч. А они посмеялись, и целую кучу свидетелей привезли, чтоб те подтвердили имя мое. Ну, да ладно.
И вот, наконец, приговор! Мне, как командиру отряда, организатору «преступных деяний, повлекших множество смертей потерпевших», это из приговора, дали жалкие двадцать лет. За сотни и тысячи тех, что умерли от моих рук и товарищей рук, дали жалкие двадцать лет. Слава Аллаху, Он всемогущ!
Теперь мы гадали: куда повезут? Или оставят нас в Люксембурге, нейтральной стране, где отсутствует смертная казнь, и царствует толерантность?
Ага, размечтались! 39 нас… Опять подзабыл рассказать. Простите, память не та, многое стал забывать, поймёте, как дальше я расскажу, что с нами творилось.
Итак, нас тридцать девять. Брата, младшенького, оправдали. Адвокат аж плясал. И братишка заплакал. Я простил ему слёзы его, мал он еще, четырнадцать едва только и исполнилось. А по этим белым законам ответственность наступает только с 14-ти. Адвокату – респект. Это он придумал, что брату четырнадцати ещё нет. А чего? У нас, в нашей голой стране, свидетельства о рождении не выписывают, мать и то не всегда помнит, когда родила очередного младенца. Вот и свидетели по установлению личности, как под копирку, сказали: не помним, когда это тщедушный пацан появился на свет. А некоторые даже заврались: ему, мол, и двенадцати нет, вы только смотрите, какой он на вид. И белое правосудие отступило. Итак, на радостях поплясал адвокат, братишка поплакал.
Вот прессе было за радость. А прессы на этом сборище судей понабиралось со всей планеты. Щелкали фото – это отсталые. Новомодные снимали на телефоны, планшеты. Часто пресса скучала: нудно долго слушать вялую английскую речь. Ах, да, процесс шел на английском. Это Америка настояла. Ну, а Россия в процессе участвовать не могла. Не дозволила демократия европейская участия в правосудии не толерантной стране.
Так потому пресса страшно обрадовалась, когда кончен процесс и сроки стали известны, и виновность доказана почти всех. И снимки с пляшущим братом и его адвокатом стали известны на целый мир. Во, адвокату свезло! Мало нажился на шейхе, так теперь, небось, слава его столько клиентов добавит, что только держись. Если службы «не хлопнут», а они мстить умеют, заразы. Да и чего мне это об адвокатишке думать, соболезновать? Вот за брата я рад. Вернётся в отряд, будет мстить за меня и собратьев. И бензовозы теперь будут его. Пусть собирает копеечку. Пригодится семье, а нас в нашей семье очень много. Только детей девять штук у отца, а ещё жены его и братья его, и, естественно, сам отец и моя с Салемом мать.
Шейх почему денег дал? Во-первых, брат отрабатывать за меня и отряд будет мщением еженощным. Во-вторых, шейх братан моего отца. В-третьих, часть денежек от бензовозов пойдет на карман сыну шейха. Он тоже растёт, как Салем, и ему хлеб пора самому зарабатывать.
Надо сказать, нам с Салемом повезло. И родились мы как надо. И в лагеря не попали. Ну, те лагеря, куда везли малолеток. И откуда их только и не возили! И проданных в рабство от нищеты, и просто украденных от мамкиной сиськи, и просто бездомных. Война!
А мы росли сытыми! Бензовозы кормили.
Вот с этой самой минуты, как нас повели, я стал понимать всю суть европейцев. И вы дальше поймёте, какая она эта самая «толерантность».
Итак, нас повели, потом повезли. Долго ехали. И привезли в гавань глухую. Стоял белый корабль. Красивый, с огнями по бортам. Красотища какая! Мы духом воспрянули: наконец, нас покормят. Выгрузились на корабль. Растаскались по трюмам. В нашем оказались не только мы, тридцать девять, но и другие, всех около ста. Самые разные люди на вид. Один был, как помню, в шёлковом галстуке и белой шляпе – чудак! Были средь нас два китайца. Они чётко молчали. Даже между собой речь не вели, как будто враги.
Ну, погрузились. Конечно, трюм не роскошь постели суда, но протерпеть пару дней можно, если воздуха хватит и жрать подадут.
Жрать дали только сереньким утром. Баланда! Мы возопили, китайцы молчали. Вышел к нам капитан. Вежливый очень, по речи француз. Нудно и долго он извинялся, что вовремя не подвезли все припасы, потому-то терпит и он, и команда, и мы должны потерпеть. Поверить пришлось: за вежливым капитаном автоматы торчали в руках солдатни. Знаменитые на целый мир АК (автомат Калашникова) к делу явно были готовы. А куда с корабля?
Терпели баланду, качку терпели, зной и отсутствие воздуха. Ждали, когда, наконец, выгрузят нас на берег. На берег! Любой, лишь бы прошла дурнота от баланды и качки, от трескотни капитана.
С тех пор, как нас увели, и закончился суд чтением нудного приговора, да адвокаты за нас расписались, что получены приговоры (мы, как один, играли в неграмотность, особенно «русские» из Чечни), и мы с белой бумагой в руке – приговором, потряслись в нудной качке не день или два, а прошло несколько мутных суток, мы наконец-то вдали увидели берег. Через мутные иллюминаторы с решётками на каждом из них каждый старался краешек берега увидеть. Столпились и дрались за право увидеть берег свободы. Каждый из нас понимал, что не к маме везли, и не на суд толерантности, но каждый верил, что впереди белые простыни и оранжевые одеяла и три раза за сутки жратва. Будешь тут драться: повод нашёлся мышцам разжечься, себя показать.
И только китайцы сидели, молчали. Как истуканчики: маленькие, узкоглазенькие и не шевелятся.
Драка тогда прекратилась, как двери трюма открылись, и нас высадили. Нет, не на берег, он так и желтел далеко. Толстая, как старая бабка, баржа приняла сидельцев и из нашего трюма, и из соседнего, и из других. Баржа аж осела. И запыхтела, ну ровно как старая бабка. Баржи капитан, как родного, встретил капитана-француза. Тот отдал ему, как положено, честь, и удалился корабль белоснежный в марь синевую. Нам так опостылел этот корабль, что мы проводили его дружным плевком.
Баржи капитан говорил по-английски.
Я почему вам так долго рассказываю, что корабля капитан из французов, баржевой капитанишка шпарил с американским акцентом, а судьи тожить говорили на чистом английском? Не зря я вам всё говорю, сам потом допетрил и догадался, в чём суть сговора европейцев. Да и не только их.
Итак, попыхтела баржа к жёлто-белому берегу. Все ближе и ближе песок, на взгорочке пальмы. За пальмами лес. Я вырос в пустыне, и столько леса сразу не видел, и не поверил бы и пристрелил бы того, кто сказал, что так много и сразу деревьев бывает. А тут сам увидел. И братья мои загудели, тыча пальцами в лес.
А этот, что в белом пиджачке и шёлковом галстуке, по-английски сказал, глядя на нас: дикари. Хотел было я бросить за борт нахалишку, да мы так плотно стояли на барже, что даже змее не проползть. Ну, ладно, переглянулись с братвой: там, на месте, его порешим.
Китайцы молчали. Стояли спиной друг к дружке и тупо молчали. Да что мне их дела, сами пусть разберутся.
Прибыли. Шлёпнулась баржа о песок, как старая бабка о камень. Ни тебе сходней, ни трапов каких. Плюхались в воду, вплавь добирались до берега.
На берегу? О, на берегу нас уже ожидали. Перед леском по периметру песка жёлто-белого стоит огорожа. На метр бетон, выше бетона колючая проволока, на ней подмостки, опять по периметру.
На берегу – автоматы. Через ровные пять шагов, опять-таки по периметру, автоматчики. Хари ровные, абсолютно бесстрастные, ноги расставлены широко. Все, как один, подобраны из расы белых, и откормлены хари, аж жопы трещат. За каждым третьим собачки. Точнее, здоровенные псы, я таких не видал, хотя повидал волкодавов в горах. И псы, и охрана молчат. Просто ни звука, ну ровно, как те два китайца, что истуканчиками нам показались.
И эти здоровенные истуканы тоже молчат, как автоматы. Вот каламбур: «автоматы держат в руках автоматы». Смешно.
Ага, сильно стало нам не до смеху, как только мы беспорядком толпы повыбирались на берег. Я в суматохе успел сильно толкнуть того выскочку в шёлковом галстуке, и он так звучно шмякнул о берег своей мордой красивой, что братья мои оборжались.
Ну, вот, выбрались на бережок. Кое кто обессилел: еще бы! Баланда и качка дали сказаться на каждом из нас.
Так вот, эти ровные истуканы автоматами, и опять-таки молчком, погнали нас на ровный плац песка жёлто-белого, что утоптан был впереди. Кое-как повставали на плац. Автоматчики нас выровняли. Непонятливым, как вставать, дали автоматами по затылкам. Все быстро поняли, как тут шутят, и как нам дальше будет смешно.
А уже стало смеркаться. Я встал в самом заднем строю. Шкурой чувствовал, так будет надежней. Сзади меня, прямо втёрлись в бетон, те два китайца. Попали в «мёртвую зону». Опытные, сразу видать, по тюрьмам сидельцы.
Кто-то в первом ряду, кажется из этих, русских чеченцев, получив по зубам автоматом, сквозь мат успел только крикнуть: фашисты вы, что ли? Мы и не поняли, что такое фашисты, как автоматчик, даже не подняв свой автомат, «с брюха» лениво расстрелял «приговоренного к пятнадцати годам». Я сам слышал тот приговор. Я тогда позавидовал: только пятнадцать! Автоматчик так же молча нас всех оглядел, очень цепко и, прямо скажу, профессионально, нас оценил, и дулом автомата вызвал тех двух китайцев: сюда, мол, идите. Те вышли из «мёртвой зоны», и по молчаливому приказу оттащили тело «приговоренного только к 15-ти» на бережок, где тихо плескалась вода и какие-то птицы морские слетелись мгновенно, и стали клевать это тело, вцепившись сначала в глаза. Жуткое зрелище, я вам скажу. Я много видел смертей, даже слишком. Сколько сам убивал, и сколько нас убивали. И лютые казни я применял, было, конечно, куда мне от правды деваться. Да, навидался… но вот такого?!
Шок наш прошёл.
И мы молча теперь ожидали что будет теперь?
С надеждой и даже тоской посмотрели на воду: где там баржа, плывёт? А то мы бы ее мигом охомутали, охрану убив. Вон сколько нас. А этих, пусть с автоматами, ну пусть тридцать или даже и пятьдесят. Кто-то погибнет, а кто-то и выживет, да если еще с автоматом в руках – гей, где баржа?
Да нету баржи. Уплыла старая шлюха куда-то.
Вот и стояли. Стояли чего? Кинуться на автоматы? Сдуру все и погибнем. Ведь, если выживем, куда нам бежать? И вообще, где это мы? Понятно одно. Впереди автоматы, сзади вода, а мы посередине. Молча стоим. И стража молчит.
И так сразу ночь наступила. Только что видно было и день, а тут ночь и страшная темнотища, негров совсем не видать. Вот так мы всю ночь простояли. Кто мог, валился на землю, это кому немножко места досталось. А так, в основном, масса людская стояла.
Кто из «русских» сказал: ну прямо стакан. И словоохотливо разъяснил: когда впервой в тюрьму попадаешь, то держат вот так всю ноченьку тёмную в таком вот «стакане», и только поутру ждёт перекличка. И даже жратва. Слушали молча все, и кто понял его, а кто и не понял. Не все же сидели по русским СИЗО. (СИЗО – следственный изолятор).
Но прав оказался тюремный сиделец. Поутру нас подняли дулами автоматов. И стали мы ждать переклички. А этот, который словоохотливый, нам рассказал, что могут и под номерами нас пересчитать. Так уж бывало в его стороне: и Сталин считал, и немцы-фашисты. Аж любопытство меня разбудило: что это такое за штука, фашизм? Про Сталина только ленивый не знает. Вон, даже неграм известно про величайшего из героев. Шутка ли, двадцать миллионов жизней отдал своего народа за идею всемирного братства народов. Был молодец и даже умер смертью своей, а не на плахе. Чем не герой? Не, Сталина мы уважаем. Жаль, не мусульманин был, а коммунист. Но зато методы – наши.
Но нас не стали даже считать. Так же молчком, как и вечером, кивком головы подозвал старший китайцев, те притащили котёл: баланда ждала.
Рассветало, и мы, правоверные мусульмане, лицом на восток. Священное дело – намаз. А остальные жрали баланду. Их было немного, но выжрали все, аж пузо пораспиралось от жадности слабых на веру. А мы, зато сотворили намаз.
Эти, то есть охрана, собачки и каменнолицые, как ни в чём не бывало, смотрели на нас. Молчали они, молчали и мы.
После намаза, то есть после «роскошного завтрака» для остальных, китайцы котёл утащили. Всё. Остались без завтрака правоверные мусульмане. Но мы были готовы и не то претерпевать за веру в Аллаха.
Ну, вот, «завтрак» окончен. И что было дальше? А дальше периметр раздвоился и открылись ворота, что вели туда, в глубь холма. И мы потащились туда, в жерло горы.
Там не было темно. Какой-то краснеющий свет освещал глубь горы. Полумрак, но все-таки видно, что свод горы полукруглый. Высоко. Мы, люди-людишки внизу, а там, высоко, очень ровное полукружие свода горы. С песка, от воды холм казался таким невысоким. Так, горушка, холмик. А внутри гора то гора. Свод верха горы был частью тоннеля. Там, где тоннель был окончен (и окончен ли он?), свет шел, красноватый, и что-то тихо гудело. Да изредка под ногами земля колыхалась. И было страшно. И очень жарко.
В горе мы не были одинокими. На нас смотрели глаза таких же, как мы, узников этой печки громадной. Эти, что ранее нас прибыли в гору, молча поотдавали нам кирки и лопаты, молча собрались в разрозненный строй и побрели туда, откуда прибыли мы.
Поняли мы: рабами мы стали. Пахать будем в этой горе, пока все не сдохнем. Кто сколько протянет, год или два, ну уж никак целых двадцать, что назначил именно мне гуманнейший суд европейский. Не умею я, да и другие братья мои по отряду, лопатой махать и киркою работать. Ну, думаю, сделаем бунт. А там будь что будет: убьют? А, может, все вместе дождёмся баржи и того капитана с белого корабля.
И стали мы ждать. И стали работать. Лазили на самый верх. Долбали свод красной горы, до зеркального блеска отполировали свод тот противный. А кто работать не мог или ленился, того ждали плети. Как было больно, поверьте на слово, как было больно! Несколько человек забили до смерти каменнолицые твари. И все это молча.
Я, знаете что, стал понимать чуточку раньше, а теперь всё больше и больше осознавать про «европейские ценности»?
Вот, когда я и другие бойцы трахали девок, или когда убивали неверных, гнобили их в тюрьмах подземных или заживо хоронили в песке, мы всё-таки знали, что они тоже люди. Нечистые и неверные, но всё-таки люди. И негры, что люди второго сорта для нас, тоже людишки, пусть и наполовину они обезьяны. И даже эти китайцы с узкими щелочками глаз, тоже людишки, только сорта какого?
А вот судьи из толерантных, и особенно эти, охрана песков, людями только и назывались. Не было главного у этих особей, так похожих на человеков: глаза у них были пустые, совсем пустота была в этих глазах. И когда судьи вежливо слушали нас, и соглашались на подмену адвокатиков и перевода, свидетелей слушали и листали бумажки томов, и когда читали нам приговор, и даже когда освобождали братика моего, пустота в их глазах, каменнодушие.
К вечеру (а кто его знает, вечер то или ночь, раз в горушке было темно, как у негров в их задницах) мы стали почти валиться: накатила усталость голодных людей. Даже охрана стала меньше махать своими нагайками. Тоже устала, поди, бедолашная.
И вот тогда пятеро смелых подрали в тоннель. Тенями мелькнули и стрекача в глубь этой горы. Смельчаки! Я позавидовал им, да, видно, напрасно… А стража? А стража (может, тоже устала?) молча смотрела, как дают стрекача пятеро смелых. Я узнал их, это было пятеро «русских».
Ну, вот, вечер настал. И нас выгнали из горы. На воле, то есть, извините, оговорился, наверху, тёмная ночь. И нету с баландой котла. Мы, злые, голодные и усталые, сотворили намаз. Пусть неверные знают, какова сила Аллаха! Повалились на землю поспать.
А утром снова баланда. И снова намаз. И так мы, голодные мусульмане, держались суток так три. Или пять. И не столько хотелось нам этой баланды из кукурузы, как пить. Но питьё подавалось строго после баланды в одноразовых стаканчиках грамм по сто. И эта доза полагалась на целые сутки.
Держались китайцы: им доставалось больше стаканчиков, чем остальным.
На пятые сутки сдались. Набросились на баланду и на питьё. Шершавые языки едва справлялись с зёрнами кукурузы, но без баланды не видать нам воды. О, каждый глоток – величайшая драгоценность. Я вырос в пустыне, и мне вода всегда была праздником. Но даже в пустыне я так не страдал.
За что нас Аллах наказал, правоверных?
А вечером, когда из горы возвернулись, нас ждали «сюрпризы». Во-первых, приползли из жерла горы только двое из «русских». Оба седые совсем. Один только успел прошептать: «сволочи вы и фашисты, недаром мой прадед бил вас на Висле», и сдох. А второй навсегда онемел. И, по-моему, двинулся трохи. Он первым полез на огорожу. Но об этом потом.
Второй из сюрпризов – костёр. Охрана тычком автоматов нам приказала вытащить всё, что было у каждого. А что было у каждого? У мусульман по Корану, что нам дали в суде (проклятая толерантность!), у остальных маленькая библия. Что у китайцев? Не знаю… Забрали у нас даже чётки. И куда это всё? А в костёр! И, знаете, не было сил сорваться и подбежать, выхватить из костра священную книгу. Да что я вам вру, что не было сил. Мне всё равно было, как трещат книжки в костре, я просто тупо смотрел, как страницы тлеют, горят, желтеют, чернеют и умирают в костре. И так все остальные. Они тоже тупо смотрели, как вера горит, как искрами чётки сгорают. Одно только радует: сгорели все приговоры.
И, только, знаете, что видел я? Странный огонь, чёрный огонь в глазах стражи и наших китайцев.
Песком разровняли остатки костра, и мы позасыпали. А утром баланда и драгоценность воды.
Сколько так было времени, я не знаю. Но однажды, когда ранним утром мы встали в очередь за баландой, корабль появился. Тот самый, белый с вежливым капитаном. И припыхтела баржа. Мы, как могли, затянули времечко с завтраком: мысль ворошилась у нас – бунтовать?!
И вот, на свеженький бережок, повылезала из солёной водички новая партия свежих рабов. И сплошь белые люди. Здоровые, рослые, сразу видно, что не бродяги какие, а военная косточка приплыла на французском кораблике на берег морской к проклятой горе. Сколько их было? Да очень много. Полк, может, или дивизия. За что провинились перед «европейской демократией», я не знаю, и узнать не успел.
Их было много. И они были военные. Они враз оценили всю обстановку: охрана мала, в несколько автоматов. Мы рабы нищие и бессилые, им не враги. Собачки? Собачки тоже не в счет.
Корабль ещё не ушел, качался на рейде, и баржа мирно пыхтела, качаясь у берега.
И бунта идея мгновенно созрела и в их, и у нас в головах.
Всегда найдется или дурак, или предводитель, чтобы начать. Тут начал белый придурок, тот самый, седой, что из русских чеченцев или дагестанцев. Как бросится он на колючую огорожу! И мёртвым упал, током пронзённый. Ну да и что? За ним бросились несколько: вставали на мёртвых, старались добраться до автоматов. Пятеро, на берегу, из вновь прибывших, кинулись на баржу захватить управление.
Понимаете, это в секундах всё было.
Так вот, на какой там из секунд на подмосточках, что были на самом верху колючки, появилась рыжая баба. Кепчонка едва держится на голове, грудь распирает серо-зеленый мундирчик, крепкие ноги обутые в сапоги. По такой то жаре дамочка та в сапогах. Держит в руках что то вроде двух палок. Я такие видал на площадях, в славном городе Франции во столице, в Париже, когда уличные клоуны вот такими палочками создавали для деток огромные воздушные пузыри. Мы, то есть группа моя, эту идею здорово подхватили. На какой их праздник, вроде день взятия какой-то тюрьмы (День взятия Бастилии – общенациональный праздник Франции) мы переоделись в таких вот клоунов разноцветных, притащили на площадь взрывчатку, вроде как оборудование для клоунады. Ни один из их полицейских тогда на нас никакого внимания не обратил. Эти белые истинно олухи.
И сколько детишек подсобралось на площади, прямо не счесть. Братишка Салем вертелся среди детей, искал, где половчее взрывчатку подбросить. Место нашёл, дал мне условный знак, и ко мне, в кафе посидеть, круассанчик поесть да мороженое полизать.
Ну, мы и рванули. Доели наш круассан, брат объелся мороженого, и тогда я скромно нажал на кнопочку телефона – и ах! Славненько бомбануло. Корчились детки этих французиков, мамочек звали. Только напрасно. Велик наш Аллах, и слава Всевышнему. Немножко и жалко детишек иных: много на площади было из мусульманских семей. А как им не быть, если в Париже на французиков сто, да тысячи верных Аллаху людей? Правда, жалость к детишкам из правоверных была недолгой. Им нужно было сидеть по домам, суры Корана учить, а не болтаться по площадям, как зеваки. Наказал их Аллах. Я только был исполнителем.
Ну, вот опять я отвлёкся.
Итак, дамочка встала, ручонки свои протянула. Я стоял возле стены, почти упёрся в бетон, рядом в своей «мёртвой зоне» китайцы. Впереди многолюдье толпы. На бабу все враз внимание обратили, отвлекшись даже от бунта: женщина тут, это же просто же чудо какое.
Каждый подумал, подумал и я: ручонки свои протянула, небось, нас будет просить, о чем-то молить, молитвы к Богу читать? И стало почти что и не интересно. Как вдруг!
О, об этом – подробно. Вы сами хотели узнать про секреты. Так слушайте, белые люди, слова араба!
Из этих двух палочек как-то воздух пошёл и сгустился. Ну, вроде как стеклом встал воздух, иначе и не смогу объяснить. И этот воздух стеклянный стал обволакивать вновь прибывших. Сравнение с детской игрой в мыльный пузырь было стопроцентным. Этот мыльный пузырь обхватил полк или даже дивизию, и сверху, и по бокам. И уйти из этого пузыря они не могли, и, странно, даже и не пытались. А молча падали на жёлтый песок и задыхались. За пару секунд умерли все. Полк или даже дивизия полегла.
Мы в ужасе замерли: сейчас наша очередь? Что это было? И как так могло получиться: не надо ни войск, ни подготовки, танков и автоматов? Вот так слабая баба протянет ручонки – и всё?
Сегодня полк уложила или дивизию, а завтра? Уложит народ? Представляю такую красавицу с бело-белым лицом и рыжими волосищами, стоящую на горе над пустыней моей. Взмахнет так ручонками, и что, ляжет народ? А выживет кто? Кто в норах таится, кто в катакомбах сумрака ждёт? А если такая с вертолета или, только представьте себе, с космолёта ручонкой взмахнет?
Представляю, на что способны белые твари. Куда нам с терактами? Это так, мелкие дребезги перед этим взмахом руки.
И что показалось или было на деле? Полыхнуло огнём в зелёных глазищах стервищи рыжей, таким же огнем, как в китайцах глазах. Вон, смотрят оба на трупы, на белую стерву, и ничего. Только мрачный огонь в узких глазах.
Засмотревшись на дамочку, я сперва не заметил, что за спиной у неё старикашка стоит, седенький, скромненький, без мундирный старик. Не старик, а милашка. Бородка седа, да глазки весёлые. Старикашка похлопал дамочку по плечу: молодец, дескать, девочка. И что-то прошамкал. Вот тогда я услышал, напомню, впервые, язык этих людей.
Немцы! Ахнули рядом. Некрасивый язык, какой-то он гавкающий, вроде лая собаки. Это я понял, когда девка, подняв правую руку и выбросив её вперед, ответила старикашке: дескать, рада стараться. И ещё я услышал имя её, этой твари фрау Ангела. Ангела. Значит, Ангел женского рода?
Фашисты! Опять кто-то рядом со страхом, сказал. И повторил: немцы. Фашисты! Ну, всё, теперь только держитесь! И с грустью, нет, с горькой горечью прошептал: жалко, русских на них здеся нету.
Я уж было хотел приглядеться, кто так хорошо знает про немцев из наших? А это тот щёголь, с галстуком, совсем сильно расстроился, даже заплакал. Я с ним рядышком проторчал дня эдак три, когда только что не языком свод горы драили до зеркального блеска. Тогда и узнал, что белопиджачный красавец осужден сербским судом. Он сам назвался хорватом. А мне один хрен, серб он или хорват. Славянин, одним словом. За то осуждён, что много насиловал девок, а потом убивал вот этим самым галстуком-шёлком. По приговору суда он этот галстук должен носить, не снимая до смерти. Вот он и носил.
«Сколько девок затрахал»? Его я спросил.
Он ответил спокойно: «да штук этак двадцать».
«А убивал то зачем»?
«Да орали, надоедали. Двух сохранил. Молчали со страху, ну я, дурак, их пожалел. Они меня сдали. Ну а дальше пошли экспертизы и прочая мутота…»
«Ну и дурак! Надо было всех до единой прикончить. Наверняка».
«Да я сам это понял, как в руки попал правосудию сербскому. Да что уж теперь: к пожизненному приговорили…»
«Ну да», – я пошутил, – «мы все здесь к пожизненному».
Так вот теперь этот самый хорват аж затрясся от страха, как немцев увидел, и ночью шёпотом порассказал, как на давней войне немцы, то есть фашисты, чудеса вытворяли. Нам и не снились их зверства.
Да, фантазия белых тварей не знает границ. Аж завидно мне стало, как рассказал про Бухенвальд и Освенцим, где евреев убили великое множество, а заодно и славян сожгли и в камерах газами потравили. Теперь эта техника устарела.
Плакал хорват: «я думал, мы немцев тогда победили, за то русским спасибо. А получается, живы они. Эх, сербские судьи, сербские судьи, лучше бы русским отдали меня. Мёрз бы в Сибири. Там лютые холода, да народ, говорят, очень добрый. Эх, не судьба! хотя я русским ничего и не сделал.»
Ну вот, полегли перед нами полком или даже дивизией белые люди. Девка ушла, ушёл и старик.
Ну, мы все разнервничались, разволновались: заставят нас те трупы собрать, и «утилизировать» как-то.
Ан нет. На наших глазах как из-под земли появились бульдозеры и техника какая то еще, я названий не знаю. Разровняли очень ровными слоями людские тела. Кровища текла, аж песок почернел. Потом позаливали слоем бетона. Опять разровняли, уже бетон. И ровная красивая серая полоса ровной нитки бетона легла между входом горы и синей кромкой воды.
Сколько было потом таких ровных полос, я и не знаю, но получился целый аэродром. Сам видел: вертолёты садились и самолёты. Старикашка часто куда то летал. Мы его подносили на руках на своих, слаб был ногами. Это сколько людей полегло под бетон? Тысячи, сотни тысяч?
А тогда, когда в первый раз девка руками махала, несколько нас убегло: помогла суматоха. А стражники вдогонку даже собак не посылали. Потом поняли мы, что зачем, когда в руки их беглецов привели чумазые красножопые с длинными копьями в грязных руках. Из одежды у них только копья и были. Даже без бус или каких-то там иных украшений. Даже тату не было. Вот дикари!
Сам видел: этим тварям из леса дали канистру воды… Или водки? Те, немцы, называли то пойло «шнапсом», кажись. И довольные дикари смылись, как не были вовсе.
Мы думали, что беглецов просто убьют. Не-а, их не убили. Вернее, убили, но ручки пачкать не стали: отдали собакам. Как рвали собаки людские живые тела. Как было жутко. Как люди кричали! Кусками мяса людского давились четвероногие твари, твари двуногие смотрели на пир. Охрана с подмостков, мы рядом с беднягами жались к бетону стены.
Страх был у нас, а у этих, что на подмостках? Каменнолицые! Даже чёрный огонь не полыхнул в их глазах, как у девки и деда и этих двоих, узкоглазых китайцев.
Да, мы и рядом с белыми тварями не стоим по качеству пыток! Может, и вправду мы дикари? Дикари дикарями, но мы были людьми! А эти? Из толерантных? Они кто? Дикари или люди?
Как мы спаслись? Я и китайцы? Наверное, повезло! Когда стали «утюжить» вроде «стрижами» (российский военный самолёт) гору и всё, что в ней таилось, тогда повезло. Старикашка то удирал самым первым. А несли его мы. Вчетвером: я, хорват и китайцы. Одного из китайцев пилот застрелил, остальных не успел: надо в воздух подняться, пока «стриж» не зацепил вертолёт. Мы и ломанулись в открытые двери. Старикашку пнули, он и упал. Я ж говорил, слаб был ногами. Пилоту некогда разбираться да бегать по серым полоскам бетона за стариком: он сам удирал во все мочи. Ну и мы рядышком улеглись в тесной кабинке, рассчитанной на двоих. Ничего, в теснотищи летели, зато не в обиде. Исключая, конечно, пилота. Тот орал на нас. И кстати, орал по каковски? А на чистом английском орал, что мы б…ди, что мы дикари.
А хорват? Учудил наш хорват, за то ему и спасибо. Он лётчика вышвырнул из кабинки, мы и не охнули. И пересрать не успели. Оказался хорват инструктором авиации. Так вот где он девок цеплял. Авиатор, мать его так! Девки и липли к «воздушному гению», как он себя называл, наш скромный подельник.
Теперь уж летели почти что в комфорте, не считая «стрижей», что уцепились за нами. Короче, посадили нас на «маленький» аэродром. Авианосец нас поджидал в водах нейтральных.
Что ещё хочу рассказать? Были те самолеты, что бомбили, гонялись за нами, беспилотниками, без летчиков и штурманов. И были такие, что даже стрижами не назовешь: какие-то квадратно-круглые. Были пара вообще странных совсем: треугольно-круглые и вовсе бесшумные. У всех затемнённые окна, навроде, как тонируют стёкла машин. И прозрачные, между тем. Очень быстрые, как стрижи, потому на память это сравнение и легло. Ну, или как ласточки. Те тоже быстрые очень. А летали и цели бомбили, как будто пилоты сидели внутри. И ещё кажется мне, что не из металла были они, а навроде как пластика, из какого делают телефоны. И совсем непонятно, как они появились? Ведь не было их, и вдруг сразу тучей. От той горы только яма осталась. Да гул, что шёл под землей. Мы в воздухе были, а слышали гул. И от того еще страшнее казалась земля, и чёрные клочья, что летели под небо: ошмётки земли, ошмётки горы.
А потом как рвануло! Авианосец качнуло, развернуло его, и волны погнали его, как бумажный кораблик.
Да, натерпелся я страху, хватит на жизней сто.
Вот там, на допросах в каютах авианосца, мы и узнали, куда занесла и где нас судьба испытала. Слава Аллаху, я жив. В дальней, дальней Южной Америке я оказался, вот как. Представляете, где пустыня моя и где Америка? Да еще Южная. Я и не знал о такой.
Как мы врали, кто мы такие! Это я про себя и хорвата сейчас. Ещё раз обрадовались, что немцы сожгли все приговоры, а если бы не сожгли? Тогда бы эти, с авианосца, мигом прознали про подвиги и мои и хорвата. Ну, парни, тогда уж держись: из огня да в полымя бы попали.
Что говорил им китаец, не знаю. Не видел его больше я никогда. И за что их китайские боги наказали, тоже не знаю. Как и не знаю имён. Да что мне китайцы? Мне жалко брата!
В одной из партий очередных, что легли под бетон, я брата увидел. Оправданного! Лицо и всё тело его явно были под пытками: он еще маленький, а уже без зубов. И ухо оторвано, не отрезано, как полагается по обычаю пыток, а оторвано. И нету руки. И всё тело, как будто когтями тигра изрыто. Кто его так? Я не успел даже крикнуть иль ахнуть, как брат, как и все новоприбывшие, под колпаком рыжей стервы с бело-белым лицом ложились на жёлтый песок. И брат мой улёгся, и на него люди валились слоями. Вот слой, а вот и ещё. А белая стерва полыхает глазами: в радости тварь! Едва и успел я Аллаху вознести слова поминальные, как брата видно не стало.
Как кончу я? Что видел я? И что меня ждет? После русских допросов, а? Впереди целая жизнь, или лютая смерть? И кто я – жертва? Или палач? И на чьей стороне? Вот сейчас русские с американцами драку устроили: бомбёжки, утюжки «стрижами» и прочими белыми птицами («белый лебедь» – бомбардировщик российский). От нашей пустыни, мне следак говорил, остался кусочек. Им теперь нашей нефти не надо. С Полюсов закачки идут подо льдом. Так что хана моим бензовозам.
И деньгам моим тоже хана. Я ещё раньше узнал, что «толерантные» судьи добрались до наших счетов, и, получается, мы сами им всё оплатили. И их работу, и переводчиков, и адвокатов, и белые простыни, и жратву. И даже белый корабль, и капитана баржи, который считал свой доход от каждой партии пленных. Да и француз, небось, поднажился, как не пожить за счет за чужой.
Как ржал тот француз, а заодно и команда, когда читали мой приговор! Оказался наш приговор на трёх языках: английском, французском и на немецком. Так вот про «подвиги» про мои он молча читал, а когда добрался почти до конца приговора, стал ржать! Ему то смешно, а как мне было обидно. Обвели меня, дурака, вокруг пальца, как несмышлёныша. Оказалось, что судьи подсчитали всё до копейки, до цента. И зарплату свою, и зарплату юношей-секретарей, и переводчиков, и адвокатов. Все расходы пошли с открытого ими счета, как моего, так и брата.
А я, дурак, набитый соломой, ещё и переспросил капитана, что ржал надо мной: как мол вот так? Ведь деньги со счета мог снять только я. Да и то только по левой ладони мой отпечаток, да для контроля правый зрачок должен я предъявить.
И снова ржёт наш капитан, аж корчится он от смеха. И объясняет мне, малоумному. Банки обязаны выдать секрет банковских вкладов, если владелец счетов террорист. А не откроют, банк «хлопнут» наутро. А банкира под суд, рядышком с тем террористом. А кому же охота сидеть лет этак…дцать за тебя или брата? Вот и отдали твои миллионы судьям, а те посчитали затраты, а вкладов остатки отдали. Куда? Да в фонд содействия борьбы с терроризмом. Короче, араб, твои денежки плакали. Их просто-напросто раз-во-ро-вали! Умеют они воровать, чиновничье злое племя, никогда никаких ты концов не найдёшь, не ищи, не трать попусту время, чудак.
Вот так и остался я в дураках. И куда я теперь? И к кому мне теперь, если жизнь сохранят арабу эти с авианосца. К ним податься, с Америкой воевать, или в Америку, с русскими пободаться? Или в Китай, который тоже воюет? Куда на войне деваться арабу без денег, без бензовозов, и без пустыни своей, наконец.
Кстати, хорвата они бросили за борт. Тот только ойкнул, и бульк!
Но кажется мне, что не выживу я. А выживет только этот китаец. Им дай хоть сто войн, хоть двести. Вот же живучий народ. Наверное, булькнут меня, как хорвата. А что? Очень лёгкая смерть. И, главное, им совершенно бесплатно: ни тебе пули, ни верёвки на шею.
Так получается, что приговор, что вынес далёкий теперь сербский судья, не исполнен как надо. Хорват умер без галстука.
Мне этот, что допросы ведёт, такой же, как я, «разговорчивый», сквозь зубы сказал, что хорвата, как и меня, подвёл «чип».
«Чего это»? – я спросил у него.
Вот взгляды у белых! Как на полного идиота он посмотрел на меня, и сказал, что наш адвокат был обязан нам рассказать, что если мы сорвёмся и ударим в побег, нас быстро вычислят по нашим чипам.
И, опять с какой-то тоской посмотрев на меня, он добавил: «по приговору суда каждому из осуждённых вшивается чип. Ну, это такая маленькая, очень маленькая штучка, она из прозрачного материала, а в ней изотоп»…
Поняв, что я понял ровно что ничего, он буквально что не по складам стал объяснять для него очевидное: «многие государства, очень много их собралось под эгидой ООН (не стал, подлец, объяснять, что такое «эгида». Что такое ООН я знал без него. Гуманитарная помощь и автоматы, и даже мои бензовозы, всё шло к нам как раз через ООН). Ну, вот, собрались, и порешали по терроризму вести одинаково и процесс, и статьи одинаково называть, и меру наказания осуждённым. И повшивать в их тела чипы, где есть вся информация: имя, статья, соответственно, мера справедливого наказания. И, что особенно важно, местонахождение данного человека, где бы он ни был, пусть даже в космосе. Да в космосе проще, там спутник быстрее берёт.
«А вшивают куда»? – я спросил.
А он мне с издевкой такой и ответил: «а это, мой брат, как кому карточка ляжет. Можно в желудок через таблетки какие. Вот тебе давали таблетки в тюрьме»?
Я включил свою память: о, точно, давали. Помню, как голова заболела и сильно тошнило, и сопли лились, точно ручьи… Тогда доктор тюремный таблетки давал. И помогли те таблетки, и вкусные были.
«Во-во! Кому как: кому в ухо, как брату Салему, кому в желудок, кому в жопу вошьют. А другану твоему, что хорватом назвался, вшили сзади на шею. Да плохо вшили: торчало. Вот тогда галстук и повязали ему пожизненно. Остроумненько, правда? Вот за что, как ты думаешь, хорват срок получил?»
Я промолчал.
А этот, с издёвкой: «чего тебе плёл прожжённый садист?».
Я опять промолчал, и он тогда с неохотой сказал: «не хочешь, не говори, ему теперь все равно. Акула давно его съела, даже без галстука».
Ну я процедил: «за девок его…»
А он мне: «ну, ну, а как же! И девочки – тоже. Только не девки, как ты говоришь, а девочки от трёх до пяти. Более старшими брезговал твой товарищ. А ещё этот самый хорват массово учинял смертные казни. Работал с масштабом хорват. Красиво так прилетал на собственном вертолёте, и деревни уничтожал. С фантазией, гад, работал. Одну деревню напалмом сжигал. Другую бомбами «угощал», а потом там под танками погибали мирные люди. Третью заживо загонял в песок, и люди гибли от жажды. Почему я тебе говорю? Так, миленький мой, твоя то деревня так и ушла вся в песок. И отец. И братишки, и матушка тоже. Вот ты пока два года под следствием был, что знал о деревне? Да ты и не интересовался, поди. Тебе бензовозы важнее. Шейх рассказал, как ты торговался перед судом. Вот в течение этих двух лет хорват и гулял по пустыням. Нашкодит и улетит. А обученные им людишки следы заметали, да на нас всё сваливали: русские это, смотрите! И следы доказательств, кому надо клали на стол. Да, «проказник» хорват начудил по пустыням, пока не поймали его наши да сербский спецназ. Ведь он вместе с вами по делу не проходил»?
Я покачал головой.
«А потому, что по нему суд по одному шёл, так много за ним «подвигов» было.
Ну, так вот, включили в статьи, что, дескать, кто убежит от справедливого суда, то любая высокая договаривающаяся сторона имеет право»…
И тут я вспомнил. Во время суда мы много и долго ржали. Нам было весело, когда судьи нудно читали свои бумажонки, и такие слова, как вот те, что сейчас произнес сухощавый и до невозможности светлоглазый русак, вызывали у нас приступы смеха. А потом мы ещё долго смеялись, как они стучали своими молотками по столу и «требовали соблюдения порядка». Да, было смешно. А они то как раз и читали нам, наверняка, всё это, что сейчас мне блондин разъяснял.
А тот продолжал: «ну вот. Каждое из государств право имеет, если поймает такого, как ты и хорват, уже без дополнительного следствия и суда, применить, и он процитировал: «незамедлительно применить любой вид смертной казни, который в данной ситуации наиболее предпочтителен. С возвращением «чипа» суду».
Вот и понял тогда, почему на хорвате галстука не было. И почему так легко его бросили в воду: точно знали – умрёт!
А я еще и спросил у блондина, больно мне интересно, несмотря на издёвки его: «а почему на бетон полегли столько, просто масса народу. А чипов никто не снимал? Ведь чипы нужно сдавать, как ты говоришь, в суд высокий?»
А он аж подвёлся: «запомни, подлюка. Недолго осталось тебе, и таким, как ты и эти, с песка у горы, и враги нашей страны, что без суда гонят военнопленных, и их заливают в бетон. Герои они, а не вы! И запомни еще: русские не сдаются, и своих не сдают! По брату по твоему вычислили мы, куда наших сгоняли и заливали в бетон.
Братец твой, что после освобождения? Кинулся землю пахать? Детишек лечить? Кинулся на войну, опять людей убивать. В ухе чип у него, по чипу и вычисляли, где будет очередная беда. Вычислили и поймали. Так он ухо себе оторвал, малолетний придурок! И опять срок получил. Без снисхождения к малолетству. У нас называется «рецидив преступления». А по-вашему, вновь встал он на путь неверный.
И возмездие наступило! Кончатся те, кто против правды идёт и против России!»
А, как, интересно, кончат меня?
Но все равно, Слава Аллаху!
А как хочется жить… Всевышний, ты видишь всё! Ты видишь Салаха, маленького араба. Уже не Карающий меч, а мальчишка молит тебя.
О, Аллах, мне всего девятнадцать!
Батюшка
После всех грустных историй хочется мне рассказать о подвижнике. О человеке о настоящем. О протоиерее Владимире.
Достоин он повести о себе, не то что малого рассказика. Ну, тут как получится.
Итак, Севастополь. Год 2002-ой. Херсонес. Громадина храма, собора во имя Святого Владимира. Храм малолюден. Он не заброшен, паства имеется. Но вид неприглядный. После последней войны, то есть битвы за Севастополь в лихую годину сороковых, на остове храма отметины от снарядов. Купол храма явно нуждается в обновлении. Внутри позолота осыпалась, фрески неясны. И точно так же следы войны. Но паства ходит и молится за восстановление храма, великого храма, что строили императоры всея Руси.
Храм белоснежен. Он уникален. И жалко до слёз, что так подзабыт.
В храме благочинный отец Владимир. О нём и начну мой рассказ.
Сухощавый почти до прозрачности, светлоглаз и светлобород. До невозможности оптимистичен.
Знаете, если бы не отец Владимир Карпец (такова его фамилия в миру), неизвестно, когда и как бы достроился храм.
Именно при отце Владимире стал храм восстанавливать своё благолепие. И я свидетель тому. Каких усилий, подчас многотрудных, стоила реконструкция храма благочинному, мне неведомо. Просто я, как прихожанка, своими глазами видела, как многотрудно ведутся работы. Храм из двух этажей. На первом проводятся богослужения, на втором ведутся работы. И снаружи ведутся работы. Полная реконструкция. Что сие означает? Колонны должны быть из карерского мрамора, что из Италии? И привозят колонны именно мрамора из Кареры. Фрески и живопись храма в подлинности не восстановить, поскольку росписи производил сам Васнецов и другие великие? Так приглашены художники Санкт-Петербурга, что старались доподлинно восстановить сокровища фресок и росписей храма. И так во всём.
Как уж батюшка вышел на президента, не знаю. Но Кучма (Кучма Леонид Данилович, президент Украины в то время) стал помогать. И Путин стал помогать. Восстанавливалась подлинная позолота на стенах храма. Сама видела, как мастера сусальное золото закрепляли на царских воротах. Видела, как художники роспись ведут на стенах и куполе храма. Видела, как мрамор мозаики ажурного пола настилается мастерами.
То есть к чему я веду? Представляете, сколько деньжищ нужно на такое восстановление мощного храма? Мрамор, золото, фрески, иконы? Не один миллион и не два.
А к рукам батюшки не прилипло ну ни копеечки. Ходил в старой рясе до смерти своей, смерти преждевременной и скоропостижной. Забрал Господь подвижника веры. Значит, так надо.
Великое дело сделал наш благочинный. Считай, выстроил храм. Одно это – большая заслуга перед Господом и людьми.
Но это только, как я считаю, полдела. Реконструкция храма нам говорит, что величайшим администратором был протоиерей благочинный Владимир.
Но храм без людей, это просто громадное сооружение. Великолепное? Да! Но Храм без паствы просто музей.
А храм не был музеем. Как только начал отец многотрудное дело, потянулись люди. И храм зазвенел чистыми голосами хора, вначале малолюдного, а потом и конкурсы были отбора голосов в хор нашего храма. Клир увеличивался день ото дня: батюшка смену готовил. Многие, очень многие обязаны благочинному воспитанием в вере. И среди них дьяконы и священники, многи числом.
На службы в храм зачастили и прихожане. С каждой службой всё более полнится храм, всё больше народа приобщается к вере. Он ласково нас называл «божьими пчёлками».
Благочинный службы строил строго по канонам. Как положено, правил он службы, как положено, причащал и исповедь принимал.
Строг был в вере сам. И к строгости в вере нас приучал. Не сюсюкал с паствой. И не орал. Строгим был и очень добрым. Детишки старались на исповедь именно к благочинному попадать. Хотя и с ними он не сюсюкал.
И прежде всех преждь строг был к себе. Не позволял себе вольностей. Например, не положено священнику сидеть, принимая исповеди от людей. И стоит. Стоит не час и не два. Сама свидетель, часа три или четыре исповеди принимал. Стоя. И паства стояла.
И так строг был во всём. Не положено причащать не исповедавшись заранее? Не причащал, кто бы о том не просил. Очень строг был по вере. И благороден.
Ах, если бы все батюшки православные были такими! Честными, строгими в вере, добрыми. Не все, но на них держится паства.
Не осуждайте, когда видите священника в золоте или не строгого в вере. С него спрос будет, и спрос великий. И не мы с него спросим, а Там, Наверху.
А нам стоит думать, что как хорошо, что очень и очень много таких, как благочинный Владимир. Батюшка, как говорят на Руси.
И, пожалуй, самое главное. Благочинный не был ударенным властью. Что я имею в виду? Самый сильный наркотик – обладание властью, не коснулся его. Вернее, коснулся одной только точкой: ответственностью. Вот ответственность у него была чрезвычайной.
Например, больной не больной, усталый он проводил крестный ход еженедельно по пятницам. Садилась в автобус паства его и во главе с благочинным объезд был храмов, часовенок Севастополя. Не миновали и Инкерман, где ждал нас игумен. Зима не зима, лето не лето, ездил автобус, и проводил крестный ход благочинный. От великой усталости засыпал на обратном ходу, вверив Библию верной ему до конца супружнице, матушке Наталии. По окончании крестного хода не домой он бежал. Нет, батюшка возвращался в храм Херсонесский.
Сколько властных людей принимал. И принимал их не с липкою лестью, не со вздохами ахами типа дайте на храм, не жалился на скудность и бедностью свою бытовую. Нет, принимал он великих людей с какой-то, я бы сказала, скорбной веригой. Скромен был, но себя не терял. Принимал и Кучму, принимал он и Путина. Это когда храм восстановлен, и президенты приехали на торжество. А вместе с властью светской прибыла и власть духовная. Помню приезд патриарха, тогда Алексия II. Награждения были и хвалу пели людям от клира. Как благочинный радовался за других! Не искал он награды себе. А ему и не надо.
Наградой ему храм возвышается на Херсонесе да паства, что помнит его, подвижника Божия.