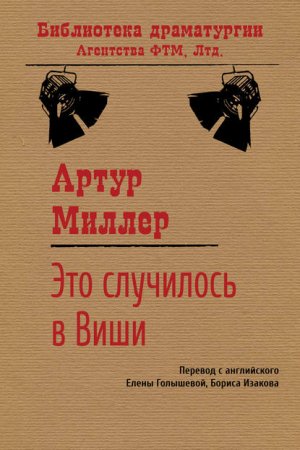
Лебо – художник.
Байяр – электромонтер.
Маршан – делец.
Полицейский.
Монсо – актер.
Цыган.
Официант.
Майор.
Первый сыщик.
Старый еврей.
Второй сыщик.
Ледюк – врач.
Капитан вишийской полиции.
Фон Берг – князь.
Профессор Гоффман.
Мальчик.
Ферран – хозяин кафе.
Четверо арестованных.
Место действия – Франция, Виши, камера предварительного заключения. Время действия – 1942 год.
Справа – коридор; он поворачивает к невидимому выходу на улицу. В глубине – выгородка с двумя грязными окнами; быть может, там была контора или просто комната, слева из нее ведет дверь.
Перед выгородкой стоит длинная скамья. Впереди – пустая авансцена. Непонятно, что здесь было прежде, но это похоже на склад, арсенал или часть вокзала. По обеим сторонам скамьи – два небольших ящика. Свет постепенно зажигается. На скамье сидят шестеро мужчин и мальчик лет пятнадцати; их позы выражают характер и общественное положение каждого. Все они застыли, как музыканты небольшого оркестра, готовые начать концерт. Когда сцена освещается полностью, этот живой фриз приходит в движение. По-видимому, все они не знают друг друга и встретились случайно – им очень интересно знать, кто сидит рядом, хотя каждый прежде всего поглощен собой. Но главное, что ими владеет, – это тревога и страх, им хочется сжаться и стать как можно неприметнее. Только один из них – Маршан, хорошо одетый делец, – часто поглядывает на часы, вытаскивает из карманов какие-то бумажки и визитные карточки, у него вид человека, которому попросту некогда. Первым не выдерживает Лебо – неопрятный бородач лет 25, его мучают голод и беспокойство; шумно вздохнув, он наклоняется вперед и опускает голову на руки. Другие, посмотрев на него, отводят глаза.
Лебо исполнен такого страха, что держится вызывающе.
Лебо. Эх, выпить бы чашечку кофе. Хоть глоток!
Никто не отзывается. Он поворачивается к сидящему рядом Байяру. Это его ровесник; он бедно, но чисто одет, в его облике чувствуется какая-то суровая сила.
(Доверительно, вполголоса.) Может, хоть вы понимаете, что тут происходит, а?
Байяр (качая головой). Я просто шел по улице.
Лебо. И я тоже. Было у меня предчувствие: не ходи никуда сегодня. А я вышел. Ведь неделями на улицу носа не показывал. А сегодня вышел. Да и дела никакого не было, некуда было идти. (Оглядывает соседей справа и слева, Байяру.) Их схватили так же, как нас?
Байяр (пожимая плечами). Я и сам здесь всего несколько минут – вас привели тут же, следом.
Лебо (обводит взглядом остальных). Кто-нибудь здесь понимает, что это значит?
Они пожимают плечами и отрицательно качают головой. Лебо оглядывает стены, потолок, потом говорит Байяру.
Это же не полицейский участок, а?
Байяр. Как будто нет. Там всегда бывает письменный стол. Должно быть, заняли какое-то пустое помещение.
Лебо (продолжая озираться с тревожным любопытством). А выкрашено, как полицейский участок. Наверно, их во всем мире красят в одну краску. Цвет дохлой устрицы с прожелтью.
Молчание. Взглянув на притихших соседей, он принуждает себя тоже замолчать. Но это невозможно, и он с кривой улыбкой снова обращается к Байяру.
Знаете, уж лучше, кажется, быть настоящим преступником. Хоть была бы какая-то ясность.
Байяр (не принимает шутки, но сочувственно). А вы не волнуйтесь. Не внушайте себе всякой всячины. Скоро все выяснится.
Лебо. Дело в том, что я не ел со вчерашнего дня. С трех часов. Когда хочешь есть, все воспринимается острее, вы замечали?
Байяр. Я бы дал вам поесть, да забыл дома завтрак. Как раз возвращался за ним, когда они меня взяли. Сядьте поудобней, успокойтесь.
Лебо. Я нервничаю… Понимаете, я вообще человек нервный. (С негромким, боязливым смешком.) Даже до войны был нервный.
Усмешка сходит с его лица. Он ерзает на скамейке. Остальные ждут со сдержанной тревогой. Лебо замечает добротный костюм и уверенную позу Маршана, сидящего в начале цепочки, ближе всех к двери. Наклоняется вперед, чтобы привлечь его внимание.
Извините!
Маршан не оборачивается. Тогда Лебо издает пронзительный, но негромкий свист. Маршан возмущен, он медленно поворачивает голову.
Вас тоже схватили таким манером? На улице?
Маршан отворачивается, ничего не ответив.
Послушайте, господин!
Маршан не откликается.
Виноват, молчу!
Маршан. Чего ж тут понимать – обычная проверка документов.
Лебо. А-а.
Маршан. За этот год в Виши понаехало столько всякого народа. Тут, видно, уйма шпионов и еще бог знает кого! Обычная проверка документов, и все.
Лебо (оборачиваясь к Байяру, с надеждой). Вы тоже так думаете?
Байяр (пожимает плечами, ему явно не верится, что дело обстоит так просто). Понятия не имею.
Маршан (Байяру). Ну что вы! Кругом тысячи людей с подложными документами – кто этого не знает? В военное время это недопустимо!
Остальные с беспокойством поглядывают на Маршана – его уверенность в своей безопасности им не передается.
Особенно теперь, когда власть переходит в руки немцев, порядки будут строже, это неизбежно.
Молчание. Лебо снова обращается к Маршану.
Лебо. А в вас разве нет… этого самого душка?
Маршан. Какого душка?
Лебо (оглядывает остальных). Ну, вроде… не та национальность?
Маршан. Не вижу, чего бояться, раз документы в порядке. (Отворачивается, показывая, что разговор окончен.)
Снова воцаряется молчание. Но Лебо не может сдержать тревоги. Он изучает профиль Байяра, потом поворачивает голову к соседу по другую руку и начинает разглядывать его. Снова повернувшись к Байяру, тихо говорит.
Лебо. Послушайте… вы ведь… испанец, правда?
Байяр. Да вы что? С чего вы задаете такие вопросы, да еще здесь? (Отворачивается.)
Лебо. А что мне делать, сидеть, как бессловесной скотине?
Байяр (ласково кладет ему руку на колено). Дружище, брось-ка ты нервничать.
Лебо. По-моему, нам каюк. По-моему, всем испанцам в Виши теперь каюк. (Сдерживая крик.) В 1939 у меня была американская виза. До вторжения. Я уже держал ее в руках…
Байяр. Успокойся… может, это в самом деле только формальность.
Краткое молчание.
Лебо. Послушай…
Наклоняется к Байяру и что-то шепчет ему на ухо. Байяр бросает взгляд на Маршана и пожимает плечами.
Байяр. Не знаю, может быть, а может, и нет.
Лебо (отчаянно стараясь говорить весело, по-приятельски). Ну, а как насчет тебя самого?
Байяр. Ты брось задавать идиотские вопросы! Не валяй дурака.
Лебо. Я и есть дурак, а ты? В 1939 мы совсем собрались ехать в Америку. И вдруг мамаше взбрело, что она не может бросить свое имущество. Вот я и сижу здесь из-за какой-то никелированной кровати и дерьмовых кастрюлек. И упрямой, невежественной женщины.
Байяр. Все не так просто. Ты лучше подумай, почему это происходит. Человек должен понимать, почему ему плохо.
Лебо. Да что тут понимать? Если бы мамаша…
Байяр. Дело не в мамаше. Монополии захватили власть в Германии. Они хотят поработить весь мир. Вот почему мы здесь.
Лебо. Я ведь не философ, но я знаю свою маму, и я здесь из-за нее… А ты похож на тех чудаков, которые смотрят мои картины и спрашивают: «Что это значит, а вон то что значит?» Смотрите, и все тут, не спрашивайте, что это значит. Ты не Господь Бог, чтобы понимать, что все это значит. Иду я сейчас по улице, рядом со мной останавливается машина, из нее выходит человек, измеряет мой нос, мои уши, мой рот, и вот я сижу в полицейском участке – или черт его знает где, – и это вам сердце Европы, вершина цивилизации! А ты понимаешь, что это значит? Был Рим, были греки, был Ренессанс, а теперь… ты понимаешь, что все это значит?
Байяр. Какая у тебя путаница в голове.
Лебо (в страхе). Потому что я совершенно запутался. (Внезапно вскакивает с места и кричит.) Черт возьми, я хочу кофе!
В конце коридора появляется Полицейский с револьвером у пояса; он идет по коридору и сталкивается с Лебо. Лебо останавливается, возвращается на свое место и садится. Полицейский поворачивает обратно, но тут поднимает руку Маршан.
Маршан. Извините, нет ли тут где-нибудь телефона? В одиннадцать часов у меня деловое свидание, и мне совершенно…
Полицейский, не оборачиваясь, уходит по коридору и исчезает за углом. Лебо смотрит на Маршана, качая головой и посмеиваясь про себя.
Лебо (вполголоса, Байяру). Красота! Человека вот-вот отправят в Германию рубить уголь в шахте, а он боится пропустить деловое свидание. И после этого от нас, художников, требуют реализма! Ты понимаешь?
Пауза.
А нос они тебе мерили? Хоть это ты мне можешь сказать?
Байяр. Нет, меня просто остановили и спросили документы. Я показал, и меня забрали.
Монсо (наклоняясь к Маршану). Знаете, я с вами совершенно согласен.
Маршан поворачивается к нему. Монсо – жизнерадостный человек лет двадцати восьми, в элегантном, но поношенном костюме. Он сидит в изящной позе, держа на колене серую фетровую шляпу.
В Виши, наверно, очень много людей с подложными документами. Мне кажется, как только они начнут, дело пойдет быстро. (Лебо.) Сделайте милость, посидите спокойно!
Лебо (Монсо). Вам они мерили нос?
Монсо (недовольно). Я думаю, нам всем лучше помолчать.
Лебо. В чем дело? Вам не нравится, как я одет? Откуда вы знаете, может, я величайший художник Франции.
Монсо. Был бы рад за вас, если это так.
Лебо. Ну и компания. Просто съесть готовы друг друга!
Пауза.
Маршан (наклоняясь вперед, чтобы встретиться взглядом с Монсо). Казалось бы, что при нынешней нехватке рабочей силы им следовало позаботиться о сокращении штатов. А в машине, которая меня остановила, сидели, кроме водителя, два французских полицейских в штатском и какой-то немецкий чиновник. Проще было бы поместить объявление в газете – каждый сам бы явился и предъявил документы. А так потеряно целое утро. Не говоря уж о том, что ты попал в неловкое положение.
Лебо. Причем тут неловкость? Я еле жив от страха. (Байяру.) А тебе неловко?
Байяр. Послушай, или перестань валять дурака, или оставь меня в покое!
Пауза. Лебо наклоняется вперед, чтобы разглядеть человека на противоположном от Маршана конце скамейки. Тычет пальцем в его сторону.
Лебо. Цыган?
Цыган (придвигая к себе медную кастрюлю, которая стоит у его ног). Цыган.
Лебо (Монсо). У цыган не бывает документов. Зачем они его забрали?
Монсо. Ну, тут могут быть совсем другие причины. Наверно, он украл эту кастрюлю.
Цыган. Нет. На тротуаре. (Приподнимает кастрюлю.) Чиню, паяю. Сижу чиню. Приходит полиция. Фюить!
Маршан. Ну, они мастера заговаривать зубы… (Цыгану, фамильярно посмеиваясь.) Верно я говорю?
Цыган смеется, отворачивается и мрачно замыкается в себе.
Лебо. Как у вас совести хватает это ему говорить? Небось если бы человек был прилично одет, вы бы так не сказали.
Маршан. Они не обижаются. Если на то пошло, они даже гордятся умением воровать. (Цыгану.) Верно я говорю?
Взглянув на него, Цыган пожимает плечами.
У меня есть имение – они там бродят в окрестностях каждое лето. Лично мне они даже нравятся, особенно их музыка. (Ухмыляясь, он напевает что-то Цыгану. Смеется.) Мы часто ходим к ним в табор, слушаем, как они поют у костра. Но они могут украсть у вас рубашку с тела. (Цыгану.) Верно?
Цыган пожимает плечами и презрительно чмокает. Маршан разражается наглым смехом.
Лебо. А почему бы ему и не красть? Как вам достаются ваши деньги?
Маршан. Представьте себе, я занимаюсь коммерцией.
Лебо. Вот я и говорю, с чего бы вам ругать воров?
Байяр. Вы непременно хотите вывести кого-нибудь из себя? Вы этого добиваетесь?
Лебо. Смотри-ка! Видно, и ты коммерсант!
Байяр. Представь себе, я электромонтер. Но немножко солидарности нам бы сейчас не повредило.
Лебо. А как насчет солидарности с цыганами? Хоть они и не просиживают штаны с девяти до пяти.
Официант (маленький человек средних лет; он даже не успел снять передника). Этого я знаю. Прогонял его тыщу раз. Стоят с женой и ребенком возле кафе и попрошайничают. А ребенок даже и не ихний.
Лебо. Ну и что? По крайней мере, у него богатое воображение.
Официант. Да, но они канючат возле столиков и досаждают клиентам. А посетителям это не нравится.
Лебо. Знаете, все вы напоминаете мне моего папашу. Он просто молился на этих работяг-немцев. А теперь во Франции только и слышно: надо учиться работать у немцев. Господи, да вы что, истории никогда не читали? Стоит человеку начать работать не покладая рук – берегись, тут же кого-нибудь пристукнет.
Байяр. Все зависит от способа производства. Конечно, в частнокапиталистическом обществе…
Лебо. Ну что ты несешь? Когда мы стали бояться русских? Когда они научились работать. Погляди на немцев – целых тысячу лет это были мирные и безалаберные люди, а как стали работягами, так и сели всем на шею. Негров никто не боится, а почему? Потому, что они не работают. Читайте Библию – труд это проклятие, мы не должны поклоняться труду!
Маршан. А как вы предлагаете производить товары?
Лебо. Вот это вопрос.
Маршан и Байяр смеются.
Чего вы смеетесь? Ну да, вот это вопрос! Работать, не делая из работы кумира. Ну и компания…
Дверь кабинета открывается, и оттуда выходит Майор. Это крепко сложенный, но болезненный с виду человек. Слегка прихрамывая, он проходит мимо сидящих людей к коридору.
Официант. Доброе утро, господин майор.
Майор (вздрогнув, кивает Официанту). А, доброе утро.
Идет по коридору, подзывает Полицейского; тот появляется из-за угла; разговора их не слышно.
Маршан (вполголоса). Вы его знаете?
Официант (с гордостью). Каждое утро подаю ему завтрак. Ей-богу, он не такой уж вредный тип. Армейский офицер, а не какой-нибудь из этих эсэсовских подонков. Был где-то ранен, вот его и засунули в тыл. Всего месяц как здесь, но мы с ним…
Майор возвращается. Полицейский уходит на свой пост в конце коридора, исчезая из поля зрения. Когда Майор проходит мимо Маршана…
Маршан (вскакивает и подходит к Майору). Прошу прощения, сударь.
Майор медленно поворачивает голову к Маршану. Тот выдавливает из себя почтительный смешок.
Мне крайне неприятно вас беспокоить, но я был бы очень обязан, если бы вы разрешили мне на минутку воспользоваться телефоном. Вопрос связан с продовольственным снабжением. Я управляющий.
Он хочет вынуть визитную карточку, но Майор уже отвернулся и шагает к двери. У порога он останавливается и поворачивается к Маршану.
Майор. Я здесь не распоряжаюсь. Вам придется подождать капитана французской полиции. (Входит в кабинет.)
Маршан. Прошу прощения.
Но дверь уже захлопнулась. Он возвращается на свое место и садится, свирепо взглянув на Официанта.
Официант. Он не такой уж вредный тип.
Все смотрят на него, словно ожидая какого-то откровения.
Заходит иногда даже по вечерам, прекрасно играет на пианино. Учит французский по самоучителю. И всегда такой вежливый.
Лебо. А он знает, что вы… испанец?
Байяр (поспешно). Не говори ты здесь об этом, бога ради. Какая муха тебя укусила?
Лебо. А почему и не могу выяснить, что происходит? Если общая проверка документов, это одно дело, а если…
В конце коридора появляется Первый сыщик со Старым евреем – ему за семьдесят, у него длинная борода, в руках большой узел; за ними Второй сыщик, который держит Ледюка; потом Капитан полиции в форме ведет Фон Берга; шествие замыкает Профессор Гоффман, сейчас он в штатском.
Первый сыщик приказывает Старому еврею сесть, и тот усаживается рядом с Цыганом. Второй сыщик указывает фон Бергу место рядом со Старым евреем. Только теперь Второй сыщик отпускает руку Ледюка и приказывает ему сесть рядом с фон Бергом.
Второй сыщик (Ледюку). Ну, теперь попробуй у меня только!
Дверь открывается, входит Майор. Ледюк тут же вскакивает, подходит к нему.
Ледюк. Сударь, я требую объяснений! Я боевой офицер, капитан французской армии. Никто не имеет права арестовать меня на французской территории. Оккупация не отменила французских законов в Южной Франции.
Второй сыщик в бешенстве толкает Ледюка обратно на скамью и возвращается к Профессору.
Второй сыщик (Майору, кивнув на Ледюка). Говорун.
Профессор (с сомнением). Вы думаете, что справитесь теперь вдвоем?
Второй сыщик. Задание понятное, господин профессор. (Майору.) Есть такие кварталы, куда их так и тянет, когда они бегут из Парижа или откуда-нибудь еще. Я притащу вам сколько угодно, сколько сможете пропустить.
Первый сыщик. Просто надо знать эти места. По-моему, у нас в Виши, по крайней мере, несколько тысяч с подложными документами.
Профессор. Тогда действуйте.
Сыщики поворачивают к выходу, но Капитан полиции окликает Второго сыщика.
Капитан. Сен-Пэр!
Второй сыщик. Я.
Капитан отводит Второго сыщика на авансцену.
Капитан. Старайтесь не брать людей в толпе. Поезжайте по улицам, как мы это сейчас делали, и берите поодиночке. Уже пошли слухи, а мы не хотим будоражить население.
Второй сыщик. Слушаюсь.
Капитан машет рукой, оба сыщика исчезают в конце коридора.
Капитан. Я хочу заказать кофе. А вам, господа?
Профессор. Да, пожалуйста.
Официант (робко). И рогалик для господина майора.
Майор бросает быстрый взгляд на Официанта и чуть улыбается. Капитан уходит в кабинет, с удивлением взглянув на Официанта.
Маршан (Профессору). По-моему, я первый.
Профессор. Что ж, входите.
Идет в кабинет, Маршан с готовностью следует за ним.
Маршан (на ходу). Спасибо. Я ужасно тороплюсь… Я как раз шел в министерство снабжения…
Голос его теряется за дверью. К двери подходит Майор. Ледюк, лихорадочно что-то соображая, его окликает.
Ледюк. Амьен!
Майор (задерживается у двери, оборачивается к Ледюку, который сидит на дальнем конце скамьи). Что Амьен?
Ледюк (стараясь не показывать волнение). Девятого июня, в сороковом. Я был в шестнадцатом артиллерийском, прямо против ваших позиций. Узнал ваши знаки различия, их я никогда не забуду.
Майор. Для ваших это был тяжелый день.
Ледюк. Да. Как видно, и для вас тоже.
Майор (кинув взгляд на свою раненую ногу). Я не жалуюсь.
Майор уходит в кабинет, закрывает за собой дверь. Пауза.
Ледюк (всем). Зачем нас взяли?
Официант (всем). Я говорил – он не такой уж вредный тип. Вот увидите.
Монсо (Ледюку). По-моему, проверка документов.
Ледюк настораживается, беспокойно вглядывается в их лица.
Ледюк. А какой тут порядок?
Монсо. Они только начали, этот коммерсант пошел первый.
Лебо (Ледюку и фон Бергу). Они вам мерили носы?
Ледюк (сильно встревоженный). Носы?
Лебо (прикладывает большой и указательный пальцы к переносице и к кончику носа). Ну да, они измерили мне нос, прямо на улице. Хотите, я вам скажу… (Байяру.) Не возражаешь?
Байяр. Я не против, если только не будешь валять дурака.
Лебо. Наверно, нас заставят таскать камни. Я как раз вспомнил – в прошлый понедельник одна знакомая девушка приехала из Марселя, там теперь не дорога, а сплошные объезды. Им нужны рабочие. Она говорит, что видела уйму людей, которые таскали камни. Ей показалось, что среди них много евреев… сотни…
Ледюк. Не слыхал, чтобы в Виши был принудительный труд. Неужели здесь его ввели?
Байяр. А вы сами откуда?
Ледюк (короткая пауза: он колеблется, говорить ли правду). Я живу в деревне. В городе бываю не так часто. А разве есть указ насчет принудительного труда?
Байяр (всем). Ну, так слушайте. (Его искренний, уверенный тон заставляет всех прислушаться.) Я вам кое-что скажу, только не надо на меня ссылаться, понятно? (Все кивают. Взглянув на дверь, он поворачивается к Лебо.) Ты слышал, что я сказал?
Лебо. Не делай из меня идиота! Господи, я же знаю, что тут не до шуток!
Байяр (всем). Я работаю в железнодорожных мастерских. Вчера пришел товарный состав – тридцать вагонов. Машинист – поляк, я не мог с ним потолковать, но один стрелочник говорит, будто слышал голоса внутри.
Ледюк. В товарных вагонах?
Байяр. Да. Поезд из Тулузы. Я слышал – последнее время в Тулузе втихомолку устраивали облавы на евреев. Да и откуда взяться польскому машинисту на юге Франции? Дошло?
Ледюк. Концлагерь?
Монсо. Причем тут концлагерь? Немало народа едет на работу в Германию добровольно. Это не секрет. Каждый, кто туда едет, получает двойной паек.
Байяр (спокойно). Вагоны заперты снаружи.
Короткая пауза.
Оттуда идет вонь, бьет в нос за сто шагов. Внутри плачут дети. Их слышно. И женщин тоже. Добровольцев так не запирают. Никогда не слыхал.
Долгая пауза.
Ледюк. Но я никогда не слыхал, чтобы они здесь применяли свои законы о чистоте расы. Все-таки, несмотря на оккупацию, тут французская территория – они об этом повсюду кричат.
Пауза.
Байяр. Меня беспокоит цыган.
Лебо. Почему?
Байяр. По расовым законам они той же категории. Неполноценные.
Ледюк и Лебо медленно поворачиваются к Цыгану.
Лебо (поворачивается снова к Байяру). Если только он и в самом деле не стащил эту кастрюлю.
Байяр. Ну, если он украл кастрюлю, тогда конечно…
Лебо (быстро, Цыгану). Эй, послушай. (Тихонько, но пронзительно свистит. Цыган смотрит на него.) Ты стащил кастрюлю?
Лицо Цыгана непроницаемо. Лебо неловко его допрашивать, но у него нет выхода.
Скажи правду, а?
Цыган. Не крал, нет.
Лебо. Имей в виду, я ведь не против воровства. (Указывая на других.) Я не из них. Мне доводилось ночевать и в чужих машинах, и под мостом, пойми, для меня всякая собственность – все равно кража, так что у меня к тебе нет никаких претензий.
Цыган. Не крал, нет.
Лебо. Послушай… ты ведь цыган, так как же тебе прожить иначе? Верно?
Официант. Они тащат все, что плохо лежит.
Лебо (Байяру). Слышишь? Наверно, его забрали просто за кражу, вот и все.
Фон Берг. Простите…
Они поворачиваются к нему.
Разве всех вас арестовали за то, что вы евреи?
Они молчат, настороженно и удивленно.
Ради бога, простите. Я не мог себе этого представить.
Байяр. Я ничего не говорил насчет евреев. Насколько мне известно, здесь нет ни одного еврея.
Фон Берг. Ради бога, простите.
Молчание. Оно затягивается.
(В полном смущении, с нервным смешком.) Дело в том, что… я как раз покупал газету, а тот господин вышел из машины и сказал, что ему надо проверить мои документы. Я не могу себе этого представить!
Молчание. В них затеплилась надежда.
Лебо (Байяру) А зачем им было хватать его?
Байяр (взглянув на фон Берга, обращается ко всем). Я ничего не знаю… но послушайтесь моего совета. Если что-нибудь подобное случится и вы туда попадете… в тот поезд… на двери изнутри вы увидите четыре болта. Постарайтесь найти какой-нибудь гвоздь, или отвертку, или хотя бы острый камень… надо расковырять дерево вокруг болтов, и тогда дверь откроется. Имейте в виду, не верьте тому, что они вам скажут… Я слышал, в Польше есть лагеря, где евреев загоняют работой в могилу.
Монсо. А вот у меня есть кузен; его послали в Освенцим – знаете, это в Польше? Я получил от него несколько писем, он очень доволен. Его даже научили класть кирпичи.
Байяр. Постой, приятель, я говорю то, что слышал от людей, которые в курсе дела. (Помедлив.) От людей, которым положено быть в курсе дела, понял? Не верьте всяким россказням о новых землях или о том, что вас обучат ремеслу, и все прочее. Если вы попадете в этот поезд – выбирайтесь, пока он не дошел туда, куда едет.
Пауза.
Ледюк. Я слышал то же самое.
Они поворачиваются к нему, а он поворачивается к Байяру.
А как по-вашему, где достать подходящий инструмент?
Монсо. Как это на нас похоже! Мы находимся в свободной зоне, никто нам еще не сказал ни слова, а мы уже сидим в поезде, едем в концлагерь, не пройдет и года, как мы будем покойниками.
Ледюк. Но раз тот машинист – поляк…
Монсо. Пусть поляк, что это доказывает?
Байяр. А я вам говорю – если у вас есть под рукой инструмент…
Ледюк. Мне кажется, этот человек говорит дело.
Монсо. По-моему, вы зря поднимаете панику. В конце концов, в Германии еще до войны много лет подряд забирали евреев, они делают это и в Париже, с тех пор как туда вошли, и вы хотите сказать, что все эти люди убиты? Как это укладывается у вас в голове? Война войной, но нельзя же терять чувство реальности. Немцы все-таки люди.
Ледюк. Беда не в том, что они немцы.
Байяр. Беда в том, что они фашисты.
Ледюк. Нет, простите. Беда как раз в том, что они – люди.
Байяр. С этим я в корне не согласен.
Монсо (взглянув на Ледюка). Странная, как видно, была жизнь у вас – вот все, что я могу сказать. Мне доводилось играть в Германии, я знаю немцев.
Ледюк. Я учился в Германии пять лет и в Австрии тоже, и я…
Фон Берг (радостно). В Австрии? Где?
Ледюк (медлит, потом решается на откровенность). В Вене, в Институте психиатрии.
Фон Берг. Да что вы!
Монсо. Так вы психиатр! (Остальным.) Не удивительно, что он такой пессимист.
Фон Берг. Где вы жили? Я ведь коренной венец.
Ледюк. Извините, но, пожалуй, разумнее не уточнять.
Фон Берг (оглядываясь по сторонам, словно совершил оплошность). Простите, пожалуйста… да, конечно.
Короткая пауза.
Я просто хотел полюбопытствовать, не знаете ли вы барона Кесслера. Он так покровительствовал медицинскому институту.
Ледюк (подчеркнуто холодно). Нет, я не вращался в этих кругах.
Фон Берг. Что вы, он такой демократ. Понимаете… (застенчиво) он мой двоюродный брат…
Лебо. Так вы из знати?
Фон Берг. Да.
Ледюк. Как ваше имя?
Фон Берг. Вильгельм-Иоганн фон Берг.
Монсо (почтительно). Тот самый… князь?
Фон Берг. Да… простите, мы с вами встречались?
Монсо (польщенный). О нет. Но я, конечно, слышал ваше имя. Ваш род, кажется, один из самых древних в Австрии?
Фон Берг. Ну, это больше не имеет значения.
Лебо (поворачивается к Байяру, окрыленный надеждой). Так на какого же черта им сдался австрийский князь?
Байяр озадаченно смотрит на фон Берга.
Я хочу сказать… (Снова поворачиваясь к фон Бергу.) Вы ведь католик, да?
Фон Берг. Да.
Ледюк. А ваш титул указан в документах?
Фон Берг. О да, в паспорте.
Пауза. Все сидят молча – у них пробудилась надежда, но они сбиты с толку.
Байяр. Может, вы… занимались политикой или что-нибудь в этом роде?
Фон Берг. Нет, что вы, политика меня никогда не занимала.
Пауза.
Конечно, нельзя забывать, что они испытывают неприязнь к аристократии. Может быть, это все и объясняет.
Ледюк. У фашистов? Неприязнь?
Фон Берг (удивленно). Да, конечно.
Ледюк (у него нет ни этот счет своей точки зрения, и самый вопрос ему безразличен, но он хочет вызвать аристократа на разговор). В самом деле? Для меня это новость.
Фон Берг. Уверяю вас.
Ледюк. Но за что им вас не любить?
Фон Берг (смущенно смеется, не желая показать, что он обижен) Неужели вы спрашиваете это серьезно?
Ледюк. Не обижайтесь, я просто невежда в этих делах. Я привык считать, что аристократия… поддерживает любой реакционный режим.
Фон Берг. Ну, некоторые из нас конечно. Но большинство вообще не желает брать на себя никакой политической ответственности.
Ледюк. Интересно. Значит, вы все еще всерьез относитесь к своему… своему титулу и…
Фон Берг. Дело не в титуле, а в моем имени, в моей семье. У вас ведь тоже есть имя, семья. Я полагаю, что вам тоже не хочется их позорить.
Ледюк. Понимаю. А под «ответственностью» вы, наверно, понимаете…
Фон Берг. Да я и сам не знаю… мало ли что это может означать. (Смотрит на часы.)
Пауза.
Ледюк. Пожалуйста, извините меня, я вовсе не хотел быть назойливым.
Пауза.
Я никогда об этом не задумывался, но сейчас мне ясно – они хотели бы лишить вас даже той власти, какая у вас есть.
Фон Берг. Что вы? Какая же у меня власть? А если б и была, им стоит только пальцем пошевелить, чтобы ее уничтожить. Разве в этом суть?
Пауза.
Ледюк (как зачарованный – в словах фон Берга он чувствует какую-то правду). А в чем же? Поверьте, я не собираюсь вас попрекать. Совсем наоборот…
Фон Берг. Но ведь это так просто! (Смеется.) У меня есть известное… положение. Мой род существует тысячу лет, и они понимают, как опасно, если кто-нибудь вроде меня… не признает всего этого хамства.
Ледюк. А под хамством вы подразумеваете?..
Фон Берг. Разве вам не кажется, что фашизм, чем бы он ни был еще, – это величайший взрыв хамства? Океан хамства.
Байяр. Боюсь, мой друг, что дело куда серьезнее.
Фон Берг (вежливо, Байяру). Да, конечно, вы совершенно правы.
Байяр. По-вашему, получаются, что они просто не умеют вести себя за столом, только и всего.
Фон Берг. Конечно не умеют. Их ужасно бесит всякая утонченность. Они считают это, видите ли, признаком вырождения, упадка.
Байяр. О чем вы толкуете? Значит, вы покинули Австрию потому, что они не умеют вести себя за столом?
Фон Берг. Ну да, и не только за столом. А их восторг перед всякой пошлостью в искусстве; приказчики из бакалейной лавки, напялив мундиры, приказывают оркестру, какую музыку играть, а какую нет! Да, хамство само по себе может заставить человека покинуть свою родину, так мне, по крайней мере, кажется.
Байяр. Другими словами, если бы они умели вести себя за столом, разбирались в искусстве и не мешали оркестру играть, что ему нравится, вы бы поладили с ними.
Фон Берг. Да разве это мыслимо? Как могут люди, уважающие искусство, преследовать евреев? Превращать Европу в тюрьму? Навязывать всему человечеству эту расу жандармов и насильников? Разве люди, которые любят прекрасное, на это способны?
Монсо. Я охотно бы с вами согласился, князь фон Берг, но должен кое-что сказать в защиту немецкой публики – я перед нею играл: ни одна публика на свете так не чувствует малейших нюансов спектакля, они сидят в театре благоговейно, как в церкви. И никто не умеет слушать музыку, как немцы. Разве не так? У них – страсть к музыке.
Пауза.
Фон Берг (страдая от того, что должен это признать). Боюсь, что да, это правда.
Пауза.
Не знаю, что вам сказать. (Он подавлен и совершенно растерян.)
Ледюк. Может, вы говорите о разных людях?
Фон Берг. Увы, я знаю многих образованных людей, которые стали фашистами. Да, это так. Пожалуй, искусство не служит от этого защитой. Странно, оказывается, о многом ты просто никогда не задумывался. До сих пор я считал искусство… (Байяру.) Возможно, вы и правы – я тут чего-то не понимаю. По совести говоря, я в основном музыкант – разумеется, только любитель, и политика никогда…
Дверь кабинета открывается, Маршан появляется, пятясь и продолжая разговор с невидимым собеседником. Прячет в боковой карман бумажник с документами; в другой руке держит белый пропуск.
Маршан. Будьте спокойны, я отлично все понимаю. До свидания, господа. (Показывая собеседнику пропуск.) Предъявить у выхода? Хорошо. Спасибо.
Закрыв дверь, поворачивается и торопится пройти мимо арестованных; когда он проходит мимо Мальчика…
Мальчик. Что они у вас спрашивали, сударь?
Не глядя на Мальчика, Маршан сворачивает в коридор. Услышав его шаги, в конце коридора показывается Полицейский, Маршан вручает ему пропуск и уходит. Полицейский исчезает.
Лебо (не то с удивлением, не то с надеждой). А я готов был поклясться, что он еврей! (Байяру.) Как ты думаешь?
Байяр (он явно думает так же, как Лебо). У тебя ведь есть документы?
Лебо. Ну, конечно, у меня хорошие документы. (Вынимает из кармана брюк измятые бумажки.)
Байяр. Вот и стой на том, что они в порядке. Может, он так и поступил.
Лебо. Взгляни-ка на них, а?
Байяр. Я ведь не специалист.
Лебо. А все-таки я бы хотел знать твое мнение. Ты как будто во всем этом разбираешься. Как они, по-твоему?
Дверь кабинета открывается. Байяр быстро прячет бумаги. Появляется Профессор и указывает пальцем на Цыгана.
Профессор. Следующий. Ты. Идем со мной.
Цыган встает и направляется к нему. Профессор указывает на кастрюлю, которую он держит в руках.
Это можешь оставить.
Цыган медлит, смотрит на кастрюлю.
Я сказал: оставь здесь.
Цыган нехотя ставит кастрюлю на скамейку.
Цыган. Чинить. Не красть.
Профессор. Ступай.
Цыган (указывая на кастрюлю, предупреждает остальных). Она моя.
Цыган входит в кабинет. Профессор следует за ним, закрывает дверь. Байяр берет кастрюлю, отламывает ручку, кладет в карман и ставит кастрюлю на прежнее место.
Лебо (снова обращаясь к Байяру). Ну, что ты скажешь?
Байяр (разглядывает бумагу на свет с обеих сторон, возвращает ее Лебо). В порядке – насколько могу судить.
Монсо. Мне кажется, что тот человек был еврей. А вам, доктор?
Ледюк. Понятия не имею. Евреи не раса. Они бывают похожи на кого угодно.
Лебо (радуясь, что сомнения его рассеяны). Наверно, у него просто хорошие документы. Я же знаю, какие бывают документы, стоит на них взглянуть, и сразу видишь – липа. Но если у тебя хорошие документы, а?
Пока он говорит, Монсо вынимает свои документы и разглядывает их. То же самое делает Мальчик. Лебо поворачивается к Ледюку.
Но ваша правда. Мой папаша, например, похож на англичанина. Беда в том, что я пошел в мамашу.
Мальчик (Байяру, протягивая свой документ). Пожалуйста, взгляните на мои.
Байяр. Я ведь не специалист, малыш. Да брось ты их разглядывать у всех на виду.
Монсо прячет свой документ, Мальчик тоже. Пауза. Они ждут.
Монсо. Наверно, все дело в том, внушаешь ли ты доверие, тот человек держал себя с таким апломбом…
Старый еврей едва не валится ничком на пол. Фон Берг подхватывает его и вместе с Мальчиком снова усаживает на скамью.
Лебо (все более нервно). Черт бы их драл, хоть бы бороды сбрили! Разгуливает с такой бородищей в эдакой стране!
Монсо смотрит на собственную бороду, и Лебо проводит рукой по лицу.
Ну, я просто не люблю терять время на бритье…
Фон Берг (Старому еврею). Как вы себя чувствуете, сударь?
Ледюк перегибается через фон Берга и щупает пульс Старого еврея. Пауза. Он опускает его руку и обращается к Лебо.
Ледюк. Вы говорите серьезно? Они в самом деле мерили вам нос?
Лебо. Ну да, двумя пальцами. Вот тот, в штатском. Они зовут его Профессором. (Пауза, Байяру.) Мне кажется, ты прав: все дело в документах. У этого коммерсанта было явно еврейское лицо.
Монсо. Теперь я в этом не уверен.
Лебо (с досадой). Минуту назад вы были в этом уверены, и вдруг…
Монсо. Но даже если и нет, это только доказывает, что они проводят проверку. Всего населения.
Лебо. А ведь и в самом деле!
Пауза.
По правде сказать, меня почти никто не принимает за еврея. Мне на это наплевать, но… (Фон Бергу.) А как было с вами, они вам мерили нос?
Фон Берг. Нет, они велели мне сесть в машину, и все.
Лебо. По правде сказать, ваш нос длиннее моего.
Байяр. Прекрати! Прекрати сейчас же!
Лебо. Разве я не могу выяснить, за что меня арестовали?
Байяр. Ты хоть раз в жизни думал о чем-нибудь, кроме самого себя? Мало ли что ты художник! Ваш брат только всех разлагает!
Лебо (с нескрываемым страхом). Какого черта, о чем же еще прикажешь мне думать? Ты-то сам о чем думаешь?
Открывается дверь кабинета. Появляется Капитан полиции, делает знак Байяру.
Капитан. Проходите.
Байяр встает, изо всех сил стараясь сдержать дрожь в коленях. В коридоре появляется Ферран – хозяин кафе; он спешит, неся в руках поднос с кофейным сервизом, накрытым большой салфеткой. На нем передник.
Наконец-то!
Ферран. Простите, капитан, но для вас мне пришлось заварить свежий.
Капитан (уходя в кабинет вслед за Ферраном). Поставьте на мой стол.
Дверь затворяется. Байяр садится, отирает пот с лица. Пауза.
Монсо (тихо, Байяру). Ничего, если я вам кое-что скажу?
Байяр поворачивается к нему, готовый дать отпор.
Сейчас, когда вы встали, у вас был ужасно неуверенный вид.
Байяр (обиженно). У меня? Вы меня с кем-то путаете.
Монсо. Простите, я вам это не в укор.
Байяр. Конечно, я немножечко нервничаю, отправляясь в фашистское логово.
Монсо. Потому-то и надо выглядеть как можно самоувереннее. Я убежден, что только это помогло коммерсанту. Со мной уже были такие случаи – в поездах, даже в Париже… меня не раз задерживали… Самое главное – не выглядеть жертвой. Или, вернее, не чувствовать себя жертвой. Они могут быть полными болванами, но у них особый нюх на обреченных. А когда человеку нечего скрывать – они это видят сразу.
Ледюк. А как же можно не чувствовать себя жертвой?
Монсо. Надо вообразить себя тем, кем ты хочешь быть в предлагаемых обстоятельствах. Я актер, мы только этим и занимаемся. Зритель – настоящий садист. Он только и ждет, чтобы ты проявил малейшую слабость. Вот и приходится думать о чем-нибудь таком, что внушает уверенность в себе, все равно о чем. Вспомнить, например, как тебя хвалил отец или как учитель восхищался твоими способностями… Думайте о чем угодно (Байяру), но чтобы это… возвышало вас в собственных глазах. В конце концов, вы же стараетесь создать иллюзию: заставить их поверить, что вы тот, кто указан в ваших документах.
Ледюк. Правильно, мы не должны разыгрывать роль, которую они нам навязывают. Вот это мудро. Я вижу, вы человек смелый.
Монсо. К сожалению, нет. Зато у меня есть талант. (Байяру.) Надо создать для них образ человека, который прав, а не такого, кто в чем-то провинился и внушает подозрения. Они сразу чуют разницу.
Байяр. Плохи ваши дела, дружище, если вам приходится играть, как на сцене, чтобы почувствовать свою правоту. Буржуазия продала Францию, она впустила фашистов, чтобы уничтожить французский рабочий класс. Достаточно вспомнить причины этой войны, и у вас появится настоящая уверенность в своей правоте.
Ледюк. Причины войны разные люди объясняют по-разному.
Байяр. Но не те, кто ясно понимает движущие силы экономики и политики.
Ледюк. Однако когда немцы на нас напали, коммунисты отказались помогать Франции. Они объявили войну империалистической. Когда же фашисты напали на Россию, тут же оказалось, что идет священная война против тирании. В чем же можно быть уверенным, если все меняется с такой быстротой?
Байяр. Эх, друг, без Красной Армии, которая теперь с ними сражается, прощай наша Франция на тысячу лет.
Ледюк. Согласен. Но причем тут понимание политических и экономических сил, если надо только верить в Красную Армию?
Байяр. Надо верить в будущее, а будущее – это социализм. Вот с этой верой я и пойду туда. (Остальным.) Имейте в виду: я знаю этих прохвостов. Обопритесь покрепче на идеологию, не то они вам переломят хребет.
Ледюк. Понимаю. Главное – не чувствовать себя одиноким, вы это хотите сказать?
Байяр. Люди не бывают одиноки. Все мы – участники исторического процесса. Может, кое-кто этого и не знает, но пусть узнает, если хочет выжить.
Ледюк. Значит, все мы – только проявление каких-то общественных сил?
Байяр (не зная, надо ли спорить). Да. Почему же нет?
Ледюк. И вы считаете, что это вам помогает? Поверьте, меня это очень интересует.
Байяр. Мне это помогает потому, что это правда. Кто я для них лично? Разве они меня знают? Попробуйте подойти ко всему этому с личной меркой, и вы превратитесь в идиота. Со своей вышки вам тут ни в чем не разобраться.
Ледюк. Согласен. (Доверительно.) Но вот в чем трудность: как можно преодолеть свое «я»? Например, когда думаешь о пытках…
Байяр (пытаясь следовать своим убеждениям). Я не скрываю, эта мысль и меня пугает. Но они не могут замучить будущее, это не в их власти. Человек создан не для того, чтобы быть рабом капитала. Что бы они ни делали, в душе я над ними смеюсь. Потому что победить они не могут. Это невозможно. (Теперь он подавил растущий в нем страх.)
Ледюк. Так что в известном смысле… вас здесь как будто и нет? Лично вас.
Байяр. В известном смысле. Ну, а что в этом плохого?
Ледюк. Ничего, может быть, это наилучший способ, чтобы себя сохранить. Правда, обычно стараешься не допустить разлада с собой, быть и духом там, где твое тело. Кое-кому трудно выключить мотор, чтобы машина шла на холостом ходу. Но для вас, видно, это не проблема.
Байяр (сочувственно). Вы думаете, человек может быть собой в этом обществе? Где миллионы голодают, а немногие живут, как короли, где биржа поработила целые народы – как можно быть самим собой в таком мире? Я гну спину по десять часов в день за несколько франков, и я вижу людей, которые никогда палец о палец не ударили, а владеют всем миром… Разве мой дух может быть там, где мое тело? Нет, человек так не может. Он не мартышка.
Фон Берг. Тогда где же ваш дух?
Байяр. В будущем. В завтрашнем дне, когда рабочий класс будет хозяином земного шара. Вот что меня держит… (Монсо.) А не чужая личность, взятая напрокат.
Фон Берг (широко раскрыв глаза, непосредственно). А вы не думаете… простите меня… разве большинство фашистов не из рабочих?
Байяр. Ну, конечно, пропаганда кого хочешь собьет с толку.
Фон Берг. Понимаю.
Короткая пауза.
Но в таком случае, разве можно на них полагаться?
Байяр. А на кого же полагаться? На аристократов?
Фон Берг. Не слишком. Но на отдельных аристократов положиться можно. И на отдельных людей из народа.
Байяр. Вы хотите мне сказать, что историю делают отдельные люди»? Но разве нас арестовали как «отдельных людей»? Разве кто-нибудь из нас существует для них как личность? Историю определяет классовая борьба, а не личность.
Фон Берг. Да. Кажется, в этом-то и беда.
Байяр. Какая же тут беда? Это факт. А человек радуется, осознавая факты.
Фон Берг (с глубокой душевной тревогой и желанием понять). Но ведь факты… Друг мой, а что, если факты ужасны? И всегда будут ужасны?
Байяр. Как и деторождение, как и…
Фон Берг. Но там на свет появляется ребенок! А что, если ваши факты будут рождать только бесконечные, бесконечные беды? Поверьте, я счастлив, что вижу человека, лишенного цинизма; в наши дни так дорога способность верить. Но обращать свою веру на… общественный класс невозможно, просто невозможно, ведь девяносто девять процентов фашистов – обыкновенные рабочие.
Байяр. Да, бывает, можно задурманить головы…
Фон Берг (с безотчетным волнением, словно решение этого вопроса определяет его судьбу). Но кому же нельзя задурманить голову? Разве не в этом… вся суть? Только личностям. Вы не согласны?
Байяр. Вы же умный человек, князь. Неужели вы верите, что пять, десять, тысяча, десять тысяч честных и мужественных людей – это все, что стоит между нами и всеобщей гибелью? Неужели вы думаете, что мир висит на такой тонкой ниточке?
Фон Берг (растерянно). Да… это выглядит неправдоподобно.
Байяр. Если бы я так думал, у меня не было бы сил войти в ту дверь. У меня отнялись бы ноги.
Фон Берг (помолчав). Да. Я никогда не пытался взглянуть на это так, как вы говорите… Но… вы действительно думаете, что рабочий класс сможет?..
Байяр. Он уничтожит фашизм потому, что фашизм ему враждебен.
Фон Берг (кивнув). Но в таком случае все становится еще более загадочным.
Байяр. Я тут никакой загадки не вижу.
Фон Берг. Да они боготворят Гитлера!
Байяр. Что вы! Гитлер – порождение капитализма.
Фон Берг (с глубочайшей горечью и тревогой). Но они его боготворят! Мой повар, мои садовники, мои лесничие, шофер, егерь – все они фашисты! Я видел, как оно их захватывает – преклонение перед этим проходимцем, моя экономка видит его во сне, она бредит им наяву! Я видел это в своем собственном доме. Вот вам факт, чудовищный факт. (Сдерживая волнение.) Вы меня извините, но я не могу относиться к этому спокойно. Я восхищен вашей способностью верить. Всякая вера в чем-то прекрасна. Но я знаю, что ваша вера покоится на ошибочной основе, и это меня страшно тревожит! (Тихо.) Я лично не могу радоваться фактам, они слишком безнадежны. Немцы его обожают, он для них соль земли… (Глядя в пространство.) Обожают.
Из кабинета доносится взрыв смеха. Князь, как и все, смотрит на дверь.
Странно, если бы я не знал, что там есть французы, я бы сказал, что это ржут немцы. Но, как видно, хамство – не свойство какой-нибудь одной нации.
Дверь отворяется. Из кабинета, смеясь, выходит Ферран. Смех внутри стихает. Ферран машет в кабинет на прощанье рукой и закрывает за собой дверь. Улыбка сходит с его лица. И когда он проходит мимо Официанта, он бросает взгляд на дверь, наклоняется и что-то шепчет Официанту на ухо. Все остальные за ними наблюдают. Ферран идет к выходу. Официант хватает его за передник.
Официант. Ферран!
Ферран (отталкивая его руку). Что я могу сделать? Я же тебе сто раз говорил, чтобы ты уехал! Скажи, что нет. (Заплакав.) Ну, скажи, что нет!
Поспешно уходит, вытирая слезы передником. Все смотрят на Официанта, который неподвижно уставился перед собой.
Байяр. В чем дело? Говори. Ну, давай, я ведь следующий, что он сказал?
Официант (шепчет, с расширенными от ужаса глазами). Это совсем не на работу.
Ледюк (наклонившись, чтобы лучше слышать). А куда?
Официант. У них печи.
Байяр. Какие печи?.. Говори! Что это за печи?
Официант. Он слышал, что говорили сыщики, они только что заходили выпить кофе. Людей сжигают в печах. Это совсем не на работу. В Польше они сжигают людей.
Молчание. Долгое время его никто не прерывает.
Монсо. Это самая идиотская выдумка, какую я слышал в жизни!
Лебо (Официанту). Но ведь если у человека настоящий французский паспорт… В моем паспорте не сказано, что я еврей.
Официант (громким шепотом). Они проверяют, сделали ли вам обрезание.
Мальчик вскакивает, словно ужаленный. Дверь кабинета отворяется. Выходит Капитан полиции и делает знак Байяру. Мальчик поспешно садится.
Капитан. Можете войти.
Байяр встает, напускает на себя бравый до нелепости вид. Но, подойдя к Капитану, говорит с подлинным достоинством.
Байяр. Я старший электромонтер на железной дороге. Вы, может, капитан, сами видели меня в мастерских. У меня броня первой категории.
Капитан. Входи.
Байяр. Вы можете справиться у министра путей сообщения Дюкена.
Капитан. Ты еще будешь меня учить?
Байяр. Нет, но всякому полезно послушать добрый совет.
Капитан. Иди!
Байяр. Иду.
Байяр решительно входит в кабинет. Капитан идет за ним следом и прикрывает дверь. Долгое молчание. Потом Монсо старательно разглаживает складку на полях своей фетровой шляпы. Лебо с ужасом разглядывает свои бумаги и потирает бороду тыльной стороной руки. Старый еврей поглубже заталкивает свой узел под ноги. Ледюк вытаскивает полупустую пачку сигарет, хочет вынуть одну, потом молча встает, обходит арестованных и угощает всех. Лебо берет сигарету. Они закуривают. Из соседнего дома доносятся тихие звуки аккордеона, наигрывающего модную песенку.
Лебо. Только фараон может играть в такую минуту!
Официант. Нет, это Морис, сын хозяина. У них начинают подавать обед.
Ледюк возвращается на свое место – последнее на скамье, приподнимается, вытягивает голову, заглядывает за угол коридора, потом садится снова.
Ледюк (тихо). У двери только один часовой. Втроем с ним можно справиться.
Пауза. Никто не отвечает. Потом…
Фон Берг (извиняющимся тоном) Боюсь, я вам буду только помехой. У меня такие слабые руки.
Монсо (Ледюку). Неужели, доктор, вы верите в эти печи?
Ледюк (подумав). Да. По-моему, это возможно… Да. Может, мы что-нибудь сумеем сделать?..
Монсо. На кой им черт мертвые евреи?! Им нужна даровая рабочая сила. Это же бессмыслица! Как хотите, у немцев есть своя логика. То, о чем вы говорите, им не может быть выгодно!
Ледюк. Вы сидите здесь, и еще толкуете о выгоде! А вы можете как-нибудь объяснить, почему вы здесь сидите? Но вы же здесь сидите, да?
Монсо. Такое зверство… просто не укладывается в голове.
Фон Берг. В том-то все и дело.
Монсо. Вы же в это не верите, князь! Вы не станете утверждать, будто верите!
Фон Берг. Это самое вероятное из зверств, о которых я слышал.
Лебо. Почему?
Небольшая пауза.
Фон Берг. Именно потому, что это так невообразимо подло. На этом держится их власть. Совершая нечто невообразимое, они нас этим гипнотизируют. Это их цель, ну, а причина, конечно, другая. Я много раз спрашивал своих друзей: почему, если вы любите родину, надо непременно ненавидеть другие страны? Разве для того, чтобы быть хорошим немцем, надо презирать все не немецкое? Пока не понял: они это делают не потому, что они немцы, а потому, что они ничто, пустое место. Такова примета нашего века: чем призрачнее твое существование, тем больше ты должен впечатлять. Я так и вижу, как они обсуждают все это друг с другом, как они себя хвалят за… прямодушие. В конце концов, говорят они, что такое самообуздание, как не лицемерие? Если ты презираешь евреев, самое честное – их сжечь. А если это стоит денег, требует железнодорожных составов, охраны – тем лучше, это только подчеркивает твою преданность долгу, твое бескорыстие, искренность. Они еще скажут, что только еврей станет высчитывать, во сколько это обойдется. У них поэтическая натура, они стремятся создать новую аристократию, аристократию тоталитарного хамства. Я верю в эти печи, огонь докажет раз и навсегда, что эти люди – не фикция и что они были людьми идейными. Нельзя подходить к ним со старомодными мерками выгоды и убытков. Их цель – высокая гармония, а люди – только звуки, которые они извлекают из инструментов. И мне кажется, все равно – выиграют они эту войну или проиграют: они открыли новые горизонты. То, что мы раньше считали человеком, исчезнет с лица земли. Я готов сделать все, чтобы этого не видеть.
Молчание.
Монсо. Но они арестовали и вас. Этот немец, профессор, он ведь специалист. В вас нет ничего еврейского…
Фон Берг. У меня акцент. Я заметил, как он насторожился, когда я заговорил. У меня австрийский выговор. Он, видно, подумал, что я тоже прячусь.
Дверь отворяется. Выходит Профессор и делает знак Официанту.
Профессор. Следующий. Ты.
Официант, съежившись, прижимается к Лебо.
Не бойся, мы только проверим твои документы.
Официант, вдруг пригнувшись, бежит за угол по коридору. В конце коридора вырастает Полицейский и, схватив беглеца за воротник, ведет назад.
Официант (Полицейскому). Феликс, ты же меня знаешь. Феликс, моя жена с ума сойдет. Феликс!
Профессор. Отведите его в кабинет.
В дверях кабинета появляется Капитан полиции.
Полицейский. У дверей никого не осталось.
Капитан (вырывает Официанта из рук Полицейского). А ну-ка сюда, жидовская морда…
Швыряет Официанта к двери, тот наталкивается на Майора, который выходит, услышав шум. Майор со стоном хватается за бедро и отталкивает Официанта. Тот сползает к его ногам с рыданием. Капитан подбегает, грубо ставит его на ноги, вталкивает в кабинет и входит за ним. Из комнаты слышится:
Ну, получай! Получай!
Слышно, как Официант вскрикивает, слышны удары. Тишина. Профессор направляется к двери. Майор берет его под руку и отводит на авансцену, подальше от арестованных.
Майор. А не проще ли их спросить, кто из них…
Профессор, не отвечая, раздраженно подходит к арестованным.
Профессор. Кто из вас сразу желает признаться, что у него поддельные документы?
Молчание.
Так. Короче говоря, все вы – чистокровные французы?
Молчание. Он подходит к Старому еврею, наклоняется к самому его лицу.
Есть среди вас евреи?
Молчание. Он возвращается к Майору.
Вот в чем трудность, майор. Надо либо обходить дом за домом и выяснять их происхождение, либо производить этот осмотр.
Майор. Извините, я вернусь через несколько минут. (Собирается уйти.) Продолжайте пока без меня.
Профессор. Майор, вы получили приказ, вы руководите этой операцией. Я вынужден настаивать – ваше место здесь, со мной.
Майор. По-видимому, вышла какая-то ошибка. Я строевой офицер. У меня нет опыта в таких делах. Моя специальность артиллерия и саперное дело.
Небольшая пауза.
Профессор (раздельно, его глаза сверкают). Давайте говорить начистоту, майор. Вы отказываетесь от этого задания?
Майор (чувствуя в его словах угрозу). У меня сегодня разболелась рана. Все еще вынимают осколки. В сущности говоря, я понял так, что мне придется… заняться этим делом лишь временно, пока меня не сменит офицер СС. Действующая армия отдала меня, в сущности говоря, заимообразно…
Профессор (берет его под руку и снова выводит на авансцену). Но армия не вправе уклоняться от участия в мероприятиях по обеспечению чистоты расы. Я получаю указания сверху. И отчет мой должен быть направлен наверх. Вы меня понимаете?
Майор (уже сдаваясь). Да, понимаю…
Профессор. Так вот, если вы хотите, чтобы вас освободили, я могу позвонить генералу фон…
Майор. Нет-нет, не стоит. Я… вернусь через несколько минут.
Профессор. Странно, майор, сколько же я должен вас ждать?
Майор (сдерживая раздражение). Мне надо пройтись. Я не привык к сидячей работе. Чего ж тут странного? Я боевой офицер, а к такой работе надо привыкнуть. (Сквозь зубы.) По-вашему, это странно?
Профессор. Ну что ж.
Небольшая пауза.
Майор. Я вернусь через десять минут. Можете пока продолжать.
Профессор. Без вас я продолжать не буду, майор. Армия не может снять с себя ответственность.
Майор. Я не задержусь.
Профессор резко поворачивается и большими шагами уходит в кабинет, хлопнув дверью. Майору хочется поскорей уйти, и он направляется по коридору к выходу. Когда он проходит мимо, со скамьи поднимается Ледюк.
Ледюк. Майор!..
Майор, хромая, проходит мимо. Он не оборачивается и исчезает за поворотом. Молчание.
Мальчик. Сударь!
Ледюк оборачивается к нему.
Хотите, я с вами?
Ледюк (Монсо и Лебо). А вы двое?
Лебо. Пожалуйста, если хотите, но я так голоден, что толку от меня никакого.
Ледюк. Вы можете к нему подойти и затеять с ним разговор. Отвлечь внимание. Тогда мы…
Монсо. Вы оба сошли с ума. Они вас застрелят.
Ледюк. Кому-то удастся спастись. У двери только один часовой. В этом районе много закоулков и проходных дворов, можно исчезнуть через двадцать шагов.
Монсо. А сколько времени вы будете на свободе – час? Вас схватят и растерзают на куски.
Мальчик. Давайте! Мне надо отсюда выбраться. Я ведь шел в ломбард. (Вынимает кольцо.) Это мамино обручальное кольцо, все, что у нас осталось. Она ждет денег. В доме нечего есть.
Монсо. Послушай меня, мальчик: сиди спокойно, они тебя отпустят.
Ледюк. Как электромонтера?
Монсо. Ну, тот был явный коммунист. А официант разозлил капитана.
Лебо. Послушай, я пойду с тобой, но особенно на меня не рассчитывай, я слаб, как муха. Со вчерашнего дня ничего не ел.
Ледюк (Монсо). С мужчинами было бы легче. Мальчик уж больно слаб. Но, если вы на него кинетесь, я отниму пистолет.
Фон Берг (Ледюку, глядя на свои руки). Простите меня.
Монсо вскакивает, подходит к ящику, садится.
Монсо. Я не намерен зря рисковать жизнью. У того коммерсанта еврейское лицо. (Лебо.) Вы сами это говорили.
Лебо (Ледюку, миролюбиво). Говорил. Мне так казалось. Может, и правда – все дело в том, чтобы документы были в порядке.
Ледюк (Лебо и Монсо). Вы же сами знаете – немцы проникают в южную зону, они хватают евреев. Вам сказали, что вас погонят на убой…
Монсо (показывая на фон Берга). А почему они схватили его? Этого мне еще никто не объяснил.
Фон Берг. А мой выговор?..
Монсо. Дорогой князь, только идиот может не понять, что вы австриец из высшего общества. Я увидел, что вы аристократ, как только вы вошли.
Ледюк. Но если это простая проверка, зачем им снимать с нас штаны?
Монсо. У вас нет доказательств, что они это делают!
Ледюк. Хозяин кафе…
Монсо (сдерживая крик). Он подслушал разговор двух французских сыщиков – откуда им знать, что делается в Польше? А если там и творятся подобные вещи, это еще тоже ничего не значит. В Париже у меня в паспорте значилось, что я еврей, а я играл Сирано.
Фон Берг. Неужели? Сирано?
Лебо. Зачем же вы уехали из Парижа?
Монсо. Идиотская случайность. Я жил еще с одним актером. Он не еврей. И он все время меня уговаривал, чтобы я бежал. Но вы понимаете, от такой роли, как Сирано, не отказываются. И все-таки как-то ночью он меня напугал. Напомнил, что у меня есть запрещенные книги – ну, словом, коммунистическая литература, например, Синклер Льюис, Томас Манн и даже кое-что Фридриха Энгельса, одно время это было так модно читать. Я решил от них избавиться. Мы связали их в пачки, и, так как вход к нам был с улицы, мы по очереди выносили книги из дома и оставляли их на скамейках, в подъездах, где попало. Дело было после полуночи. Только я успел бросить пачку в сток возле Оперы, смотрю – в дверях напротив кто-то стоит и наблюдает за мной. И в тот же миг я сообразил, что на каждой книге написана моя фамилия и адрес.
Фон Берг. Ха! И что же вы сделали?
Монсо. Двинул прямо сюда, в неоккупированную зону. (Со стоном сожаления.) Но если бы я всего этого не затеял, я бы и сейчас работал!
Ледюк (с еще большей настойчивостью, но с глубочайшим сочувствием, к Монсо). Послушайте меня минутку, прошу вас. Дверь охраняет всего один человек, нам, может, никогда больше не представится такого случая!
Лебо. Да, и еще вот что: если бы все было так серьезно, как вы утверждаете, неужели они бы не выставили более надежной охраны? Понимаете, это ведь тоже о чем-то говорит.
Ледюк. Верно. О том, что они рассчитывают на нас.
Монсо. На нас?
Ледюк. Ну да, они рассчитывают, что мы припишем им свои собственные доводы. Ну хотя бы ваш довод, будто не слишком надежная охрана говорит о том, что делу не придают особой важности. Они полагаются на то, что наша логика парализует наши действия. Вы только что рассказали, как обошли Париж, оповещая всех, что владеете запрещенными книгами.
Монсо. Я же не нарочно!
Ледюк. А вот я догадываюсь, как это вышло. Вы больше не могли выносить напряжения этой жизни в Париже, но вам хотелось сохранить роль Сирано, и требовалось, чтобы вас вынудили спасать свою жизнь! Вас толкало подсознательное чувство самосохранения, понимаете? Нельзя ставить свою жизнь на карту, опираясь на трезвые доводы. Послушайтесь своей интуиции: вы должны чувствовать опасность…
Монсо (в крайней тревоге). Я играл в Германии. Мои зрители не могли жечь актеров в печи! (Обращаясь к фон Бергу.) Князь, вы-то не можете этому верить!
Фон Берг (помолчав). Я содержал небольшой оркестр. Когда в Австрию пришли немцы, трое из моих музыкантов хотели бежать. Я их убедил, что с ними ничего не случится, привез их к себе в замок: мы все жили вместе. Гобоисту было лет двадцать – двадцать один, сердце замирало, когда он брал некоторые ноты. Они пришли за ним в парк. Они вытащили его прямо из-за пюпитра. Гобой валялся на лужайке, как кость мертвеца. Я наводил справки, мальчика уже нет в живых. А что всего ужаснее – они пришли, сели и стали слушать, пока не кончилась репетиция. И тогда они его схватили. Как будто им хотелось прервать его жизнь в ту минуту, когда он был прекрасен. Я понимаю, что у вас на душе, но говорю вам: теперь не останавливаются ни перед чем. Все позволено. (В глазах его слезы, он оборачивается к Ледюку.) Прошу прощения, доктор.
Молчание.
Мальчик. А вас они отпустят?
Фон Берг (виновато взглянув на Мальчика). Думаю, что да. Если все это делается для того, чтобы ловить евреев, меня они отпустят.
Мальчик. Вы не возьмете это кольцо? Пожалуйста, отнесите его моей маме.
Протягивает ему кольцо. Фон Берг не решается его взять.
Дом девять по улице Шарло. Верхний этаж. Фамилия – Гирш. Сара Гирш. У нее длинные каштановые волосы. Смотрите, не отдайте кому-нибудь другому. Вот на этой щеке у нее такая маленькая родинка. В квартире живут еще две семьи, так что смотрите, отдайте именно ей.
Фон Берг не сводит глаз с лица Мальчика. Молчание. Потом он поворачивается к Ледюку.
Фон Берг. Хорошо. Скажите мне, что делать. Я попытаюсь вам помочь. Ну как, доктор?
Ледюк. Боюсь, что дело безнадежное.
Фон Берг. Почему?
Ледюк (смотрит в пространство, потом на Лебо). Он ослабел от голода, а мальчик легкий, как перышко. Я ведь хотел спастись, а не подставлять грудь под пулю. (Пауза. С горькой иронией.) Видите ли, я живу в деревне. И давно ни с кем не разговаривал. Меня, видно, подвели неверные представления.
Монсо. Если вы, доктор, намерены меня травить, бросьте.
Ледюк. Извините за вопрос: вы – верующий?
Монсо. Ничуть.
Ледюк. Тогда почему же у вас такая потребность отдать себя на заклание?
Монсо. Прошу вас, прекратите этот разговор.
Ледюк. Да вы же просто подносите им себя на блюдечке. Среди нас, не считая меня, вы единственный крепкий мужчина, и, однако, у вас нет желания шевельнуть даже пальцем. Я не понимаю вашего спокойствия.
Молчание.
Монсо. Я не желаю играть роль, которая не по мне. В наше время все хотят играть роль жертвы, люди ни на что не надеются, ноют, вечно ждут, что с ними случится беда. У меня есть документы, я их предъявлю уверенно, внушая всем своим видом, что с ними нельзя не считаться. По-моему, именно это спасло того дельца, которого выпустили. Вы обвиняете нас, что мы играем роль, навязанную нам немцами, а мне кажется, что это делаете вы один, идя на отчаянный поступок.
Ледюк. А если, несмотря на вашу уверенность, вас загонят в вагон для скота?
Монсо. Не думаю, чтобы они это сделали.
Ледюк. Ну, а если все-таки сделают? Ей-богу, у вас хватит воображения представить себе такую возможность.
Монсо. У меня будет то утешение, что я сделал все, что от меня зависело. Я знаю вкус неудачи, мне понадобилось много лет, прежде чем я пробился: у меня плохие данные для того, чтобы играть первые роли. Все говорили, что я сумасшедший и что мне надо бросить сцену. Но я продолжал играть и постепенно заставил всех поверить в меня.
Ледюк. Другими словами, вы собираетесь сыграть самого себя.
Монсо. Каждый актер играет самого себя.
Ледюк. А что будет, когда вам прикажут расстегнуть брюки?
Монсо в ярости молчит.
Что ж вы замолчали, мне так интересно. Как вы отнесетесь к такой просьбе?
Монсо молчит.
Поверьте, я просто хочу стать на вашу точку зрения. Для меня непостижима такая пассивность, поэтому я и спрашиваю, каково вам будет, когда они прикажут расстегнуть брюки. Я стараюсь быть объективным и подойти к вопросу научно – ведь я убежден, что меня убьют. Что вы почувствуете, когда они станут разглядывать, сделано ли вам обрезание?
Пауза.
Монсо. Я не желаю с вами разговаривать.
Лебо. А я вам скажу, что будет со мной. (Показывая на фон Берга.) Я захочу поменяться с ним местами.
Ледюк. Стать кем-то другим?
Лебо (бессильно). Да. Чтобы меня арестовали по ошибке. О господи! Увидеть, как у них проясняется лицо от сознания, что я ни в чем не виноват.
Ледюк. Значит, вы чувствуете себя виноватым?
Лебо (он теряет последние силы). Да, немножко. Не из-за того, что сделал… Сам не знаю почему.
Ледюк. Может быть, потому, что вы – еврей?
Лебо. Я не стыжусь того, что я еврей.
Ледюк. Почему же вы чувствуете себя виноватым?
Лебо. Не знаю. Может, потому, что они рассказывают про нас такие гадости, а ответить невозможно. А когда это длится годы и годы, то сам… Не скажу, что сам начинаешь верить, но… нет, немножко все-таки веришь! Смешно, я говорил родителям все, что вы говорите нам. Мы могли уехать в Америку за месяц до прихода немцев. Но они не хотели уезжать из Парижа. У нас была эта самая никелированная кровать, ковры, занавески, словом, всякий хлам. Вот как у этого типа с его Сирано. Я им говорил: «Вы же делаете именно то, чего они хотят!» Но люди не желают верить, что их могут убить. Только не их, с их никелированными кроватями, коврами и вот такими «внешними данными».
Ледюк. Но вы-то верите? Мне кажется, что и вы сами не верите.
Лебо. Верю. Меня утром схватили только потому, что я… Я всегда гуляю по утрам, прежде чем сесть за работу. Вот и сегодня мне захотелось, чтобы было как всегда. Я знал, что не должен выходить. Но ведь ужасно надоедает верить в правду. Надоедает видеть все, как оно есть.
Пауза.
Я всегда по утрам запасался иллюзиями. Я никогда не умел писать то, что вижу, я писал только то, что мог вообразить. И сегодня утром, какая бы ни грозила опасность, мне во что бы то ни стало надо было выйти, побродить, поглядеть хоть на что-нибудь, как оно есть, а не на то, что у меня в голове… и едва я свернул за угол, как этот сукин сын, этот ученый нелюдь вылез из машины и потянулся к моему носу…
Пауза.
Я, может, и умру. Но иногда так все надоедает…
Ледюк….что неплохо и умереть?
Лебо. Пожалуй, да.
Ледюк (оглядывая их всех). Стало быть, всех тех, кто обманывал себя или жил без всяких иллюзий, в расцвете сил или в минуту усталости, – всех приучали к мысли о смерти. И евреев и неевреев.
Монсо. Вы продолжаете меня травить. Если вы желаете покончить самоубийством, пожалуйста! Но не втягивайте в это других. В каждой стране существуют законы, и всякое правительство заставляет им подчиняться. Прошу вас учесть, что я не принимал участия во всех этих разговорах.
Ледюк (рассердившись). Не у всякого правительства есть законы, карающие людей за принадлежность к какой-то расе.
Монсо. Нет уж, извините. Русские карают буржуазию, англичане – индусов, негров – всех, кто попадется им под руку, а французы, итальянцы… во всех странах карают кого-нибудь за принадлежность к какой-то расе, даже американцы – посмотрите, что они делают с неграми. Огромное большинство людей карают за принадлежность к какой-то расе. Что же вы им всем советуете – покончить самоубийством?
Ледюк. А что им посоветуете вы?
Монсо (пытаясь убедить себя в своей правоте). Я считаю, что, если я уважаю законы, меня никто не тронет. Закон может мне не нравиться, но он явно нравится большинству, иначе его бы отменили. Я сейчас говорю о французах, их в этом городе больше, чем немцев, раз в пятьдесят! Полиция тут французская, а не немецкая, этого нельзя забывать. И если бы каким-нибудь чудом вам и удалось свалить часового, вы окажетесь в городе, где вам не поможет даже один из тысячи. И не потому, что вы еврей. А потому, что так устроен мир. И перестаньте оскорблять людей, толкая их на отчаянные поступки.
Ледюк. Короче говоря, раз в мире царит равнодушие, вы готовы спокойно, с достоинством ждать, пока вам прикажут снять штаны?
Монсо (в страхе и бешенстве встает). Хотите знать мое мнение? Я считаю, что все наши беды из-за таких, как вы! Из-за вас у евреев репутация бунтовщиков и скептиков, которые вечно ко всем придираются и всем недовольны.
Ледюк. Тогда я признаю свою ошибку: вы надписали свое имя на запрещенных книгах не для того, чтобы как-то оправдать свой отъезд из Парижа и спасти свою жизнь. Вы это сделали, чтобы вас схватили, прикончили и наконец-то избавили от мучений. Ваша душа полностью оккупирована противником.
Монсо. Если мы с вами еще встретимся, вы мне заплатите за эти слова!
Ледюк. Полностью оккупирована! (Опускает голову на руки.)
Мальчик (протягивает кольцо фон Бергу). Вы передадите? Улица Шарло, дом девять.
Фон Берг (с глубоким волнением). Постараюсь.
Берет кольцо. Мальчик сразу же встает.
Ледюк. Куда ты?
Мальчик очень напуган, но в приступе отчаяния он бросается на цыпочках в коридор и заглядывает за угол. Ледюк встает, хочет оттащить его назад.
Нельзя: это выйдет только втроем, не меньше…
Мальчик вырывается и бежит по коридору. Ледюк, мгновение поколебавшись, идет за ним.
Обожди! Обожди минуту! Я с тобой.
В дальнем конце коридора появляется Майор. Мальчик замирает. Ледюк уже рядом с ним. Секунду они стоят, глядя на Майора. Потом поворачиваются, возвращаются на место и садятся. Майор идет следом. Он дотрагивается до рукава Ледюка, и тот, встав, выходит с ним на авансцену.
Майор (возбужден выпивкой и взволнован). Это немыслимо. И не пытайтесь. На обоих углах часовые. (Взглянув на дверь кабинета.) Капитан, я бы хотел вам сказать… это так же непостижимо для меня, как и для вас. Можете мне поверить?
Ледюк. Я бы вам поверил, если бы вы застрелились. А еще больше, если бы вы прихватили кого-нибудь из них с собой.
Майор (отирая рот тыльной стороной руки). Но на их место завтра придут другие.
Ледюк. А мы все-таки выбрались бы отсюда живыми. Это вы можете сделать.
Майор. Вас все равно поймают.
Ледюк. Меня не поймают.
Майор (хихикая, как одержимый, но в то же время с любопытством). А по какому праву вы должны жить, а я нет?
Ледюк. Потому, что я не способен делать то, что делаете вы. Для людей лучше, чтобы жил я, а не вы.
Майор. И вас не трогает, что все это меня огорчает?
Ледюк. Не трогает. Разве что вы нас отсюда вызволите.
Майор. Ну, а потом? Что потом?
Ледюк. Я буду помнить, что встретил порядочного немца, благородного немца.
Майор. А это что-нибудь изменит?
Ледюк. Я вас буду любить, до самой смерти. Разве кто-нибудь сейчас питает к вам такое чувство?
Майор. А для вас это так уж важно – чтобы вас любили?
Ледюк. Чтобы я был достоин любви? Да. И уважения.
Майор. Поразительно. Вы ничего не понимаете! Всего этого больше не существует, неужели вы этого еще не поняли?
Ледюк. Во мне оно существует.
Майор (громче, в нем просыпается ярость). Личность больше не существует, вы что, не видите? Личности больше не будет никогда. Что мне из того, любите вы меня или нет? Вы, верно, не в своем уме! Что я, пес, почему меня надо любить? Ах вы (поворачиваясь ко всем) жиды проклятые!
Дверь отворяется, выходят Профессор и Капитан полиции.
Псы, жидовские псы! Смотрите на него (показывает на Старого еврея), как он сложил лапы. Смотрите, что будет, когда я на него цыкну. Пес! Даже не шевельнулся. Разве он шевельнулся? Вы видели, чтобы он шевельнулся? (Подходит к Профессору и берет его за руку.) А вот мы шевелимся, правда? Измеряем ваши носы, правда, господин профессор? Смотрим, что там у вас между ног. Мы-то шевелимся без отдыха!
Профессор (тянет его в кабинет). Майор!
Майор. Руки прочь, ты, штатское дерьмо!
Профессор. Я думаю…
Майор (вытаскивая револьвер). Молчать!
Профессор. Вы пьяны.
Майор стреляет в потолок. Арестованные замерли в ужасе.
Майор. Прекратить!
С револьвером в руке задумчиво подходит к скамейке и садится возле Лебо.
Все остановилось.
Руки его дрожат. Он шмыгает носом – у него насморк. Кладет ногу на ногу, чтобы они не дрожали, и смотрит на Ледюка, который продолжает стоять.
Теперь ты говори. Говори. Ты. Теперь все остановилось. Говори! Ну, давай!
Ледюк. Что мне вам сказать?
Майор. Скажи мне… разве может еще существовать личность? Вот я навел на тебя пистолет (показывая на Профессора), он навел пистолет на меня… а кто-то держит на мушке его… а того – кто-то еще. Ну, скажи.
Ледюк. Я вам сказал.
Майор. Я никому не расскажу. Я человек порядочный. Ладно? Никто не узнает, что ты мне советовал. Ну как, благородно с моей стороны, правда?.. Никому не рассказывать, что ты мне советовал.
Ледюк молчит. Майор встает, подходит к Ледюку. Пауза.
Вы ветеран войны?
Ледюк. Да.
Майор. За вами не числится подрывных действий против немецких властей?
Ледюк. Нет.
Майор. Если вас отпустят, а других оставят… вы откажетесь?
Ледюк делает движение, чтобы отвернуться. Майор тычет в него пистолетом, заставляя смотреть ему в лицо.
Откажетесь?
Ледюк. Нет.
Майор. И выйдете из этой двери со спокойной душой?
Ледюк (уставившись в пол). Не знаю. (Пытается затолкать дрожащие руки в карманы.)
Майор. Не прячьте руки. Я хочу понять, почему для людей лучше, чтобы жили вы, а не я. Почему вы прячете руки? Вы уйдете отсюда со спокойной душой, побежите к своей бабе, выпьете на радостях, что спасли шкуру? Чем вы лучше других?
Ледюк. Я не обязан приносить себя в жертву вашим садистским наклонностям.
Майор. А я обязан? Чужим садистским наклонностям? Приносить себя в жертву? Я обязан, а вы нет? Приносить себя в жертву.
Ледюк (смотрит на Профессора и Капитана полиции. Потом переводит взгляд на Майора). Мне нечего вам на это ответить.
Майор. Вот так-то лучше.
Он вдруг чуть не по-дружески толкает в бок Ледюка и смеется. Прячет пистолет; пошатываясь, оборачивается к Профессору и победно кричит:
Следующий!
Толкнув Профессора, входит в кабинет. Лебо сидит, не двигаясь.
Профессор. Сюда.
Лебо встает, как во сне, и направляется сперва в коридор, потом поворачивается и входит в кабинет. Профессор идет за ним следом.
Капитан (Ледюку). На место.
Ледюк возвращается на место. Капитан входит в кабинет; дверь затворяется. Пауза.
Монсо. Ну как, довольны? Рады, что довели его до белого каления? Довольны?
Дверь отворяется, выходит Капитан, делает знак Монсо.
Капитан. Следующий.
Монсо сразу же поднимается, вынимает из кармана пиджака документы, изображает на лице улыбку и, изящно выпрямившись, подходит к Капитану, отвешивает ему легкий поклон и весело произносит:
Монсо. Доброе утро, капитан!
Входит в кабинет. Капитан – за ним, притворяя дверь. Пауза.
Мальчик. Улица Шарло. Дом номер девять. Пожалуйста.
Фон Берг. Я ей передам.
Мальчик. Я несовершеннолетний. Мне еще нет пятнадцати. Несовершеннолетних это тоже касается?
Капитан отворяет дверь, делает знак Мальчику.
Мальчик (вставая). Я несовершеннолетний. Мне только в феврале пятнадцать.
Капитан. Входи!
Мальчик (останавливаясь возле Капитана). Я могу принести метрику.
Капитан (вталкивая его в дверь). Иди. Иди.
Они уходят. Дверь затворяется. Из соседнего дома снова доносятся звуки аккордеона. Старый еврей начинает мерно раскачиваться, тихонько напевая молитву. Фон Берг смотрит на него, машинально потирая щеку дрожащей рукой, потом оборачивается к Ледюку. Теперь их осталось только трое.
Фон Берг. Он понимает, что происходит?
Ледюк (резковато, с раздражением). Настолько, насколько это вообще можно понять.
Фон Берг. Кажется, что он взирает на все откуда-то с другой планеты.
Короткая пауза.
Жаль, что мы не встретились при иных обстоятельствах. Мне о многом хотелось бы вас расспросить.
Ледюк (торопливо, предчувствуя, что его скоро вызовут). Я был бы вам очень признателен, если бы вы оказали мне услугу.
Фон Берг. С радостью.
Ледюк. Сходите к моей жене и сообщите ей, хорошо?
Фон Берг. Где она?
Ледюк. Два километра на север по Главному шоссе. Слева увидите лесок и проселок. По проселку еще с километр, до реки. Идите вдоль реки до небольшой мельницы. Они в сарае за мельничным колесом.
Фон Берг (печально). И… что ей сказать?
Ледюк. Что меня арестовали. И не исключено, что меня… (Прерывая себя.) Нет, скажите ей правду.
Фон Берг (с испугом). Какую правду?
Ледюк. Насчет печей. Скажите ей все.
Фон Берг. Но ведь на самом деле… это только слухи?
Ледюк (повернувшись к нему, резко). Я не считаю, что это только слухи. Об этом должны все знать. Я никогда раньше об этом не слыхал. Об этом все обязаны знать. Вы только отведите ее в сторону – не надо при детях, – но ей вы скажите.
Фон Берг. Вот это мне будет трудно. Разве можно сказать женщине такую вещь?
Ледюк. Но если такие вещи происходят, значит, можно найти для них и слова…
Фон Берг (колеблется, он чувствует раздражение Ледюка). Хорошо. Я скажу. Беда только в том, что я как-то стесняюсь… с дамами. Но я сделаю все, что вы просите. (Пауза. Он бросает взгляд на закрытую дверь.) Они что-то долго занимаются этим мальчиком. Может, он действительно слишком молод, как вы думаете?
Ледюк не отвечает. У фон Берга вдруг появляется надежда.
Они ведь педанты и не любят нарушать правила. В сущности, при таком недостатке врачей, вам не кажется, что они… (Умолкает.) Простите, если я сказал что-то для вас обидное.
Ледюк (стараясь побороть злость). Ерунда.
Короткая пауза. Его голос дрожит от гнева.
Зря вы цепляетесь за последние клочки надежды – мне тяжело это слышать.
Фон Берг. Понимаю. Простите. Вы правы.
Пауза. Ледюк поглядывает на дверь; он в таком возбуждении, что не может сидеть.
Давайте поговорим о чем-нибудь постороннем. Вы любите… музыку?
Ледюк (отчаянно стараясь сдержать себя). Да, все очень просто. Все дело в том, что вы-то останетесь жить.
Фон Берг. Но я в этом не виноват, правда?
Ледюк. Тем хуже! Простите. Иногда теряешь над собой власть.
Фон Берг. Доктор, поверьте… мне будет нелегко отсюда выйти. Вы меня не знаете.
Ледюк (удерживается от ответа. Помолчав). Боюсь, это будет трудно только потому, что это так легко.
Фон Берг. По-моему, вы несправедливы.
Ледюк. Ей-богу, это не имеет значения.
Фон Берг. Нет, имеет. Я… вы знаете… в Австрии я был очень недалек от самоубийства. В сущности, потому я и уехал. Когда они убили моего музыканта… и не только это… И потом, когда я рассказал эту историю кое-кому из моих знакомых, они пропустили ее мимо ушей. Вот что было еще страшнее! Вам понятно такое безразличие?
Ледюк (он вот-вот взорвется). У вас странные представления о человеческой натуре. Поразительно, как вам удается их сохранять в наши дни.
Фон Берг (приложив руку к сердцу). Но что у человека останется, если он отбросит свои идеалы? Чем же тогда жить?
Ледюк. Вы о ком говорите? О себе? Или обо мне?
Фон Берг. Ради бога, простите… Понимаю…
Ледюк. Лучше бы вы замолчали. Я не могу ничего слышать.
Короткая пауза.
Извините. Спасибо за сочувствие.
Короткая пауза.
Может, я вижу все слишком отчетливо, но я знаю, какая страсть к насилию владеет этими людьми. Трудно вынести, когда пытаются что-то смягчить, даже из самых лучших побуждений!
Фон Берг. Я не хотел ничего смягчать.
Ледюк. Думаю, что хотели. Как же иначе? Вы ведь останетесь жить, вам придется смягчать – хотя бы немножко, чуть-чуть. Вас это нисколько не порочит.
Короткая пауза.
Но как раз это и приводит меня в ярость. Ведь все наши страдания так бессмысленны, они никому не послужат уроком, из них никто не сделает выводов. И все будет повторяться опять и опять, до скончания века.
Фон Берг. Потому что страдания нельзя разделить?
Ледюк. Да. Их нельзя разделить. Они впустую, все эти муки совершенно впустую…
Он внезапно наклоняется вперед, стараясь пересилить свой страх. Бросает взгляд на дверь.
Странно, оказывается, можно испытывать даже нетерпение.
Стонет, удивленно мотая головой, злясь на себя.
Ух! Какие же они гады!
Фон Берг (как близкому человеку). Теперь вы понимаете, понимаете, почему я уехал из Вены? Они умеют сделать смерть соблазнительной. Это их самый большой грех.
Ледюк. Знаете что… Не говорите моей жене про печи.
Фон Берг. Вот спасибо, у меня стало легче на душе. Право же, какой смысл…
Ледюк (с еще большей мукой). Нет, дело в том… дело в том, видите ли, меня не должны были схватить. У нас прекрасное убежище. Они бы никогда нас не нашли. Но у жены заболел зуб, открылся нерв, и я пошел искать лекарство. Просто скажите ей, что меня арестовали.
Фон Берг. А у нее есть деньги?
Ледюк. Если хотите, можете ей помочь. Спасибо.
Фон Берг. А дети маленькие?
Ледюк. Два и три года.
Фон Берг. Какой ужас. Какой ужас… (Бросает яростный взгляд на закрытую дверь.) Как вы думаете, а если ему что-нибудь предложить? Я могу достать много денег. Я так плохо разбираюсь в людях… Вдруг он идеалист? Это его еще больше обозлит.
Ледюк. Попробуйте прощупать его. Не знаю, право, что вам посоветовать.
Фон Берг. Теперь так все сместилось: мечтаешь, чтобы тебе встретился циник и взяточник.
Ледюк. Ничего удивительного. Мы теперь знаем цену идеализму.
Фон Берг. И все же – мечтать о мире без идеалов?.. Как это тяжело – когда не знаешь, чего хотеть.
Ледюк (зло). Я ведь все понимал, когда шел в город, понимал, как это бессмысленно! Из-за какой-то зубной боли! Ну и что, пусть не поспала бы недельку-другую! Ведь мне было ясно, что нельзя идти на такой риск.
Фон Берг. Да, но когда любишь…
Ледюк. Мы уже больше не любим друг друга, просто трудно расстаться в такое время.
Фон Берг. Какой ужас.
Ледюк (понизив голос, словно ему пришла в голову новая мысль). Послушайте… насчет печей… ничего ей не говорите. Ни слова, прошу вас. (С презрением к себе.) Господи, в такую минуту думать о том, чтобы ей отомстить. Какие мы ничтожества! (Пошатнулся от отчаяния.)
Пауза. Фон Берг оборачивается к Ледюку. На глазах у него слезы.
Фон Берг. Неужели ничего нельзя сделать? Неужели ничем нельзя вам помочь?
Ледюк (вдруг накидываясь на него). Ну что вы можете сделать? Извините меня, но какого черта зря болтать языком?
Дверь отворяется. Выходит Профессор и делает знак Старому еврею. У Профессора недовольный вид, может быть, его разозлил какой-то спор там, в кабинете.
Профессор. Следующий!
Старый еврей не оборачивается.
Вы меня слышите? Чего ж вы сидите?
Быстро подходит к Старому еврею и резко поднимает его на ноги. Старик нагибается, чтобы взять свой узел, но Профессор толкает узел ногой.
Брось!
С тихим, нечленораздельным криком Старый еврей цепляется за свой узел.
Брось!
Профессор бьет Старого еврея по руке, но тот только крепче цепляется за свое имущество, тихонько вскрикивая без слов. Профессор тянет у него из рук узел. На шум выходит Капитан полиции.
Брось, говорят тебе!
Узел рвется, из него поднимается облако белых перьев. На миг все замирают – Профессор с изумлением смотрит, как по воздуху летают перья. Потом они оседают на пол. В дверях появляется Майор.
Капитан. Пошли.
Капитан и Профессор поднимают Старого еврея и тащат его мимо Майора в кабинет. Майор мертвым взглядом следит за оседающим облаком перьев, потом, хромая, входит в кабинет, закрывает за собой дверь. Ледюк и фон Берг смотрят на оседающие перья, стряхивают их с себя. Ледюк снимает последнее перо со своего пиджачка и, растопырив пальцы, следит, как оно падает на пол. Молчание. Внезапно из кабинета доносится взрыв смеха.
Фон Берг (с огромным трудом, не глядя на Ледюка). Я бы очень хотел расстаться с вами по-дружески. Это возможно?
Молчание.
Ледюк. Князь, профессия врача приучает смотреть на себя со стороны. Ведь я злюсь не на вас. Где-то в глубине души я злюсь даже не на этого фашиста. Я злюсь на то, что родился прежде, чем человек познал себя, прежде чем он понял, что он существо неразумное, что в нем сидит убийца, что все его принципы – это только скудный налог, который он платит за право ненавидеть и убивать с чистой совестью. Я злюсь потому, что, зная это, я всю жизнь себя обманывал, потому что не сумел впитать в себя это знание и открыть истину другим.
Фон Берг (сердится, несмотря на волнение). Нет, доктор, есть настоящие принципы. На свете есть люди, которым легче умереть, чем запачкать хотя бы палец в чужой крови. Такие люди есть. Клянусь вам. Люди, которым не все позволено, глупые люди, беспомощные, но они есть, и они не обесчестят свой род. (С отчаянием.) Я прошу вас удостоить меня своей дружбой.
Снова из кабинета доносится смех. На этот раз он громче. Ледюк поворачивается к фон Бергу.
Ледюк. Я обязан сказать вам правду, князь. Сейчас вы мне не поверите, но я хотел бы, чтобы вы подумали о том, что я вам скажу, и о том, что это значит. Мне еще никогда не попадался пациент, у которого где-то глубоко, на дне души, не таилась бы неприязнь, а то и ненависть к евреям.
Фон Берг (зажимая пальцами уши, вскакивает). Что вы говорите! Это неправда, у меня этого нет!
Ледюк (встает, подходит к нему, с пронзительной жалостью). Пока вы этого не поймете, вы не поверите и в зверства. Для того чтобы как-то понять, что ты собой представляешь, надо помнить, что ты, вольно или невольно, всегда отделяешь себя от других. А евреи – это другие, это – имя, которое мы даем другим, чью муку мы не можем разделить, чья смерть оставляет нас холодными и равнодушными. У каждого человека есть свой изгой – и у евреев есть свои евреи. И теперь, теперь, как никогда, вам надо понять, что и у вас есть такой человек, чья смерть заставляет вас вздохнуть с облегчением, потому что умирает он, а не вы. Да, несмотря на всю вашу порядочность. И вот почему все будет так и никогда не будет по-иному, пока вы не почувствуете, что вы в ответе за все… в ответе за всех людей.
Фон Берг. Я отвергаю ваше обвинение, я категорически его отвергаю. Я никогда в жизни не сказал ни единого слова против вашего народа. Вы ведь в этом меня обвиняете? В том, что и я несу ответственность за эти чудовищные злодеяния! Но я приставил пистолет к своему виску! К своему виску!
Слышится хохот.
Ледюк (безнадежно). Простите, все это не имеет никакого значения.
Фон Берг. Для меня имеет, и еще как! И еще как!
Ледюк (ровным голосом, полным глубочайшей горести, в котором, однако, звучит смертельный ужас). Князь, вы спросили меня, знаю ли я вашего двоюродного брата, барона Кесслера?
Во взгляде фон Берга возникает тревога.
Барон Кесслер – фашист. Он помог выгнать всех еврейских врачей из медицинского института.
Фон Берг потрясен, он отводит глаза.
Неужели вы ничего об этом не знали?
Из кабинета доносится почти истерический хохот.
Неужели вам об этом не рассказывали, а?
Фон Берг (убито). Да. Я слышал об этом. Я… об этом забыл. Он ведь…
Ледюк….ваш двоюродный брат. Понятно.
Между ними возникла полная близость, и Ледюк жалеет князя не меньше, чем себя, несмотря на всю свою ярость.
Ну да, для вас это только одна сторона натуры барона Кесслера. А для меня он в этом весь. Вы произнесли его имя с любовью, и я не сомневаюсь, что он, наверно, незлой человек, у вас с ним много общего. Но когда я слышу это имя, я вижу нож. Теперь вам понятно, почему я сказал, что все это зря и всегда будет зря, если даже вы не можете поставить себя на мое место? Даже вы! И вот почему меня не трогают ваши мысли о самоубийстве. Я требую от вас не чувства вины, а чувства ответственности, может быть, это бы помогло. Если б вы поняли, что барон Кесслер в какой-то мере, в какой-то малой, пусть ничтожной, но чудовищной мере исполнял вашу волю, тогда вы могли бы что-то сделать. С вашим влиянием, с вашим именем, с вашей порядочностью… Тогда вы могли бы чего-то добиться, а не просто пустить себе пулю в лоб.
Фон Берг (вне себя от ужаса кричит, подняв вверх лицо). Что же может нас спасти? (Закрывает лицо руками.)
Дверь отворяется. Входит Профессор.
Профессор (делая знак князю). Следующий.
Фон Берг не оборачивается, он не сводит с Ледюка молящего, полного ужаса взгляда. Профессор подходит к нему.
Пойдемте.
Профессор наклоняется, чтобы взять фон Берга за руку. Фон Берг зло отбрасывает его ненавистную руку.
Фон Берг. Hande weg![1]
Профессор, опешив, убирает руку и на мгновение пасует, почувствовав чужую силу. Фон Берг оборачивается к Ледюку, который, подняв на него глаза, ласково ему улыбается и отворачивается.
Фон Берг идет к двери и, доставая из внутреннего кармана бумажник с документами, входит в кабинет. Профессор идет за ним, закрывает дверь. Оставшись один, Ледюк сидит неподвижно. Потом он начинает метаться, как зверь, попавший в капкан: он с трудом глотает слюну. Потом снова замирает и, вытянув голову, заглядывает за угол коридора, где стоит часовой. Какое-то его движение опять поднимает в воздух облако перьев. Снаружи слышен аккордеон. Ледюк сердито стряхивает с ноги перо. Наконец он принимает решение: быстро сует руку в карман, достает складной нож, обнажает лезвие, поднимается на ноги и направляется в коридор. Дверь отворяется, выходит Фон Берг. У него в руке белый пропуск. Дверь за ним закрывается. Князь смотрит на пропуск, проходя мимо Ледюка, вдруг поворачивается, возвращается, сует пропуск Ледюку в руку.
Фон Берг (каким-то странно сердитым шепотом, жестом показывая на выход). Возьмите! Ступайте!
Фон Берг быстро садится на скамью, вынимает обручальное кольцо. Ледюк пристально смотрит на него, на лице его ужас. Фон Берг отдает ему кольцо.
Улица Шарло, дом девять. Идите.
Ледюк (сдавленным шепотом). А что будет с вами?
Фон Берг (сердито машет ему). Идите, идите!
Ледюк пятится, руки его сами тянутся к лицу, он сознает свою вину и хочет спрятать глаза.
Ледюк (с мольбой). Я вас не просил! Вы не обязаны делать это ради меня!
Фон Берг. Скорей!
Ледюк с широко открытыми от ужаса и восхищения глазами быстро поворачивается и идет по коридору. Услышав шаги, появляется Полицейский. Ледюк отдает Полицейскому пропуск и исчезает. Долгая пауза. Дверь отворяется, выходит Профессор.
Профессор. Сле… (Обрывает на полуслове, озирается, фон Бергу.) Где ваш пропуск?
Фон Берг смотрит в пустоту. Профессор кричит в открытую дверь кабинета.
Бежал! (Бросается по коридору с криком.) Один бежал! Бежал!
Из кабинета появляется Капитан полиции. Снаружи слышны голоса, выкрикивающие команды. Аккордеон смолкает.
Хромая, выходит Майор.
Мимо него пробегает Капитан.
Капитан. Кто?! (Взглянув на фон Берга, он все понимает и бежит по коридору с криком.) Кто его выпустил? Поймать! Как это случилось?
Рев сирены заглушает голоса. Майор идет в коридор, догоняя Капитана. Останавливается. Теперь слышен только рев сирены, который постепенно стихает, по мере того как удаляется погоня за беглецом. Слышно быстрое, взволнованное дыхание Майора, сердитое, недоверчивое дыхание. Он медленно оборачивается к фон Бергу, который все так же неподвижен и смотрит в пустоту. Потом фон Берг поворачивается и поднимает на него глаза. Встает. Молчание длится и длится. На лице Майора застывает выражение тревоги и ярости, он сжимает кулаки. Так они и стоят, навеки непостижимые друг для друга, и смотрят друг другу в глаза. В конце коридора появляются четверо новых людей, четверо новых арестованных. Их гонят сыщики. Арестованные входят и садятся на скамью, озирая потолок, стены, перья на полу и этих двоих людей, которые так непонятно вглядываются друг в друга.