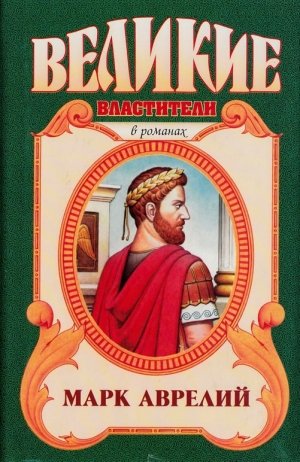
Марк Аврелий Антонин, философ на троне…
Как всякий в меру необразованный человек, я слышал о знаменитом самодержце, касательно знаком с его биографией. Он правил крепкой рукой, дни предназначал трудам, ночи размышлениям. Воевал и большей частью побеждал, строил, терпел, преодолевал, мирился, нередко горевал – семеро из тринадцати его детей умерли в раннем возрасте, – страдал о скончавшейся жене, о которой в Риме говорили, что не счесть гладиаторов и матросов, побывавших в ее спальне. С тоской и ожиданием самого худшего император всматривался в своего старшего сына, наследника престола Коммода. Порой говаривал, что Калигула, Нерон, Домициан – цветочки. Когда Коммод придет к власти, поспеют ягодки…
Все как у людей.
На старости лет мучился от бессонницы, досаждала язва желудка, но, говорят, умер от чумы. Когда хотелось потрапезничать с друзьями, порассуждать о царстве логоса или всемирного разума, о вечном одухотворяющем дыхании, связующем мир; о счастье, которое не может являться целью, но образом жизни – неподъемным тяглом наваливались государственные дела. К тому же друзья чаще всего оставались в Риме, а он по большей части находился на границе, стараясь остановить год от года набиравшие силу нашествия варваров.
Бывало, наткнувшись на корешок, я брал с полки тонкую, широкого формата книгу, вышедшую в серии «Литературные памятники», перелистывал страницы. Для нашего времени звучало необычно – «Размышления»[1].
Написано тёмно, кучей; чтобы вникнуть в смысл, необходимо посидеть, подумать.
Когда?
И много ли толку в размышлениях?
Я наразмышлял уже несколько романов, и ни единого отклика. Словно терпящий кораблекрушение, единственный, оставшийся в живых на борту мореплаватель швыряю бутылки с записками в бушующий океан без всякой надежды быть спасенным или услышанным. Так, вероятно, случается с каждым из нас: порой остаться наедине с собой худшая пытка, какую способен выдумать космос.
В один из таких моментов взял книгу с полки.
Тогда и родилось недоумение – о чем может размышлять римский император, тем более «наедине с собой»? Отчего императору не спится, что ищет он в мудрости греческих старцев? Зачем, на ночь глядя, читает Зенона, Хрисиппа, Эпиктета? Или Диогена Синопского[2]{1}, который из любви к людям не считал зазорным прилюдно помочиться на площади или там же облегчить желудок?
Что привлекало Марка в нравоучениях Сократа и Сенеки? И насколько прав такой разумный и образованный человек, как Эрнест Ренан, когда спустя почти две тысячи лет после смерти Марка с нескрываемой горечью написал следующие строки: «Все мы, сколько нас ни есть, все мы носим в сердце траур по Марку, как если бы он умер только вчера. С ним властвовала философия. Благодаря ему мир хотя бы минуту находился под управлением лучшего и величайшего человека своего времени. Важно, что этот опыт был сделан. Повторится ли он еще раз? Будет ли новейшая философия властвовать в свой черед, как властвовала философия античная? Будет ли у нее свой Марк Аврелий?»
Я усомнился – не слишком ли? Теперь, окончив роман, беру на себя смелость утверждать – это еще слабо сказано! Ренан много не договорил, но и того, что теперь известно об этом удивительном человеке, вполне достаточно, чтобы воспламенить наши сердца.
Хотелось бы добавить, что предлагаемую книгу вряд ли можно назвать жизнеописанием в точном смысле слова – это скорее сколок времени, попытка познакомить читателя не только с «философом на троне», но и с окружавшими его людьми, чьи судьбы протянулись далее 17 марта 180 года – дня, когда скончался Марк Аврелий.
Часть I. Труды и дни
Истинный закон – это правильный разум, согласный с природой, обнимающий всю вселенную, неизменный, вечный… Мы не можем ни противостоять этому закону, ни изменить его. Мы не в силах его уничтожить. Никаким законотворчеством мы не можем освободиться от обязательств, налагаемым им на нас, и нам не нужно искать других его толкователей кроме самих себя…
Тот, кто не подчиняется ему, отрицает самого себя и свою природу.
Цицерон
Если есть тебе дело до самого себя…
Марк Аврелий
Мудрым мы назовем человека, сознающего пределы своей силы, разума и страстей.
Автор
Глава 1
«Так что же – сел, поплыл, приехал, вылезай?..»
Разом осветились полотняные стены, слева от входа вдруг очертилось пропитанное дробным светом ярко-золотистое, с примесью багрянца, пятно.
Марк оторвал взгляд от пергамента, некоторое время с оцепенелым недоумением разглядывал неожиданный источник света, затем словно проснулся и повернул голову в сторону раздвинутого полога императорского шатра.
Наступило утро, за Данувием[3] взошло солнце. Стоял июль, была жара. Духота досаждала даже по ночам, и только близость реки и дубовые рощи, среди которых был разбит военный лагерь, сбивали зной, навевали прохладу.
В летнем лагере, расположенном в нескольких милях от великой реки, неподалеку от истерзанного за четыре года войны города Карнунта, голосисто перекликались петухи, редко взлаивали собаки. Издали доносились команды, отрывистые, иногда пронзительные. С дымком долетел запах варева, от него навернулись слюнки. Приказать, чтобы принесли похлебку на пробу? Как отнесется к подобной дегустации Клавдий Гален, личный врач императора? Впрочем, Марк голода не испытывал. Хвала богам, что больше не досаждал желудок, в последнее время испытывающий его терпение страшными болями.
Он задул свечи. Приказ не тревожить ночью, когда он занимался своими записями, никто не нарушил – значит, пока все спокойно. На этот счет император дал четкие указания – если появится что-нибудь новенькое о варварах, сообщать немедленно, не мешкать. Выходит, можно передохнуть. Если смилостивится Гипнос – поспать.
Император поднялся, крепко, до хруста в локтях потянулся, прошелся по образованной нависавшими полотняными стенами зале, затем направился в отделенную пурпурными занавесями спальню. Глянул на спальника Феодота – будить не стал. Разделся сам, лег на походную кровать, закинул руки за голову, прислушался к мирному, трудолюбивому, приятному для слуха пению птиц, зевнул. Сколько еще продлится тишина?
Пятый год тянулась война, позади уже четыре труднейших кампаний. Нашествие началось в январе 166 года, когда после окончания победоносной Парфянской войны шесть тысяч германцев – лангобардов и убиев переправились по льду через Дунай и вторглись в пределы империи. С той зимы пошло-поехало. Весной на правом берегу Данувия появились сарматы или, как их еще называли, языги. Уже на следующий год случилось неслыханное – маркоманы и квады, около сотни лет соблюдавшие мир с Римом, утверждавшие в Вечном городе своих царей, внезапно перешли Данувий по льду и вторглись в пределы северо-восточных провинций. За ними хлынули наристы, свевы, лакринги, буры, виктуалы, озы, бессы, бастарны, аланы.
Словно плотину прорвало!
Орды германцев дошли до Аквилеи[4] – город в Сев. Италии неподалеку от современной Венеции), еще немного – и они прорвались бы на полуостров в направлении Вероны. При этом варвары без конца вопили о мире, требовали мира, а также земель, на которых они могли бы расселиться. Готовы были даже признать власть императора, однако грабежи, погромы и частые военные стычки в провинциях не прекращались.
В том же году Фракия и Македония подверглись нападению костобоков, разгромивших в Карпатах пограничные крепости и долиной реки Олт двинувшихся на юг. На третье лето они добрались до Греции, где сожгли построенное еще при Перикле святилище Деметры.
В лето 168 года в Риме началась паника, появились предсказатели, обещавшие городу горе и кровь. Некий одержимый на Марсовом поле смущал жителей Рима злонамеренными речами. Взобравшись на фиговое дерево, лжепророк принялся кричать, что если он, свалившись с дерева, превратится в аиста, наступит конец света и граждане пожалеют, что появились на свет в такую жуткую пору. Действительно, свалился и выпустил спрятанную за пазухой птицу, чем навел такой страх на присутствовавших гражданок, что те с воплями бросились врассыпную. Пришлось пристрастно допросить мошенника. Тот сознался, что ему страсть как хотелось покруче заварить кашу. «Когда же грабить, как не во время смуты!» – простодушно заявил он.
В те дни Марк, только что с победой вышедший из многотрудной парфянской войны, не знал, за что схватиться. Все навалилось одновременно: война с германцами, моровая язва (чума), напавшая на Италию, смута в Британии и Африке.
Теперь, спустя четыре года, ему удалось устранить непосредственную угрозу Италии, однако Марк чувствовал, что варвары еще не истощили силы. Маркоманов смирили, царь Балломарий и вожди других десяти племен явились к Марку просить мира, но старые знакомцы – квады – племя дикое, отжимаемое к Данувию какими-то готами и вандалами, наседавшими на них с севера, – вновь повели себя дерзко.
Об этом свидетельствовала наглость, с какой квады выгнали назначенного им Римом правителя и провозгласили царем давнего врага Рима Ариогеза. Глупцы – ведь они сами обратились к императору с просьбой назначить им правителя!
Теперь метнулись в другую сторону?
Осмелели?!
Или, может, поддались на угрозы северных племен – лангобардов, готов и вандалов, требовавших не только пропустить их к римским, ухоженным и обильным добычей территориям, но и принять участие в набеге, который на этот раз, уверяли сородичи с севера, обязательно приведет к успеху. При таком перевесе в силах, прикинул Марк, эти надежды были далеко не беспочвенны.
Лазутчики и верные люди среди племенной знати, особенно среди дружественных Риму племен, сообщали, что вожди и старейшины германцев на тайном сходе где-то в верховьях Альбиса (Эльбы) и Виадуа (Одры) впервые сумели договориться об объединении усилий. Это решение одобрили жрецы. К племенному союзу тайно примкнули только что подписавшие мир маркоманы. По-видимому, северные варвары – готы, свевы, вандалы, – постепенно и все более решительно выдавливающие приграничные племена из мест их обитания, сумели принудить их изменить данному Риму слову. К союзу присоединились сарматы, галлы, славянские дружины. Число воинов оценивалось лазутчиками во много десятков тысяч человек. Германцы и славяне за эти годы заметно расплодились, появилось много буйной молодежи. Сход решил, что пора остановить цезаря. Если удастся – разгромить, тогда они по-другому поговорят с Римом, прикрывшимся Данувием и угрожающе нависавшим над всеми родственными племенами вплоть до самого Свейского моря[5].
Пятый год натягивалась струна, но сейчас, в звонкую утреннюю пору, хотелось спать. Задумываться о делах не хотелось. Не дайте боги явиться секретарю Александру Платонику – тогда не отвяжешься, не поспишь. Придется приступить к просмотру присланных с императорскими гонцами донесений, заняться приемом посетителей, которые не поленились добраться до границы, чтобы лично обратиться к принцепсу со своими ходатайствами, – и день можно считать потерянным. И времени было жаль, и душевной невозмутимости, обретенной ночью, и непреклонности, так необходимой в преддверии летней кампании, тем более, когда ходы противника предугаданы, подготовлен план, осуществление которого позволило бы на долгие годы обеспечить империи спокойствие и мир.
Был в этом показном утреннем пренебрежении делами и личный мотив – вчерашнее письмо от зятя Тиберия Клавдия Помпеяна, управлявшего Римом в отсутствии императора.
Родственник отважился посоветовать тестю оставить армию на полководцев Авидия Кассия и Пертинакса, вернуться в город и лишить языков кое-кого из сенаторов и прочих «необразованных злопыхателей, которых полным-полно развелось в Риме». Недруги, писал Помпеян, смеют утверждать, что «принцепс пренебрегает государственными делами и занимается исключительно философией».
Так заткни им глотки, возмутился император. Или смелости не хватает?
Далее в письме сообщалось, что в Риме уже забыли о страхах трехлетней давности, по городу гуляет шутка, мол, с легкой руки правителя в городе развелось столько философов, что простому человеку и поср… негде.
Прочитав письмо Марк, некоторое время сидел в раздумье. В Риме по-прежнему много клеветы, сколько ни делай добра, все мало. Помпеян не понимает, что именно здесь, на берегах Данувия, решается судьба города. Здесь собраны лучшие легионы империи: в главном лагере три легиона, в расположенном в восьми милях ближе к Карнунту – один, а также конница, союзнические отряды. Еще два полностью укомплектованных легиона стояли лагерем неподалеку от пограничной крепости Аквинк[6].
И в такой момент Помпеян предлагает оставить войска?! Бросить все и отправиться в Рим разбираться с сенаторскими дрязгами. То есть исполнять его обязанности! Но как быть с предощущением итога гигантской работы, проделанной армией и всей государственной машиной? Где еще находиться правителю, как не в гуще событий?
По привычке захотелось подобрать точное определение нахлынувшей обиде. Самые близкие люди сетуют на скрытность, холодность в ответных письмах. Они не желают понять, что тайну стратегического замысла нельзя доверять пергаменту. Кто убедил Помпеяна, что принцепс обязан каждый шаг согласовывать с друзьями, доверить другим взвешивать, насколько добродетелен тот или иной его поступок? Разве это не работа для самого себя?
Неужели ему, опытному полководцу, сумевшему в самый трудный момент отогнать варваров от Аквилеи, не хватило мужества и воли противостоять чужому влиянию? Неужели он запел с чужого голоса? Неужели оказался настолько робок? Не по этой ли причине друзья и соратники Марка настойчиво советовали ему усыновить Помпеяна и провозгласить его цезарем?
От этой догадки стало совсем горько.
Солнце наконец беспрепятственно заглянуло в шатер. Кашлянул стоявший на страже страж.
Мир вовсю полнился звуками – заливались птицы, стрекотали кузнечики, ветерок звучно хлопал императорским штандартом, натянутым на поперечной штакетине. Теперь и света хватало, чтобы разглядеть на стоявшем у изголовья столике приготовленное с вечера лекарственное питье – Гален настаивал на своевременном его употреблении.
Надо так надо. Мелкими глотками он осушил бронзовый кубок, аккуратно поставил его на прежнее место. Ножка, коснувшись резным боком края металлического зеркала, звякнула. Император замер, глаза наполнились слезами. Не удержался, звякнул еще раз и еще. Вспомнил материнский голос. Домиция Луцилла всегда стояла с полотенцем в руках, когда маленький Марк умывался, подставляя ладошки под струю, сливаемую рабом из медного кувшина.
– Марк, осторожней. Не плескайся… – говорила Домиция.
Много чего говорила мать – не носись сломя голову, сохраняй достоинство, сиди прямо, спину не гни. Случалось, шлепала по рукам, когда Марк начинал почесывать голову возле висков. Не привыкай к дурному…
Была бы его воля, он ни капельки не расплескал, только бы услышать ее голос, увидеть ее. Теперь он не носится, как угорелый, сидит прямо, ведет себя достойно. Правда, виски иногда почесывает, но, мама, это так приятно. Где ты теперь пребываешь? В каком круговороте первостихий? Омывает ли тебя одухотворяющая пневма? Помнишь ли ты, раздробленная на атомы, о своем сыне или забыла о нем, и в новом сочетании элементов уже ничто не напоминает о прежнем воплощении?
Марк почесал правый висок, затем левый, задумался. Должно быть, так и есть, и его мать, конечно, не помнит о нем, как не помнит умчавшийся солнечный луч о породившем его светоносном светиле, как не помнит травинка о семечке, из которого потянулась вверх. Это знание круговорота атомов, как убедительно доказали древние, должно доставлять радость. Они утверждают, что познавшему истину, имеющему понятие, как устроен космос, умирать легко. Такой человек без всякого страха ожидает приближение смерти. В этом вопросе основоположники, можно считать, разобрались до тонкостей.
Страх смерти, считай, одолели.
Но как справиться с ужасом жизни? С ежедневным неумолимым тяглом? Как быть с советом друзей назначить наследником Помпеяна. Это означало погубить родного сына, пусть даже он по молодости лет не испытывает интереса к философии, а слова «благо», «добродетельное, постыдное, безразличное» для него пустой звук. Или у него от рождения искривлено ведущее? Как поступить с Клавдием Помпеяном, оказавшимся игрушкой в руках людей, свихнувшихся на философии? Или прикидывающихся философами? Чем пропитана просьба лишить сына наследства? Только ли заботой о государстве, об общем благе, о чем они с таким жаром рассуждали в молодости.
Что теперь более всего заботит друзей? Добродетельный образ жизни или страх, что при Коммоде тот отставит их от управления сенатом?
Припомнились друзья – их лица поплыли перед умственным взором. Цинна Катул, руководитель сената в его отсутствие, груб и неуклюж. Квинтилий всегда подпевал ему, даже в детстве, как, впрочем, и учивший Марка латинской риторике старик Марк Корнелий Фронтон. Старик умница, оратор, однако страдает неумеренным подобострастием, Герод Аттик – гордыней. Квинт Юний Рустик отличался скоропалительностью в решениях и превосходящей все пределы жестокостью. Все друзья детства, соратники, учителя. Участники «заговора разумных», как во хмелю они иногда именовали себя. Последователи Зенона, Хрисиппа, Диогена, Эпиктета. Приверженцы знания, утверждавшие, что жить по природе – значит жить добродетельно.
Марк задумался – неужели постыдное в душах обладает большей силой, чем разум? Только не осуждать, пристыдил себя Марк! Если тревожит что-нибудь, вторгающееся извне, – не спеши, оглядись, постарайся узнать что-нибудь новенькое, полезное. Остерегайся и другой крайности – ведь глупец и тот, кто до изнеможения заполнил жизнь суетой и деяниями, а цели, куда направить устремление, не имеет. Брось вертеться волчком. Всегда помни о том, какова природа целого и какова моя и как они согласуются, а еще что нет никого, кто запрещал бы тебе и делать, и говорить сообразно природе, частью которой являешься.
Марк вздохнул – складно получается, убедительно.
Но почему же сердце сжала неуместная, неразумная скорбь. Сколько он помнит себя, эта постыдная страсть всегда была поблизости.
С того самого момент, когда он ощутил, будто оказался в лодке…
Поплыл по жизни…
Марк Аврелий закинул руки за голову, задумался, когда же он в первый раз осознал, что уже в лодке?
Точно, это случилось утром. Он запомнил запах материнского молока и много-много света. В полгода он уже различал формы предметов, лица родных, игрушки. Или начал догадываться, что различает? Отец запечатлелся в памяти отчетливо, тот умер, когда сыну исполнилось девять лет. От него ему достались скромность и мужество. И отсвет славы…
На этом глаза смежились, однако до конца провалиться в сон не сумел, так и затерялся в полудреме, когда чувствуешь, что в постели, что ворочаешься, а умственному взору мерещится нечто отрывисто-давнее, родное, незабываемое…
Накатило видение – изображенный на мозаике Александр Македонский поражает врагов копьем. Персы бегут, напор греков неодолим, Дарий вскинул руки, взывает к небесам. Эта знаменитая картина была выложена на вилле Тибур, расположенной в окрестностях Рима по Валериевой дороге.
Сколько ему тогда было лет? Чуть больше шести. Марк накрепко запомнил тот день, когда ему впервые довелось побывать в знаменитом загородном поместье, увидеть императора Адриана, где славный принцепс[7] проживал все то время, что находился в городе. После бесчисленных просьб внука дед Анний Вер махнул рукой и согласился взять мальчика с собой в Тибур.
Императорскую виллу называли восьмым чудом света, а еще сокровищницей, где можно поглазеть на все рукотворные и нерукотворные чудеса, известные в пределах обитаемого мира. Были здесь и уменьшенные копии египетских пирамид и фессалийские Темпы[8], родосский колосс и алтарь Зевса, что в Пергаме. Построены Лабиринт и подземное царство – владение мрачного Аида, а также воссоздана часть дворца царя Вавилона Навуходоносора. Место было священное, историческое – в этом парадном зале, в Вавилоне, четыре века назад был установлен помост, на котором покоилось тело умершего от простуды Александра Македонского, и вся армия, воин за воином, прошла мимо постамента. На противоположной стене и располагалась знаменитая мозаика, изобразившая переломный момент битвы на Иссе. Исполинское изображение занимало всю противоположную стену. Чтобы разом охватить ее взглядом, Марк начал пятиться, пока не уперся в какое-то препятствие. Не заметил, как поднажал, и в следующее мгновение мельком приметил прекрасную вазу из молочно-белого, просвечивающего алебастра, грациозно и замедлено, падающую на каменные плиты.
Даже теперь по прошествии стольких лет Марк ощутил мерзкий, перехвативший дыхание страх и томительное, и унизительное ожидание расплаты. Дед предупреждал, Адриан – поклонник прекрасного, знаток изготовленных древними и нынешними мастерами статуй, картин, сооружений. «Сначала любуйся, – предупредил он внука, – потом получишь право задавать вопросы. Они должны доказать, что ты обладаешь вкусом. Но помни, настоящий римлянин никогда не склонит головы ни перед изваянием, ни перед прекрасной мозаикой, ни перед красавчиком рабом».
В следующее мгновение молодой, изящного телосложения раб бросился собирать осколки. На сына римского патриция, неуверенно отступавшего в тень каменного быка, он старался не смотреть.
Дыхание перехватило, когда на двор в сопровождении своего вольноотпущенника и секретаря Целера, дедушки Анния Вера и сенатора Тита Антонина ступил император Адриан. Вот что накрепко запомнилось Марку – изящество, с каким принцепс носил расшитую пурпуром и пальмовыми метелками тогу. Был он бородат, и эта густая растительность на подбородке окончательно сразили Марка. Надежда оставила его.
Адриан не спеша подошел к рабу. Тот замер, головы не поднял.
– Зачем ты тронул ее? – ласково спросил император. – Разве ты не знаешь, что в одиночку здесь ни к чему нельзя прикасаться. Ты будешь наказан.
– Господин… – не поднимая головы, судорожно выдохнул раб.
– Говори, – кивнул император, – если тебе есть что сказать в свое оправдание.
– Господин… – с той же тоской повторил раб.
– Целер, займись, – коротко распорядился Адриан и большим пальцем правой руки ткнул в землю. Затем император обратился к Аннию Веру. – Где же твой внук, Анний?
Марк вышел из тени и неожиданно бурно зарыдал. Приблизился. Взрослые с любопытством, а Адриан с некоторой брезгливостью, глянули на него. Зрелище скривившегося, кусающего губы мальчишки трудно было назвать прекрасным.
– Повелитель, – торопливо, пытаясь совладать с голосом, заявил мальчик, – раб не виноват. Это я разбил вазу.
Наконец Марку удалось справиться со слезами. Брезгливость на лице Адриана сменилась удивлением. Также поспешая, чтобы вновь не расплакаться, Марк добавил:
– Повелитель, ты обязан пощадить его, – мальчик ткнул пальцем в поднявшего голову раба и добавил: – И наказать меня, как того требует закон.
Марк большим пальцем правой руки потыкал в каменные плиты, которыми был выложен двор.
Адриан оглушительно расхохотался. Его поддержал Целер и Антонин, даже дед, до той поры оторопело следивший за внуком, выдавил улыбку. Император присел на корточки, взял мальчика за плечо.
– Во-первых, племянник[9], повелитель никому и ничем не обязан, – объяснил он. – Во-вторых, императору не к лицу выносить поспешные решения. Прежде всего, ему необходимо научиться всегда докапываться до истины – это его первейшая обязанность. Если в расследовании проступка обнаружились новые обстоятельства, принцепс имеет право взять свое слово назад. Посему я прощаю тебя.
Адриан с некоторым усилием выпрямился, осмелевший Марк глянул на него.
– Когда станешь правителем, – усмехнулся император, – вспомни, первый урок, как следует властвовать, преподал тебе Адриан.
– Но я не хочу быть правителем. Я люблю играть в мяч, люблю смотреть, как дерутся перепела.
Адриан пожал плечами.
– Быть или не быть правителем, сие от нас не зависит. Задумайся, племянник, каково мне было стать императором после божественного Траяна? Что касается перепелов? – император поиграл бровями. – Это пустое… Я знаю воспитателя, который быстро отучит тебя от подобных глупостей.
После встречи на вилле о Марке заговорили. Адриан назвал его не Вер, но Вериссим[10], и среди римлян покатилась шутка: «В такие годы, а уже вериссим! Что же с ним дальше будет?» Кто-то из проницательных остроумцев добавлял при этом: «А с нами?»
Через неделю по распоряжению Адриана Марку было даровано право получить коня от государства. Следом к мальчику был приставлен наставник из греков. Звали его Диогнет, по профессии он был художник. Тоже по-варварски бородат, кутался в хламиду, был несуетен и немногословен. Диогнет сразу сразил Марка неверием в колдунов, заклинателей, изгонятелей злых духов, отвращением к гладиаторским боям и убийству на арене римских цирков диких животных, а также равнодушием к разведению боевых перепелов.
– Стоит ли, – спросил Диогнет ученика, – заставлять птиц биться друг с другом, когда в их природе кормиться в поле и высиживать птенцов? Что касается гладиаторов, скажу так – если уж сражаться, то за что-то более ценное, чем за приз или премию.
– Что же тогда представляет наибольшую ценность? – заинтересовался Марк. – Я так понимаю, что это и не богатство, и не слава?
– Ты правильно понял, – одобрительно кивнул грек. – Наибольшая ценность – это ты сам. О ком же еще заботиться человеку, как не о самом себе?
– Как же мне заботиться о самом себе? – спросил Марк.
– О, это целая наука! – выговорил Диогнет с каким-то даже восхищением. – О том рассуждали великие мудрецы, такие, как Зенон, Клеанф, Хрисипп и, конечно, Эпиктет.
– С чего же начинается эта удивительная наука? – нетерпеливо воскликнул мальчик.
– С того, чтобы научиться довольствоваться необходимым. Спать на грубом ложе, на звериной шкуре и покрываться звериной шкурой. Этого вполне достаточно для здорового сна. Попробуй несколько дней питаться самой дешевой пищей, носить самую грубую одежду, потом сам удивишься: «Так вот чего я боялся?» Потерпи всего лишь три или четыре дня, но так, чтобы это не казалось тебе забавой. В полной мере проникнись муками тех, кто вынужден жить подобным образом. Тогда, поверь, Марк, ты убедишься, что можешь спокойно насытиться на гроши. Ты поймешь, что для обретения счастья не нужна удача, а для спокойствия – поддержка судьбы.
То, что требуется для удовлетворения необходимого, судьба дает, даже не глядя в твою сторону. Только не воображай, будто при этом ты совершаешь что-то героическое. Так живут тысячи и тысячи рабов, бедняков, крестьян и подмастерьев. Взгляни на это с той точки зрения, что ты делаешь это добровольно, и тебе будет также легко терпеть это постоянно. Ты спокойнее будешь жить в богатстве, если будешь знать, что вовсе не так уж тяжко существовать в бедности.
– Значит, ты будешь лишать меня сладкого, гонять по ночам в походы, как поступал наставник Александра из Македонии?
– Леонид заботился о воспитании будущего царя, а не мальчика по имени Александр. Я не буду лишать тебя сладкого, я вообще постараюсь не лишать тебя приятного и полезного, однако овладеть этой наукой можешь только ты сам, и применить ее только ты сам.
В императорском шатре неожиданно потемнело – видно, солнце добралось до кроны столетнего дуба, оставленного в одном из углов лагерного форума (на нем была устроена наблюдательная вышка и поставлены зеркала для связи с заставами, спрятанными на берегу реки).
Император смежил веки и заснул.
Глава 2
В полдень его разбудил Феодот. Потрепал по руке. Марк мгновенно открыл глаза, вопросительно глянул на спальника.
– Тихо, – коротко сообщил раб. – Септимий Север прислал посыльного. Все тихо. И на том берегу, и на этом.
– Отлично, – кивнул Марк. – Что еще?
– Александр с докладом и полученной ночью корреспонденцией. Просители…
Пока Марк умывался, твердил про себя – встречусь с суетным, неблагодарным, дерзким. С хитрюгой, скрягой, наглецом. Все это произошло с ними по неведению добра и зла.
После некоторой паузы, оглядев себя в металлическое зеркало и погрозив пальцем, уже вслух назидательно добавил:
– О том всегда помнить, какова природа целого и какова моя, и как они согласуются.
Он повернулся к Феодоту, державшему полотенце.
– Заруби себе на носу, что в космосе нет такой силы, которая запрещала бы тебе поступать и говорить сообразно природе, чьей частью ты являешься.
Он помахал указательным пальцем у того перед носом, с размеренной, занудливой назидательностью грамматиста[11] продолжил.
– Всякий час помышляй, Феодот, о том, чтобы с римской твердостью, любовно, надежно, справедливо, благородно, отрешившись от всех прочих побуждений, выполнять то, что тебе доверено.
Феодот вздохнул, с тоской глянул в сторону.
– Я не римлянин, господин, я – грязный гречишка.
Принцепс пожал плечами.
– Это же ваша мудрость, Феодот.
– Это мудрость свободных, господин. Я же раб.
– Я не держу тебя.
– Куда я пойду? Рядом с вами спокойнее.
– В завещании я освобожу тебя, получишь кое-что на обзаведение.
– У нас в Беотии говорят: не кличь смерть, она сама тебя найдет. А вам следует пожить подольше. Я подожду со своей свободой… – Феодот сделал паузу, затем, заметно поколебавшись, спросил: – Господин, вот вы все пишете и пишете по ночам. Это помогает? Может, лучше женщину пригласить, она хотя бы согреет, ублажит. Полюбитесь, поболтаете, все легче на душе станет. А то вы все с собой да с собой… как-то не по-человечески.
– А как по-человечески? Помнишь, одно время я тебя домогался? Ты, молоденький, красавчик был. Это по-человечески?
– А и взяли бы меня в любовники, какой спрос! Правда, кое-кто говорит, что это грех. За такие штучки, мол, гореть вам и мне в Аиде.
– Ты тоже поверил в сказки распятого галилеянина?
– Нет, господин. С вами поведешься, во всем начнешь ведущее да необходимое усматривать, велениям мирового разума подчиняться, – он на мгновение задумался, потом вздохнул. – А вдруг и в самом деле в Аид попадешь? Страшно.
– Страшно губить себя пагубными страстями. Страшно отвращаться от своего ведущего. Страшна вера во всяких шарлатанов. Страшно работать спустя рукава.
Феодот покивал.
– Ну да, ну да…
С утра император решил не тревожить желудок, того гляди, объявят тревогу. На завтрак, по обычаю германцев, выпил прокисшего молока, закусил черствым хлебом. Феодот предупредил – все очень вкусно, сам пробовал. Император полакомился медком – в этом не мог себе отказать, любил сладкое. Съел немного – Феодот прямо из-под носа унес кувшин с медом. Марк Аврелий с вожделением глянул кувшину вслед.
Когда раб убрал грязную посуду, принцепс принялся за дела.
Для начала просмотрел корреспонденцию.
Первым лежал отчет воспитателей наследника. Воспитатель Коммода доносил о небрежении, которое выказал сын к наукам, о его «лукавстве» и «дерзком нежелании признаваться в совершенных проступках». Наказание розгами переносит терпеливо, при этом бормочет что-то про себя и угрожает воинам из преторианской когорты, призванным внушить наследнику уважение к наукам и ученым, отрубить головы. Особыми способностями отличается в тех занятиях, которые не соответствуют положению императора, например, с удовольствием лепит чаши, танцует, поет, свистит, прикидывается шутом. Целыми днями играет в охотника, причем пуляет в придворных настоящими боевыми стрелами, правда, с тупыми наконечниками. Недавно в Центумцеллах обнаружил признаки жестокости. Когда его мыли в слишком горячей воде, он велел бросить банщика в печь. Тогда его дядька, которому было приказано выполнить это, сжег в печи баранью шкуру, чтобы зловонным запахом гари доказать, что наказание приведено в исполнение.
Марк в сердцах помянул секретаря – ничего не скажешь, хитер Александр. Неспроста положил сверху именно это письмо…
В следующем послании, запечатанном личной печатью, префекта города[12] Ауфидий Викторин сообщал, что Рим встревожен страшной трагедией. Несколько дней назад претор Г. Ламия Сильван по невыясненным причинам выбросил из окна жену Галерию и, доставленный дядей несчастной Цивикой Барбаром во дворец, принялся сбивчиво объяснять, что он крепко спал и ничего не видел и что его жена умертвила себя по собственной воле. Ауфидий немедленно отправился к Сильвану в дом и осмотрел спальню, в которой сохранялись следы борьбы, доказывавшие, что Галерия была сброшена вниз насильно. Префект предложил Цивике отложить рассмотрение дела до приезда императора, на что вышеуказанный патриций с досадой заявил, что римлянам никогда не дождаться приезда принцепса и, следовательно, справедливого суда. С того дня преклонный годами проконсул и первый крикун в сенате заявляет во всеуслышание, что Рим брошен на произвол судьбы, а отъявленные преступники, прикрываясь приверженностью к философии, уходят от заслуженного наказания.
Далее префект спрашивал, не пора ли применить в отношении Цивики Lex Cornelia, то есть закон об оскорблении величества, которым часто пользовался Домициан. Казалось, в эпоху царствования божественных Траяна, Адриана и Антонина Пия, о нем позабыли, но суровая реальность требует унять злоязычных. Он, Ауфидий, ни в коем случае не призывает обращаться к постыдным методам явных и тайных доносов, но поведение Цивики становится вызывающим, что опасно для сохранения общественного спокойствия. Не пора ли напомнить злоумышленникам, разжигающим страсти, кто есть подлинный властитель в городе и мире? Не пора ли поставить на место тех, кто не желает следовать воле императора, определившего в наследники своего сына, храброго Коммода?
К этому же письму было прикреплено донесение императорского вольноотпущенника Агаклита, руководившего канцелярией, а также тайной службой императора. В его обязанности входило собирать сведения обо всем, что происходило в Риме. В донесении сообщалось, что накануне трагического происшествия Галерия рассорилась со своей младшей сводной сестрой, императрицей Фаустиной. Супруга императора обвинила сестру в потакании проискам Фабии, сестры умершего три года назад соправителя цезаря Луция Вера. В чем именно состояла причина скандала, выяснить не удалось. Далее было приписано, «проведенное расследование подтвердило, что Ламия Сильван в тот вечер впал в безумие. По словам домашних рабов, он обвинил жену в предосудительной связи с неким бывшим гладиатором, после чего, не сумев совладать со страстью, набросился на жену и вышвырнул ее в окно». Многие считают виновницей происшествия императрицу, но также винят и Фабию, пытавшуюся добиться от недалекой и завистливой Галерии какого-то важного признания.
Последняя фраза привлекла особое внимание Марка. Какое признание имел в виду Агаклит?
Что творится в Риме?!
Еще раз перечитал письмо префекта города. Итак, Ауфидий тоже ввязался в борьбу и, как явствует из его оценки событий, на стороне Коммода. Неужели противостояние уже дошло до таких пределов, что Ауфидий не побоялся открыто высказать свою точку зрения?
Он закрыл глаза, досадливо подумал, что Цинна, со своей стороны, Ауфидий – со своей, осторожными намеками и хитрыми уловками пытаются выяснить, какова его позиция по этому вопросу, и не имеет ли император тайных замыслов, способных возвысить одну партию и низвергнуть другую. Усмехнулся – почему намеками и уловками? Цинна напрямик требует выполнить пожелания друзей и устранить Коммода. Ауфидий, со своей стороны, предостерегает от подобной меры и даже грозит разгулом страстей в городе. Удивительно, каждому из них доподлинно известно, какого мнения по вопросу о наследнике придерживается принцепс, и все равно с решимостью безумцев они стараются повернуть дело в свою пользу. Боги, на что я сейчас употребляю свою душу? Вот беда так беда, как же справиться с ней? Поможет ли, если всякий раз доискиваться, что скрыто от моего ведущего в той доле души, которая уязвлена поступками других и которая желает освободиться от тягот? И вообще чья у меня в этот миг душа – не ребенка ли? А может подростка? Или женщины, тирана, скота, зверя?
Спокойно, брат!
Так, кажется, в трудную минуту выражается центурион Фрукт. Если будешь действовать, следуя устремлениям разума, всегда отыщешь ответ.
Его, императора Марка Аврелия, место здесь, на границе, по крайней мере до окончания летней кампании. Природа вещей, о которой так многоречиво рассуждал Лукреций, тем более ведущее, свойственное императору, прямой разум, требуют, чтобы наследником трона был назначен Коммод. Марк не смог сдержать улыбку – вот и рассудил.
На этом остановимся, этого будем держаться.
Что там еще?
Один из эдилов[13] Рима сообщал, что в городе во время цирковых представлений участились случаи падения мальчиков-канатоходцев. При этом несколько раз рыболовные сети, по распоряжению принцепса растягиваемые под канатами, разрывались, и циркачи падали на плиты мостовых. На последнем представлении канатоходец восьми лет от роду прорвал сеть и упал на парапет, ограждавший водозаборный водоем. Мальчишку спасти не удалось. Эдил предлагал в особо опасных местах подкладывать под сеть подушки. Эта мера была проверена и доказала свою надежность. Хозяевам цирков вменено в обязанность использовать подушки во время выступлений канатоходцев, чтобы исключить несчастные случаи, которые то и дело случались в Риме, причем количество подушек и места их размещения должно быть согласовано с надзирающим за цирковыми зрелищами.
Марк задумался – толковый малый этот эдил. Что ж, если с помощью подушек можно надежно защитить циркачей, исполняющих опасные трюки на канатах, он охотно издаст соответствующий указ. Что же касается смотрителей дорог, о мздоимстве которых докладывал префект Рима, придется дать прокураторам распоряжение наказывать лично либо отсылать в столицу тех, кто требовал с кого-то что бы то ни было сверх установленного.
Сообщалось об очередном побоище на прошедших в городе гладиаторских боях, устроенном пармулариями и скутариями[14].
Итог – восемь убитых, несколько десятков раненых.
Далее сводка донесений фрументариев[15] о грязных делишках, которыми не брезговали заниматься его прокураторы. К сводке был приложен список умерших за этот год богатых людей, отписывавших свое имущество в пользу императора. Список был длинный, лизоблюдов в Риме и провинциях хватало. Начертал резолюцию, чтобы его чиновники оспорили завещания и добились передачи имущества ближайшим родственникам умерших. Склонным же к подхалимству покойникам мраморных или бронзовых статуй на форумах не ставить, пусть остаются в безвестности.
В последнюю очередь Александр Платоник представил список записанных на сегодня просителей. Марк бегло просмотрел его. Так, первой супруга всадника Бебия Корнелия Лонга с просьбой об устройстве сына в армию. Боги мои, боги!.. Это же сын того самого Бебия, с которым мы в детстве бегали смотреть на дерущихся перепелов. Мой добрый Бебий, в юности поклонник Эпиктета и Диогена, а позже фанатик, свихнувшийся на поклонении какому-то шарлатану, распятому в Иеросалиме во времена Тиберия. Он поверил, что можно найти так называемое спасение от порочных страстей и поступков или, как называли их невежды, грехов – в любви к ближнему.
Сколько раз Марк предлагал Бебию послужить городу, утвердить славу своих предков – все напрасно. Когда разошлись их дороги? Лет пятнадцать назад, вскоре после первого консульства Марка Аврелия.
Ни о ком из своих друзей детства Марк не сожалел более чем о Бебии Лонге. После трогательного до слез разрыва, когда все сказано, а уважением и любовью еще полна душа, после короткого прощания, во время которого Марк попытался еще раз обратить свой взор к деяниям предков, исполнить долг римлянина и отца, ведь у него в ту пору родился сын, – тот подался на север Италии, где осел в какой-то колонии, кажется, в Медиолане[16]. Ушел из города вместе с неким Юстином, имеющим вес в этой секте. Тоже давний знакомец. Ныне, после того как консул Квинт Юний Рустик казнил новоявленного проповедника за дерзость и отказ принести жертву божественному Августу, его прозвали Юстином Мучеником.
Узнав о приговоре, тем более о незамедлительном приведение его в исполнение, Марк сурово выговорил Рустику, ведь Юстин был прежде известен им как восторженный поклонник Платона. Если человек ударился в почитание распятого бродяги, это не повод сводить с ним счеты и выказывать кровожадность. Казнь была неуместной, нелепой. Принцепс не мог скрыть негодования, он тут же отстранил Рустика от исполнения консульских обязанностей.
К удивлению Марка, сторонники просвещения, всемерной пропаганды философического взгляда на жизнь, защитники республиканских свобод, расцвет которых под властью мудрого, сведущего в умении жить правителя, был ими вычислен задолго до принципата Антонинов; поборники разумного отношения к жизни, поклонники Диогена и Эпиктета, почитатели Тразеи Пета и Гельвидия Приска{2} – одним словом, члены «партии философов», в ту пору крепко державшие в руках управление Римом и провинциями, все как один встали на защиту Квинта Рустика.
В те дни Цинна Катул, Фабий Максим, Квинтилий посмели открыто заявить Марку, чтобы тот был осторожнее в обращении со своими испытанными соратниками, строго придерживался общей линии и был безжалостен в борьбе с невежеством и суевериями. Эта зараза, утверждали соратники, это так называемое христианство, облаченное в «некие мистические одежды», уже проникло в ряды тех, кто управляет миром. Время ли сейчас церемониться?
Когда же Марк напомнил им о гонениях на философов во времена небезызвестного Домициана, друзья с негодованием отвергли это дерзкое утверждение. Верить – пожалуйста, заявил Цинна, но поклоняться они обязаны богам, составившим славу и величие Рима и в первую очередь божественным императорам. В их честь совершать обряды.
Была во всей этой сумятице, какая-то неразвитость основных понятий, смешение хрена с редькой. Драчка получилась хорошенькая.
Марк тогда уступил по всем пунктам…
Но об этом после.
Сейчас хотелось взглянуть на Матидию, супругу Лонга, ни разу не упрекнувшую мужа за то, что тот подался в бродяги, все эти годы хранившую ему верность, ведущую хозяйство и даже, как сообщали соглядатаи, время от времени посылавшую мужу в провинции небольшие денежные суммы.
Кто там следующие по списку? Ага, два вольноотпущенника, всадник с просьбой дать ему подряд на поставки продовольствия в армию.
Зевс, горе мне, горе! В списке обнаружилось имя Витразина. И сюда, наглец, добрался. Не чересчур ли? Бывший гладиатор отличался особым коварством и помпезной храбростью, из пожертвований и наградных он подкармливал огромную толпу своих приверженцев. Стоило их любимцу начинать одерживать верх, фанаты тут же, не жалея голосов, принимались кричать: «Добей его, Витразин! Снеси ему голову, Витразин! Выпусти кишки!..» Они тыкали пальцами в землю, громко требуя смерти проигравшего. Когда же Витразин оказывался в трудном положении, болельщики орали: «Пощаду Витразину! Пусть лучший из бойцов здравствует! Мы любим тебя, Витразин!»
Теперь этот вольноотпущенник, в конце правления Антонина Пия пожалованный гражданством, осмеливается претендовать – что там претендовать, требовать! – должность члена государственной комиссии, подчиненной претору и занимавшейся охраной порядка в городе. Ни больше ни меньше! Должность мало того что почетная, но и придающую ее обладателю отсвет авторитета государства и надежду на более высокую магистратуру, дело только за деньгами. Не пройдет и десятка лет, и может случиться так, что этот громила Витразин окажется в сенате.
В крайнем случае в сенат попадет его наследник, о котором в городе ходили самые недобрые слухи. Удручал и тот факт, что сын Витразина считался закадычным дружком Коммода. Может, поэтому Витразин и распоясался?
Сначала бывший гладиатор пытался действовать тихо, не привлекая к своим домогательствам общественный интерес. Первой за него попросила жена Марка Фаустина.
Так, между делом…
Император тогда не ответил и только вечером строго выговорил супруге. Сообщил, что любит ее и не желает прислушиваться ко всяким грязным слухам, которые ходят о жене принцепса. Однако Фаустине следует учесть, что жена цезаря должна быть выше подозрений, и всякий, даже самый нелепейший намек на связь жены с этим безжалостным убийцей, очень огорчит его. Не императора, но человека!..
Фаустина растрогалась, расплакалась, принялась уверять – как он мог такое подумать!! Она обожает супруга, можно сказать, боготворит его!.. Затем притащила девочек и маленького еще Коммода. Марк замахал на жену руками и приказал прекратить этот постыдный спектакль. Ночью признался, что верит ей.
Получив отпор, Витразин ринулся напролом. Он начал добиваться аудиенции у принцепса, тратил огромные суммы на устройство зрелищ для плебса, однако прошлые делишки, слишком хорошо известные в городе, его оскорбительные попытки подменить народный суд над побежденными наглостью и криками подкупленной клаки, не позволяли гражданам раскрыть ему сердца. На устраиваемые Витразином общественные трапезы и раздачи продовольствия сбегалось чуть ли не полгорода, однако, получив паек, люди тут же запевали:
Витразин, сколько денежек выманил ты у богатых вдовиц?
Столько же, сколько бесчестно срезал голов.
Марк тогда еще поинтересовался у своего вольноотпущенника Агаклита, ответственного за настроения в городе – бесчестно или бессчетно? Тот ответил, что именно бесчестно, что выглядело удивительно, если принять во внимание бесстыдство римской толпы, ее грубость и любовь к кровавым развлечениям.
Марк показал секретарю восковую дощечку со списком.
– Проси.
Дождавшись, когда Александр выйдет из шатра, император поднялся и двинулся навстречу Матидии, намереваясь встретить ее у порога. Сделал пару шагов и едва не столкнулся с поспешно вбежавшим в шатер мужчиной огромного роста, плечистым, раздавшимся в поясе, с исковерканным лицом и умело всклоченным, беспорядочно завитым париком. Посетитель без капли смущения вскинул руку и с шибающим в уши африканским акцентом, почти завопил.
– Аве, Цезарь! Аве, великий! – и попытался встать на колени.
Марк отвернулся и неторопливо направился к столу. Когда сел и обернулся, Витразин продолжал стоять – видно, решил, что проявленного пафоса вполне достаточно, а может, решил воспользоваться коленопреклонением в более удобный момент? Правая рука его была по-прежнему вскинута, однако теперь его поза выражала непременное желание произнести речь – правая нога чуть выдвинута вперед, рука вскинута, как и подобает прилежному ученику, прошедшему курс ораторского искусства. Посетитель был наряжен в хламиду, поверх которой в глаза бросался поношенный плащ – ни дать ни взять, истинный философ, озабоченный исключительно тем, чтобы ежеминутно постигать суть добродетелей… В глазах ужас и боль за народное дело, с какими Цицерон обличал Катилину. Казалось, еще мгновение и полотняные стены шатра содрогнутся, услышав знаменитое: «Доколе, о, Катилина, ты будешь смущать своими дерзостями римский народ?»
Марк почесал висок, вопросительно глянул на застывшего у входа, растерявшегося секретаря. Тот пожал плечами и вышел из палатки. Император вздохнул, развалился в кресле, закинул ногу на ногу и, прищурившись, спросил громоздкого посетителя:
– Чего ты добиваешься, Витразин?
– Милости императора, его доверия и любви. Хочу припасть к его мудрости и обрести истину.
– А конкретней?
– Великий цезарь, испытай меня. Доверь доказать, что общественное благо я ставлю выше своего личного, малюсенького и недостойного счастьица. Я докажу, что не приемлю прежний постыдный образ жизни. Разум мой прозрел, сердце содрогнулось, из глаз хлынули очистительные слезы. Теперь у меня нет иных стремлений, кроме желания обрести мудрость и прикоснуться к истине.
– То есть ты требуешь должность в составе коллегии?
– О, как ты мудр, проницательный. Твой орлиный взор…
– Не слишком ли, – перебил его Марк, – для человека, который плюет на список просителей, врывается первым, оставляя за порогом женщину благородного сословия, двух всадников и почтенного купца. Пусть даже он и нарядился бродячим философом.
– Но мое дело не терпит отлагательства! – искренне возмутился Витразин. – Это не моя прихоть – весь Рим упрашивает меня добиваться должности. И Цинна, и Квинтилий, и Клавдий Помпеян. Твой зять даже обнял меня на прощание. Расставаясь, он не мог сдержать слез и постоянно твердил – кто кроме тебя, Витразин, способен помочь римским гражданам? Поспеши к мудрейшему, припади к его стопам, умоляй и раскаивайся. Вот я сломя голову и помчался сюда, ведь скоро выборы членов коллегии надзора за порядком в городе и исполнением приговоров. Великий август, поверь, никто лучше меня не сумеет обеспечить спокойствие граждан и проследить, чтобы никому не было повадно позорить твое имя. Клянусь, государственной казне это не будет стоить ни единого асса!
– Насколько мне известно коллегия под началом претора укомплектована полностью, – удивился Марк.
– О, август, неужели тебе не доложили, что избранный членом коллегии Ламия Сильван выбросил из окна жену Галерию и теперь находится под следствием?
– И ты поспешил ко мне, чтобы занять освободившееся место? А ты подумал о том, что стоит мне удовлетворить твою просьбу, и в тот же день народ заговорит – Витразину, мол, удалось обвести «философа» вокруг пальца. Или, что еще хуже, купить себе должность. Какой же мне будет прибыток, если к моему имени начнут пристегивать твое. Дурная слава, что сопровождает тебя, ляжет и на меня.
– Стоит ли обращать внимание на болтовню тех, кто живет на подачки?
– Но именно эти люди столько раз спасали тебе жизнь.
Витразин рухнул на колени.
– Господин!..
Марк отметил про себя, что Витразин хорошо отрепетировал свое выступление – момент действительно был трагический! – и спокойным голосом поправил его:
– Не называй меня господином. Мой титул тебе известен – принцепс, первый в сенате, император и народный трибун. Есть другие позволительные титулы, например август или цезарь. Можешь использовать любое обращение.
– Великий цезарь, враги донимают меня. Клеветники не дают проходу, кое-кто грозится привлечь меня к суду. Если ты окажешь мне милость, у тебя не будет более верного слуги. Я многое знаю.
– Не стоит опускаться до грязных намеков, Витразин. Ты не ведаешь, что творишь, но я не виню тебя. Ты просто заблуждаешься, ищешь не там, где потерял. У тебя есть средства – я же не спрашиваю, каким образом ты их добыл?
Ты энергичен, хваток. Займись чем-нибудь полезным, помоги тем, кто рядом с тобой, кто нуждается в помощи. Для этого не надо быть членом какой-либо коллегии.
– Но, обладая должностью, я смогу оказать помощь куда большему количеству людей. Император, у меня сердце кипит, когда я слышу, как на улицах Рима поганая чернь насмехается над тобой. Вот какие стихи выкрикивают на улицах города: «Моешь негра зачем? Воздержись от работы напрасной. Сумрак ночной озарить ты ведь не сможешь лучом». Они беззастенчиво полощут твое имя, хохочут, говорят, что ты решил всех сделать философами, а особо избранных назначить мудрецами, как ты назначил прокуратором бывшего разбойника, а потом гладиатора Флора, как назначил наездника Полиника квестором в Испанию. Я не говорю уже об опозорившем всадническое сословие выступлением в гладиаторских боях Гае Гаргилии Гемоне, теперь надзирающим за общественными банями.
Это называется пустить козла в огород…
– Достаточно, Витразин. Если желаешь занять почетную должность, сначала освободись от дурной славы, которая сопутствует тебе.
– Но, император! – Витразин закрыл лицо руками, однако сквозь чуть растворенные пальцы внимательно следил за правителем.
Наконец он оторвал руки, сделал долгую паузу и, подражая трагическому актеру Меруле (видно, брал у него уроки), воскликнул.
– Никогда!
Парик, искусно прилаженный у него на голове, чуть сдвинулся и обнажил левую сторону головы.
В первое мгновение Марк почувствовал омерзение, затем его нестерпимо потянуло в хохот. Тихо вошедший в палатку секретарь, изумленно глянул на просителя, потом едва успел зажать рот рукой. Это было смешно – громила с рассеченной щекой и отрезанным ухом, отсутствие которого ранее прикрывал роскошный, теперь сдвинувшийся на одну сторону парик – Марк и догадаться не мог, что Витразин прибегнул к услугам искусного цирюльника, – с глазами, полными слез, вздевший руки, провозгласил еще раз:
– Никогда не оставлю моего императора. Я буду ловить его взгляд, первым брошусь исполнить любое его желание. На своей спине я перетащу его через реки и болота, овраги и чащи, пока он не убедится в моей преданности.
– То есть ты хочешь сказать, что останешься в лагере, пока я не распоряжусь выбрать тебя в коллегию.
– Да, цезарь из цезарей.
– А если я прикажу выгнать тебя из лагеря?
– Я же сказал – буду бродить по окрестным лесам в тоске и печали и громко стенать, взывая к твой доброте.
Это уже не смешно. Марк прищурился, с этого станется. Будет досаждать, пока не добьется своего. Если же ему улыбнутся боги, и он действительно окажет услугу императору или кому-нибудь из членов его семьи; если приглянется кому-то из обладающих властью и тот начнет ходатайствовать за него, Марк вынужден будет уступить. Отослать с охраной? Он и ее подкупит. Зевс, великий космос, животворящая пневма, разве у повелителя великого Рима нет других забот, как разбираться с Витразином? Я не сержусь, я спокоен, ведь наглость и неутоленное тщеславие бывшего гладиатора куда в большей степени причиняют терзания и неудобства ему самому, чем мне, вынужденному выслушивать дерзкого. Его – не моя! – душа глумится над ним самим. В этом его наказание, а для меня лучший способ защититься – не уподобляться!
Но и не пренебрегать!
– Александр, – принцепс обратился к секретарю, – ты выяснил, кто пропустил его первым?
– Сегестий Германик, из бывших гладиаторов. Он стоит на часах возле вашего шатра.
– Сколько ты заплатил ему, Витразин, чтобы он оттолкнул женщину?
– Мы старые приятели, император. Сегестий многим мне обязан. Я никого не отталкивал. Я упросил несчастную уступить мне очередь, ведь мое дело не терпит отлагательства.
– Я жду честного ответа, Витразин, ведь я все равно узнаю, на какую сумму ты потратился.
Посетитель принялся тяжело вздыхать, крутить головой. Парик окончательно сполз на одну сторону и полностью обнажил омерзительную рану на правой стороне черепа.
Ухо Витразину отрезал несравненный боец, кумир публики, Публий Осторий, одержавший победу в более чем в полусотне поединков. По крайней мере он сам так утверждал.
Наконец Витразин решился.
– Двадцать сестерциев, цезарь.
Марк приказал.
– Позови Сегестия.
Стоявший на часах воин вошел в шатер. Сегестий был из германцев. Ростом преторианец был под стать Витразину, только более сухопар и подтянут, но силой обладал немереной. Он оказался одним из немногих гладиаторов, кто проявил себя в армии с самой лучшей стороны.
Сегестий получил свободу и прижился в армии несколько лет назад, в начале войны с маркоманами, когда Марк Аврелий, чтобы спасти Италию и пополнить ослабленные легионы, провел набор рабов и гладиаторов. За эти годы он стал лучшим копьеметателем в Двенадцатом Молниеносном легионе.
Уже полгода, как переведен в когорту охранявших императора преторианцев. Ему уже светило звание центуриона и возвращение в свой легион в качестве примипилярия[17]; входил в члены военного совета легиона и получал при назначении всадническое достоинство).
Вскинув руку, он приветствовал императора, на лице его была ясно видна озабоченность.
– Сегестий, Витразин утверждает, что дал тебе двадцать сестерциев, чтобы ты пропустил его вперед. Сегестий, ты взял взятку на посту? Знаешь, чем это тебе грозит?
Солдат растерялся, громко и протяжно вздохнул, потом кивнул.
– Да, император. Я готов понести наказание. Нечистый попутал…
– Сегестий, я приказал Витразину покинуть лагерь и отправляться в Рим, однако он – свободный римский гражданин, и я не вправе указывать, где ему находиться, чем заниматься. Он требует должность члена постоянной коллегии, надзирающей за порядком в Риме. Он пригрозил, что останется в лагере и будет ежедневно молить меня о милости. Скажи, это будет справедливо, если человек, поступающий подобным образом, будет оберегать общественный порядок в Риме?
– Император, если ты прикажешь, чтобы ноги этого негодяя не было в нашем лагере, клянусь, к полудню его и след простынет. После чего я готов принять наказание.
– Ты слышал, Витразин? Чтобы к полудню тебя не было не только вблизи лагеря, но и в Корнунте. Сегестий проводит тебя до задних ворот.
Витразин искоса, с ненавистью глянул на легионера и достаточно громко, чтобы слышал принцепс, выговорил:
– Христианская собака… – после чего многозначительно глянул в сторону Марка.
Тот, однако, оставил донос без внимания.
Когда Витразин покинул шатер, Марк спросил:
– Значит, ты христианин, Сегестий?
Старший солдат кивнул.
– Да, император. Мне так легче. У меня детишки утонули. Семья была, мальчик и девочка. Близняшки, – он сделал паузу, потом добавил: – Может, встречусь с ними на небесах.
Марк с недоумением глянул на солдата.
– Не понял. Ты же всего три года как получил свободу. Какая же семья у гладиатора?
Сегестий промолчал.
– Говори, – приказал император.
– Когда я махал мечом на арене, – Сегестий отвечал, не глядя на принцепса, – Виргула полюбила меня.
– Она свободнорожденная?
– Да, император. Дочь вольноотпущенника.
– Что только творится в Риме! – всплеснул руками Марк. Он повернулся к секретарю. – Слыхал, Александр?
Затем вновь обратился к Сегестию.
– Ну-ка расскажи подробнее.
Сегестий кашлянул, чуть расслабился – чему быть, того не миновать, потом на его лице нарисовалась странная усмешка.
– Виргула сбежала из дома, я поселил ее у… в общем, стали мы жить тайно. Денег у меня хватало. Если бы не Витразин, я, может, и раньше получил бы свободу. Если бы мне позволили сражаться копьем, но этот жлоб убедил хозяина школы, что так никакого интереса. Пусть, мол, германская собака учится владеть мечом. Я не жалуюсь, нет. Витразин, правда, подкармливал меня. Если бы мне в ту пору дали копье!.. Одним словом, зажили мы, как муж с женой. Денег у меня хватало, чтобы подкупить стражников из городской когорты и надзирающего за кварталом префекта. Они в мои дела не лезли, а Виргулу соседи полюбили и не выдавали. Я мечтал о свободе, а тут война с маркоманами. Я первый записался в войско, а уж как попал на войну, так постарался, что никто не мог упрекнуть меня, что я пренебрегаю. Когда наши дела пошли на лад, я вывез Виргулу из Рима, подальше от ее родственников и злых языков. А тут на тебе, в прошлом годе дети утонули. Близнятки. Такие дела…
Наступила тишина.
Первым ее нарушил император.
Он спросил тихо, сквозь зубы:
– Кто тебе сказал, что вы можете встретиться на небесах?
– Проповедник, звали его Иероним. Перед тем как отправиться в земли квадов, он заглянул к нам в Карнунт. Переправился через реку и сгинул.
– Ты ему поверил?
– Император, во что мне еще верить? Я любил их, детишек, мальчика и девочку. Совсем маленькие были.
Слезы потекли по лицу солдата.
– Тебя накажут плетьми, Сегестий, отправят на тяжелые работы. Будешь валить лес.
– Чему быть, того не миновать, император.
– У тебя еще дети есть?
– Нет, император.
– Иди, Сегестий.
Когда он вышел, Марк подумал, что теперь можно быть спокойным за Витразина. Если тот до вечера не покинет лагерь, солдаты когорты, в которой до перевода служил Сегестий, тут же придушат домогателя должностей.
Но каков Бебий Корнелий Лонг или, как его теперь кличут, Иероним? Римский всадник подался в варварский край, а ему, принцепсу, императору, охранителю империи, ничего об этом не известно! Дочери вольноотпущенников сходятся с рабами, а префект квартала закрывает на это глаза. Странные дела творятся в государстве!
Он приказал Александру.
– Пригласи Матидию.
– Она с сыном, повелитель.
– Пусть войдет с сыном.
Матидия, мало похожая на смешливую девицу, какой ее раньше знал Марк, вошла в шатер в сопровождении молодого, выше среднего роста, юнца. Она заметно располнела, на лице некоторая озабоченность. Марк поднялся и после приветствий взял ее за руку, провел к креслам без спинок, помог сесть.
– Как здоровье, Матидия?
– Пока не жалуюсь, цезарь.
– Называй меня Марком. Ты в моем доме, мы дружим с детства.
Женщина сняла митру – кожаную шапочку с завязками под подбородком, обнажила голову. Была она в далматике – длинной тунике с широкими рукавами. Волосы были заплетены в косы и, обвивая голову, уложены в пучок, который скреплял дешевый налобник.
– Спасибо, Марк.
– Что нового в Риме, Матидия? – спросил Марк.
– Все ждут известий с границы, – ответила женщина. – Народ славит твое имя за то, что ты не поскупился на возмещение ущерба людям, пострадавшим во время разлива Тибра и отправил хлеб для жителей италийских городов, испытывавших голод.
– Это мой долг, – ответил Марк.
Он расспросил ее о прежних знакомых – о тех, кто не добился чинов, кто вел жизнь тихую, частную, о занятиях и умонастроениях которых не сообщали ни префект города, ни его преторы, ни соглядатаи. Поинтересовался, как относятся в Риме к спору, возникшему между лакедемонянами и мессенцами по поводу прав на владение храмом Дианы Лимнатиды. Матидия ответила, что ничего не слышала о таком храме и о разногласиях в сенате, возникших вокруг этого дела. К тому же споры каких-то греков ее мало занимали.
– В Риме сейчас только и разговоров о несчастной Галерии, выброшенной из окна сумасшедшим Ламией Сильваном, – поделилась она.
– Да, – кивнул Марк, – префект города писал мне об этом трагическом событии.
Матидия с некоторым удивлением глянула на Марка, однако тот молчал и доброжелательно смотрел на посетительницу.
Матидия вздохнула.
– Я боялась огорчить тебя этим известием, – осторожно начала она, – ведь Галерия твоя сестра, правда, неродная, – Матидия на мгновение примолкла, потом еще более осторожно спросила: – Ты, Марк, как видно, уже и думать забыл о ней. Как, впрочем, и о сестре Вера Фабии, с которой когда-то был помолвлен.
– Я огорчен, Матидия. Однако объясни, причем здесь Фабия?
Женщина не ответила, отвела взгляд, затем принялась разглядывать нехитрую обстановку, находившуюся в императорском шатре. Негусто для властелина мира – несколько табуретов и клисмосов[18], сундуки и два шкафа для платья, возле рабочего места удобное кресло с наброшенной на сидение подушкой, стол для свитков, книжный шкаф. Оглядевшись, она продолжила:
– Народ требует сурового наказания преступника. Фаустина прислала грозное письмо, а префект почему-то медлит. С другой стороны, народ и Фаустину обвиняет в ее смерти. И Фабию…
Она замолчала, разговор вновь увял.
– Объясни толком, что именно говорит народ? – попросил император.
– Мне бы не хотелось выглядеть в твоих глазах сплетницей, не затем я отправилась в такую даль, однако не буду скрывать, что кое-кто полагает, что Фабия настойчиво пыталась склонить Галерию к публичному признанию, что, мол, Коммод не твой сын. Мол, Галерия была посвящена в эту тайну.
– Это злобная клевета. Мне точно известно, что Коммод мой сын.
– И я о том же. Однако народ привык верить худшему, и в таких делах правда никого не интересует. Фабия уверяет, что у Галерии были доказательства, какие-то письма…
Боги, опять Фабии неймется!
– Я действительно сожалею о смерти Галерии. Она не заслужила такой судьбы. Горько сознавать, что пришел черед нашим сверстникам спускаться в Аид.
– Зато Фронтон, учивший тебя ораторскому искусству, поправился и сейчас бодр, как и два года назад, – сообщила Матидия, – Говорят, его зять Ауфидий Викторин собирается издать его труды.
– Труды? – удивился Марк и осторожно почесал висок. – Наверное, речи, а также письма. Он очень искусно составлял их. Это были скорее не письма, а трактаты или наставления. Видно, слава Сенеки не дает Фронтону покоя.
Марк выпрямился на стуле, чуть подался вперед, отставил правую ногу, вскинул руку и принялся декламировать.
– Красноречие правителя должно быть подобно зову походной трубы, а не звукам флейты. Меньше звонкости, но больше весомости.
Матидия и Александр засмеялись, в глазах юного Бебия тоже блеснули веселые огоньки.
Марк усмехнулся.
– Фронтон, правда, всегда испытывал некоторую ревность к тем, кто мастерски владел словом. Помнишь Герода Аттика? Твой муж как раз занимался этим судебным процессом. Никто лучше Бебия не умел передразнивать нашего знаменитого оратора. Помню тот день, когда вы навестили меня в доме Тиберия. То-то было весело.
Марк Аврелий встал, перекинул край тоги через руку, расправил ее, напомнил:
– Бебий тогда выступил с речью в защиту котов. Это было забавно, – затем оттопырил губу, подражая Бебию, громко провозгласил:
– Граждане, будь я магистратом, я мог бы из соображений безопасности государства и якобы незначительности ущерба закрыть глаза на плутни ваших котов, без зазрения совести пожирающих не только мышей и крыс, но посягающих на человеческую пищу, как-то: сметану, молоко, копченое мясо и, что нетерпимо более всего, свежую рыбу. Я мог бы закрыть глаза, если бы эти полосатые хищники съедали овощи, принесенные с рынка, но терпеть наглый грабеж и тем более развратные действия этих проходимцев, то и дело совершающих насилие над пушистыми и ласковыми зверьками, именуемыми кошками – топчущих их средь бела дня в моем перистиле[19] – я, как частное лицо, не намерен. Не для того мы приносим жертвы богам, молим о сохранении добрых нравов и прежних римских доблестей; не для того воюем за морями, чтобы мелкие, одетые в звериные шкуры пакостники взламывали наши кладовые и совращали наших домашних подруг…» Ну и так далее.
Матидия рассмеялась.
– Ты помнишь все наизусть.
– Все помню, Матидия. Почему я должен забыть то, что до сих пор мне дорого?
Женщина не ответила, задумалась о чем-то своем. Принцепс спросил.
– Что слышно о твоем муже?
При этом он невольно перевел взгляд на Бебия Корнелия-младшего.
Сын продолжал стоять чуть сзади матери. Был он в полном воинском снаряжении – в нагрудном, начищенном до блеска панцире, надетом на шерстяную, до колен тунику. На голенях поножи, ноги обуты в сандалии из грубой кожи. Шлем – охватывающую голову полусферическую шапочку из металла, пересеченную медными полосами от уха к уху, и ото лба к затылку, снабженную козырьком, нащечниками и насадкой на темени, в которую было вставлено страусиное перо – держал в правой руке. Был он без оружия, на плечах солдатский плащ. Все доспехи отцовские, простенькие, рельефные украшения едва читались. Молодой человек был узколиц, с чуть выдвинутой вперед нижней челюстью, что придавало ему несколько туповатый и жестокий вид. Взгляд сосредоточенный, холодный, похоже, парень себе на уме. Держался скованно и все более поглядывал на мать или украдкой обводил взором шатер.
От встречи с правителем многого не ждал. Скорее всего, дурная слава отца, поддавшегося христианским суевериям, отказавшегося от военной и гражданской карьеры, пренебрегшего римскими доблестями, тяжелой ношей лежала на его плечах.
Император прикинул, что может предложить новобранцу? Место в своей свите? Зачисление в преторианскую когорту? Тех, кто сумел пристроиться в свиту полководца, в армии не жалуют. В войске его сразу сочтут доносчиком, одним из императорских лизоблюдов. А если он таковым не является? Если он мечтает собственными руками восстановить доброе имя семьи? Направить рядовым в конницу? Рука не поднималась, пусть даже Бебий Корнелий Лонг из сословия всадников, однако давным-давно прошли времена, когда родовитые римляне, относящиеся ко второму знатному сословию, служили в кавалерии. Теперь там воюют исключительно союзники из варваров. Однако дать ему под команду сколько бы то ни было солдат тоже опасно. Вояки могут вполне «сожрать» юнца, к тому же не дело принцепса заниматься подобной мелочовкой.
– Последняя весточка, – ответила матрона, – дошла из Карнунта. Бебий сообщал, что решил уйти с купцами в земли германцев. Там и сгинул. Перебежчики говорят, что царь квадов Ариогез решил, что он лазутчик, и посадил его в яму.
Она неожиданно заплакала, тихо без всхлипов. Затем также аккуратно вытерла слезы платком.
– Не думай, Марк, – начала она, – что я посмела испросить аудиенцию, чтобы вымолить кусок пожирнее или пристроить моего сына поближе к императорскому штандарту и подальше от опасностей. Он – честный мальчик, с детства отличался храбростью и знает, что такое воинская дисциплина. Он готов к исполнению любых работ, пусть даже они сначала будут сопряжены с мало достойными для сына всадника занятиями. Он готов копать землю, валить деревья…
В этот момент в палатку неожиданно вошел командир Четырнадцатого легиона Луций Септимий Севе́р, исполняющий обязанности префект лагеря. Секретарь Александр Платоник приложил палец к губам, и они оба замерли у порога.
– Он не подведет в строю, – продолжала Матидия, – умеет обращаться с копьем и дротиками, метко стреляет из лука. Он грамотен. Испытай его в деле, Марк, и ты убедишься, что я хорошо воспитала сына. Причина, которая вынудила меня отправиться в такую даль и обратиться к тебе лично, связана не только с моими семейными делами. Я приехала к тебе по просьбе многих моих подруг, с коими и ты хорошо знаком. Я приехала, чтобы сообщить – твои прокураторы, сборщики налогов, всякая мелкая пакостная челядь, называющая себя «философами», ведут себя в городе словно завоеватели в побежденной стране. Под видом сбора налогов они без страха хватают все подряд, при этом прикрываются твоим именем и постоянно ссылаются на необходимость «исполнить долг перед отцом народа, перед государством». Многие из них уже по несколько раз сменили места жительства, и каждый раз перебираются в новые и все более роскошные дома, а те люди, славные предки которых составили славу Рима, нищенствуют и вопрошают, зачем эти славные победы? Куда смотрит император и так ли важно усмирять диких германцев вдали от Рима, когда в городе засуживают достойных, издеваются над благородными вдовами и малыми детьми. Если в этом, Марк, и заключается твоя «философия», нам нет спасения. Неужели тот Марк, которого любит народ, тот император, который обуздал парфян, без пролития крови справился с заговорщиками, во время наводнения Тибра спас Рим от голода, позаботился о сиротах, устроив их в воспитательные дома, – забыл о долге или утомился, выполняя его?
Она сделала паузу, потом более тихо продолжила:
– Вот почему я в нарушение всех обычаев решилась сопровождать сына в военный лагерь. Он повел себя благородно и из любви к матери не стал возражать против того, чтобы именно женщина ввела его в стан за руку, пусть даже подобный поступок с моей стороны мог бы нанести ущерб его чести. Я приехала не для того, чтобы облегчить ему тяготы военной службы или выпрашивать поблажки. Нет, Марк, я, с его согласия и одобрения, оставляю сына в качестве заложника.
Он должен доказать в бою, что слезы и мольбы римских женщин, их вера в тебя исходят из самого сердца. Он должен доказать, что род Корнелиев Лонгов всегда верно служил и будет верно служить Риму и императору. Ты вправе наказать его за любой, самый незначительный проступок как за тягчайшее преступление.
В шатре наступила тишина. Наконец Марк устало произнес:
– Я все знаю, Матидия. Твоя боль – моя боль, но я не могу ни законом, ни единовременным указом сдержать банду алчных, хватающих все подряд чиновников. Учти, это все грамотные люди, и подавляющее большинство из них набивают свои карманы уже после добросовестного исполнения обязанностей. Им известны все постановления, все ходы и лазейки, он умеют применять законы. Да, каждый из них страшится быть пойманным за руку, но все вместе они никого и ничего не боятся. Им нет замены, Матидия! Единственное, что в моих силах, это суметь убедить их более служить государству и менее заботиться о собственных доходах. Это труднейшая задача! Я пытаюсь ее решить, но у меня нет возможности приставить к каждому из прокураторов надсмотрщика, потому что пройдет время и каждому надзирающему придется приставить еще одного контролера, и так до бесконечности.
Он встал, принялся расхаживать по широкому, накрытому полотняными стенами, разукрашенному золотыми кистями и алыми занавесями помещению. На ходу кивком поприветствовал Септимия Севера, тот молча вскинули руки. Затем продолжил.
– Не все так плохо, Матидия. Я даю тебе слово, что в скором времени этот вопрос будет решен, и своеволие чиновников будет умерено. Давай лучше поговорим о твоем сыне. У кого ты учился, Бебий?
Молодой человек вытянулся по стойке смирно, вскинул подбородок и доложил:
– Философии у Юния Рустика, а ораторскому искусству у Фронтона.
– Это безусловно знающие свое дело люди. Чему же ты научился к них? Скажи вкратце.
– У Фронтона – соглашаться с авторитетами и теми, кого толпа считает авторитетами. Рустик же, напротив, убеждал меня не принимать на веру ничье мнение, но проверять его на собственном опыте и на основе углубленных размышлений. Что до меня, император, – Бебий неожиданно примолк, затем продолжил уже более сильным, звонким голосом: – То я не намерен быть слишком суровым по отношению к пушистым зверькам, именуемым котами, ибо…
Бебий повторил позу оратора, в которой только что император обличал известных всем домашних любимчиков.
Он вскинул руку и обратился к слушателям:
– Ибо есть ли на белом свете другое животное, которое с такой непреклонностью и отвагой отдавало бы всего себя ловле крыс и мышей – существ мерзких, ненасытных, созданных на горе человеку, причиняющих столько бедствий собранному урожаю. Сколько наших женщин было напугано до смерти этими безжалостными, уничтожающими все, что попадется у них на пути, разбойниками! Кто из наших мужчин, столь доблестных на поле боя, справляющих триумфы, приводящих к покорности другие народы, стоя на четвереньках, изловчился поймать хотя бы самую маленькую мышку, сумел впиться в нее ногтями, не говоря уже о зубах?
Первым захохотал Септимий Север, следом император и Александр Платоник.
Молодой человек гордо продолжил:
– Еще я хочу сказать о немалом уме и душевном величии пушистых охотников. Разве не благородна жертва, на которую идет кот, когда пробирается в кладовую известным только ему путем! Разве не указывает он хозяевам лаз, каким враг может достичь запретных пределов, где мы, надеясь на вкусный обед, храним молоко, сметану, копченое мясо, я уже не говорю о свежей рыбе. И за этот подвиг, за слабость, понятную и простительную – ибо ущерб, приносимый котами, не идет ни в какое сравнение с бесчинствами, производимыми крысами и мышами, – мы жестоко лупим его, маленького, беззащитного. Лупим всем, что попадется под руку, до исступления, до жара в глазах. И это беззаконие, эту расправу мы, культурные и образованные люди, называем «уроками», «поучительным назиданием» или того горше – «обучением хорошим манерам»…
– Цезарь, – спросил легат, – где ты отыскал этого говоруна? Зачем на нем военная форма?
– Это сын моего старинного друга, Бебия Корнелия Лонга. Он явился в наш лагерь послужить отечеству и римскому народу.
– Ну, если этот парень владеет мечом так же, как языком, то я возьму его в свой штаб. Сначала побегает в помощниках, а там видно будет. Глядишь, и до трибуна дослужится.
В конце аудиенции Марк Аврелий убедительно посоветовал Матидии сегодня же отправляться в Рим.
– Ты гонишь меня, цезарь?
– Марк, – поправил ее принцепс.
– Хорошо, Марк. Я понимаю, мне нельзя оставаться в лагере, но я могла бы подождать в Аквинке или, например, в Карнунте? Или ты ничего не ответишь женщинам Рима?
– Нет, Матидия, сейчас ответа не будет, но я отвечу обязательно и очень скоро. А теперь будет лучше, если ты немедленно покинешь провинцию.
– Значит, в Риме недаром поговаривают, что вторжение начнется со дня на день.
– Эти слухи преувеличены, но я никогда не прощу себе, если поступлю неразумно и поддамся на твои уговоры. Тебя будет сопровождать почетный конвой сингуляриев[20]. Командир декурии будет нести императорский значок.
Матидия заметно оробела.
– Я не рассчитывала на такие почести. Со мной три верных раба и вольноотпущенник. Он распоряжается моими деньгами.
– Что касается денег, – Марк почесал висок. – Как-то Бебий снабдил меня деньгами, так что за мной числится должок в пятьдесят тысяч сестерциев. Ты получишь их в Риме, я отпишу своему вольноотпущеннику.
– Твоя доброта безмерна, но Бебий никогда не одалживал тебе. Я бы знала об этом.
– Это случилось до вашей свадьбы, – он помолчал, потом прищурился. – Ты требуешь отчет у принцепса?
– Я не смею, – встревожилась женщина. – Но и ты не настаивай, Марк. Я приехала сюда не за подачкой. Прости, если мои слова обидели тебя… Признайся, ты что чего-то не договариваешь?
– Хорошо, оставим в стороне деньги. Да, я не договариваю, и это мое право. Ты же помчишься со всей возможной скоростью. В дороге, разговаривая со случайными попутчиками, и по прибытии в Рим, будешь рассказывать всем, кто начнет интересоваться состоянием дел на границе, что армия готова к войне, что принцепс проник в планы Ариогеза и собирается переправиться через реку ниже Карнунта. Что он уверенно говорит о скорой победе. Поделись этим известием со своими рабами и вольноотпущенником, пусть твои домочадцы в Риме не обходят вниманием бывших гладиаторов, а также купцов-иноплеменников. Я уверен, Матидия, что ты в точности выполнишь то, что тебе предписано.
– Повинуюсь, цезарь.
– Вот так-то лучше, – Марк сделал паузу, потом добавил: – Я присмотрю за твоим сыном.
– Благодарю тебя от всего сердца, Марк. Не за то, что согласился поговорить со мной, остался верен прежней дружбе, но за то, что сохранил в душе желание выслушать частное лицо. За то, что живешь скромно, как подобает римлянину, что не держишь в шатре шлюх, как прежний твой соправитель Вер, и хранишь верность Фаустине. Ты должен признать, ей приходится нелегко, ведь ты таскаешь ее за собой по всем военным лагерям. Как ее здоровье? Она, кажется, отдыхает на твоей вилле в Пренесте?
– Нет, – ответил Марк и помрачнел. – Она неподалеку, в Петовии, моем летнем доме. Плохо чувствует себя.
– Я разделяю твою боль, Марк, – Матидия положила ладонь на руку императора. – Я поставлю твой бюст в атриуме, среди семейных богов. Ты достоин этого, Марк.
Она разрыдалась.
Принцепс отвернулся, глянул в прогал раздвинутых занавесей шатра. Шел восьмой час[21], со стороны реки надвигалась грозовая туча. Если бы Марк верил тучам, приближение грозы можно было счесть недобрым предзнаменованием. Однако согласно свидетельствам древних молния – это вспышка облаков, которые трет и рвет ветер. Гром – это шум оттого, что они трутся и рвутся. Грозовой удар – это мощная вспышка, с большой силой ударяющая в землю от трущихся и рвущихся облаков; другие, правда, утверждают, что это сгусток огнистого воздуха, с силой несущийся вниз.
Предположим, в надвигавшейся облачной черноте таится недобрый знак. Но он же главный понтифик, великий жрец и знает, как обращаться к римским богам, чтобы ублажить и вырвать благословение и поддержку. Так повелось испокон веков – мы тебе, Юпитер, барана, ты нам удачу и счастье в делах. Этого вполне достаточно, чтобы создать великое государство, и никому нет дела, веришь ты в подлинное существование Юпитера, принимаешь под этим громовым словом свидетельство тайной божьей власти или проявление природной силы. Никто не заставляет римлянина верить в своих богов, куда важнее соблюсти точность в обращении к тем, кто с высоты покровительствует городу и миру.
По мне, решил император, так лучше молиться как афиняне: пролейся дождем, милый Зевс, на пашню, на равнины. Просто и свободно.
Что есть вера? Недоброкачественное знание, надежда на случайное, что-то темное, неподвластное разуму, но разве может быть в космосе нечто неподвластное логосу и фатуму?
– Послушай, Матидия, я прошу тебя навестить в Петовии Фаустину и передать ей, чтобы она немедленно отправлялась в Рим. Ты составишь ей компанию, так мне будет спокойней. Получишь на расходы пятьдесят тысяч сестерциев. Я не жду отчета о расходуемых сумах. В эскорт я отпишу турму[22] и дам вам подорожную.
– Повинуюсь, цезарь.
Глава 3
Марк проводил Матидию почти до самого Карнунта, откуда начиналась главная дорога, ведущая на Рим.
Дорога была вымощена камнем. Вблизи городов с тротуаром вдоль правой обочины, с мостами и отводными каналами для дождевой воды. Повозка императора выбралась на твердое полотно в виду бревенчатых крепостных башен, часто уставленных вдоль заграждений из плетня. За этими полевыми укреплениями, на холмах, был построен малый вспомогательный лагерь, в котором помещался Двадцать первый Стремительный легион, перекрывавший эту ведущую в глубь страны трассу. По принятому зимой плану в его обязанности входило задержать продвижение варваров, пока к городу не подоспеют главные силы.
Очень хотелось проследовать с Матидией до Петовии, повидаться с Фаустиной, лично проследить за отправкой императрицы.
Он унял неразумную, несогласную с природой страсть. Нельзя было оставлять армию и тем самым создавать дополнительные трудности для легатов; нельзя допустить, чтобы они теряли время на сношения с императором, который в решающий момент вдруг решил отдохнуть.
Или, что вернее, поразвлечься.
Для солдата ожидание схватки, неизвестность куда более тягостное состояние, чем боевые действия.
Легионеры выполняли обыденные хозяйственные обязанности – ходили в караулы, занимались воинскими упражнениями, носили воду, дрова, готовили пищу, вместо полотняных палаток возводили бревенчатые дома, чинили одежду, оружие, укрепляли стены летнего лагеря и подступы к нему, рубили просеки, прокладывали дороги, – и ненароком то и дело поглядывали в сторону шумливого в тех местах, широкого Дуная или в сторону форума, где на претории располагалась палатка императора. Его присутствие в лагере, спокойствие, уверенность в себе, даже еженощные занятия «философией» сами по себе крепили дисциплину, поддерживали боевой настрой и постоянную готовность войска. Все в лагере как бы находилось под негласным надзором принцепса. От его взора, как и от пригляда вселенского логоса, ничто не могло укрыться. Легаты не давали покоя центурионам, а те, в свою очередь, строго следили за порядком, за тем, чтобы солдаты выказывали бодрость, рвались в бой, с охотой занимались лагерными работами, учились ходить строем, исполнять команды и следовать за значками центурий и легионными орлами. Все равно Марк ощущал, как подспудно копилось напряжение, как затаенные страхи прорывались в редких стычках между ветеранами и молодежью. Молодые задирали диковатых союзников, особенно смуглых мавританцев, те в ответ грозили дротиками. В шутку, конечно.
Те же скребки на сердце ощущал и Марк. Все вроде бы сделано, армия подготовлена, съестные припасы подвезены вовремя, враг известен.
Возвращаясь в главный лагерь, Марку припомнился тот сладостный миг, когда зимой, в месяце, посвященном повелителю света, двуликому Янусу, после долгих споров по поводу планов будущей кампании, явившийся к нему в Палатинский дворец пожилой, отличавшийся редкой невозмутимостью Публий Гельвий Пертинакс объяснил смысл придуманной им уловки, с помощью которой можно было попытаться обмануть варваров и одним ударом закончить войну. Император сразу ухватился за эту мысль, вмиг осознал ее глубину и многослойность.
Идея заключалась в том, чтобы посредством рискованного и, на первый взгляд, неудачного размещения легионов вдоль границы заманить Ариогеза на римский берег и, не позволив варварским дружинам рассеяться по пограничным провинциям, разгромить их в одном или в двух генеральных сражениях.
Пертинакс предложил сосредоточить войска концентрированно, в вершине прямого угла и как можно ближе к границе, чтобы у Ариогеза не оставалось сомнений – этим летом римляне непременно попытаются форсировать реку. Это неожиданное предложение показалось императору ключом к решению главной стратегической задачи, стоявшей в ту пору перед государством. Еще Антонин Пий видел цель своего царствования в том, чтобы исполнить завет Адриана и организовать на землях, лежавших за рекой, две новые провинции – Маркоманию и Сарматию.
Добиться этого можно было, только добравшись с войском до крайних пределов Германии, то есть до берегов Свевского моря. Как известно по рассказам очевидцев, из глубин этого моря с шумом, грохотом, с обвалом вод ежедневно выезжала светоносная солнечная колесница.
Предполье в Дакии, созданное Траяном, требовало продвижение границы на север до моря. Это обеспечивало сокращение северной границы империи, проходящей по Рейну и Дунаю, почти в три раза, что значительно сокращало неподъемные государственные расходы по их охране. Куда легче оборонять империю, сидя в Карпатах, чем по низменным берегам рек.
Нашествие германцев сорвало далеко идущие планы. Оборонялись уже пятый год, пора было подумать и о переходе в наступление.
– Всем нам известно, – заявил Пертинакс, – что Ариогез не дремлет и собирает силы. С какой целью? Чтобы отбить наше наступление или, может, он собирается сам переправиться через реку? Осмелюсь утверждать, что к нашей пользе будет, если мы убедим его упредить нас. Ему доподлинно известно нынешнее расположение наших войск – один легиона у Аквинка, один у Карнунта, три в глубине провинций Верхняя и Нижняя Паннония и Норик. Вексиляции[23] разбросаны и там и тут.
Меня подобная разбросанность удручает.
При таком расположении войск мы и реку форсировать не сможем, и достойно – а это значит, быстро и без потерь, – отразить вторжение варваров.
Почему?
Взгляни, цезарь, на карту – и до реки далеко, и от реки далеко. В случае нашего наступления враг успеет подготовиться, а если Ариогез сам решится на вторжение, у него появляется возможность бить наши войска по частям. Обороняя площадь, мы теряем в маневренности, теряем инициативу. Подобным образом мы воюем уже четвертый год, а где результат?
Все то же постоянное напряжение, ожидание нападения с севера, переизбыток войск на небольшом участке границы и пустота на других.
По мне, следует открыто и навязчиво показать Ариогезу, что именно в этом году мы собираемся всей войсковой массой форсировать реку и вторгнуться в его земли. Мы должны вести себя смело, нагло и как бы не обращать внимания на приготовления варваров. Мы должны подвести легионы как можно ближе к границе, разместить их на берегу Данувия – например, один легион около Карнунта, три в постоянном летнем лагере, что в восьми милях от этого города, и два возле Аквинка. Эта скученность и близость к границе несомненно очень рискованны, но, цезарь, как иначе мы сможем вынудить врага принять сражение в подходящих для нас и убийственных для него условиях. Перейти через Данувий и сражаться на землях, родных для наших врагов, значит то же самое, что сунуть голову в петлю и, откинув в сторону опору, попытаться оборвать веревку.
Постепенное и неспешное наступление, принимаемое со всеми предосторожностями, растянется на долгие годы, и, скажу откровенно, не приведет к успеху. У Ариогеза много опытных воинов, когда-то служивших в наших союзных когортах. Уверен, они обязательно подскажут царю – вот бы наказать римлян за пренебрежение к врагу! Прибавь сюда, Марк, вопли дикарей, приблудивших с севера. Вспомни об этой дикой жадной своре готов, вандалов, лангобардов, свевов, венедов. Какая им выгода сидеть в своих берлогах и ждать нашего вторжения! То ли дело переправиться на правый берег и подвергнуть грабежу провинции. Вот где их ждет добыча.
Пертинакс сделал паузу, отпил вина.
– Теперь о самом Ариогезе, – продолжил полководец. – Обрати внимание, цезарь, на его заносчивость, нехватку боевого опыта, невнимание варвара к деталям. Ему едва за тридцать. Тебе, должно быть, известно, что в качестве заложника Ариогеза в детстве привезли в Рим, где он получил начальное образование. Знавшие его люди утверждают, что Ариогез выказывал способности к наукам, склонен к решительным действиям, однако отличается бездумной самоуверенностью и неоправданным ухарством. Его ахиллесовой пятой является неумение управлять огромными воинскими массами.
Марк кивнул и почесал ногтем правый висок. Пертинакс встал и принялся расхаживать по залу.
– Пусть у Ариогеза возникнет соблазн одним ударом стеснить римские легионы, загнать их в болота, которых не счесть вокруг озера, и уничтожить нас, как некогда их предки сгубили на правом берегу Рейна армию Квинтилия Вара. Наша задача – укрепить его в этом решении, заворожить возможностью разгромить лучшие римские легионы, попавшие в руки робкого, увлекающегося нелепыми «основоположениями» императора…
Пертинакс запнулся и со страхом глянул в сторону принцепса. Марк махнул рукой.
– Не тревожься, Пертинакс. Мы – свои люди и ищем истину. Ты полагаешь, если Ариогез клюнет на эту приманку, мы сможем наверняка расчистить дорогу на север?
– Да, величайший из величайших.
На состоявшемся через неделю военном совете Дунайской армии император решительно поддержал Пертинакса. Другие полководцы, особенно прибывший с востока Авидий Кассий, скептически восприняли этот рискованный замысел. Кассий заявил – еще неизвестно, клюнет Ариогез на приманку или нет, но в любом случае мы отдаем инициативу в руки врагу. Ужели, ожидая наступления варваров, мы позволим себе, вопреки желанию богов, потерять драгоценное время и отодвинуть начало нашего похода на середину июля.
– Кроме того, – добавил сириец и победитель парфян, – Пертинакс даже не упомянул о том, что у Ариогеза многократное превосходство в силах, и никакой строй и воинское умение не помогут нам выдержать удар этой массы, если, конечно, атака будет правильно организована. План Пертинакса отдает судьбу Рима на волю случая.
«Что, если…» – это не довод в военном деле. Вспомните судьбу несчастного Юлия Госпита, командира XIV легиона, павшего в сражении с маркоманами, прорвавшими два года назад пограничную линию в Верхней Паннонии. Что касается меня, я предлагаю подтянуть корабли из Реции и Норика, в нескольких местах переправиться через Данувий и, разделив армию на две части, бить германцев на широком фронте. В любом случае при наличии сильного флота у тебя, цезарь, всегда будет под рукой вариант отступления на свою территорию.
В заключительном слове принцепс заявил, что доводы Авидия Кассия серьезны и обоснованны. Их обязательно следует обдумать, однако при принятии окончательного решения, добавил Марк, следует руководствоваться совокупностью всех сведений, собранных его доверенными людьми.
Император также добавил, что даже в том случае, если он примет план Пертинакса, это не будет означать, что высшая власть делает ставку исключительно на заманчивую для врага конфигурацию размещения войск. Необходимо также постоянно и настойчиво внушать Ариогезу мысль воспользоваться недосмотром римлян. Уверить его, что с такими силами, которые ему удастся собрать к началу летней кампании, детям Вотана, Тараниса и Перуна незачем отсиживаться в обороне. Если они дерзнут, то сумеют повторить подвиг Арминия, во времена Августа уничтожившего римские легионы в Тевтобургском лесу. Для этого в окружении Ариогеза есть надежные люди. Они постараются убедить квадов и их союзников, что им легко удастся опрокинуть римские легионы, скучившиеся на границе, прорваться на территорию империи и нахватать там жирные куски, а если повезет, то дойти до Италии, сказочной страны и обиталища «трусливого философа» (он выразился о себе в третьем лице).
Несмотря на открытую поддержку императором плана Пертинакса, Кальпурний Агриколла, Септимий Север и большинство других членов претория поддержали сирийца Авидия Кассия.
Септимий Север начал доказывать, что времена изменились. Сам император признал, что у Ариогеза теперь достаточно опытных, прошедших военную выучку в римской армии ветеранов из германцев. По сведениям лазутчиков и перебежчиков, эти прошедшие римскую школу воины сумели навести порядок среди храбрых, но плохо управляемых варваров, убедить их не кидаться на врага толпой, а следовать в бою за значками своих отрядов. Заманив их на правый берег, мы рискуем проиграть сражение. Тогда варвары и в самом деле возгордятся и пойдут на Рим.
Их сомнения были понятны – до сих пор тактика планомерного давления на германцев, избиения их по частям, натравливания племен друг на друга, приносила успех. Зачем же испытывать судьбу и неоправданно рисковать, уступая им свою территорию?
Такова природа военных, усмехнулся Марк.
Как рассуждают легаты? Действуя по плану Авидия, они и легионы сохранят, и добьются почестей, а то, что враг может уйти из-под удара, раствориться в дремучих лесах, затаиться в болотах и спустя несколько лет вновь ударить по приграничным провинциям, их не особенно волнует. В любом случае они не останутся без работы. Если же император примет план Пертинакса, придется очень и очень потрудиться, постоянно держать ухо востро, а особенных почестей за войну на своей территории ждать не приходится. Чего добился Виндекс, разгромив лангобардов и убиев?
Трех мраморных статуй?
Невелика награда.
Через неделю с началом февральских календ дискуссия продолжилась. Марк, все это время активно изучавший сведения, поступавшие с северной границы, заявил, что властью, данной ему римским народом и сенатом, настаивает на исполнении доработанного плана Пертинакса.
– Я настаиваю на предложении Пертинакса. Если мы в тех условиях, которые сложились на сегодняшний день, отправимся за реку, нам придется годами гоняться за варварами. Успеем ли мы за ними, лучше знающими местность? Мало того, даже в локальных стычках возможны частные неудачи. Для римской мощи это пустяшные уколы, но нашей славе эти осечки нанесут непоправимый урон. Противник начнет вопить от восторга, осмелеет, уверует в силу своих богов. Задумайтесь, граждане, что произойдет, если им удастся выдавить нас на правый берег? Воодушевленные подобным успехом, к нам через Данувий хлынет множество других племен. Заполыхает граница на Рейне.
Еще один вопрос, который по необходимости должен быть затронут на военном совете, тоже заключает в себе большую трудность. Каким образом мы добудем припасы в разоренных германских землях? Чем будут питаться солдаты? И как долго продлится поход? Вспомните, сколько лет понадобилось Тиберию и сменившему его Германику, чтобы усмирить зарейнский край после поражения Квинтилия Вара. В тот момент, когда судьба испытывает крепость Рима, мы окажемся со связанными руками. Армия ушла за реку, следовательно, пограничная линия в Дакиии останется без подкреплений. План, предложенный Авидием, вынуждает меня провести дополнительный набор в армию и еще более увеличить тяготы, возложенные властью на население.
Император сделал паузу, потом продолжил:
– Нет, полумерами я сыт по горло. Пора, как подобает римлянам, решительно и непреклонно, быстро и окончательно расчистить путь на север. Мы будем бдительны и осторожны, заранее подготовимся к сражению. Не исключаю и вариант, предложенный Авидием. Будьте уверены, «философ» (император вновь выразился о себе в третьем лице) никогда не позволит себе действовать бездумно, вопреки природе общей и частной. Сначала он взвесит все основоположения. Будем действовать со стоической мудростью, не исключая и заветов киников, то есть по примеру Диогена, опорожнявшегося прилюдно, на городской площади, насра… нам на германцев.
Одним ударом проломим их паршивые головы!
Весь преторий захохотал. Улыбнулся и Марк, затем заключил:
– Итак, обратимся к богам, не пожалеем белых быков для жертвоприношений. Если до августовских календ квады не отважатся перейти через реку, сами начнем переправу.
После слов цезаря члены военного совета приступили к голосованию. Предложение Пертинакса, поддержанное Марком, получило незначительный перевес голосов.
Удивительно, но во время последнего обсуждения, когда все, даже некоторые легаты, позволили себе возражать принцепсу, Авидий Кассий хранил молчание, что вызвало недоумение у всех старших офицеров дунайской армии. Никто не сомневался в его способностях и храбрости. Может, выходец из Сирии (в узком кругу его так и звали «сирийцем») из рода честных служак Кассиев – его отец выбился к высоким чинам из простых центурионов – испытывал смущение в присутствие представителей самой родовитой столичной знати? Или, может, он присматривался к тем людям, которые окружают императора? Может, ему в диковинку гвалт и крики с мест, покладистость цезаря, допускавшего совершенно неуместные в армии споры?
Что же касается голосования, соглядатаи донесли, что после оглашения результатов сириец обмолвился при друзьях, что голосование – это пустая формальность. Что-то вроде бездарной народной комедии. Если бы, добавил Авидий, философу не хватило голосов, он переложил бы ответственность на своих полководцев. Такова его суть.
С той поры преторий (войсковой штаб) работал, не складывая рук, и уже к середине марта войска были размещены в лагерях согласно схеме Пертинакса. Цезарь издал указ, по которому власть на местах обязывалась начать сбор плавательных средств, а также строительных материалов, потребных для строительства моста через Данувий. В апреле появились первые признаки, подтверждавшие надежды на то, что Ариогез клюнул на уловку римлян.
Сразу после флоралиев[24] лазутчики, со слов верных среди германской знати людей, сообщили, что на сходе племенного союза жрецы, старейшины и предводители дружин единодушно высказались за продолжение войны.
Правда, о конкретных планах на совете речи не было. Вообще вопрос о том, как именно воевать с римлянами, решался тайно, на пирах. Идея захватить римлян врасплох и зажать их в вершине прямого угла, образуемого великой рекой, вызревала долго. Марк Аврелий очень постарался, чтобы эту задумку выскальзывали вскользь, мимоходом как благое пожелание.
Под напором пришлых дружин царь квадов созрел к лету. Действительно, губительное расположение римских войск сразу бросалось в глаза. Решение напасть первыми напрашивалось само собой. Когда же к племенному союзу общин, проживавших на северной стороне прямого угла, примкнули сарматы, занимавшие области, примыкавшие к восточному катету, Ариогез почувствовал себя более уверенно. Тогда же на встрече с вождями кочевников сложилось общее решение. Первыми начинают сарматы. Они переходят реку, сковывают главные силы императора, пока вся многочисленная союзная рать не переправится через реку и не ударит в спину хищным римлянам. Скоро соглядатаи дополнили первые сообщения. Сарматы вторгнутся за поворотом великой реки ниже Аквинка и за счет превосходства в силах постараются разгромить или по крайней мере надежно связать боем два легиона, охранявших в том месте границу. Когда три легиона из-под Карнунта придут им на помощь, главные силы германцев начнут вторжение между Виндобоной (Веной) и Карнунтом. Таким образом, римская армия окажется зажатой в излучине Данувия и отступать ей придется по чащам и болотам, которых не счесть возле озера (ныне озеро Балатон).
Марк, прочитав донесение префекта претория, не удержался и с наслаждением почесал голову возле висков. Соглядатаи как-то донесли, что Ариогез ни в ас его, «философа», не ставит. Дерзкий варвар, даже поучившись в Риме, так и не осознал прелести философии, ее неизмеримой ценности при выборе решений и познания смысла жизни. Мудрость учит – не стоит проводить время за представлениями о других, тем более, если не желаешь связывать подобные мысли с чем-то общеполезным. Уклоняйся от того, что в цепи представлений является случайным или напрасным, или, что еще хуже, суетным и злобным. Будь невозмутим и зри в корень.
Все равно Марк не смог отделаться от предощущаемого удовольствия разочаровать варвара – скоро тот убедится, что свои обязанности властителя «философ» исполнять умеет. Присущие ему, правителю Рима, скромность и осторожность должны, наконец, сыграть на руку. После провозглашения императором Марк разработал план войны с парфянами, но воевать послал своего соправителя Луция Вера. Когда же римские войска одержали победу, Марк долго отказывался от присвоения ему, не участвовавшему в этой кампании, почетного титула Парфянский. Кое-кто в Риме счел это лицемерием, а кое-кто нерешительностью. Во время первой войны с маркоманами принцепс последовательно стремился с помощью переговоров уладить все разногласия с вторгшимися ордами варваров. По-видимому, в этом желании Ариогез и германские племенные вожди разглядели признаки слабости и внутренней неуверенности императора.
Тем лучше!
Марк простился с Матидией в нескольких милях от Карнунта, затем повернул назад. Ехал поспешая, старался добраться до лагеря до грозы.
Вот какая мысль заинтересовала его – во всем происходящем по природе, есть своя прелесть и привлекательность. Пекут, скажем, хлеб, и полопались края – так ведь эти трещинки, пусть несколько противоречащие искусству пекаря, тем не менее чем-то очень хороши и особенно возбуждают аппетит. Или вспомни лопнувшие смоквы (инжир). Они лопаются как раз тогда, когда совсем поспели.
И у спелых маслин самая близость к гниению добавляет плодам какую-то особенную красоту.
Так и колосья, гнущиеся к земле, складки на морде у льва, пена из кабаньей пасти и многое другое, что далеко от привлекательности, если рассматривать их отдельно, в соединении с тем, что им присуще по природе, увлекает душу. Поэтому каждый, кому дано вглядеться поглубже в то, что происходит в мировом целом, всегда обнаружит красоту исполненного по природе. Такой человек различит обаяние и некий расцвет старика и старухи, и прелесть новорожденного. Ему может встретиться много такого, что понятно не каждому, а только тому, чья душа расположена к природе и ее делам.
Марк испытал удовлетворение – это веско, это следует записать, чтобы каждый, кто в ярости проклинает судьбу, кто грозит небесам, знал, что ярость – это род неразумного возбуждения, которое вспыхивает в ослепленной страстью голове. Следовательно, к ярости следует относиться настороженно.
Коляску сильно тряхнуло, и в памяти перебивом возникло остроносенькое лицо несчастной Галерии. На мгновение стало жутко – та, бок о бок с которой он вырос в доме приемного отца, ушла из жизни нелепым ужасным образом. Скоро сожаление и оторопь растаяли. Собственно, он всегда холодно относился к Галерии, она была намного старше, и эта разница в возрасте всегда отвращала Марка, тем более неприятно было вспоминать о ее глупых и навязчивых приставаниях, неумеренных восторгах: «Ах, какой ты миленький, Марк!» Действительно, в наивном возрасте он был очень симпатичный мальчик, кудрявый, не по годам рослый.
Марк не испытывал симпатии и к Фабии, его первой невесте, сестре Луция Вера. К ней Марк всегда относился с опаской. Сначала по причине ее малолетства – четырнадцатилетнему Марку трудно было представить, что этот кукольной красоты трехлетняя девочка когда-нибудь станет его женой. Со временем его отвращали бесконечные сплетни, то и дело расползавшиеся по Риму, об ее активном участии в похождениях братца Луция.
Присутствовала здесь и физическая неприязнь.
Марка всегда тянуло к пухленькой, гибкой Фаустине, младшей сестре Галерии, а не к этой длинноногой и напористой Фабии, жадной до гладиаторских игр, конных ристалищ и всякого рода происшествий – от пожаров до обвалов доходных многоэтажных домов, которых в Риме всегда было достаточно. Когда в Риме вновь вошли в моду обезображенные и изуродованные калеки, Фабия не пожалела двадцати тысяч сестерциев за карлика ростом в половину мужской ноги. Держала его в особом ящичке, как какую-то игрушку. При первом упоминании он за грудой государственных дел не обратил внимания, что в связи со смертью Галерии Матидия упомянула о Фабии.
Теперь после разговора с Матидией известие о страшной гибели сводной сестры перевернуло в душе ворох былого. Читая послание Ауфидия Викторина, он даже внимания не обратил на личное, пережитое!
Это печально.
К нахлынувшим сожалениям примешалась горечь и нелюбовь к себе, холодному, погрязшему в распутывании дворцовых интриг, отяжелевшему душой, скупому на сочувствие зануде.
Он приказал вознице остановить крытую воинскую повозку, в которой разъезжал по лагерям. Снаружи экипаж выглядел скромно – Марку не хотелось привлекать внимание лазутчиков Ариогеза к своим поездкам, – но внутри все было исполнено с той мерой необходимых удобств, которые позволяли императору в пути читать, заниматься делами, а также раскладывать постель и спать. Вспомнилось, сколько ночей они провели с Фаустиной в этой коляске, лежали в обнимку, любились, потом засыпали. Жена увлекалась быстро, начинала вскрикивать, осыпать поцелуями…
Фаустине хоть бы что! Римской матроне, жене принцепса не к лицу стесняться рабов, а Марку потом было неловко перед возницей.
Император вышел из коляски, жестом подозвал префекта Фульва, командовавшего конной охраной, коротко распорядился.
– Можешь спешить людей. Пусть оправятся.
– Император, до грозы не успеем! – предупредил префект.
– Успеем, Фульв, успеем.
Префект повернулся к всадникам, махнул рукой, те начали соскакивать с коней, разминать ноги.
Император направился к ближайшим кустикам. По приказу Фульва, трое громадных фракийцев двинулись вслед за ним. Император дал отмашку – ступайте, мол, назад. Те растерянно оглянулись на префекта. Тот развел руками.
Лес, редкий у дороги, дальше вглубь темнел, смыкался. Подрост густел, ели высоченные, неохватные. На ходу, замыкая воспоминания, укорил себя – к старости его ведущее совсем усохло, огрубело. Пропустил мимо ушей, что настойчивые требования Цинны усыновить Помпеяна таинственным образом связаны со страшным поступком, который совершил претор Ламия Сильван.
Возможно, эта смерть в самом деле подстроена?
Что, если кто-то, ввергнув в несчастье Ламию и его жену, решил продемонстрировать императору свое недоброжелательное отношение к выбору наследника. Или, что еще отвратительнее, подобным образом попытался спрятать концы в воду?
Сначала догадка показалась постыдной. Марк пристыдил себя за подозрительность. Что касается Коммода, он полностью доверял Фаустине. Однако, облегчившись у кустиков, вернув невозмутимость, решил, что дыма без огня не бывает.
Ламия Сильван считал себя философом, последователем Диогена, постоянно и громогласно заявлял о том, что всегда был, есть и будет верным сторонником императора, как будто кто-то сомневался в его преданности. Собственно, так поступают все недалекие разумом люди. Они любят повышать голос, к месту и не к месту клясться, восхищаться очевидным. Не было в городе образованного человека, даже среди самых распоследних грамматистов, который втайне не посмеивался над претором. О Ламии Сильване кто-то остроумно обмолвился – дурака учить, только портить, тем не менее в «партии философов» его всегда считали своим стойким приверженцем. Следовательно, для тех сенаторов, кто находился в оппозиции к Марку, лучшего повода для обвинения «философов», «умников», «безумцев, накупивших заморской мудрости на два асса и теперь возомнивших, что познали истину», не найти. Было в кого пальцем потыкать – вот, мол, до чего довела римского претора чужеземная зараза, извращающая все, что дорого честному гражданину. С другой стороны, сторонники Марка ждут от императора снисхождения или по крайней мере облегчения участи Сильвана.
Какой-никакой, а свой!
Император отогнул ветку, глянул в глубину леса. Там было хмуро и тихо, из чащи тянуло прелью.
Может, есть смысл указать тем, кто ждет от него перемены решения о престолонаследии, кто посмел подобным коварным образом угрожать ему, что он по-прежнему стоит на страже закона и мнения своего по поводу Коммода не переменит?
Где-то хрустнула ветка и оправлявшийся неподалеку Фульв насторожился, кивнул воину. Тот приготовил лук, наложил стрелу.
Марк некоторое время наблюдал за воином, потом принял окончательное решение – сегодня же отпишет Ауфидию. Пусть префект немедленно отдаст Сильвана под суд и в ультимативной форме потребует от сената скорого и справедливого, сообразующегося с заветами предков, приговора. Пусть также без отлагательства приведет его в исполнение. Это будет хороший знак всем, кто ждет от него уступок в вопросе о преемнике.
Возвращаясь к коляске, перебрал возможные последствия? Худшее, если сторонники императора решат сговориться с его недругами, ведь тем и другим нерадостен Коммод в кресле правителя? Сенат в большинстве своем уйдет в оппозицию.
Что ж, если в этом и состояла интрига, если кто-то из доброжелателей подтолкнул Сильвана к такому глупому и страшному поступку, чтобы проверить, не отступит ли принцепс от сына, не начнет ли торговаться, он однозначно покажет, что не намерен менять свое решение. Трезвый расчет подсказывал, что сила на его стороне. Сенат?.. Ну что сенат! Адриан в таких случаях презрительно улыбался и сплевывал. Антонин Пий вздыхал и разводил руками. Значит, и в нынешних обстоятельствах нет смысла идти на уступки, придется настоять на своем.
Вот чего не понимают те, кто считают себя его друзьями. Стоит только отстранить Коммода и усыновить нерешительного Помпеяна, на чем настаивают Цинна, Квинтилий, и другие, дорога к гражданской войне будет открыта. Ни Коммод, ни тем более Фаустина и преданные ей люди – а их немало – никогда не смирятся с подобным унижением. Карами, изгнаниями, даже казнями здесь ничего не решить. Умертвить сына, как это было проделано с соправителем Марка Луцием Вером? Тоже не выход. Принцепс более никогда не пойдет на такую меру, и не только потому, что злодейство противно природе и добродетели и оскорбляет пронизывающую космос, одухотворяющую пневму, – но из вполне практических соображений.
Какие политические трудности может разрешить отстранение Коммода, тем более его насильственная смерть?
Какие узлы развязать?
Разумный взгляд на возможных наследников подсказывал – Помпеян, казалось бы, опытный и храбрый вояка, Риме неожиданно сробел, потерялся, повел себя как вольноотпущенник, подыскивающий патрона. Он не в силах удержать власть, ему это не дано. Значит, вокруг него сложится круг советников, которые начнут вершить дела за его спиной. Это неизбежно вызовет всплеск возмущения, а затем и честолюбивых и дерзких надежд со стороны тех, кого вовсе нельзя подпускать к власти, и вся работа предшественников – Траяна, Адриана, Пия, – направленная к улучшению людских нравов, пойдет насмарку.
Смута приведет к тому, что рано или поздно на сцену выйдет неизвестный актер. Он сумеет подчинить себе армию, и гражданская война станет неизбежной. Коммод, каким бы правителем он ни оказался, является единственно возможным спасением для Рима. Только так можно будет сохранить единовластие и порядок.
Когда император вернулся к коляске. Феодот уже сидел рядом с возницей и повернувшись вполоборота следил на хозяином. Тот влез в обитую шелком полость и уже оттуда крикнул.
– Трогай!
Следом послышалось громкое звяканье оружие, топот заходивших под взгромоздившимися седоками коней, возглас Фульва.
В Риме никому не надо было объяснять, что значит гражданская война.
Кровь, крушение устоев, ужасающее падение нравов!
Во времена Вителлия и Отона находились воины, требовавшие награды за убийство родного брата или отца, сражавшегося на противоборствующей стороне. Однако эти бедствия представлялись теперь, с расстояния в полторы сотни лет, детскими игрушками по сравнению с тем погромом, в который ныне могло быть ввергнуто государство.
Во-первых, во времена Августа армия состояла из двадцати пяти легионов, что составляло примерно сто пятьдесят тысяч солдат. Теперь людей с оружием более четырехсот тысяч, и всех надо кормить, обувать, одевать, всем надо платить жалование, а это триста денариев в год на каждого. Попробуй хотя бы на полгода задержать выплаты! Об этом даже помыслить страшно! Если эта вооруженная масса выйдет из-под контроля, неисчислимые бедствия обрушатся на город и мир.
Во-вторых – и это было самое главное! – изменились внешнеполитические условия.
Марк кожей ощущал смену эпох. Юлий Цезарь, Октавиан Август, даже Веспасиан, могли позволить себе воевать с собственными гражданами, а он, Марк Аврелий Антонин, был лишен такой возможности. Если раньше Рим сам выбирал вектор наступления и заранее присматривал добычу пожирнее, теперь варвары осмелели настолько, что смеют сами обрушиваться на Рим. Соглядатаи докладывали, что на пиру, устроенном Ариогезом в честь приехавших к нему мириться сарматов, верхушка варваров открыто и дерзко рассуждала о том, что пришел срок потрясти спелые плоды с прогнившего дерева, называемого Римом. Пусть даже это было пьяное ухарство, но характерен был сам умственный настрой. Вот почему предстоящая кампания должна была не только спасти государство, но и обеспечить мир на многие годы вперед. Решительная победа над варварами, глубокое проникновение на север, в сторону Свевского моря, организация двух провинций неизбежно принудит необузданных германцев, обитавших между Рейном и Вислой, признать власть Рима, а также позволит с опорой на Карпаты выстроить надежную оборону против вторжений с востока.
Эти грандиозные задача нельзя решить привычным выдавливанием враждебных германцев на восток.
В Риме на все смотрели слишком благодушно и спесиво полагали, что все самые важные в пределах ойкумены события случаются в Вечном городе. Только император и верхи дунайской армии трезво оценивали обстановку. Недавнее, продолжавшееся четыре года вторжение варваров слишком дорого обошлось Марку Аврелию, чтобы и на этот раз совершить промашку. Каждый может ошибиться, однако в ту пору (Марк с остервенением почесал висок) он обладал самым драгоценным, самым невосполнимым сокровищем, которым может обладать человек – временем! Он был молод. Что такое сорок с небольшим для принцепса? Казалось, впереди уйма лет для свершений, для воспитания подданных и самого себя, для воплощения заветной мечты, которая одна только могла принести благоденствие и спокойствие миру.
В ту пору, когда фрументарии донесли, что его брат и соправитель Луций Вер втайне задумал недоброе по отношению к нему, он испытал первое душевное потрясение. Боль не могло смягчить и то, что Луция к измене подбивали завистливые, неразумные люди. Валерий Гомулл, Цивика и другие недоброжелатели в сенате то и дело повторяли, что принцепс, «сам по себе человек неплохой, однако позволяет жить на свете тем, чьего образа жизни он сам не одобряет. Несчастно государство, вынужденное терпеть людей, питающих страсть к наживе и богатству…»
«Марк философствует и занимается исследованием элементов, пытается изучить душу, задумывается о том, что честно и справедливо, и не думает о государстве…»
«Слыхали, префект претория, пользующийся расположением нашего философа, человек, вчера еще нищий и бедный, вдруг стал богатым. Откуда эти богатства, как не из крови самого государства и достояния провинциалов?»
Император прищурился. На этот раз никто не помешает ему выполнить задуманное. Опыт есть и при удачном течении событий ему должно хватить трех лет, чтобы повторить и превзойти подвиг Траяна, усмирившего даков, посмевших устами своего доморощенного царька Децебала на равных говорить с Римом. Пусть даже воинская слава – это пустой звук. Паук изловил муху – и горд! Другой – зайца, третий выловил мережей сардину, четвертый, скажем, вепря, еще кто-то медведей, иной – квадов. А не насильники ли они все, если вдуматься, каковы их основоположения?
Все равно, нельзя с брезгливостью бросать это дело, нельзя опустить руки, если даже редко приходится делать что-то, согласованное с разумом. Когда страдаешь, нельзя прибегать к философии. Не следует походить на больного, бездумно расточавшего здоровье – только заболев, он обращается к мазям и притираниям. Тогда не будешь красоваться тем, что живешь по разуму, а успокоишься в нем. Философия хочет только того, чего желает твоя природа, не более.
Но и не менее…
Стало грустно, страстно захотелось в палатку к полке со свитками и книгами.
– Феодот! – крикнул он. – Резвее!..
Возница хлестнул бичом, коляска пошла шибче, заскрипели кожаные ремни, смягчавшие тряску.
Итак, на первом этапе разгром варваров на границе.
На втором – вторжение в земли диких племен вплоть до границ Свевского моря. На третьем – милость к побежденным, установление прочного порядка на занятых территориях, образование новых провинций. Тогда можно будет говорить о безопасности города и мира.
Глава 4
В главный лагерь, в который были сведены три ударных легиона – Четырнадцатый Марсов Сдвоенный Победоносный Германский, Двенадцатый Молниеносный и Пятый Флавиев – Марк вернулся к вечеру. Успел до грозы, с полудня собиравшейся Данувием.
Грозовое облако надвигалось неспешно. Сначала обозначилось двумя исполинскими, божественной белизны, облачными башнями, между которыми провисла густая, с угольным отливом тьма. В той стороне тучи отчаянно терлись друг о друга и громыхающие раскаты то и дело долетали до лагеря. Скоро померк свет, и в боковые ворота лагеря Марк въехал уже в подступившей помертвелой мгле.
Сильные порывы ветра гоняли столбы пыли, рьяно набрасывались на кроны дубов, раскачивали наблюдательную вышку, построенную на самом древнем, в пять обхватов дереве.
От земли великан был голенаст, вверху троился. Вышка начиналась от самой развилки и, опираясь на толстые обрубки, вздымалась к самому небу. Наверное, жутко в преддверии грозы сидеть там, на площадке, и следить за противоположным берегом. К тому же надвигавшийся мрак, наверное, скрыл дали. Марк, выбравшись из коляски, приказал снять с вышки наблюдателей и усилить посты. Побольше понатыкать засад и пикетов вдоль берега и у лесной дороги, объявить двойное вознаграждение за пойманных лазутчиков. В боевое охранение отправить местных жителей, по набору призванных в войска.
Префект преторианцев Стаций Приск, дожидавшийся императора у шатра, поинтересовался насчет Сегестия.
– Он получил плетей? – спросил Марк.
– Да, император.
– Тогда в чем дело?
– Я полагаю, ему не место среди отборных.
– Почему?
Теперь префект пожал плечами, как бы удивляясь неразумию правителя.
– Он может затаить злобу. Я не могу рисковать, поручая ему твою охрану.
Марк кивнул.
– Позови Сегестия.
Наказанного привели два зверского вида ликтора. Солдат был обнажен по пояс, на теле кровавые рубцы.
Император жестом отослал префекта и палачей, затем присел на уложенное рядом с шатром бревно.
– Сегестий, префект настаивает, чтобы тебя вновь отправили в легион. Он полагает, что ты затаил на меня злобу. Это правда?
– Нет, император. Ваше дело наказывать, мое – терпеть, – он замялся, потом смело глянул на принцепса и добавил: – Цезарю цезарево…
– Кто научил тебя этой мудрости?
– Были такие, – неопределенно ответил Сегестий.
Марк покивал.
– Понятно. Значит, говоришь, я могу тебе доверять?
– Можешь, император. Я не в обиде. Ты дал мне свободу.
– Каким образом?
– Ты призвал в войско рабов и гладиаторов. Мы с Виргулой решили, что это наш шанс, и я должен заслужить свободу и хотя бы какое-нибудь отличие на поле боя, чтобы ее родственники простили нас. Или хотя бы остерегались мстить.
– Понятно. Я верю тебе, Сегестий. Вот зачем я позвал тебя. Ты, насколько мне известно, германского рода, из квадов. Ты знатен?
– Нет, из поселян. Наша община была небогата. Меня парнишкой продали в рабство.
– Где продали?
– На рынке в Виндобоне.
– Как тебя звали на родине?
– Сегимундом.
– Тебе известно, что вскоре нам предстоит воевать с твоими соотечественниками. Тебя не смущает, что в бою ты можешь сразить брата или отца?
– Нет, господин. Это война. Если мой брат или отец будут сражаться храбро, они попадут в Валгаллу. Таков удел воина. Но у меня, господин, нет ни братьев, ни отца.
– Мать есть?
Бывший гладиатор замялся, потом отрицательно покачал головой.
– Ты не хочешь вспоминать об этом?
Великан помрачнел, потом вновь тот же жест головой.
– Что такое Валгалла? – спросил император.
– О-о, государь, Валгалла, – восхитился солдат, – это жилище Вотана или по-вашему… по-нашему, Юпитера. Там собираются павшие в бою храбрые воины. Пируют, пьют молоко небесной козы – оно слаще меда, господин. Свет там от блистающих мечей. Это высокая честь попасть в Валгаллу.
– Но ты не желаешь попасть туда?
– Нет, господин. Валгалла – это выдумки. Я хочу попасть на небо, в райские кущи.
– Значит, веришь, что если тебе повезет, то на небесах встретишь своих детишек?
– Верить мало, господин. Надо еще заслужить. Право на небесную обитель не каждому по плечу.
– Разумно. То есть надежда надеждой, но и самому следует руки приложить.
– Да, господин.
– Как же надо жить, чтобы заслужить доступ на небо?
– Заповеди исполнять – не убий, не укради, не прелюбодействуй.
– Разумно. Это все?
– Нет, господин. Вот еще – возлюби ближнего как самого себя. Там много чего сказано.
– И это разумно. Тогда скажи, есть ли среди христиан такие, которые нарушают эти заповеди?
– Встречаются, господин.
– А среди твоих товарищей, кто верен старым богам, есть достойные люди?
– Есть, и много.
– Кто, например?
– Ты, господин.
Марк рассмеялся.
– Не хочешь выдавать друзей. Ладно, сойдемся на том, что среди вашего брата, христиан и тех, кто верен нашим богам, есть хорошие люди и плохие. Почему бы хорошим людям не объединиться и не научить плохих, что лучше следовать закону природы – или, как вы говорите, заповедям, – чем нарушать их?
– Не знаю, господин. Я за других не могу говорить. Только за себя.
– Ладно, ступай.
– Если будет позволено обратиться с просьбой?..
– Говори, Сегестий.
– Пусть меня пошлют в секрет. Мне нужны деньги, господин. Виргула захворала, а без нее мне жизнь не в жизнь.
– А сможешь? После… – он кивком указал на кровавые рубцы, проступившие на теле солдата.
– Умнее буду.
Здесь Сегестий не удержался от смеха.
– Это что! Это разве дранье?! Посмотрели бы вы, как дерут в гладиаторских школах.
– Ладно, скажешь Приску, чтобы поставил тебя в охранение.
Сегестий Германик как раз и приволок в лагерь лазутчика с той стороны. Правда, наказанный преторианец утверждал, что пойманный – перебежчик. Сегестий никому не доверил сопровождать пожилого человека, с головой кутавшегося в плащ, сам проводил его до самой палатки императора. Уперся как бык. Даже Септимий Север, в ту ночь отвечавший за порядок в лагере, не смог переубедить его.
Так их и привели. Сегестий поддерживал перебежчика, рядом шли два легионера, за ними Септимий и префект лагеря, тоже не спавший в эту грозовую ночь.
Буря отходила в сторону, однако над лагерем все еще бухало.
Молнии били в землю.
Все ждали знамения.
Оно не заставило себя ждать. Ослепительная вспышка, обилие света, и одновременно скатившийся с неба грохот поверг всех на землю. Перебежчик, упавший на колени, принялся часто креститься, повторяя скороговоркой: «Господи, спаси, Господи, спаси!..»
Сегестий, присевший на месте, тоже неловко обнес себя ладонью крест-накрест.
Наблюдательная вышка вспыхнула, на мгновение накренилась, и в следующее мгновение пылающие бревна посыпались сквозь дубовую крону, поджигая ветви, обрубленные сучья и ступеньки лестницы, ведущей наверх.
В ближайших к форуму палатках раздались вопли, солдаты хлынули на волю, заметались в проходах. Сорвавшиеся с привязи лошади сбили нескольких человек, затем случилось неизбежное. Трудно сказать, кто первый крикнул: «Германцы!» – однако вскоре паника охватила всех, находившихся в лагере. Легионеры, которым почему-то показалось, что враг наступает со стороны передних, обращенных к реке ворот, бросились к задним. Следом за ними помчались союзные когорты. Толпа прихлынула к форуму. Марк, Септимий Север, префект лагеря бросились навстречу бегущим, пытаясь задержать впавших в безумие солдат, принялись хватать их за руки. Однако мало кому в ту ночь удавалось справиться с ужасом. Только центурионы и трибуны, примчавшиеся на площадку у императорского шатра и сохранившие здравомыслие, начали помогать императору и легату. Между тем страх не унимался, и воины, огибая начальников, по-прежнему стремились к задним воротам. Тогда Септимий, побежавший в ту же сторону и успевший добраться до ворот в тот самый миг, когда тяжелые окованные металлом створки начали отворяться, бросился на землю и закричал, что пусть солдаты прежде затопчут его, чем он позволит им совершить недостойное.
Солдаты засовестились пройти по телу легата, к тому же центурионы и трибуны успели охладить страсти. Первые не жалели палочных ударов, другие работали древками копий, но никто не обнажил оружия, ибо в такую минуту вид блеснувшей стали мог довести потерявших разум людей до кровопролития.
Когда солдаты пришли в повиновение, Марк приказал собрать армию на форуме. Зажгли многочисленные факелы, и при зыбком их свете, при редких взблесках удалявшейся грозы, Марк поднял руку, призвал воинов к молчанию и объяснил, что враг и не помышлял о нападении. Что всему причиной удар молнии, попавший в наблюдательную вышку, с которой он предусмотрительно снял караул. Он спросил, есть ли здесь те, кто в последний час находился на вышке и получил приказ оставить пост. Эти двое тут же откликнулись.
Марк призвал их к себе, вывел на возвышение и продемонстрировал легионерам. Те, ободренные и засмущавшиеся от такой чести, подтвердили, что никого не заметили ни на этом, ни на том берегу.
– Граждане! – обратился к легионам император. – Нас ждут великие дела. Наше спасение в оружии, но кто и когда побеждал, поддаваясь панике и ломая строй? Не вступая в битву, вы поддались крикам неразумных и трусливых товарищей. Как же мне вывести вас в поле против дерзкого и многочисленного врага? Задумайтесь, вы единственная защита мирным жителям, вашим женам и детям, отцам и матерям, которые сейчас мирно трудятся в Паннонии и Норике, Дакии и Македонии, Далмации и Италии. Неужели вас испугал огонь? Неужели знамение, предвещающее нам победу и гибель врагам, лишило вас рассудка и ввергло в животный страх. На завтра я назначаю великие ауспиции[25]. Пусть боги докажут, что этот удар молнии, этот факел, вспыхнувший в ночи, призван осветить наш путь. Наказанных не будет, но с сего часа я ввожу в лагере распорядок военного времени. Спать с оружием, усилить караулы. Все понятно?
– Понятно, – нестройно заголосили в передних рядах.
– Не слышу, – Марк приложил ладонь к уху.
– Понятно! – заревела толпа, и следом воины принялись скандировать: – Аве, император! Аве, Марк!
К тому моменту центурионы разобрали своих людей и строем повели их к палаткам. Тех, кто сбивал ногу или пытался выйти из строя, безжалостно били палками.
Вскоре в лагере восстановилось спокойствие, лишь изредка доносилось лошадиное ржание и лай собак.
Все то время, пока на форуме царила сумятица, Сегестий провел возле сидящего на земле перебежчика. Марк, возвращаясь в шатер, кивнул ему – заводи лазутчика. При этом взмахом руки пригласил с собой легатов, однако перебежчик на хорошем латинском негромко предупредил принцепса.
– Только ты и я.
Марк удивленно глянул на него, по-прежнему кутавшегося в плащ, потом спросил:
– И без охраны?
Перебежчик глухо откликнулся:
– Сегестия достаточно. У меня нет оружия, Марк, и злобы я не таю. Однако прикажи, пусть не расходятся. Вероятно, придется собрать военный совет.
Император, удивленный, что незнакомец посмел назвать его по имени, тем не менее сдержался, жестом остановил двинувшихся было в его сторону легатов – первым из них стоял, отряхивавший с плаща землю Септимий Север, – затем приказал:
– Подождите здесь.
Префект преторианцев Приск шагнул к нему.
– Но, цезарь…
– Я сказал, ждите. А ты, – добавил он, обращаясь к префекту, – будь поблизости. Подготовь посыльных. Выставь вокруг претория усиленную охрану.
Уже в шатре Марк крикнул подбежавшему Феодоту:
– Свету! Всех посторонних вон!..
Императорские слуги, а также секретарь, вышли из шатра. Принцепс подошел к перебежчику. Тот откинул накидку с головы, обнажил лицо.
Марк отшатнулся.
– Бебий! Ты?
– Да, цезарь. Прошу тебя, называй меня Иеронимом.
Император удивленно глянул на старинного друга, пожал плечами, потом спросил.
– Откуда?
– С той стороны.
– Сбежал?
– Нет, послан Ариогезом, чтобы предложить тебе вечный и нерушимый мир.
Марк Аврелий вскинул брови, отошел к своему рабочему месту, устроился в кресле, предложил:
– Садись… хотя, если устал, можешь прилечь. Ты не голоден? Помнится, ты очень любил хлеб грубого помола.
Бебий неожиданно расплакался, тихо, обильно. Принялся тыльной стороной ладони вытирать слезы. Покивал.
– Да, любимый сорт Августа. Когда в последний раз мне пришлось отведать его? – Бебий вздохнул. – Даже припомнить не могу.
– Приказать принести?
Бебий усмехнулся.
– Прежде всего, дело. Хотя почему бы не попробовать домашнего хлебца?.. У тебя хороший пекарь?
– Лучше не бывает. Приказать принести?
Бебий усмехнулся.
– Тогда пусть подадут и какую-нибудь рыбу. Очень соскучился по свежей рыбке, особенно зажаренной так, как умеют только в Риме. У варваров вся пища пресная. Едят грибы, – император невольно поморщился, а Бебий продолжил, – лесные ягоды… Хлеб не прожевать. Поразительно, Марк, но все эти годы я ни о чем более не жалел, как о приготовленной умелым поваром камбале. Помнишь ту вкуснятину, что вылавливают в море возле Равены. Казалось, вокруг реки, ручьи, в них полно рыбы – ставь вершу и хватай руками. Ан нет!.. Всегда мечтал о камбале, здоровенной, – Бебий сотворил руками огромный круг и вздохнул. – Говоришь, у тебя хороший повар, Марк?
– Императорский, – пожал плечами принцепс и окликнул Феодота: – Сходи в поварню. Пусть постараются.
– Слушаюсь, господин.
Бебий удивленно глянул на раба.
– Хвала Христу, это же Феодот!
– Он самый, господин, – ответил раб.
Феодот не мог скрыть удовольствия, что спустя столько лет друг хозяина узнал его.
– Ах ты, старый развратник! – добродушно обругал его гость. – Помнится, ты ухлестывал за моей рабыней. Смущал ее недозволенными речами. Помнишь, как ты упросил своего господина купить ее у меня?
– Помню, господин. Как же мне забыть Бернадоту.
– Так ты женился на ней? Наверное, завел кучу детишек? – спросил Бебий.
– Нет, господин, – Феодот прочистил горло.
– Что так?
– Боги прибрали. Умерла она во время моровой язвы.
– Да-а, дела… Спаси Господь ее душу!
В этот момент Марк подал голос:
– Умерла с радостью.
– Как это? – удивился гость.
– Домогался я ее, Бебий. Хотел взять силой, правда, потом одумался. А тут болезнь пошла косить. Так что на мне много грехов – так, кажется, вы называете проступки, противные человеческой и космической природе, за которые человека после смерти ввергают в мрачный Аид. Скажи, Бебий, спасение для меня возможно?
Бебий пожал плечами.
– Спасти душу может каждый, тем более ты, о ком разве что песни не складывают.
– Для этого надо уверовать в распятого мошенника?
– А вот это тебя не красит, Марк. Стоит ли укорять пусть даже самого распоследнего раба, самого кровожадного разбойника в том, что он пострадал на кресте?
– Я согласен, если только потом его сообщники не начинают разносить повсюду так называемую благую весть и морочить головы людям неким таинственным воскрешением.
– Марк, я устал. У меня мало времени, чтобы вдаваться в риторические дискуссии. Я должен сообщить тебе что-то важное.
– Говори.
– Я послан к тебе с предложением мира. Ариогез желает подтвердить обязательства, взятые на себя прежним царем, и выполнить все условия мирного соглашения, заключенного два года назад. Но это еще не все. В окружении царя квадов открыто говорят о том, что сарматы вот-вот начнут войну. Ночью, перед тем, как германцы перевезли меня через Данувий, кто-то, невидимый во тьме, тайком шепнул мне, что сами квады начнут переправляться через три дня. Он просил предупредить тебя.
– Где?
– Не берусь утверждать, но, скорее всего, возле Карнунта.
– Но ты же утверждаешь, что Ариогез внял голосу разума? Что восторжествовала мудрость? Что он желает заключить мир.
– Нет, Марк. Я этого не утверждаю. Наоборот, считаю, это просто коварная уловка. О мире племенные вожди во главе с Ариогезом рассуждали только в моем присутствии, а между собой они называют этот мир позорным. Я не раз слышал призывы отправиться на помощь сарматам. Простые воины на сходках кричат, что не потерпят унижения.
– Интересно. Значит, говоришь, уловка. Что же Ариогез задумал на самом деле?
– Ударить тебе в спину, когда ты поспешишь на помощь двум легионам, охраняющим Аквинк.
– Какие основания заставляют тебя вынести подобное суждение?
– Количество воинов, собравшихся на той стороне и прячущихся по глухоманям, по балкам и за прибрежными холмами, превышает все, что я видел до сих пор. Они идут и идут. Кое-кто поговаривает, что в урочище, расположенном поблизости от бурга Ариогеза, видали сарматских всадников числом в несколько тысяч. Зачем они в такой дали от своих стойбищ? Они могли бы помочь своим ниже Аквинка.
– Так-так, – заинтересовался Марк, – вернемся к сарматам. Они в самом деле попытаются высадиться ниже Аквинка.
– Да, но это будет отвлекающий удар. Там в основном собрались конные отряды и пешие галлы. Варвары попытаются отвлечь на себя внимание главных сил и развернуть тебя тылом к Карнунту.
– Ты полагаешь, я поверю в эти сказки? – спросил Марк.
– Что тебе остается, – пожал плечами Бебий.
– Ну, у меня много возможностей развязать тебе язык и заставить говорить правду.
– Я сказал правду.
– Может быть, – согласился Марк. – В таком случае давай по порядку. Не будем спешить. Как ты попал в руки Ариогеза, почему он послал именно тебя? И обязательно расскажи, почему ты решился нарушить указания царя квадов. Только прошу, не надо пустых слов о верности Риму, любви к родине. У таких, как ты, нет родины. Вы плюете на пенатов, на родные очаги. Ваше царствие на небесах, там вы ждете утешений и радости, а здесь, в бренном мире, хоть трава не расти. Одним словом, все по порядку.
– Как бы ты ни относился к моим словам, но я – римлянин, Марк. Я приписан к всадническому сословию. И это достаточное основание.
– Называй меня императором. Но лучше цезарем. Да, для кого-то это достаточное основание, однако я знавал римлянина, который променял всадническое достоинство на грязные одежды нищего, а отеческих богов на глупейшее суеверие.
– Я не стану спорить с тобой, цезарь, насчет суеверия. Этот спор я проиграю, а ты, вне всякого сомнения, выиграешь. Как, впрочем, его выиграли Калигула, Нерон и Домициан. Как выиграл Веспасиан, пославший на казнь более тысячи невинных душ только за то, что они сделали свой выбор. Что касается отеческих богов, то я полагаю их идолами, и как свободный римлянин выбрал свет иной звезды, называемый истиной. Эта вера вполне достойна и пригодна для каждого человека, в том числе и для того, кто имеет всадническое достоинство. Мы, дети Рима, выжили только потому, что каждый сознательно делал свой выбор. Ведь ты с уважением относишься к выбору Гая Юлия или Октавиана Августа, а ведь они тоже посягнули на отеческих богов, на установления предков. И ты сам, цезарь, разве не выучил у Диогнета, Рустика, Аполлония, что существует единый логос, единое первоначало.
Мы называем его Господь Бог, а все ваши, так называемые Юпитеры, Юноны, Минервы, Венеры, Меркурии, всего лишь проявления этой единой небесной силы, сотворившей твердь и хляби морские. Так стоит ли склонять голову перед кумирами, отражающими свет истины, не лучше ли обратиться к самой истине? Не кажется ли странным, Марк, что, обожествляя императоров, римляне присваивают себе чужие права, которыми никто и никогда их не наделял. Зачем я должен вымаливать удачу и помощь, милость и благословение у изображения Гая Юлия, которое есть не более чем рукотворное размазывание красок?..
Бебий внезапно примолк, глянул на императора.
– Ты всегда умел слушать, Марк. Вот и тебя обожествят после смерти, ты считаешь, это разумным? Твое ведущее, твоя природа полагают себя божественной сутью?
– Безусловно. Моя душа – частичка божественной сути. Даже слепленная из атомов, она живет по общим для всего космоса законам, и это божественно, Бебий! Это радует.
Но, как я понимаю, ты имел в виду другое – культ, который после моей смерти, возможно, провозгласит сенат. Что я могу тебе ответить? Если кому-то в будущем поможет воспоминание о «философе» и он, утвердившись, совершит добрый поступок, я буду рад.
– Но ведь это же обыкновеннейшее суеверие, Марк! – воскликнул Бебий.
– Возможно. Но в таком случае все вокруг пронизано суевериями.
– О нет, цезарь! Не только суевериями, но и верой.
Вся наша жизнь – цепь надежд и разочарований. Страх сменяется отчаянием, ликование – унынием. Все наши поступки, решения, помыслы, расчеты скрепляются верой. Отправляясь в путь и не оставляя в стороне мысль о возможных несчастьях в пути, ты просто вынужден поверить, что благополучно доберешься до цели. Иначе никто из нас никогда не вышел из дома. Но беда может нагрянуть, когда ее не ждут, не так ли? При этом не имеет значения, сколько стражей тебя охраняет. Вступая в сражение, ты надеешься на успех, начиная войну, веришь в победу, однако даже после тщательной подготовки, при наличии перевеса в силах ты не можешь быть окончательно уверенным в благоприятном исходе. Каждый день ты, даже не подозревая об этом, отдаешь свою судьбу на волю случая, веришь в удачу. Юноша, отправляясь на свидание с любимой, тешит себя надеждой на ее благосклонность. Собираясь на рынок, каждый из нас надеется, что цены не поднялись. После долгой разлуки поспешая к жене, ты ожидаешь, что она хранила верность. Ты не можешь знать этого наверняка, пусть даже тысячи свидетельств и свидетелей начнут доказывать, что она не изменяла тебе. Ты можешь только верить. И так во всем.
– Не надо хамить, Бебий. Если даже я прикажу тебя пытать, я не унижусь до оскорблений.
– А что, до сих пор погуливает? – запросто спросил Бебий.
Марк опустил голову.
– Теперь нет, но…
– Так разведись с ней, Марк! Ты же повелитель мира. Одного твоего слова достаточно…
– И ты туда же. Все, как один, твердят – разведись, разведись! Словно забыли наш закон, что в этом случае я буду обязан вернуть приданое. А приданым в данном случае что является?
Бебий пожал плечами.
– Государство, глупый ты человек! – воскликнул Марк. – Ее отец дал ей в приданое Рим. Выходит, я должен отказаться от власти?
Наступила пауза. Бебий подошел ближе к императору, обнял его за плечи, заглянул в глаза. В свою очередь, обнял его и Марк. Дернувшийся было к перебежчику, наполовину обнаживший короткий меч Сегестий опустил руки и вновь также неумело перекрестился.
– Крепись, Марк, – наконец выговорил Бебий. – Узнаю тебя, прежнего. Милый мой зануда, искатель добродетели.
Ни чуточки не изменился. Все должно быть по правде, по закону, иначе хаос, кровь, гибель.
Никак нельзя развестись и сохранить власть!!!
К тому же ты любишь ее. Крепись, божественный. Я без смеха. Таким, как ты, надо родиться. Ты явлен людям в качестве примера. Глядя на тебя, каждый имеет возможность убедиться – на любой должности можно жить по правде, по закону, по основоположениям. И жить достойно. Ты философствуешь, словно дышишь.
Ты все еще исправляешь себя?
Помнится, в юности ты искал способ, который помог бы тебе избавиться от дурных страстей и прожить в обнимку с добродетелью. Еще в ту пору я смотрел на тебя и удивлялся – зачем тебе это? Теперь удивляюсь еще больше – ты все такой же. Все жаждешь совершенства?
Марк не ответил, только порывисто вздохнул.
Бебий развел руками.
– У Эпиктета были одни штаны, понятно, по какой причине он начал философствовать. Диоген пропивал все, что попадало ему в руки, поэтому он, как разумный человек, провозгласил, что человеку следует довольствоваться необходимым. Лишнее для человека обуза. У Зенона была кривая шея – то ли в драке повредили, то ли уродился таким, – вот он и выдумал, что его малюсенькое ведущее есть часть великого разума. Той же пневмой одухотворяется, по тем же установлениям живет.
– Разве не так?
– Так-то оно так, но что такое ваш разум, логос, все пронизывающее и все одухотворяющее дыхание? Всего лишь частички Создателя. Какие-то, пусть даже и важные, его воплощения. Вы же словно дикие германцы, бьющие поклоны деревяшкам и камням, уперлись в одну из его ипостасей и провозгласили – вот где истина! Вот почему ваш логос представляется каким-то неполным, несвязанным, отвлеченным.
Он существует исключительно для себя самого. Следовательно, он недостаточен для описания всего бытия. Если он безразличен к человеку, нужен ли он человеку?
– А ваш галилеянин?
– А наш галилеянин есть Христос. Это пример, если угодно, доказательство того, что Господь велик, он любит нас, страдает за нас, жаждет, чтобы мы стали лучше, обещает награду.
Он здесь, – Бебий обвел руками помещение. – Он рядом со мной, с тобой, Феодотом, Сегестием.
Господь смотрит на нас добрыми глазами, Марк. Он смотрит глазами Христа. Отворачивайся не отворачивайся, но этот взгляд поддерживает тебя, дарит надежду. Этот взгляд способен простить. Надо только отдаться ему.
А кого может простить твой логос?
Он холоден и слеп. Рассказывают, что Эпафродит, хозяин Эпиктета, отличался жестокостью и ради забавы или из зависти принялся скручивать ему ногу особым орудием. Эпиктет оставался спокойным и только предостерег мучителя: «Ты сломаешь ее». Когда же это действительно случилось, Эпиктет – героический, следует признать, человек, – также спокойно добавил: «Ну вот, ты и сломал». Твой дружок Цельс в сочинении против моих собратьев, спрашивает: «Почему ваш Христос, испытывая страшные мучения, не произнес таких прекрасных слов?»
Наш Бог молчал, Марк, и это еще прекраснее.
Он только смотрел, Марк. Его глазами Господь глядит на мир, на людей. Вот в чем и состоит ведущее, следовать которому призывали Зенон, Хрисип, Эпиктет.
Он замолчал.
Наступила тишина. Наконец Бебий нарушил ее.
– Ты можешь подвергнуть меня пытке, но я скажу то же самое – Ариогез намерен развернуть твои легионы тылом к Карнунту. С этой целью он постарается выманить тебя из лагеря и отправить маршем на помощь Аквинку. Это все, что я знаю. А теперь мне пора, я хочу вернуться.
– Куда?
– На ту сторону, там ждут меня те, кто уверовал. Я должен быть с ними.
– Да, но если ты вернешься и события начнут развиваться не так, как задумал Ариогез, он убьет тебя.
Бебий не ответил. Марк впервые за весь разговор вспылил.
– И почему я должен тебе верить? С какой стати?
– Что тебе еще остается, цезарь. Я же сказал, жизнь любого человек держится на вере, крепится верой, и никакое, пусть даже самое великое знание не заменит ее. Либо ты доверяешь мне – и тогда легионы не тронутся с места, либо нет – и тогда они отправятся к Аквинку.
– Рыбы хотя бы поешь, – вздохнул император и подозвал вошедшего в палатку слугу.
Бебий глотнул слюнки.
– Благодарю, цезарь. Поверь, я сказал правду.
Он подошел к столу принялся за рыбу, зажаренную по-римски, с луком, чесноком, на оливковом масле. С корочкой, с хвостиком и хрустящими плавниками, погрызть которые одно удовольствие. Ел пальцами.
Марк искоса глянул на перебежчика, поглощавшего рыбу. Не мог же он сказать Бебию, что к такому повороту событий они в претории так долго готовились. С этой целью заранее загнали войска в излучину Данувия, разделили их таким образом, чтобы у врага создалось впечатление, что римляне собрались переправляться на другой берег. Не мог и выказать радости, услышав те новости, которые доставил Бебий.
Сказал о другом.
– Сегодня в полдень лагерь посетила Матидия.
Бебий замер, некоторое время стоял с кусочком рыбы в испачканной жиром руке, потом осторожно положил кусок и отрицательно покачал головой.
– Она приехала не одна, – добавил Марк. – Привезла с собой твоего сына. Он будет служить в Четырнадцатом легионе. Могу позвать его.
– Благодарю, божественный, но и этого не надо. Чем быстрее я переправлюсь на левый берег, к квадам, тем меньше будет подозрений. Полагаю, у Ариогеза есть свои люди в лагере. Если он решит, что после разговора с тобой я вернулся, чтобы выведать его тайные замыслы, он не задумываясь предаст казни моих чад во Христе.
– Много их?
– Дюжина, цезарь.
– Не густо, – усмехнулся Марк.
– Германцы трудно познают истину, – развел руками Бебий. – Но среди страдальцев, попавших в плен к варварам, – их не менее ста пятидесяти тысяч, – много тех, кто ждет слова утешения. Если я промедлю, им придется не сладко.
– Ты наивен, Иероним, – усмехнулся Марк. – Как скоро ты не обернешься, Ариогез в любом случае будет рассматривать тебя в качестве моего соглядатая.
Он сделал паузу, некоторое мгновение искоса посматривал на Бебия, потом спросил.
– Значит, твое решение твердо?
– Да, цезарь.
– Ладно, – кивнул Марк, – будем думать. Соображать…
Потом он обратился к Сегестию.
– Передай префекту, пусть собирает преторий. Поднимать всех, кто имеет право голоса в совете. Пусть пригласит также начальников союзных когорт. Септимию Северу передай, чтобы тот привел на совет молодого Бебия Лонга. И быстро!
Когда Сегестий вышел, Бебий Лонг, принявший во Христе имя Иеронима, обратился к Марку.
– Я же предупреждал тебя, цезарь, что среди союзников могут оказаться тайные сообщники Ариогеза?
Император кивнул.
– Я подумал об этом и приму свои меры.
Глава 5
Совет продолжался заполночь. Бебия император укрыл в своей спальне – там проповедник доел рыбу. Затем, приблизившись к занавескам, раздвинув их, отыскал через щелочку своего сына.
Его лицо едва различалось в подрагивающем свете факелов, которые с началом совета зажгли в шатре в бо́льшем количестве. К тому же Бебий сидел дальше всех, позади всех, у самого входа в шатер. Легаты, трибуны, особенно первые центурионы первое время косились на него – у императора появился новый любимчик?
Наверное, тоже из философов?
Затем услышанное настолько поразило их, что они уже не отвлекались. Первым ответом на предложение Ариогеза было решительное, пусть даже и нестройное, «нет». Выкрикивали с места – не для того, мол, столько месяцев томились в лагерях, чтобы разойтись без боя. Затем Марк, внутренне порадовавшись боевому настрою, приказал квестору провести, как того требовал обычай, опрос членов совета, во время которого префект сингуляриев Фульв заявил, что подобный дрянной мир хуже доброй ссоры, ибо он оставляет спор с варварами нерешенным.
Подавляющее большинство совета высказалось за отказ от переговоров, либо за ультиматум Ариогезу. Когда же Марк приказал опросить и вождей союзников, против выступили только два начальника отрядов, присланных побежденными маркоманами и котинами. После оглашения результата голосования слово взял император.
– Мир, – сказал Марк Аврелий, – есть самая желанная цель, к которой мы стремимся. Ради чего мы сражаемся? Разве не ради спокойствия римского народа? Что кроме мира способно надежно обеспечить будущее государства? Поэтому я выбираю переговоры. Своим полномочным послом назначаю человека честного, знакомого мне не понаслышке. Я имел время убедиться, что он верен своему слову. Не следует обращать внимание на его платье, он перенес много тягот в пути. Итак, послом римского народа я назначаю всадника Бебия Корнелия Лонга-старшего.
Император сам прошел за занавеску и вывел оттуда заметно опешившего, пожилого, изможденного мужчину, одетого в ветхий, местами дырявый плащ, такого же возраста тунику и германские широкие штаны.
В следующее мгновение собрание потряс возглас молодого Бебия Лонга.
– Отец!
Юноша бросился к чужаку. Тот обнял его, потом вопросительно глянул на императора. Марк чуть заметно усмехнулся.
В толпе, собравшейся в шатре принцепса, начали переговариваться. Кто-то из легатов шепнул на ухо Септимию Северу: «Тоже из философов?» – «Нет, – ответил Септимий, – еще хуже. Из христиан».
Император поднял руку, шум в зале утих.
– Мы выбираем мир. Условия те же, что и во время последних переговоров. Квадам нельзя селиться в пограничной полосе за рекой на расстоянии семидесяти шести стадиев[26]. Их судам запрещается плавание по реке. Они не имеют права заселять острова. Квады имеют право собирать народные собрания не чаще раза в месяц, в определенном месте и в присутствии римского центуриона. Они обязаны поставлять в Рим зерно и скот, а также давать в римскую армию 13 тысяч пехоты. Они должны вернуть всех пленных, захваченных во время войны. Условия жесткие, но если Ариогез проявит добрую волю, мы можем смягчить некоторые пункты, о чем наш посол будет соответствующим образом извещен. Возражений нет? Дополнений, особых мнений?
– Позволь мне, император, – с места поднялся начальник отряда бойев, служивших в римской армии. – Как быть с торговлей? Мы – галлы, мои соотечественники не желают торговать с Римом на одних и тех же рынках, в одно и то же время с грязными квадами. Этот вопрос необходимо решить, чтобы потом во время торгов не возникали стычки.
– Согласен, – кивнул император. – Каждому племени будет выделен свой особый день.
Когда совещание закончилось и приглашенные на совет разошлись, Бебий Лонг-старший спросил императора:
– Как же без моего согласия, Марк? Я не имел в виду надевать тогу, тем более алый плащ.
– Ты же сам сказал, что собираешься вернуться на противоположный берег. Ты сказал, что в случае изменения обстановки тебе будет грозить смертельная опасность. Теперь, когда ты возвращаешься в ранге посла римского народа, твоя безопасность будет гарантирована. Даже этим глупым и дерзким квадам известно, что с ними будет, если они осмелятся поднять руку на посла. Это первое, Бебий. Второе, ты назвал себя римским гражданином, принадлежащим к всадническому сословию. Раз так, ты не вправе отказываться от моего поручения, в противном случае позор падет не только на тебя, но и на твоих родных, и в первую очередь на сына, которого я прикажу выгнать из армии.
– Ты жесток, Марк, – укорил императора Бебий.
– Не более чем ты забывчив, Иероним! Как тебе в голову пришло сменить гордое родовое имя Корнелиев на какую-то иудейскую кличку. Однако выбор за тобой. Не желаешь принять звание посла, возвращайся на ту сторону бродягой, но зато с этой минуты я буду знать, что христианам доверять нельзя. Они способны предать в любую минуту. Как видишь, разум порой бывает исключительно изворотлив и вполне способен обходиться без веры. Уверовал ты в чужеземного Спасителя, не уверовал – это меня не касается, но свой долг будь любезен исполнить до конца. Один раз в юности ты пренебрег долгом. Я простил, более этого не повторится. Я дам тебе охрану, позволю набрать ее самому, дам квестора для ведения протокола. Запомни, Бебий, все, что здесь говорилось, что обсуждали, о чем спорили – все всерьез. Я жажду мира, условия ты слышал. И предупреди Ариогеза, чтобы он поостергся обманывать меня. Если он задумал какую-нибудь пакость, я назначу награду за его голову. Например, тысячу золотых. За эти деньги самый близкий друг сдаст мне его, живого и тепленького. Не его, так его семью. Ариогез и пошевелиться не успеет. Все ясно?
Бебий кивнул. Лицо его заметно помрачнело. Он опустил голову и молча рассматривал пол.
– Каков твой ответ, Бебий?
– Я согласен.
Сын бросился к нему.
– Отец, я поеду с тобой.
Бебий отшатнулся, рукой отстранил сына.
– Ни в коем случае!
– Почему? – пожал плечами Марк. – Он – воин, римлянин, у него хорошее образование, и чин квестора да еще в первый же день пребывания в армии ему не помешает. Посуди сам, когда он вернется с того берега, никто не посмеет упрекнуть его в лизоблюдстве, поспешном хватании чинов. У него будет имя.
– Но это значит послать его на смерть! Я же объяснил, что Ариогез коварен!
– Отец! – вступил в разговор Бебий. – Я не намерен в бою укрываться в ставке. Я вырос с мечтой встретить тебя. Я всегда верил, что ты никогда не изменял слову. Сегодня я убедился, что ты тот, о ком я мечтал. Ты хочешь разбить мою мечту?
– Эх, Марк, Марк, – вздохнул Бебий Лонг.
Утром следующего дня на правый берег Данувия вышла преторианская центурия в боевом облачении. Солдаты образовали коридор. Следом появились тубицины[27], подавшие громовой раскатистый сигнал, их поддержали буцинаторы[28], долгими пронзительными трелями окончательно разбудившие еще сонную, поддернутую клочьями тумана реку. Спустя несколько минут на противоположный берег толпой выбежали германцы. Их было около сотни, над толпой возвышались всадники, судя по нарядным, поблескивавшим золотым шитьем плащам, относившиеся к знатному сословию.
Между тем со стороны Карнунта к римскому берегу приблизилась небольшое весельное судно. Как только с его борта на песчаный пляж был переброшен широкий трап, из леса появилась группа римлян, среди которых особенно выделялся алый, шитый золотом плащ императора. По образованному преторианцами коридору они дошли до самой воды. Спешившись, император обнял наряженного в воинские доспехи, тоже покрытого плащом человека, после чего тот взошел на борт судна, и после погрузки его свиты оно направилось к германскому берегу.
Марк долго, прищурившись, наблюдал, как сначала германцы раздались, затем окружили посольство, позволили Бебию сесть на коня, и скоро вся толпа исчезла в мрачных еловых зарослях. Прибрежный лес на той стороне выглядел мрачным, непроходимым, только одаль, на прибрежных холмах, светлело. Там вековые сосны стояли редко, отдельными рощами. Свет раннего солнца золотил стволы. Марк втянул густой, пропитанный запахом влаги, сосновой смолы и здоровья воздух. Постоял еще несколько мгновений, надышался, затем резко повернулся и направился к коню. Два преторианца помогли ему, грузному, долговязому, взгромоздиться на спину жеребца.
Тем же утром было проведено освящение места падения молнии с одновременными жертвоприношениям Юпитеру и гаданиями. Сначала в жертву был принесен двухлетний бычок, затем углистый пень обнесли срубом, на котором была вырезана надпись «fulgur conditum» (скрытая молния).
После чего по указанию императора приступили к гаданиям.
Внутренности жертвенного животного принялись изучать гаруспики. Войсковые авгуры, обратившись к северу, некоторое время следили за небом. Небесные приметы подтвердили, что боги одобряют войну и обещают римлянам удачу. Пара коршунов в пределах видимости появилась с правой стороны. В конце гаданий служители вынесли клетку с обрядовыми курами. Птицам насыпали зерна, те принялись с жадностью клевать его.
Это был хороший знак, воины начали одобрительно переговариваться.
Лишь к полудню Марк улучил момент, чтобы уединиться. Решил прилечь, отдохнуть. Припомнились продолжавшиеся всю ночь хлопоты, связанные с подготовкой Бебия-старшего, формированием эскорта, выдачей денежных сумм и прочей канцелярской суетой. Во все влезал, все доклады выслушивал, так что до рассвета не удалось сомкнуть глаз. Теперь навалилась усталость, безумно хотелось побыть в одиночестве, раздражали человеческие голоса, пение буцин, ругань центурионов. Даже ясный день был не в радость. Уже завалившись на походную кровать, запустил калигой в Феодота, крикнул вдогон – никого не пускать.
Отдышался, глянул в вышитый верх шатра – полог здесь был подбит темно-синим синдоном (полотном, привозимым из Индии), украшен лучистым месяцем и золотыми звездами. Прикинул, все ли сделано, ничего не упущено?
В чем себя можно упрекнуть?..
Подкинул Ариогезу загадку. Пусть теперь царь квадов задумается – не промахнулся ли он с Марком, не вляпался, если даже в Бебии не сумел разглядеть римского вельможу? Пусть оледенит его сомнение, приживется там, свернется холодной змейкой. Если откровенно, Марк был не прочь заключить мир на тех условиях, которые повез с собой Бебий. Иное дело, согласится ли Ариогез?
Все это пустое. Загадывать – только обманывать себя.
Император поднялся, прошел в кабинет, присел возле одного из сундуков, где хранилась его личная библиотека. Достал записи, нашел те листы, что были уложены в третью по счету книгу. Отыскал искомое место:
«Ищут уединения в глуши, на берегу моря, в горах. Вот и ты об этом тоскуешь. Только все это как-то по-обывательски, ведь стоит только пожелать, и сей же час уединишься в себе. Вспомни, нигде человек не уединяется глубже и надежнее, чем у себя в душе, особенно если обладает он тем, на что, стоит только взглянуть, сразу обретешь совершеннейшую благоустроенность.
Вот и помни на будущее об уединении: прежде всего не дергайся, не напрягайся – будь свободен и смотри на вещи как мужчина, гражданин, как существо смертное. И пусть будет под рукой двойственное. Одно – что окружающие тебя вещи не касаются твоей души и стоят недвижно вне ее, а досаждает только внутреннее признание. И второе – все, что вокруг тебя, скоро подвергнется распаду. Его больше не будет…».
Стало грустно. Мысль оформилась. Чему она научила его? Зачем вообще перевел гору драгоценного пергамента? В чем польза этих нравоучениий, какой толк от «философствований»? По словам Антисфена{3}, «философия научила его беседовать с самим собой». И что? От каких постыдных поступков удержало его, Марка, это умение? Сколько смертных приговоров он подписал, а среди них, несомненно, были и невинные люди. Выходит, его руки в крови? Впереди война – дело жестокое, темное, беспокойное. Ты хотел прилечь, отдохнуть, потом вскочил, бросился к записям. Уединением в себе не руки ли пытаешься отмыть? Ищешь успокоения?
Жалуешься?
Нисколько.
Марк поднял кипу исписанных листов и как бы взвесил ее. Так и замер, пока Феодот, заинтересовавшись подозрительной тишиной, не заглянул в зал. Злоба, смешанная с обидой (то есть возмущение) плеснулись в душе – сказано, не тревожить!
Может, приказать выпороть его?
Стало совестно. Следом сам собой навернулся ответ. Если насчет ложного самомнения, похоти, скорби (неразумного душевного сжатия) ему трудно настаивать, помогли ли эти записи избавиться от названных пороков, то не без помощи письменных отчетов ему удалось излечиться от таких пагубных душевных склонностей, как жестокость, алчность, склонность к обидам и возмущению (то есть неразумной гневливости).
В том Марк мог поклясться.
Жестокостью – или, точнее, сопряженным с ним тончайшим, до мурашек по коже, наслаждением при виде страданий, причиняемых одним живыми существам другими живыми существами, – он отличался с детства. Самому было противно, страдал от такого постыдного любопытства, однако ничего с собой не мог поделать. Ума хватало кошек или птиц не мучить, но испытывал зверское, томительное удовольствие, наблюдая, как мальчишки из плебеев поджигали или рубили хвосты котам, вырывали у птиц перья. Случалось, давал себе волю и, испытывая отвращение к самому себе, отрывал у мух ножки. Затем с жутким интересом следил, как бескрылое, безногое существо жужжало, вертелось на месте, куда-то стремилось. Порой задумывался, а если с человеком так? Куда мог бы стремиться безногий и безрукий человек?
Та же беда проистекала из ослепляющей душу алчности. Мальчиком страстно занимался накоплением монет, прятал их в копилку, хотя у родителей денег было вдосталь, миллионы и миллионы золотых денариев. Все равно хотелось иметь свои, не тратить их, а потом как-нибудь разом – бах! и открыться, вон их сколько у меня.
Одно время его затерзали обиды. Казалось, все его презирают, даже бабушка смотрит на него, как на козявку, и ведет себя строго не потому, что стремится воспитать его как мужчину, но исключительно по причине презрения.
Единственным из учителей, кому Марк признался в этих порочных, обременяющих душу наклонностях, был Диогнет.
Он и излечил – или по крайней мере научил, как бороться с подобными хворями. Для начала приказал рабу жестоко выпороть Марка, затем предложил глотавшему слезы, обиженному до глубины души, мальчишке нарисовать кошку с выпотрошенными внутренностями, подожженную ворону в полете. При этом философически настроенный грек невозмутимо и живописно рассказывал о тех муках, которые испытывали эти живые существа.
Он довел мальчишку до блевотины, потом, глядя ему прямо в глаза, укорил – сильный, говорил он, не станет мучить слабых. Если кот виноват в похищении рыбы, накажи. Выпори, но не мучай.
Подумай вот еще о чем – только глупец полагает, что с помощью жестокости можно удержать богатство, сохранить власть или обеспечить свою безопасность. Вот тебе ручка, вот лист папируса – садись, обдумай, а потом запиши, как жестокость укорачивает жизнь. Приведи примеры, вспомни хотя бы того же Публия Ведия Поллиона, за малейший проступок бросавшего своих рабов на съедение хищным муренам.
Чем он кончил?
Вспомни Калигулу, Нерона, ненасытного на кровь Домициана. Вспомни, наконец, своего покровителя, императора Адриана, выколовшего грифелем глаз рабу. Сумеешь в душе ощутить муки, которые испытал этот несчастный, – излечишься. Более того, наберешься мудрости.
Что касается обид, объяснил Диогнет, то здесь и записывать нечего. Обида – это смущение перед самим собой. Но почему ты должен стыдиться самого себя? У тебя две руки, две ноги, кудрявая голова, ты в тех же правах, что и окружающие тебя люди, и никто – ни бабушка, ни дед, ни божественный разум, направляющий в мире, – не имеют своей целью мучить тебя, причинять тебе страдания.
Разумный человек никогда не позволит себе обижаться на других. На пути к мудрости он может любить кого-то, ненавидеть, уважать, презирать, с кем-то бороться, от кого-то спасаться, кого-то корить, даже, будучи императором, лишить жизни. Это все чувства естественные, но гневаться разумный человек имеет право только на самого себя. Нечего сжимать душу и копить злобу. Наоборот, распрями ее, гляди смело, раздай плечи, ступай твердо.
Алчность, продолжил Диогнет, это та же болезнь, что и телесная хворь, например простуда или слабость желудка. Хотя, задумчиво добавил Диогнет, – ее скорее следует сравнить с запором. «Какой смысл, – спросил грек, – все это носить в себе?»
Диогнет и посоветовал юному Марку попробовать при помощи записей одолеть страсти и дурные привычки[29].
Средство надежное, объяснил учитель. Ведь тот же Платон, ринувшийся в мир идей и описавший неземное, тот же Сенека, обращаясь с потоком писем к Луцилию, тот же Цезарь, описывающий события Галльской войны, обращались прежде к самим себе. Себя учили, восхваляли, наставляли, оправдывали, корили.
– Следовательно, – учитель вздел указательный палец, – осознавали ценность самих себя для самих себя. Вот и обдумай это опорное представление.
Два дня прошли в гнетущем ожидании. Посольство возвратилось утром третьего дня. Вернулись все, кроме Бебия Корнелия Лонга Старшего. Вид у слуг и охраны был растерянный и удрученный. Бебий-младший до самого лагеря на вопросы сопровождавшего его трибуна не отвечал, только покусывал губы.
Представ перед императором, он доложил о прибытии.
На вопрос, как прошли переговоры, юноша ответил, что прислан передать цезарю предложения Ариогеза, а также послание-отчет, составленный главой посольства. На вопрос, где же сам отец, юноша ответил, что тот решил остаться «на чужой стороне».
– Всем приказал вернуться, а сам… – он порывисто вздохнул и после короткой паузы добавил: – Сам перебрался в поселение, которое варвары называют «городом».
– Разве сам Ариогез живет не в «городе»? – удивился Марк.
– Нет, цезарь. Он обитает в небольшой крепости, обнесенной рублеными бревенчатыми стенами. Германцы называют это укрепление бургом. Он построен на высоком берегу Мура (Моравы), в нескольких милях от поселения.
– Что там насчет переговоров? Ариогез в самом деле желает мира?
– Нет, цезарь, все это для отвода глаз. Правда, обращался он с нами достойно. Отец просил меня на словах предупредить, что Ариогез уже принял решение переправляться через реку. О том царь квадов толковал в бурге с предводителями других дружин.
– Дорогу запомнил? – спросил император.
– С трудом. Германцы вели нас по таким дебрям. Путь запоминал по солнцу. Господин, – внезапно голос у юноши дрогнул, – позволь вернуться на ту сторону?
– И думать не смей! – повысил голос император, потом потребовал: – Возьми себя в руки, подготовься к выступлению на претории.
– Но я же слово дал отцу, что вернусь за ним. Побереги его, Юпитер, но если с ним что-то случится, как мне дальше жить?
– Положись на меня. Я сделаю все, чтобы спасти его. Все, что в моих силах.
Бебий со слезами на глазах отошел к Септимию Северу, возле которого на форуме, в десятках шагов от императорского шатра, стояли подчиненные ему трибуны. Поблизости, не решаясь разойтись без приказа, толпились члены посольства – пятеро воинов, писец из сирийцев и несколько рабов. Они держались скованно, на лицах уныние – ничего хорошего для себя после такого возвращения они не ждали.
Император подозвал Сегестия, потом присел на вынесенный Феодотом на принципий стул.
Высоченный, громоздкий преторианец сделал несколько шагов в сторону императора. Марк жестом поманил его и, когда воин придвинулся еще ближе, тихо спросил:
– Что там случилось? Бебий жив?
– Жив, господин.
После некоторой паузы преторианец пояснил.
– Отправился к пленникам, их там много в городе. Ариогез точно собрался переправляться. Верные люди велели передать – жди возле Карнунта.
– Почему так решил?
– В поселении появилась прорицательница Ганна.
– Это кто такая?
– О-о, господин, – глаза у Сегестия расширились. – Это знаменитая на весь край вещунья. Ходит, пророчествует. У всякого, кто услышит ее, мороз по коже.
– И у тебя тоже, Сегестий? А как же вера в распятого Христа.
– Господин, я не так умен, как ты. Если Господь допускает, чтобы Ганна пророчествовала, значит, есть в том какой-то тайный умысел. Мало ли… К тому же она знает травы и лечит всякую хворь. Это доброе дело…
– Так что вещает Ганна? – нетерпеливо перебил его император.
– Она ненавидит Рим. Подбивает народ на войну. Сразу после июльских нон[30] потребовала провести гадания. Ее поддержали старцы, что живут возле священной рощи.
– Ну и?..
– Ариогез и главный жрец племен на берегах Альбиса и Вистулы вывели белого коня из рощи. Тот заржал под правую ногу.
В полдень на военном совете Бебий Лонг-младший доложил, что Ариогез готов принять условия Рима, однако квады настаивают на сокращении полосы отчуждения наполовину. Пункт о присутствии центурионов на народных сходках квады тоже отвергают. Затем молодой квестор выразил мнение отца. Бебий Лонг предупреждал, что эти переговоры только завеса.
Ариогез, продолжил Бебий, в отличие от князей свевов готов и языгов, пришедших в его страну со своими дружинами, вел себя с посланцами императора миролюбиво. Правда, его словам доверять нельзя. Главную опасность представляют отряды союзников. У предводителя готов более десятка тысяч воинов. Если Ариогез пойдет на попятный, свевы, готы и лангобарды грозятся обречь квадов богам. Что это, он не знает.
Когда Септимий Север поинтересовался, почему посол решил не возвращаться, молодой человек угрюмо ответил, что отец упросил Ариогеза разрешить ему посетить пленников, помочь тем, кто нуждается в утешении. Царь квадов удивился подобному добровольному заложничеству и ответил согласием на просьбу посла. При этом добавил, что в подобном случае он никакой ответственности за его безопасность не несет.
После короткого обсуждения члены претория решили продолжить переговоры – принять предложение насчет сокращения вдвое приграничной полосы и отвергнуть все другие условия, о чем известить царя квадов письменно, через гонца. О судьбе Бебия Лонга никто словом не обмолвился. Создавалось впечатление, что воинские начальники по молчаливому согласию вычеркнули изменившего вере отцов из списка сограждан. К сыну, напротив, отнеслись доброжелательно. Когда молодой человек обратился к собранию с просьбой поручить ему доставить ответ Ариогезу, лицо у Септимия Севера посуровело. Он приказал Бебию «быть верным воинскому долгу и думать не сметь о возвращении на противоположный берег. Выбор сделан», – заявил он.
Сразу после окончания совета Марк приказал вызвать начальников союзных отрядов, набранных в племенах маркоманов и котинов, родственных квадам. Оба они были средних лет, с вислыми длинными усами, в римских легких парадных доспехах, покрытых германскими короткими плащами. Оба в штанах. Оба отличались немногословностью и держались настороженно. У каждого под началом было по несколько тысяч воинов, поселенных в центре лагеря и окруженных палатками легионеров. В схватках их отряды пока участия не принимали.
Марк расспросил германцев о житье-бытье. Поинтересовался, каково настроение союзников? Получили ли воины жалованье за первые четыре месяца, не обижает ли префект лагеря? Упрекнул, почему их воины так мало времени уделяют воинским упражнениям. Вождь котинов Катуальда, огромный усатый дядька в рогатом шлеме и чешуйчатом панцире, угрюмо заметил, что фрамеи[31] и мечи в руках они научились держать в младенческом возрасте. С тех пор только тем и занимаются, что упражняются. Насчет жалованья претензий нет. С легионерами им делить нечего, каждый народ живет на особицу. Если же кто попробует обидеть их, сам потом пожалеет. Затем вождь маркоманов по имени Агнедестрий, молодой еще человек – лет тридцати, не более, – рыжеволосый, бородатый, тоже облаченный в доспехи, напрямую заявил, что на уловки и хождения вокруг да около более нет времени. Пусть император объяснит, с какой целью он вызвал их к себе. Если не доверяет, пусть так и скажет. Если верит, то они уходят.
Марк стерпел дерзость – что с них взять, с дерзких, неблагодарных, понятия не имеющих о добре и зле, погрязших в варварстве, с дичайшим акцентом говорящих на латыни. В то же время их неразвитое ведущее действует прямо, без постыдной маскировки под философа, какой пользовался Витразин, без уверток и змеиных улыбок, которых не жалел сенатор Гомулл или Цивика. Разговор с ними следует вести с той же прямодушной простоватостью, с какой они сами режут правду-матку. Он так и заявил – прошу, мол, довести до сведения Ариогеза, что даже теперь, когда Корнелий Лонг объявил себя частным лицом, император Цезарь Марк Аврелий Антонин Август по-прежнему считает всадника Бебия Корнелия Лонга полномочным послом римского народа. Царь головой отвечает за жизнь римского магистрата. Если с ними случится несчастье, квады будут объявлены врагами римского народа, и все их племя рано или поздно будет истреблено напрочь. Скорее раньше, чем позже.
– Я в последний раз, – заявил Марк, – закрою глаза, каким образом вы снесетесь с Ариогезом. Но в дальнейшем вам придется сделать выбор: либо вы и ваши люди честно служите мне, либо я освобождаю вас от обязательств перед римским народом. Можете отправляться куда угодно. Решайте, желанно ли вам получить римское гражданство, добыть состояние, продвинуться по службе, или вам более по сердцу уйти в дебри и каждый день ждать, когда с севера на ваши деревни навалятся готы или свевы.
Ответил старший по возрасту, Катуальда.
– Мы выполним твой приказ, император, и дадим знать Ариогезу, что жизнь и честь послов – это священный дар богов. Никто безнаказанно не смеет нарушить законы гостеприимства.
– Верю, – ответил император и поднялся. – Теперь слушайте внимательно. В священной роще на берегу Мура квады устроили гадания – это первое. Второе, в бурге Ариогеза был проведен какой-то поединок. Третье, князья готов, свевов, лангобардов и вандалов предупредили Ариогеза, что если тот откажется от своих обязательств, его племя будет посвящено богам.
Агнедестрий неожиданно присвистнул. Марк сурово глянул на него.
– Веди себя прилично, как подобает знатному.
Маркоман что-то невнятно буркнул, но возразить не решился.
– Я хочу знать, – продолжил император, – что значит быть посвященным богам, в чем смысл этого поединка и как можно истолковать ржание белого коня.
– Принцепс, – спросил вождь котинов, – ответь, кто победил в поединке?
– Не знаю. Известно только, что его исход утвердил вождей в победоносном исходе.
– А что с конем? – поинтересовался Агнедестрий.
– Он заржал под правую ногу.
Маркоман нахмурился, затем союзники переглянулись между собой. После короткой паузы котин объяснил.
– Вопрошая судьбу, у нас принято сталкивать в поединке самого храброго нашего воина с самым достойным пленным. Они сражаются до смерти. Кто победит, ту сторону и ждет победа. Коня из священной рощи выводят под уздцы царь и главный жрец. Если он заржет под правую ногу – удача, если под левую, жди беды. Посвятить богам по нашим обычаям означает предать смерти всех, от мала до велика. Так обычно поступают с предателями, а также с теми общинами, которые коварно нарушили данное слово.
– Таким образом, вы полагаете, война неизбежна?
– Да, государь.
Марк удивленно вскинул брови на рослого пожилого воина из племени котинов.
– Но с кем же Ариогез собирается воевать, если нас разделяет река?
Ответил Агнедестрий. Правда, ответил не сразу, некоторое время пощипывал себя за бороду, смотрел в сторону – видно, прикидывал, что и в какой мере можно сообщить императору.
– Я скажу, император, о чем догадываюсь. Тебе решать, правда это или ложь. Я знаю Ариогеза с детства. Он очень хитер и осторожен. Он никогда не бросится в бой, пока не убедится, что противник ему по плечу, что он растерян или не ожидает нападения. Коварству его научили в Риме.
Он опасается вот так, сломя голову, переправляться на этот берег, а ведь ты хочешь именно этого. Ариогез чует, что дело здесь не чисто, но и обратного хода у него нет. Теперь ему не выкрутиться, не отсидеться, как он отсиделся, когда мое племя храбро воевало с твоими легионами. Разве от хорошей жизни мы переправились через реку? Нас допекли бродяги с севера. Они посягали на наши исконные угодья, вели себя в наших пределах нагло, сгоняли моих сородичей с земли, воровали женщин. В ту пору эти грязные квады палец о палец не ударили, чтобы помочь нам. Теперь мы с тобой в мире, а исказившие наш язык разбойники – все эти готы, длиннобородые лангобарды, вандалы, одетые в звериные шкуры свевы – взялись за квадов. Они и привели Ариогеза к власти. Теперь ему не выкрутиться. Никому из квадов не выкрутиться. Теперь ему самому придется перелезать через реку.
– Я верю тебе, Агнедестрий. По крайней мере ты сделал выбор. Что скажешь ты, Катуальда… – цезарь глянул на котина.
– Цезарь, – ответил тот, – я по собственной воле привел к тебе свою дружину. Все мои сородичи теперь на этой стороне, ты дал нам землю. Я дал слово, что буду верно служить тебе. Я не ответчик за тех из моих соплеменников, которые остались в горах Богемии{4} и решили вновь испытать судьбу. Тем более в компании с Ариогезом, который мать родную продаст и не поморщится.
– Рад слышать, – кивнул Марк, затем спросил: – Когда же ждать нападения?
Он сознательно не употребил слово «переправа».
Котин пожал плечами.
– Чего не знаю, господин, того не знаю. Гадания обычно проводятся за два дня до выступления. Вот этого срока и придерживайся. Император, не в обиду тебе будет сказано, но Ариогез считает тебя слишком мягкосердечным и глупым для правителя. Привязанным к каким-то писулькам, роскоши.
– Ты хочешь сказать, трусоватым? Он полагает, что мне далеко до настоящего мужчины?
Катуальда кивнул.
– Вот что еще, государь. Я знаю, что среди моих людей есть глупцы, которые за пару серебряных монет не прочь известить Ариогеза о том, что творится в нашем лагере. Я постараюсь отыскать тех, кто с охотой доставит Ариогезу все, что ты пожелаешь ему сообщить, – после короткой паузы он многозначительно добавил: – Или кому другому сообщить.
– Я тоже поищу, господин, – поддержал его Агнедестрий.
Той же ночью к Авидию Кассию в Аквинк был отправлен императорский гонец с предупреждением, чтобы тот был готов и ждал сарматов.
Глава 6
Гонец из Аквинка прибыл на исходе второго после возвращения посольства дня, когда томительное, гнетущее ожидание начала войны сгустилось до невозможности заснуть.
Не слезая с коня, под охраной двух сингуляриев гонец галопом проследовал на форум. Спешился возле палатки квесторов, оттуда бегом, окончательно запыхавшись, подбежал к шатру, где его ожидал вышедший на внезапно прокатившийся по лагерю гомон Марк.
– Аве, цезарь! – отдышавшись, крикнул гонец. – Сарматы начали переправляться ниже города.
– Как далеко от лагеря Авидия? – спросил император.
– В пяти милях, государь.
– Много их?
– Много, цезарь. Конных более десятка тысяч. С ними пешие кельты, тоже видимо-невидимо.
– Конные в броне?
– Да. Переплывают реку в обнимку с конями. Бронь везут на плотах, облачаются уже на нашем берегу. Устанавливают повозки, чтобы защитить место переправы.
Марк глянул на солнце. Оно было свежо, с примесью багрянца, смотрело с любопытством. Легкие облачка копились повыше золотого ока. Погода обещала быть ясной, после полудня станет жарковато. Успела ли Фаустина добраться до Аквилеи или как всегда закопошилась в дороге?
К тому моменту к преторию начали подтягиваться члены военного совета. Когда легионеры заполнили форум, Марк объявил о переходе сарматов через реку, добавил, что война началась, враг дерзнул. Затем призвал к стойкости, бдительности, еще к чему-то призвал – говорил вдохновенно, используя риторические обороты, вроде: «Воины! Пробил решающий час… Изгоним из сердец всякое малодушие… Пусть осенят вас штандарты Камилла, Мария, Цезаря и Августа…»
Закончив речь и услышав редкое: «Аве, цезарь!» – на громогласном хоре настаивать не стал. Пусть люди привыкнут к мысли, что свершилось самое страшное, самое нелепое и кровавое дело, исполнить которое следует достойно. Воевать непоколебимо, не теряя присутствия духа, веруя в римскую доблесть и благоволение богов.
Командирам легионов приказал быть готовыми в любую минуту поднять когорты. Главной задачей назвал оборону Карнунта и дороги, ведущей на Петовию и Аквилею. Затем вызвал своего, заранее подготовленного гонца, передал ему свиток с приказом, а вслух добавил:
– Скажи Авидию три слова: «Боги жаждут победы!» Скачи немедленно. Тебе будут приданы два всадника для охраны. Если попадешься в лапы вражеских лазутчиков, послание можешь отдать бестрепетно, а вот то, что я сказал тебе, забудь напрочь. Понял?
Условная фраза означала, что Авидий Кассий должен приступить к исполнению задуманного.
После первой же стычки с переправившимися сарматами Кассий вынужденно отступил от Аквинка. Вечером примчавшийся гонец привез донесение, в котором полководец, командующий правым крылом армии, сообщил, что в виду огромного численного перевеса противника ему вряд ли удастся удержать оборону до того заранее условленного с императором момента, о котором шла речь зимой. Авидий просил разрешения в случае невозможности удержать лагерь начать отвод войск в глубь провинции.
В ответ император написал сирийцу что-то вроде дружеского увещевания, в котором попытался убедить полководца сделать все возможное, чтобы удержать позицию. В письме не было ни угроз, ни крепких выражений, так что Авидий, ознакомившись со свитком, только помянул в сердцах лярвов – богов дряных, порожденных душами умерших насильственной смертью. В узком кругу он позволил себе обмолвиться: «Горе мне с этим “диалогистом”! Желая прослыть добродетельным, он не решается всерьез употребить власть».
Однако недовольство мягкостью и прекраснодушием правителя не помешало победителю парфян и наместнику провинции Сирия умело вывести оба свои легиона, а также союзные когорты из-под охватывающих ударов сарматов.
Чтобы разорить возможно большую площадь и окружить Десятый Сокрушительный и Пятнадцатый Изначальный легионы, вравары разделились на четыре отряда. Авидий Кассий два дня сдерживал атаки бронированных с ног до головы, вооруженных длинными копьями сарматов, располагавших на правом равнинном берегу свободным пространством, позволявшим разогнать коней до галопа и врезаться в линии союзных когорт, выстроенных впереди легионов. После четвертой атаки полководец приказал отступить и укрыться в основном лагере, обнесенном окопами, плетнями, насыпями и волчьими ямами, заранее вырытыми по обе стороны от торного пути, ведущего из Аквинка в глубь провинции.
Самое последнее донесение о сражении было составлено в самых мрачных тонах.
Писано было, что в тот день боги оставили римлян, потери ужасные, боевой настрой пал до уныния. Авидий Кассий оправдывался многочисленностью врага, его возросшим умением воевать, молил о помощи. Что там молил – требовал, чтобы император с главными силами немедленно отправлялся в сторону Аквинка. Пусть поспешит, иначе восточной армии несдобровать, если кочевники сумеют навязать генеральное сражение.
Катуальда сдержал слово и после напоминания императора доставил к нему обещанного гонца. Сам привел его на принципий, велел подождать и вошел в шатер императора. Некоторое время они молча смотрели друг на друга, потом германский военачальник многозначительно кивнул.
– Пусть войдет, – приказал император.
Один из преторианцев, стоявший на часах, ввел варвара в шатер.
– Мне сообщили, – обратился к варвару Марк, – тебе известен короткий путь до вспомогательного лагеря возле Аквинка, где теперь обороняется Авидий Кассий?
– Да, господин.
– Получишь пять золотых монет, если до исхода дня доставишь туда письмо.
– Сделаю, господин.
Марк Аврелий, не скрывая заинтересованности, оглядел низкорослого, непомерно плечистого варвара, сплошь заросшего волосами и грязного донельзя. Тот, как и все его соплеменники, был в просторных длинных штанах с завязками повыше щиколоток, волосатая, под стать зверю, грудь открыта, на плечах короткий плащ из грубой домотканой, шерстяной материи. Голова непокрыта, борода торчком. Лет ему, наверное, чуть больше тридцати.