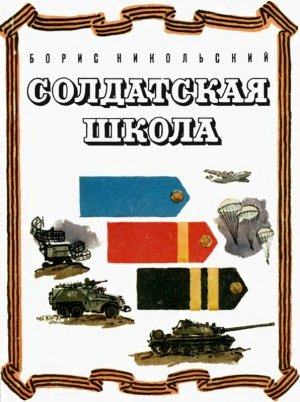
Однажды, когда я служил в армии, приехал к нам в казарму генерал.
— Попрошу вас, — говорит, — рассказать мне о самом важном, чему вы научились в армии. Только не торопитесь, — говорит, — подумайте как следует.
Подумали мы, подумали, начали отвечать.
Один говорит:
— Я стрелять метко научился.
— Я машину водить, — говорит другой.
— Я выносливости научился, — говорит третий.
Наш командир слушает, кивает. И генерал, видим, доволен.
— Я на радиостанции работать научился, — говорит ещё один солдат.
— Я с вышки прыгать.
— Я на лыжах ходить.
— Я приёмники ремонтировать.
Наконец очередь дошла до Матвеева. Он у нас в роте самый тихий был.
— Ну, а вы, Матвеев, — спрашивает командир, — чему научились?
— Я — пуговицы пришивать, — говорит Матвеев.
Все засмеялись, а командир наш даже рассердился. Неловко ему стало перед генералом.
— То есть как, — говорит, — пуговицы?
— А так… — говорит Матвеев.
— Что же, вы ничему больше в армии и не научились?
— Нет, отчего же… — отвечает Матвеев. — Я ещё бронетранспортёром управлять научился, по тревоге за полторы минуты собираться научился, из автомата стрелять умею, азбуку Морзе знаю, в электронных приборах разбираюсь, окопы рыть научился, противогазом пользоваться, на турнике «солнце» крутить, по-пластунски ползать, гранаты кидать, по компасу ходить, радиопередатчики настраивать, раненых перевязывать, песни петь…
— Погодите, погодите, Матвеев, — говорит командир. — И что же, по-вашему, выходит: пуговицы пришивать — это самое важное?
— Ну, самое не самое, — отвечает Матвеев, — а только до армии я в жизни ни одной пуговицы не пришил, всё бабушка пришивала. Так что это первое было, чему я в армии научился. Потому и запомнил на всю жизнь.
— А что, — говорит генерал, — пожалуй, Матвеев прав. В нашей службе всё важно. Кто солдатскую школу прошёл, тот и пуговицу пришить сумеет, и с самой сложной техникой справится. Да ещё и товарищу поможет. Тогда он настоящий солдат.
…Прошло уже много лет, а остались в моей памяти эти слова генерала. И теперь, если говорят про человека: «Он прошёл солдатскую школу» — это для меня самая высокая похвала.
СОЛДАТСКИЕ ЧАСЫ
Главная стрелка
Никогда не забуду свой первый день, а точнее — первый вечер в армии.
Случилось так, что мы — несколько человек — прибыли в свою часть на две недели позже, чем все остальные. Другие солдаты-новички уже успели к этому времени немного пообжиться, привыкнуть к армейским порядкам и на нас посматривали чуть свысока.
Днём мы помылись в бане, получили свеженькое обмундирование и познакомились со своими командирами. А вечером, когда наступила пора ложиться спать или, как говорят военные, время отбоя, вся рота выстроилась в казарме. Нас же, новеньких, старшина поставил в сторонке, отдельно, и произнёс такую речь:
— Если я спрошу, какая стрелка в солдатских часах самая главная, что вы ответите? Часовая? Ничего подобного! Минутная? Опять ошибаетесь! Секундная — запомните это! Секундная стрелка самая главная! А почему? Да потому, что в армии каждая секунда на счету. И распорядок дня — закон для солдата. С завтрашнего дня он будет законом и для вас. А пока смотрите и запоминайте.
Тут старшина вынул из кармана галифе большие часы, повернулся к замершей по команде «смирно» роте и протяжно, даже торжественно скомандовал:
— Внимание, ро-ота! Приготовиться к отбою! Даю две минуты. Разойдись!
Строй моментально рассыпался.
Солдаты бросились к своим койкам. На бегу они расстёгивали гимнастёрки, срывали ремни, сдёргивали шапки.
Кто-то с кем-то столкнулся.
Кто-то запутался в гимнастёрке.
Кто-то не мог стянуть сапог и скакал на одной ноге.
Мелькали белые нижние рубашки, мелькали портянки, грохали сапоги, раскачивались койки.
И над всем этим мельтешением, суетой и спешкой звучал раскатистый голос старшины:
— Осталась минута!
— Полминуты!
— Пятнадцать секунд!
— Отбой!
И сразу всё замерло.
Кто успел натянуть на себя одеяло и кто не успел — все так и застыли на койках. А несколько человек всё ещё топтались возле табуреток. И вид у них был растерянный и виноватый.
Кто-то из нашей группы хихикнул.
— Смешно? — спросил старшина. — Правильно. Смешно.
Он неторопливо оглядел ряды табуреток с как попало брошенным обмундированием, оглядел солдат, застывших на койках.
— Ро-ота! — скомандовал он. — По-одъём!
Опять замелькали рубашки. Гимнастёрки. Портянки. Галифе. Сапоги. Как будто ту же самую киноленту, которую мы только что просмотрели, теперь завертели в обратном направлении.
Построились солдаты, а старшина — снова:
— Ро-ота! Отбой!
И ещё через три минуты:
— Ро-ота! По-одъём!
— Отбой!
— По-одъём!
Больше никто из нас уже не смеялся. Мы поняли, что с завтрашнего дня нам предстоит то же самое. И мы не ошиблись.
Сколько было этих «подъёмов» и «отбоев»!
Сколько раз подгонял нас неумолимый голос старшины: «Осталась минута!», «Полминуты!», «Пятнадцать секунд!»
Сколько раз ругали мы в душе наших командиров: «Подумаешь, какая важность — лишние пятнадцать секунд!»
И сколько раз злились на самих себя, когда никак не давались нам эти последние пятнадцать секунд!
А сколько узнали мы маленьких, очень простых и очень важных секретов: как правильно сложить гимнастёрку, чтобы утром в спешке не запутаться в ней, как быстрей натянуть сапоги, как правильно завернуть портянку, чтобы потом не стереть ногу…
Но зато как радовались мы, как гордились собой, когда по первой ночной тревоге наша рота поднялась быстрее всех и когда в ответ на похвалу командира полка мы дружно гаркнули:
— Служим Советскому Союзу!
Климат климатом…
Первый год я служил на востоке, в Сибири, в холодных краях. Помню, утром диктор по радио объявляет:
— Сейчас температура воздуха минус двадцать восемь градусов…
На улице ещё темно, холодно. Ох, как не хочется выскакивать на мороз из тёплой казармы!
А сержанты — наши начальники— командуют, торопят:
— Поживее, поживее! Строиться на зарядку!
Потом перевели меня на юг, в Среднюю Азию. Утром соскакиваем с коек, диктор сообщает:
— Сейчас температура воздуха плюс двадцать девять градусов…
На улице солнце вовсю припекает. В тени бы сейчас посидеть, в прохладе…
А сержанты командуют, торопят:
— Поживее, поживее! Строиться на зарядку!
Климат климатом, а зарядка зарядкой…
И такая была та зарядка, что сон сразу как рукой снимало. Начиналась зарядка всегда с бега. Пробежим километр, полтора, потом принимаемся за вольные упражнения.
А вот одному солдату — рядовому Мамонтову — бег никак не давался. Не умел он бегать. Пробежит метров двести и уже отстаёт от взвода, позади плетётся.
— Сердце у меня слабое, — говорит. — Задыхаюсь. Не могу бегать. Не имеете права с моим слабым здоровьем меня на зарядку гонять. Я врачу пожалуюсь.
И правда, пошёл он вскоре к врачу — жаловаться. Вернулся довольный.
— Всё в порядке, — говорит. — Врач очень внимательный человек оказался. Осмотрел меня, выслушал, лекарство обещал выписать.
А тут как раз дежурный по роте приносит от врача специальную тетрадку, куда врач все рецепты записывал.
Раскрыли мы тетрадку, а там записано:
«Рядовому Мамонтову прописываю: первую неделю каждый день бегать по километру, вторую неделю — по полтора километра, третью неделю — по два километра.
Доктор Добрецов».
Вот тебе и лекарство!
С тех пор бегал Мамонтов на зарядку вместе со всеми. Больше на своё здоровье не жаловался.
Вторая натура
После зарядки, только успеешь заправить койку, почистить сапоги, умыться, а дневальные уже подают команду:
— Строиться на утренний осмотр!
Утренний осмотр для молодого солдата вроде экзамена. Выдержишь или не выдержишь. Только экзамен этот не раз в год, не раз в месяц, а каждый день.
Идёт сержант, командир отделения, вдоль строя, медленно идёт и к каждому солдату присматривается.
Аккуратно ли пришит подворотничок — смотрит.
Все ли пуговицы на месте — смотрит.
Хорошо ли вычищены сапоги — тоже не забудет взглянуть.
Не набиты ли чем лишним карманы, на месте ли носовой платок — всё интересует сержанта, каждая мелочь.
Знает сержант: дисциплина в армии начинается с привычки к аккуратности, к порядку.
Правда, был в нашем взводе один солдат, который никак не хотел привыкать к порядку. Звали его Миша, фамилия — Соловьёв. Был он парень разболтанный, избалованный. Вот ему чаще всех и доставалось и от старшины, и от командира отделения, и от командира взвода. Короче говоря, ото всех командиров. Только, бывало, и слышишь:
— Соловьёв, опять сапоги плохо почистил?
— Соловьёв, а пуговицу кто за вас пришивать будет?
— Соловьёв, почему койка небрежно заправлена?
А самому Соловьёву, конечно, казалось, что к нему просто придираются. Но делать нечего, в армии с командирами не поспоришь: приходилось ему каждый день и сапоги чистить, и койку перезаправлять по нескольку раз, и пуговицы пришивать. Зато, когда останемся одни, он и говорит:
— Надоела мне такая жизнь. Вот увидишь: как только отслужу, домой вернусь — спать буду часов по двадцать в сутки, честное слово. Постель заправлять ни за что не стану. К сапожной щётке никогда не притронусь. Не веришь? Вот чем хочешь клянусь!
И так случилось, что уезжали из армии мы с ним вместе. Вместе пришли на вокзал, вместе сели в один поезд и поехали домой.
Утром я вижу: Соловьёв берёт сапожную щётку, идёт в тамбур и как ни в чём не бывало начинает надраивать сапоги.
— А как же твоя клятва? — спрашиваю.
— Тьфу ты! — говорит. — Совсем забыл.
Размахнулся и тут же вышвырнул щётку за окно вагона.
На другой день остался в нечищеных сапогах. Но вижу — нет-нет да и поглядывает себе на ноги. Словно его беспокоит что. Но молчит. И на следующий день — тоже. А поздно вечером — я уже на верхнюю полку забрался, засыпать начал — вдруг слышу: кто-то тихо-тихо мой чемодан приоткрывает.
Обернулся, а это Мишка Соловьёв.
И в руках у него — моя сапожная щётка.
— Понимаешь, — говорит он виноватым голосом, — не могу. Привык. Такое чувство, словно бы не умывался…
Недаром, видно, есть такая пословица: «Привычка — вторая натура». Второй характер, иначе говоря.
Солдатский аппетит
Когда человек слабосилен, когда не может справиться с каким-нибудь делом, про него говорят: «Мало каши ел». Зато про солдат этого никак не скажешь. Потому что каша — главная солдатская пища.
Не знаю, кто как, а я кашу ещё с детства любил. И в армии ел её с удовольствием. До сих пор помню — войдёшь в столовую с мороза, усталый, а на столе бачок — дымится горячая пшённая каша! Хорошо! Сядут за стол одиннадцать человек — не успеешь оглянуться, бачок уже пуст.
Сколько служил я в армии, никогда не слышал, чтобы солдаты на аппетит жаловались. Не зря говорят, что солдатское питание так хитро рассчитано, что толстые в армии худеют, а худые поправляются. Во всяком случае, я поправился, это точно могу сказать.
Про тренировку
Честно говоря, когда ехал я в армию, военную службу представлял себе очень смутно.
Мне мерещились манёвры, парады, атаки, крики «ура», дымовые завесы, грохот взрыв-пакетов…
А увидел я…
Увидел я первым делом расписание занятий, совсем как в школе. И отметки в журнале.
Только вместо школьных звонков дневальный подаёт команды:
— Приступить к первому часу занятий!
— Окончить первый час занятий!
Только ни опоздать, ни прогулять никак нельзя. Потому что на занятия — строем, и с занятий — строем. Дисциплина. И уроки, конечно, другие.
Физподготовка — чтобы стать сильными.
Огневая — чтобы стать меткими.
Инженерное дело — чтобы стать неуязвимыми.
Строевая — чтобы стать выносливыми.
Много разных предметов, все не перечислишь. Только успевай заниматься.
Привели нас впервые на полосу препятствий. Командир наш, сержант Остроухое, объяснил нам, что к чему, показал, как под колючей проволокой ползти, и как через забор перемахнуть, и как окоп перепрыгнуть.
— Ясно? — спрашивает.
— Ясно! Ясно! — отвечаем мы.
До того всё это легко и ловко получалось у сержанта, что и нам показалось: подумаешь, что тут сложного! И полоса вроде бы не очень длинная, и забор не очень высокий, и окоп не очень широкий.
А как стали сами преодолевать эту полосу, тут и началось! Кто шинелью за проволоку зацепился. Кто на заборе застрял. А кто до окопа добежал и выдохся: не то что перепрыгнуть — и шагу больше сделать не может.
Ещё раз попробовали — опять не выходит. В третий раз — ещё хуже. Только совсем вымотались. Вспотели, перемазались, еле дышим. И обидно: неужели мы такие неспособные?
А сержант улыбается.
— Запомните, — говорит, — даже самую простую вещь без тренировки не одолеешь.
Построил он взвод и повёл дальше.
— Сейчас, — говорит, — я покажу вам радиостанцию, которую вы будете изучать. Вот смотрите.
— Где? Где? — спрашиваем мы.
Потому что вокруг ничего нет, похожего на радиостанцию. Только стоят три большие крытые автомашины.
— Да вот же! — говорит сержант Остроухое и показывает на машины. — Это она и есть.
Вот так да!
Целых три машины! Да разве такую махину одолеешь? Там одних радиоламп, наверно, штук триста! А разных переключателей, приборов, стрелок, кнопок, сигнальных лампочек — попробуй разберись!
— Ну как? — спрашивает сержант. — Нравится?
А мы молчим. Нет, видно, никогда нам на такой радиостанции не работать.
— Ничего, — говорит сержант Остроухое. — Не унывайте. И запомните: даже самую сложную штуку одолеешь тренировкой…
И знаете, прав он оказался. Потому что и полосу препятствий мы осилили, и на радиостанции работать научились, даже в больших манёврах потом участвовали, и ничего — не подкачали.
Только если бы дневальные отсчитывали с самого начала те часы, что провели мы на полосе препятствий, и те часы, что тренировались на радиостанции, то в конце концов звучали бы такие команды:
— Окончить семьсот пятьдесят шестой час занятий!
— Приступить к семьсот пятьдесят седьмому часу занятий!
Или что-нибудь в этом роде.
Обед
Про обед могу сказать то же самое, что про завтрак.
«Крестики-нолики»
Недавно я встретил на улице своего старого товарища — Толю Капустина. Мы вместе с ним в одной роте служили. Теперь он уже солидный человек. Заочный институт закончил. Начальник цеха на большом заводе. Не Толя, а Анатолий Иванович. И никто, конечно, не догадывается на заводе, что у этого солидного человека когда-то было смешное прозвище: «крестики-нолики».
И вот почему.
Когда мы служили в армии, больше всего не любил Толя Капустин часы самостоятельной подготовки. Никак ему было не высидеть спокойно эти два часа. Все занимаются, а он скучает. Полистает для вида книгу и шепчет соседу:
— Давай в «морской бой» сыграем?
Три игры у него были любимых: «морской бой», «балда» и «крестики-нолики». В эти игры он всех обыгрывал.
Сержант Остроухое заметит, подойдёт к нему:
— Опять вы, Капустин, посторонним делом занимаетесь? Получите-ка наряд вне очереди.
А наряд вне очереди — это значит пол мыть.
Вечером Капустин моет пол в казарме, его спрашивают:
— За что это тебя?
— За «морской бой»… — отвечает.
На другой день опять моет, опять спрашивают:
— А сегодня за что?
— За «крестики-нолики»…
Так вот и прозвали его «крестики-нолики».
Только кому же понравится каждый день пол мыть?
Никому не понравится.
И Капустину не нравилось. А что будешь делать? Волей-неволей пришлось заниматься. Не было другого выхода.
И вот теперь, спустя несколько лет, когда мы встретились, я не удержался, спросил:
— А «крестики-нолики» помнишь?
— Ещё бы! — засмеялся Капустин. — Ох и злился я тогда на нашего сержанта! А теперь спасибо ему говорю. Если бы не армия, я бы никогда в жизни институт не закончил. До армии меня и палкой за уроки было не засадить. Только в армии и привык самостоятельно заниматься. А всё он — сержант Остроухое. Вот тебе и «крестики-нолики»!
Личное время солдата
Есть и такое в распорядке дня. Чтобы письмо домой написать. Книжку почитать. Отдохнуть. Так оно и называется: «личное время».
Только я сначала этого времени совершенно не замечал. Будто его и не было вовсе.
Потому что времени мне постоянно не хватало. Я постоянно торопился и постоянно чего-нибудь не успевал.
В личное время я учился прыгать через «коня».
В личное время мыл противогаз.
Стирал подворотнички.
Тренировался на полосе препятствий.
Читал учебники.
А когда наконец собирался сесть за письмо или сыграть в шашки, дневальный уже командовал:
— Рота, приготовиться к построению на ужин!
И так весь первый месяц. И второй — тоже. И третий.
Но вот однажды подошёл ко мне мой друг Саня Калашников и говорит:
— Давай-ка сыграем в шахматишки.
— Какие ещё шахматишки! — говорю я. — Не видишь, что ли, мне некогда.
— Почему некогда? — говорит он. — Ты же ничего не делаешь. И тут я обнаружил, что и правда ничего не делаю. И ужасно удивился. Неужели я наконец-то успел сделать всё в своё время, когда положено?
Вот тогда, пожалуй, я первый раз и почувствовал, что становлюсь настоящим солдатом.
Ужин
Про ужин могу сказать то же самое, что и про обед.
Как мы нарушали распорядок
А когда же провести комсомольцам своё собрание? Когда послушать интересную лекцию? Когда поспорить о новой книге?
Оказывается, и для этого есть в распорядке дня специальное время.
Потому что, где бы ни служил солдат — в большом городе или на далёком-далёком полустанке, солдата всегда интересует, что делается в мире.
В то лето, когда служили мы, в мире было тревожно. Враги напали на революционную Кубу. Храбрые кубинские солдаты отважно сражались за свою свободу.
Каждый день нам не терпелось узнать последние новости.
Но мы служили далеко на востоке. Когда в Москве только рассветало, у нас уже наступал полдень. Когда в Москве начинало темнеть, у нас уже была глубокая ночь. Когда московский диктор желал своим радиослушателям спокойной ночи, у нас дневальные по казарме кричали: «По-о-одъём!». И последние известия, которые в Москве передают в семь часов вечера, приходились на час ночи.
Но мы не хотели ждать утра.
Мы просто не могли ждать.
Как там дела на Кубе — вот что не давало нам покоя.
И мы просили дневального потихоньку от командиров разбудить нас посреди ночи и слушали радио…
Конечно, это было нарушение распорядка дня, а точнее сказать — распорядка ночи. Но я думаю, если бы командиры узнали об этом, они бы не рассердились, они бы поняли нас.
Оружие любит ласку…
«Оружие любит ласку — чистку и смазку» — эту старую пословицу каждый солдат знает. А я бы, пожалуй, так сказал: «Оружие любит ласку — когда чистку, а когда смазку».
И вот почему.
К своим первым стрельбам мы готовились особенно долго и тщательно. На занятиях по огневой подготовке изучали автомат. Тогда у нас были автоматы ППШ. Хорошие автоматы, надёжные. С ними наши бойцы всю войну прошли.
Ещё учились мы правильно целиться. Учились плавно нажимать спусковой крючок. Учились правильно ложиться.
И конечно, с нетерпением ждали дня стрельб.
А в день стрельб с утра ударил мороз — градусов тридцать, не меньше. Но всё равно точно в положенное время наш взвод прибыл на стрельбище.
Вышли солдаты на огневой рубеж. Загремели выстрелы.
И вдруг — что такое? Один автомат не сработал. Потом второй. Потом третий.
Даже опытные сержанты заволновались. Никогда такого в роте не было. Настоящее чрезвычайное происшествие!
А хозяева отказавших автоматов стояли с такими обиженными лицами, словно их обманули. Столько старались, столько готовились, и выходит — всё зря? Вот тебе и надёжное оружие…
— Ничего, — спокойно говорит командир роты. — Сейчас разберёмся.
Взял он один автомат, вынул затвор, помудрил над ним немного.
— Так и есть, — говорит. — Смотрите.
А там на одной крошечной детали — застывшая смазка. Простым глазом её еле видно. Неужели из-за такого пустяка автомат не стреляет?
— Да, — говорит командир роты, — не будь мороза, это и правда пустяк. А в мороз и такой пустяк важен.
Протёр как следует детали затвора, вышел на огневой рубеж, и — бах! бах! — ожил автомат!
С тех пор мы ещё тщательнее осматривали и чистили, и смазывали свои автоматы.
Отбой
Близится к концу долгий солдатский день.
Старшины выводят роты на прогулку. И не упустят случая лишний раз потренировать солдат: «Строевым! Строевым! Запевала, песню!»
И хотя не видно в темноте, какая рота идёт, это нетрудно узнать по песне. У каждой роты своя любимая песня. Роты словно соревнуются одна с другой, словно стараются перепеть одна другую.
Но вот затихают песни возле казармы.
А там уже вечерняя поверка: старшина назначит дежурного по роте и дневальных на следующие сутки, проведёт перекличку, сержанты отчитают провинившихся и похвалят отличившихся за день, и всё.
ОТБОЙ!
КАК Я ПРЫГАЛ С ПАРАШЮТОМ
Как-то в редакции одного журнала мне предложили поехать в воинскую часть. Пожить там, а потом написать рассказы о солдатах.
— Куда — выбирайте сами, — сказали мне, — даём вам три дня на раздумья.
— Нет, — сказал я, — мне не надо трёх дней на раздумья. Я уже знаю, куда поеду. Я поеду к десантникам.
Я и правда давно уже мечтал побывать у десантников. Я много читал и слышал об их мужестве и выносливости, и мне очень хотелось своими глазами увидеть, как живут и учатся эти отважные люди.
— Ну что же, поезжайте к десантникам, — сказали мне, — счастливого пути.
Так я оказался в воздушно-десантном подразделении, и прожил я там почти целое лето.
И вот, когда я вернулся домой, в Ленинград, все мои друзья и знакомые при встрече первым делом зад- мне один и тот же вопрос, словно сговорились:
— А ты сам-то прыгал?
И я с гордостью отвечал:
— А как же! Конечно, прыгал!
— А страшно было?
— А с какого самолёта?
— А с какой высоты?
Я столько раз отвечал на все эти вопросы, что постепенно у меня в голове сложился целый рассказ о том,
КАК Я ПРЫГАЛ С ПАРАШЮТОМ.
Самое простое упражнение
Конечно, прыгать без всякой подготовки никто не разрешит. И без солидного медосмотра — тоже.
Поэтому прежде всего меня повели в учебно-тренировочный городок. Этот городок немножко похож на городок аттракционов в парке. Только аттракционы здесь, прямо скажем, «чуть-чуть» посложнее.
Я увидел здесь: парашютную вышку, специальные качели — со сложным названием «лопинг», макеты самолётов, один самолёт был маленький, а другой — огромный, и ещё разные другие приспособления, названий которых я не знал.
Возле качелей я остановился. Здесь занимались десантники. Вот один солдат раскачался — сильнее! сильнее! — и — раз! — качели описали круг так, что солдат на секунду повис вниз головой. Ещё круг! Ещё! Семь… восемь… десять… пятнадцать…
У меня даже закружилась голова, а солдат всё продолжал вертеться как ни в чём не бывало.
Мы с моим провожатым, лейтенантом, пошли дальше.
Около макета огромного самолёта АН-12 была натянута упругая толстая сетка — батут. Как в цирке. Солдаты один за другим бросались в открытый люк самолёта и падали на батут.
— Это они учатся правильно отделяться от самолёта, — сказал лейтенант. — А сейчас попробуйте-ка и вы сделать одно упражнение…
Я с опаской посмотрел на парашютную вышку.
Но упражнение, которое мне предложили сделать, выглядело совсем простеньким: прыгнуть с двухметровой горки. Только не просто прыгнуть, а предварительно зажать между коленями и между косточками щиколоток две щепочки. Самые обыкновенные деревянные щепочки. Если во время прыжка щепочки не выпадут, значит всё в порядке, приземлился правильно. Если выпадут — начинай всё сначала.
Мне, честно говоря, даже неловко стало — таким пустяковым показалось это упражнение. Вроде бы скакать через верёвочку заставляют взрослого серьёзного человека.
— А вы попробуйте, — засмеялся мой провожатый.
Я попробовал.
Попробовал один раз — не получилось. Второй раз — опять ничего не вышло. Уж, кажется, так плотно сжимаю ноги — плотнее невозможно, а щепочки всё равно падают.
Только на пятый или шестой раз получилось это упражнение.
И тут я узнал, что упражнение это хоть и простое, а очень важное. Потому что для десантника правильно приземлиться — это самое главное.
— В своём парашюте вы можете не сомневаться, — сказал мне лейтенант. — Техника у нас надёжная, не подведёт. А вот если не научитесь правильно приземляться, тут уж можно ногу или руку сломать. Здесь уж всё только от вас зависит.
После пришлось мне делать упражнения и посложнее, но всё-таки это первое, со щепочками, запомнилось мне больше других…
Нет дела серьезнее
За день до прыжков солдаты укладывали парашюты. Нет для десантника дела серьёзнее, чем укладка парашютов. Об этом я не раз слышал, пока жил у десантников. Недаром в день укладки с утра не проводится никаких занятий: солдаты не должны уставать, солдаты должны быть предельно внимательны.
В это утро на плац вынесли и расстелили длинные брезентовые полотнища — «столы».
На этих «столах» солдаты во всю длину растянули парашюты.
Проверяли оранжевые чехлы, проверяли белые купола, проверяли крепкие стропы.
Потом начали укладывать. Не торопясь, тщательно.
А начальник парашютно-десантной службы и командиры по нескольку раз придирчиво проверяют, всё ли верно. Каждую складку, каждый узелок проверяют.
Когда парашюты были уложены, мы пошли в курилку. Если кто-нибудь думает, что в солдатской курилке только и делают, что курят, то это совсем не так. В курилке ещё рассказывают разные истории.
И вот какую историю услышал я в тот день.
Случилось это с рядовым Козыревым. Был он ещё совсем неопытным десантником — ему предстояло совершить всего лишь второй свой прыжок. И конечно, он очень волновался.
Прыжок был самый простой — с принудительным раскрытием парашюта. Так называются прыжки, когда десантнику не надо самому дёргать за кольцо. Эту работу за него выполняет длинная верёвка — фал. Как только парашютист оставляет самолёт, фал натягивается, срывает с парашюта чехол, и купол раскрывается. Все новички прыгают так.
И в этот раз всё шло как обычно. Один за другим солдаты покидали самолёт. Один за другим раскрывались в небе огромные белые купола.
Наконец наступила очередь Козырева.
Он бросился за борт самолёта и тут же ощутил сильный рывок. Рывок был таким резким, что у Козырева потемнело в глазах. На секунду он даже потерял сознание. Он не понял, что произошло. Он только слышал гуденье ветра в ушах.
Когда он опомнился, он не поверил своим глазам: он летел вслед за самолётом. Он оказался привязанным к самолёту длинным фалом. Подобно тому как лыжник на водных лыжах несётся вслед за глиссером, так и Козырев теперь нёсся вслед за самолётом.
От страха он ощутил противную слабость в руках и ногах. Что делать? Он не знал.
И те, кто остались в самолёте, тоже не знали, что делать. Как спасти Козырева? Попытаться втянуть назад в кабину самолёта? Невозможно. Когда самолёт летит, встречный поток воздуха во много раз сильнее, чем течение самой быстрой, самой бурной реки, — попробуй-ка осиль его!
Обрезать фал? А что, если Козырев потерял сознание и не сможет раскрыть запасной парашют? Тогда — верная смерть.
Что же делать?
И те, кто были сейчас на земле, тоже видели, как несётся вслед за самолётом тёмная точка, и тоже ничем не могли помочь Козыреву.
Уже суетился возле санитарной машины врач. Уже растягивали солдаты брезентовое полотнище — готовились ловить Козырева.
Оставался только один выход — обрезать стропы. И сделать это должен был сам Козырев. Но догадается ли он? И хватит ли у него решимости? Хватит ли мужества и хладнокровия?
Люди с земли с надеждой и страхом следили за тёмной точкой в небе.
А самолёт всё кружил и кружил над площадкой приземления.
И наконец Козырев решился.
Все увидели, как маленький комочек оторвался от самолёта и стремительно полетел вниз.
Затем раздался лёгкий хлопок — это раскрылся купол запасного парашюта.
Люди на земле облегчённо вздохнули.
В этот же день стало известно, из-за чего произошёл этот необыкновенный случай. Оказывается, из-за небрежности. Из-за маленькой, пустяковой оплошности при укладке парашюта.
Вот почему и говорят, что нет для десантника дела важнее, чем укладка парашюта.
На аэродроме
Наконец и тренировка, и укладка парашютов, и медкомиссия, и все волнения и переживания — а вдруг врачи забракуют, вдруг окажусь негоден? — остались позади.
Наступил день прыжков.
Первый раз в жизни я прибыл на аэродром не как пассажир. Уже на аэродроме надел комбинезон, надел парашют. А когда мне ещё вручили тяжёлый десантный нож в пластмассовых ножнах, тут уж я почувствовал себя настоящим десантником. Нож обязательно входит в снаряжение парашютиста — на случай, если запутаются стропы и их придётся перерезать.
Мы стояли слегка нагнувшись, упершись ладонями в колени — такова обычная стойка десантника: ведь парашют весит немало, а если к этому ещё прибавить автомат, противогаз, фляжку с водой, патроны, сапёрную лопатку, ранец, плащ-палатку, сухой паёк — вес наберётся порядочный.
Начальник парашютно-десантной службы в последний раз осмотрел наши парашюты, проверил, всё ли в порядке.
И началось самое томительное ожидание — когда скомандуют: «По самолётам!»
Солдаты поглядывали на меня с любопытством: всегда интересно посмотреть, как это человек в первый раз будет прыгать.
И тут я почувствовал, что мне становится не по себе. Хоть бы скорее!
— Ничего, — говорит один солдат, — если замнётесь, испугаетесь в последний момент, вас подтолкнут маленько в спину — и не заметите…
«Нет, — думаю, — не очень бы мне хотелось, чтобы меня толкали в спину… Вот, скажут потом, приехал писатель, просил, чтобы разрешили ему прыгать, а самого выталкивать из самолёта пришлось. Нет уж, никуда не годится такое дело».
— Да вы не волнуйтесь, — говорит другой солдат. — Всё будет в порядке. Прыгнете.
— Это точно, — говорит третий. — У нас вон в прошлом году радист был — Башмаков по фамилии — уж до чего невезучий, а и то прыгал..
— С ним, с этим Башмаковым, — говорит ещё один, — однажды занятная история приключилась. Ему и правда всё время не везло — просто удивительно! На стрельбы идём — все стреляют нормально, он обязательно умудрится всадить пули в чужую мишень.
По тревоге поднимаемся — сапоги перепутает. Кросс бежим — ногу вывихнет.
Короче говоря, всё у него не как у людей. Поэтому наш командир взвода старался держать Башмакова подальше от глаз начальства. Как начинаются учения или проверка, так Башмакова либо в наряд по кухне отправляют — картошку чистить, либо дневальным по казарме, либо ещё куда-нибудь.
Так было до тех пор, пока не сменился у нас командир взвода. Новый командир, лейтенант Петухов, вызвал к себе Башмакова и говорит: «Невезучих людей, Башмаков, не бывает — бывают люди не-дис-ци-пли-ни-ро-ван-ные. Ясно?» — «Так точно, — говорит Башмаков. — Ясно». — «Отныне вам никаких поблажек не будет, — говорит лейтенант. — И вы свои штучки бросьте. Ясно?» — «Так точно, — говорит Башмаков. — Ясно!»
А тут через несколько дней как раз большие учения. И нашему взводу выпало особое задание: произвести разведку в тылу «противника».
Лейтенант Петухов на всякий случай не спускал глаз с Башмакова. И в самолёте посадил возле себя. Нарочно.
И прыгнул сразу вслед за ним.
Их парашюты раскрылись почти одновременно. И тут вдруг лейтенант увидел, что Башмаков летит не вниз, а вверх.
Да, да, его парашют поднимался вверх!
— Рядовой Башмаков! — закричал лейтенант. — Вы куда?
— Не могу знать! — закричал Башмаков.
— Немедленно вернитесь! — закричал лейтенант.
Но Башмаков продолжал медленно лететь вверх.
— Вернитесь сейчас же! — ещё громче закричал лейтенант.
Что ответил Башмаков, он уже не услышал. Ведь лейтенант летел вниз, а Башмаков вверх, и расстояние между ними всё увеличивалось.
А между тем всё объяснялось просто: парашют Башмакова попал в восходящий поток тёплого воздуха.
Будь на месте Башмакова другой солдат, он бы, наверно, растерялся и от страха натворил бы каких-нибудь глупостей. Но Башмаков не испугался. Он даже не удивился. Потому что он привык, что с ним всегда что-нибудь происходит.
Он спокойно летел, словно на воздушном шаре, и смотрел вниз. И всё запоминал, что было внизу.
А внизу был лесок. А в леске танки «противника».
Так Башмаков летел довольно долго. А когда приземлился, то сразу пробрался к своим. И доложил о танках. И лейтенант Петухов после учений объявил ему благодарность за самообладание и находчивость.
С тех пор Башмакова перестали считать невезучим. А как только его перестали считать невезучим, он и правда перестал быть невезучим.
— По самолётам!
Я удивился: оказывается, я и не заметил, как промелькнули последние минуты. И только тут догадался: это же для меня рассказывали солдаты свою историю про Башмакова — чтобы я отвлёкся и не так волновался. Ведь все они тоже когда-то прыгали в первый раз…
В воздухе
И вот уже самолёт в воздухе.
Мы сидим на железных откидных скамейках и молчим. Шум мотора не даёт разговаривать. Майор-связист — он сидит рядом со мной — хлопает меня по плечу: мол, не волнуйтесь, всё будет хорошо. У него сегодня тоже необычный прыжок — трёхсотый, юбилейный. Ещё накануне мы договорились, что в случае необходимости он поможет мне в воздухе советом, подскажет, что и как.
Раздалась команда:
— Приготовиться!
По этой команде солдаты встают, откидывают сиденья. Встаю и я. Командир занимает своё место у выхода. Он наблюдает за тем, как прыгают солдаты. Он как бы выпускает солдат из самолёта, и потому его так и называют: «выпускающий». И сам он всегда прыгает последним. Бортмеханик слегка приотворяет дверь. Струя воздуха врывается в самолёт. Я чуть сгибаюсь, как меня учили, правая рука прижата к груди, левая — на кольце запасного парашюта. Стараюсь думать о чём-нибудь постороннем и не смотреть на дверь. Кажется, даже улыбаюсь.
И вдруг: «Отставить!»
Даже для опытного десантника, когда он уже приготовился прыгать, нет ничего хуже этой команды. А уж обо мне и говорить не приходится.
Снова садимся. Бортмеханик закрывает дверь. Самолёт делает новый круг.
Опять: «Приготовиться!» И опять: «Отставить!»
«Ну, — думаю, — ещё разок так повторится — и от моей решимости не останется и следа…»
Но вот, кажется, всё в порядке.
Бортмеханик распахнул дверь настежь.
Выпускающий крикнул:
— Пошёл!
Первым прыгал солдат-радист. Я увидел, как швырнуло его воздушным потоком, и только успел подумать: «Неужели и меня сейчас так?» — наступила моя очередь.
Честно говоря, заставить себя сделать вот эти последние два шага к распахнутой двери самолёта было самым трудным.
Только бы не замешкаться! Только бы не остановиться!
Я шагнул за борт самолёта, и в ту же минуту меня что-то толкнуло в плечо, развернуло, куда-то потащило, словно я нырнул в реку с очень сильным течением.
И вдруг наступила тишина. Парашют раскрылся.
Я увидел над собой огромный белый купол. И так мне хорошо, так легко стало. «И я, — думаю, — молодец, прыгнул, не испугался, и парашют мне достался отличный, не подвёл».
Но радоваться, оказывается, было ещё рановато.
Неожиданно стропы начали закручиваться, и меня стало очень быстро вращать справа налево. Потом стропы начали раскручиваться, и меня так же быстро начало вертеть слева направо. Потом стропы опять начали закручиваться… Это было не очень приятное ощущение. Но тут я вспомнил советы моих наставников и, уловив момент, когда стропы раскрутились, сильно обеими руками развёл их в стороны. Вращение прекратилось. И я сразу почувствовал себя увереннее: как-никак, а парашют подчиняется мне.
Я посмотрел вниз, и мне показалось, что я вишу неподвижно, земля была далёкой и вроде бы совсем не приближалась.
И тут какое-то особое ощущение охватило меня — ощущение простора, тишины и безмятежности, то самое, о котором я не раз читал и слышал от парашютистов. И вот теперь я испытал его сам.
Я поискал глазами майора и увидел его парашют далеко-далеко в стороне. Вообще при прыжках десантники располагаются в самолёте по весу — чем тяжелее человек, тем раньше он прыгает. Майор прыгал вслед за мной. Он был маленького роста, очень лёгкий, и, наверное, поэтому нас разнесло в разные стороны. Так что рассчитывать на его советы не приходилось. Тогда я решил попробовать сам — сумею ли развернуть парашют по ветру. Потянул за стропы, но стропы поддавались с трудом.
Я снова взглянул вниз и изумился: теперь земля была совсем рядом. Тут уж мне оставалось только поскорее сгруппироваться, как говорят парашютисты. Я плотно сжал ноги — упражнение со щепочками пошло на пользу! — ухватился за стропы и в следующий момент почувствовал удар о землю. Упал, как меня учили, на бок.
Купол парашюта медленно погас. Я поднялся на ноги и отстегнул подвесную систему.
Потом я увидел майора. Он бежал ко мне узнать, всё ли благополучно.
Мы крепко пожали друг другу руки: он поздравил меня с первым прыжком, а я его — с трёхсотым.
КТО ОХРАНЯЕТ НЕБО
В разных уголках нашей огромной страны несут свою службу солдаты. Моя служба начиналась далеко на востоке; в гости к десантникам я ездил в южные жаркие края, зато в другой раз дела мои привели меня на суровый север, к солдатам противовоздушной обороны. Здесь-то я и познакомился с мальчиком Никой и его папой.
На краю земли
Никиного папу послали служить на север, к самому Ледовитому океану. И Ника с мамой тоже приехали сюда — на край земли, как говорила Никина бабушка. Конечно, бабушка никогда не стала бы так говорить и не стала бы плакать, провожая их на аэродроме, если бы знала, сколько здесь интересного!
Посёлок, куда они приехали, был совсем маленьким: несколько домиков, да казарма, да столовая, да клуб — вот и всё. И жили здесь только одни солдаты.
С солдатами Ника успел подружиться очень быстро.
Они дарили ему всякие замечательные вещи: кто раковину, кто маленький прозрачный самолёт, кто значок. А один даже подарил самую настоящую гильзу от пулемётного патрона. Гильза была зеленоватой и пахла порохом.
Нике очень понравился этот солдат. И фамилию его он сразу запомнил — Терентьев. А ещё Нике понравился сержант Крошкин, потому что на груди у Крошкина красовался целый ряд разных солдатских значков. Они сверкали, как ордена. У других солдат тоже были значки, но у Крошкина больше всех.
Руки у Крошкина были большие и такие красные, словно он только что пришёл с мороза. Этими своими руками он слегка приподнял Нику и сказал:
— Значит, батьке помогать приехал? Ну, молодец!
Два раза в неделю в посёлок прилетал вертолёт. И каждый раз, едва лишь раздавалось знакомое стрекотанье мотора, все свободные от дежурства солдаты бежали встречать его.
Вертолёт неподвижно висел в воздухе невысоко над землёй, а под ним бушевал ветер. Ветер прижимал к земле карликовые берёзки, гнул жёсткие кустики черники, срывал пилотки с солдат.
Иногда вертолёт и не садился вовсе — просто лётчик сбрасывал мешок с почтой и улетал дальше по своим срочным делам.
Днём Ника с мамой нередко отправлялся на берег моря. Тут было любимое Никино место. Что-то вроде пещеры в скалах. Сюда не добирался ветер, и всё море открывалось отсюда. Море было пустынным, только иногда на горизонте появлялся сторожевой пограничный катер.
А однажды из воды, неподалёку от берега, выглянула чёрная усатая, совсем человеческая голова. Блестящая, с круглыми глазами. Ника даже вскрикнул от неожиданности.
А мама засмеялась.
— Дурашка, — сказала она, — это же тюлень.
Вообще удивительные вещи встречались здесь на каждом шагу. Например, грибы. Грибы здесь были выше деревьев. Потому что деревья росли совсем крошечные. Они даже не росли, а стелились по земле. Зато грибы были видны издали — подходи и срывай, сколько хочешь.
Но, конечно, самым интересным в маленьком посёлке были радиолокационные станции. На их антенны Ника мог смотреть сколько угодно. Одна антенна издали была похожа на огромный парус, надутый ветром. А другая была в точности как телевизионные, что стоят на крышах домов, только намного больше. И ещё она вертелась. Нике очень хотелось подойти к ним поближе, но папа не разрешал.
— Вот подожди, — говорил папа, — как-нибудь я возьму тебя с собой на станцию…
Ничего не поделаешь — приходилось ждать.
Какие бывают пограничники
Раньше Ника думал, что все пограничники обязательно носят зелёные фуражки, ходят с собаками и ловят шпионов. Или сидят, притаившись в дозоре, и слушают, где хрустнет ветка, где раздастся шорох…
Так он думал до сегодняшнего вечера. А сегодня Ника вышел из дома и увидел возле казармы строй солдат.
Ника подошёл поближе.
Солдаты стояли по стойке «смирно», не шевелясь. Будто застыли.
А перед строем стоял командир и громко читал:
— …приказываю приступить к боевому дежурству по охране воздушных границ Союза Советских Социалистических Республик…
Голос командира звучал торжественно.
И Ника невольно вытянулся и с уважением посмотрел на солдат.
Оказывается, вовсе не обязательно носить зелёную фуражку, чтобы быть пограничником.
Где же самолет!
Однажды после обеда папа сказал:
— Ну, брат, собирайся, пойдём смотреть моё хозяйство.
Они прошли мимо казармы, мимо клуба, мимо столовой, поднялись на холм и остановились возле приземистого квадратного здания. Над зданием вращалась огромная антенна, та самая, что издали была похожа на парус.
Отец открыл узкую дверь и подтолкнул Нику:
— Смелее, смелее…
В помещении, куда они вошли, было темно. В темноте что-то гудело и щёлкало. Тревожно вспыхивали и гасли разноцветные лампочки. И кто-то невидимый говорил:
— Двадцать восьмая… Сорок два… Сто девяносто…
Нике даже стало жутковато, и он плотнее прижался к отцу.
Но потом его глаза привыкли к темноте, и тогда он разглядел двух солдат. Один из них стоял, а другой сидел и не отрываясь смотрел в светящийся круг.
— Это экран радиолокатора, — сказал папа.
«Совсем как экран телевизора, — подумал Ника. — Только круглый. И ещё расчерчен, как глобус…»
По кругу бегал узкий светящийся луч, точно большая секундная стрелка по циферблату часов.
— А возле экрана, — сказал папа, — сидит оператор. Самый важный человек на станции. Это он первым делом замечает на экране самолёт и потом следит за ним и докладывает на командный пункт. А вон, кстати, и самолёт. Смотри.
— Где? — удивился Ника.
Он ничего не видел. Никакого самолёта.
— А вот, — и папа показал на совсем маленькую светлую точку на экране.
— Это? — недоверчиво спросил Ника.
— Ну да.
Ника посмотрел на светлую точку, потом быстро выскочил на улицу и задрал голову. Но в синем небе плыли только белые пушистые облака. И ни одного самолёта.
— Э, брат, напрасно ищешь, — раздался позади него голос.
Ника обернулся и увидел командира отделения операторов сержанта Крошкина.
— Напрасно, — повторил Крошкин. — Самолёт сейчас далеко-далеко. За двести километров. Летит себе над морем.
Ника задумался. Потом спросил:
— Он летит и не знает, что мы его видим?
— Правильно, — сказал Крошкин, — летит и не знает.
Ника опять задумался.
— А когда мы летели, вы тоже нас видели?
— Конечно, — сказал Крошкин, — я деже видел, как один человек в самолёте наелся конфет и не хотел завтракать. Только я тогда не знал, кто этот человек…
Ника посмотрел на сержанта Крошкина и засмеялся. А сержант Крошкин подмигнул Нике.
— Мы всё видим, — сказал он, — такая наша профессия. Самолёт далеко, а мы его видим. Самолёт высоко, а мы его видим. Самолёт за облаками, а мы его всё равно видим. Ловко, правда?
— Ловко, — сказал Ника.
Весь день он ходил молчаливый, серьёзный, только посматривал на антенны радиолокаторов, а вечером, уже перед сном, сказал:
— Папа, я вот всё думаю, думаю…
— О чём, сынок?
— Я всё думаю: как это можно увидеть самолёт, если его не видно?
— Хм, — сказал папа, — это сложная штука. Как бы тебе объяснить попроще. — Он помолчал и в задумчивости потёр затылок. — Впрочем, ты уже взрослый, сообразительный парень, должен понять, правда?
— Правда, — сказал Ника.
— Тогда смотри внимательно.
Папа достал карманный фонарик, зажёг его и выключил свет в комнате. Потом начал медленно поворачивать фонарик. Яркий луч света пробежал по стене, наткнулся на зеркало и сразу быстро отпрыгнул назад. На рукаве папиной гимнастёрки появился зайчик. Потом луч упёрся в пузатый бок блестящего чайника и снова отразился — отпрыгнул обратно.
— Ну вот, — сказал папа, — так и наш радиолокатор — вроде фонарика. Антенна вращается и посылает лучи. Только не видимые глазом— радиоволны. Невидимый луч бежит, бежит, а как наткнётся на самолёт, так и отразится, точно луч света от зеркала. Отразится, вернётся назад, и на экране сразу вспыхивает светлая точка — вроде как зайчик. Ага, значит, в небе самолёт. Понятно?
— Понятно, — сказал Ника.
Рядовой Терентьев
Рядовой Терентьев сидел на скамейке возле казармы и лупой выжигал затейливый узор на палочке.
— Здравствуйте, Терентьев, — сказал Ника.
— А! — сказал Терентьев. — Сын командира? Привет, привет!
— А я знаю, как станция работает, — сказал Ника.
— Я тоже знаю, — сказал Терентьев.
— А я самолёт видел, — сказал Ника, — на экране.
— А я их, может, тысячу видел, — сказал Терентьев. — Вот, помню, был у меня случай…
Он отложил лупу и палочку и приготовился рассказывать. А Ника приготовился слушать. Но как раз в эту минуту неожиданно раздался сердитый голос сержанта Крошкина:
— Терентьев, почему вы не на занятиях? Опять отлыниваете?
— Товарищ сержант, вы же знаете, — жалобно сказал Терентьев, — у меня нога болит, не могу я ходить…
— Знаю я ваши болезни! А ну-ка, шагом марш отсюда!
— Товарищ сержант, я же…
— Прекратить разговоры! — резко оборвал его Крошкин, и Ника даже вздрогнул: он никогда не видел сержанта таким сердитым. — И чтобы через три минуты были на занятиях! Ясно?
Он повернулся и пошёл прочь.
— Ясно, ясно… — недовольно проворчал Терентьев. — Чего тут неясного… Только и слышишь: «Терентьев, опять бездельничаешь? Терентьев, опять отлыниваешь?» Сами бы так побездельничали!
Охая и прихрамывая, он побрёл прочь. Даже лупу и палочку забыл от расстройства.
А Ника остался. Ему было так неловко, словно не сержант Крошкин, а он сам обидел Терентьева. У человека нога болит, а его заставляют маршировать… Разве это справедливо? Нет, будь он командиром, он бы никогда не стал так поступать… Никогда.
«Вот пожалуюсь папе, — думал Ника, — небось Крошкину не поздоровится…»
Военная хитрость
— Шестнадцатая… Сто десять… Двести тридцать… — говорил в микрофон солдат-оператор.
Он сидел, низко склонившись над экраном.
Ника стоял у него за спиной и следил за светящейся точкой. Точка медленно двигалась к центру круга.
Хотя папа и не часто брал Нику с собой на станцию, Ника уже успел здесь освоиться. Он привык и к гудению вентиляторов, и к темноте и уже знал: если точка большая — значит летит пассажирский, если маленькая— истребитель…
— Шестнадцатая… Сто десять… Двести двадцать пять… — монотонно докладывал солдат.
Ника знал, что сейчас его доклад принимают на командном пункте. На командном пункте Ника уже побывал однажды вместе с папой. Там он видел большие прозрачные карты-планшеты. Солдаты-планшетисты бесшумно вычерчивали на них курс самолётов.
— Шестнадцатая… Сто десять… Двести двадцать…
И вдруг Ника почувствовал: что-то случилось.
Изменился голос солдата. И весь он как-то напрягся и ещё ниже склонился к экрану.
И Никин папа тоже нагнулся рядом с ним.
— Не волнуйтесь. Спокойно. Спокойно, — сказал он.
Ника взглянул на экран и ахнул: там, где только что была одна светлая точка, теперь всё пестрело точками и пятнами. Ну и путаница началась на экране! Пятна и пятнышки мерцали повсюду, и среди них уже не отыскать было ту первую светящуюся точку.
— Папа… — начал было Ника, но отец взял его за плечи и легонько подтолкнул к выходу.
— Иди, иди, — сказал он, — сейчас не до твоих вопросов. Сейчас начнётся самое трудное. Иди.
Ника вышел на улицу, но не пошёл домой, а присел на землю, тут же, возле станции.
Ему не терпелось узнать, что же случилось.
Может быть, испортилась станция?
Или напутал что-нибудь солдат-оператор?
А может быть, летит сразу много самолётов?
Ждал он долго.
Наконец узкая дверь открылась и появился отец.
— Ну вот, — сказал он, — теперь ты видел, как маскируются самолёты.
Ника удивился. Он и не подозревал, что самолёты в небе могут маскироваться.
— Как? — спросил он.
— А ты думаешь, — сказал папа, — самолёт противника будет лететь и спокойненько ждать, когда мы его обнаружим? Как бы не так! Конечно, он постарается, чтобы мы подольше не заметили его. Постарается сбить нас с толку, запутать, ослепить станцию. Для этого придуманы разные способы. Вот один, самый простой. Ты видел когда-нибудь станиолевые ленты? Ну, серебряные шоколадные обёртки видел? Так вот: летит самолёт и выбрасывает за собой такие серебряные ленты. Десятки, сотни лент! А лучи станции отражаются от них. И на экране получается путаница, неразбериха. Попробуй отыщи самолёт! Для этого нужно быть очень опытным оператором…
— Значит, это был вражеский самолёт? — заволновался Ника.
— Нет, — рассмеялся папа, — конечно, нет. Это была просто тренировка. Ведь мы должны быть готовы ко всяким неожиданностям и хитростям, правда?
— Правда, — сказал Ника, а сам подумал: «Вот так серебряные бумажки!»
Какие бывают шпионы
Ника проснулся и увидел: отец сидит и натягивает сапоги.
В комнате было светло, и Ника не мог понять: то ли ещё ночь, то ли уже утро.
Он тоже сел.
— Спи, спи, — сказал отец, — ещё рано. Тревогу объявили.
Тревога!
Значит, что-то произошло, что-то случилось! Первый раз при Нике здесь объявляли тревогу.
— Папа! — сказал он. — Можно, я пойду с тобой? Можно? Папа, ну пожалуйста.
— Нет, Ника, — серьёзно ответил отец. — Нет.
И Ника сразу понял, что просить бесполезно. Он снова лёг и зажмурил глаза.
Он слышал, как кто-то, громко топая, пробежал мимо дома.
Потом хлопнула дверь за отцом — и стало тихо.
Утром, когда Ника проснулся, отец ещё не возвращался.
Ника торопливо позавтракал и побежал на улицу.
На фоне неба вращались антенны радиолокаторов. Возле казармы и возле клуба было пустынно. Только около столовой солдат в линялой гимнастёрке рубил дрова.
Ника подошёл к нему.
— Что, хлопец, скучаешь? — спросил солдат. — А наши работают. Всё утро за шариком охотятся.
— За каким шариком? — спросил Ника.
— За обыкновенным, за воздушным… Понимаешь, кое-кто за границей очень бы хотел сфотографировать наши аэродромы, наши заводы и наши фабрики. Да, кстати, и нашу станцию — тоже. А как это сделать? Не больно-то просто. Ну вот и придумали— запустят воздушный шар повыше, этак километров на двадцать. А на нём всякие хитрые приборы и аппараты установят. Особые, ясное дело, аппараты, которые и снимать издалека, с высоты могут, и снимки на землю передавать. Шар летит — аппарат всё высматривает. Ясно?
— Ясно, — сказал Ника.
Опять получалось, как с пограничниками. До сих пор он думал, что шпион обязательно должен красться через границу тёмной дождливой ночью. А оказывается, даже воздушный шар может быть шпионом.
Солдат наколол дров и ушёл на кухню.
А Ника опять остался один. Всем было не до него.
Все были заняты серьёзным делом. И тогда он решил, что ему тоже надо заняться делом.
Он вернулся домой, достал альбом и стал рисовать станцию с антенной, похожей на антенну телевизора, и воздушный шар высоко в небе, и своего папу с полевой сумкой на боку.
Потом он подумал и пририсовал шару уши и рот, полный острых зубов, и маленькие злые глазки.
Он хотел нарисовать ещё землю и заводы с высокими красными трубами, и фабрики, к которым пробирается шар-шпион… Но тут в передней загремели знакомые шаги.
— Тра-та-та, тра-та-та, открывайте ворота! — проговорил отец громким голосом. Он был в весёлом настроении.
— Сбили шарик, да? — спросил Ника.
— Ого! Да ты всё уже знаешь! — удивился папа. — Может, и рассказывать не надо?
— Нет, рассказывай! Рассказывай!
— Ну, хорошо, слушай. Мы обнаружили этот шар ещё до того, как он пересёк границу. И всё время следили за ним. И наши истребители всё время стояли на аэродроме, готовые взлететь и сбить этот шар. А он будто дразнил нас — то приближался к границе, то опять удалялся. Шар ведь не самолёт. Есть ветер — он летит. Нет ветра — висит неподвижно. Повис у самой границы — ни туда, ни сюда. Застыла точка на экране и стоит на одном месте. А мы глаз с неё не спускаем. И так час, второй, третий. Ну, а потом всё-таки шар пересёк границу, и тогда сразу поднялись наши истребители и прихлопнули его. Вот так-то.
Отец взъерошил Никины волосы и засмеялся. Но глаза у него были усталыми. Это Ника заметил точно.
Прогулка
Однажды в субботу Ника отправился гулять один: мама стирала, а папа ушёл на командный пункт.
Ника поднялся на бугор, спустился и тут наткнулся на целые заросли черники. Он лёг на живот и стал есть ягоды. Первый раз в жизни он видел так много ягод.
Он переползал от куста к кусту, и вдруг прямо перед ним возникли солдатские сапоги. Ника поднял голову и увидел рядового Терентьева.
— Батя твой волнуется, куда ты делся, — сказал Терентьев. — Велел пойти поискать. А ты витаминами, значит, питаешься?
Он лёг рядом с Никой и тоже принялся за ягоды.
— Спешить нам некуда. Верно? — Он подмигнул Нике.
Скоро они наелись ягод и лежали, раскинув руки, глядя в небо.
— Летом здесь ничего, жить можно, — сказал Терентьев, — а вот зимой… Зимой полярная ночь наступает, темно, бураны, метели, носа из казармы не высунешь. Бывает, так занесёт, что и дверь утром не открыть. Помню, был как-то случай — в буран антенну попортило. Чинить надо. А ветер такой — никто лезть не решается. «Ну, — говорит тогда командир, — давай, Терентьев, на тебя вся надежда». Что делать — полез.
Терентьев помолчал. Ника повернулся и приподнялся на локте.
— А дальше? — нетерпеливо спросил он.
— Дальше? Что дальше? Починил, конечно.
Терентьев посмотрел на часы.
— Пора, однако, — сказал он. — Обед скоро.
…Возле казармы солдаты разгружали уголь. Видно, работали они уже давно: лица у всех были чёрными от угольной пыли, а гимнастёрки— мокрыми от пота. И у Никиного отца и фуражка, и гимнастёрка, и зелёные погоны — всё тоже было припорошено мелкой угольной пылью.
— Ну что? — сказал он Терентьеву. — А ещё подольше вы не могли? Вам лишь бы не работать…
— Товарищ старший лейтенант, — своим жалобным голосом проговорил Терентьев, — не могу я быстро… Вы же знаете — нога у меня…
— Ох, Терентьев, Терентьев, вечно вы себе болезни находите… И зимой, когда антенну надо было чинить, вы тоже срочно заболели…
«Что он говорит!» — ужаснулся Ника.
— И вам плевать было, что ваши товарищи пообмораживали руки…
«Так вот, наверно, почему у Крошкина всегда красные руки!» — мелькнуло в голове у Ники.
Он испуганно посмотрел на Терентьева. Он ждал, что тот рассердится, возмутится, начнёт доказывать, что всё это неправда. Но Терентьев словно и не слышал слов Никиного отца.
— Товарищ старший лейтенант, — продолжал тянуть он, — вы же мне сами велели… Уж я искал его, искал… Совсем с ног сбился… Да вот и Николай не даст соврать…
— Ладно, ладно, — сказал Никин отец сердито. — Ступайте.
Он повернулся к Нике.
— А ты больше так далеко не уходи, понял?
— Понял, — ответил Ника, не глядя в глаза отцу.
Он вспомнил, как собирался жаловаться на сержанта Крошкина, и покраснел. Ему было стыдно перед отцом и почему-то хотелось плакать…
Фотография
В клубе на почётном месте висели фотографии лучших солдат роты. Среди них Ника сразу увидел сержанта Крошкина.
Отдельно, чуть поодаль, висела небольшая фотография незнакомого солдата.
Под ней была подпись — аккуратно выведенные тушью строчки:
«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, младший сержант Кораблёв П. И. награждён орденом Красной Звезды».
С фотографии смотрел чернобровый, круглолицый солдат в фуражке и парадном, наглухо застёгнутом кителе.
— Папа, он воевал, да? — спросил Ника.
— Кто?
— Кораблёв.
— Нет, что ты, — сказал папа, — во время войны ему было пять лет, меньше, чем тебе сейчас.
— А за что он получил орден? Папа, расскажи!
— Ладно, слушай, — сказал отец. — Это было несколько лет назад. Далеко отсюда, на юге. Кораблёв служил на радиолокационной станции командиром отделения операторов — вот так же, как служит у нас Крошкин. Был он очень хорошим оператором. Когда он дежурил у экрана, ни один самолёт не мог пролететь незамеченным.
И вот однажды во время его дежурства с гор пришла гроза. Чёрные тучи затянули небо, и раскаты грома раздавались всё ближе, и молнии сверкали всё ярче. Надо было выключать станцию, потому что работать в грозу на радиолокаторе очень опасно.
Кораблёв уже потянулся к главному переключателю, но его рука замерла на полпути. На экране он увидел крошечную светлую точку — самолёт.
Это был наш пассажирский самолёт, но двигался он как-то неровно — он бросался то в одну сторону, то в другую.
И тогда Кораблёв понял: видно, самолёт этот попал в грозовые облака и сбился с курса. И теперь только Кораблёв мог подсказать лётчику, где он находится, и помочь выйти к аэродрому.
Кораблёв сообщил о самолёте, терпящем бедствие, на командный пункт и попросил разрешения не выключать станцию. Ему разрешили. Ведь там, на самолёте, были люди.
И Кораблёв продолжал работать.
«Ещё несколько минут, — говорил он себе, — всего несколько минут».
А гроза бушевала уже совсем рядом. Каждое мгновение молния грозила ударить в станцию.
Но Кораблёв не отрывался от экрана. Он должен был убедиться, что самолёт в безопасности.
Наконец он увидел, что светящаяся точка на экране уверенно двинулась к северу. Самолёт получил сигнал с земли и теперь шёл к аэродрому.
Всё в порядке. Можно выключать станцию.
Кораблёв опять потянулся к переключателю, и в этот момент что-то ослепительно сверкнуло перед его глазами.
Молния ударила в станцию.
— Он погиб? — тихо спросил Ника.
— Да. Погиб, — сказал отец. — И орденом его наградили уже посмертно.
Больше Ника ни о чём не спрашивал. И отец тоже молчал.
Такая уж наша профессия
Вечером Ника с папой играли в шашки. В самом начале партии папа «зевнул» шашку, и теперь Ника выигрывал. Он волновался и ёрзал на стуле — нечасто ему удавалось выигрывать у папы.
Когда до победы было совсем близко, неожиданно раздался громкий стук в дверь.
Запыхавшийся солдат-посыльный торопливо доложил:
— Товарищ старший лейтенант, вас на командный пункт вызывают…
Папа встал и виновато развёл руками:
— Ну что ж, брат, извини. Доиграем после.
— Ладно. Иди, — серьёзно сказал Ника.
Он уже привык к тому, что папу вдруг будят посреди ночи, или вызывают во время обеда, или поднимают рано утром.
— Ничего не поделаешь, — говорит папа, — такая уж наша профессия.
И сейчас он быстро затянул ремень, надел фуражку и ушёл.
А Ника остался дома. Он сидел и смотрел в окно.
Возле казармы старшина строил роту. Куда-то пробежал солдат с противогазом на боку. Над кухней вился дымок.
А на фоне бледно-голубого неба без устали вращались антенны радиолокаторов.
«Такая уж наша профессия, — шептал Ника, — такая уж наша профессия…»
ЧТО УМЕЮТ ТАНКИСТЫ
Однажды пришлось мне работать в военной газете. Был я ещё новичком, как следует и осмотреться в редакции не успел, когда вызвал меня главный редактор и говорит:
— Вот вам задание. Поезжайте-ка к танкистам. Поглядите, что там есть интересного. Напишете заметку в следующий номер. Желаю успеха.
И я поехал к танкистам.
О чем я думал, когда ехал
Если говорить откровенно, ехать тогда к танкистам мне не очень хотелось. С большим бы удовольствием я поехал к ракетчикам или, например, вертолётчикам.
И вот почему.
Как прославились наши танкисты во время Великой Отечественной войны, это я хорошо знал. Как боялись наших могучих танков фашисты — это тоже ни для кого не секрет.
Но уже много лет прошло с тех пор.
Очень сильно изменилась наша армия.
Вместо «ястребков» в небе появились реактивные истребители, которые летают быстрее звука.
Вместо зенитных пушек — ракеты.
Вместо обыкновенных автомобилей — бронетранспортёры и мощные вездеходы.
Нет, совсем не узнать стало нашу армию.
И только танк так и остался танком.
Вот о чём я думал, пока ехал к танкистам.
Писарь Верёвкин
Так уж складывались мои дела в этот день, что мне всё время приходилось кого-то разыскивать.
И когда я приехал к танкистам, то оказалось, что мне прежде всего надо отыскать сержанта Пирожкова. Потому что это был именно тот человек, который мог рассказать мне великое множество разных историй и случаев, необходимых для газеты.
И я отправился на поиски Пирожкова.
Вошёл в двухэтажный корпус, открыл первую дверь и остановился в удивлении.
Посредине большой комнаты на железной круглой табуретке сидел солдат. Солдат был очень худой и очень печальный.
Он не заметил меня, потому что внимательно смотрел прямо перед собой.
А прямо перед ним бегал игрушечный зелёный танк.
Игрушечный танк бежал по игрушечной дороге среди игрушечных деревьев. Вот он поднялся на игрушечный холм, съехал с него и оказался перед игрушечным мостом.
На секунду он замер, словно в нерешительности, потом дёрнулся и въехал на мост.
Мост был очень узким, и одна гусеница игрушечного танка повисла над пропастью. Ещё мгновение — танк накренился и упал с моста.
— Опять! — расстроенно сказал солдат и встал. Он подошёл к маленькому танку, бережно перевернул его и поставил на дорогу.
И тут он увидел меня. Я думал, что он смутится, но он даже не покраснел, как будто не было ничего странного в том, что взрослый солдат играет в игрушки.
— Простите, — сказал я. — Вы не Пирожков?
— Нет, — ответил солдат. — Я— Верёвкин. Писарь Верёвкин.
Потом он спокойно вернулся на своё место, и только теперь я разглядел, что справа и слева от табуретки были рычаги — точно такие, какие бывают в кабине трактора или танка.
Верёвкин положил руки на рычаги, а ногой нажал на педаль.
И маленький зелёный танк опять побежал по жёлтой дороге. Верёвкин тронул правый рычаг, и танк послушно повернул вправо. Верёвкин нажал левый рычаг, и танк сделал поворот влево.
И тут я начал догадываться, в чём дело.
Солдат учился водить танк.
Сейчас он как бы сидел в настоящем танке и передвигал настоящие рычаги, и внимательно следил, как машина повинуется ему.
Вот игрушечный танк добежал до моста и снова — хлоп! — рухнул вниз.
— Никак!
Верёвкин вздохнул, и я почувствовал, что ему хочется поговорить со мной.
Через несколько минут я знал его грустную историю.
С детства мама считала его болезненным ребёнком. Бабушка убирала за ним постель, а папа решал за него задачи. Учителя говорили, что он способный, но ленивый мальчик. И жизнь Верёвкина текла легко и беззаботно. Учился он на тройки, и если чем-нибудь мог похвалиться, так это красивым, чётким почерком. И поэтому, когда он прибыл в армию, его вскоре назначили штабным писарем.
Сначала Верёвкин очень обрадовался такой удаче, потому что быть писарем — это гораздо легче, чем управлять танком, мыть его и чистить. И переписывать бумажки намного приятнее, чем ходить на морозе в строю или ползать по-пластунски.
Но чем дольше сидел Верёвкин в штабе, тем печальнее ему становилось.
Каждый день сюда доносился грохот танков. Товарищи Верёвкина водили танки и стреляли из пушек, а он по-прежнему всё переписывал бумажки.
И особенно грустно становилось ему, когда получал он письма от своего младшего брата третьеклассника Пети Верёвкина, потому что Петя каждый раз просил старшего Верёвкина рассказать, как идёт служба.
А о чём мог рассказать Верёвкин?
Разве что о том, каким красивым почерком переписывает он разные бумаги!
И тогда он пошёл к командиру и попросил, чтобы его перевели в танковое подразделение.
И командир всё понял и даже похвалил Верёвкина за то, что тот больше не ищет лёгкой жизни.
— И вот теперь, — сказал бывший писарь Верёвкин, — скоро мне разрешат водить настоящий танк…
Он вздохнул и снова сел за рычаги.
А я осторожно закрыл за собой дверь и пошёл дальше.
Пока сам не попробуешь…
Я шагал и думал о писаре Верёвкине и не заметил, как очутился возле одноэтажного квадратного здания.
Я вошёл в это здание и удивился ещё больше, чем полчаса назад, когда увидел Верёвкина с его игрушечным танком.
Здесь был бассейн.
А возле бассейна стояли солдаты.
Неужели это тоже танкисты? А может быть, моряки-подводники? Или спортсмены-аквалангисты? Или водолазы?
Такой был у них вид.
Спасательные пробковые жилеты аккуратно затянуты тесёмками. Резиновые маски на лицах. Большие противогазные коробки на груди. И сами раздеты до трусов.
Разве догадаешься, что это танкисты?
Дело ли танкистов лазать под воду?
— А как же! — сказал мне офицер, руководитель занятий. — Это раньше танки умели ходить только по суше. А теперь и под водой, по дну реки научились ходить. Вот и танкистам обязательно надо уметь работать под водой. На всякий случай. Мало ли что может приключиться.
Конечно, я сразу забыл, что мне нужно искать сержанта Пирожкова. Я стоял возле бассейна и наблюдал за всем, что здесь происходит.
И вот что я увидел.
Двое солдат надели маски и исчезли под водой. Только лёгкие большие поплавки теперь качались на поверхности. Да сигнальные верёвки тянулись из-под воды. Поплавок побежит вперёд — значит солдат под водой вперёд двинулся. Замрёт поплавок на месте — значит солдат остановился.
Под водой солдаты, оказывается, не просто бродили, как душе угодно. Они работали.
Один поднял тяжёлый стальной трос и поволок за собой.
И другой солдат тоже взял стальной трос.
Два поплавка двинулись по воде.
А рядом со мной стоял старшина и внимательно смотрел на часы.
Пять минут. Семь. Десять… Сколько же солдаты продержатся под водой?
Наконец-то всё. Отлично. Можно вылезать.
Солдаты выбрались из воды. Сняли маски. У них были красные, распаренные лица, словно после бани. Но смеялись солдаты весело. И отряхивались, точно после купания в речке.
И я подумал: «Вот это занятия! Просто не занятия, а одно сплошное удовольствие!»
И мне во что бы то ни стало захотелось тоже опуститься под воду.
Конечно, я тут же сказал об этом командиру.
Командир пристально посмотрел на меня.
— А сумеете?
— Да что ж тут не суметь! — усмехнулся я. А про себя подумал: «Что, я не нырял никогда, что ли? Подумаешь — сложность!»
— Ладно, — сказал командир. — Только если что — сразу за сигнальную верёвку дёргайте.
Я разделся, надел спасательный жилет, примерил противогазную маску. Зажал нос проволочным зажимом, в рот вставил резиновый загубник — это для того, чтобы дышать только ртом.
Старшина ловко обвязал меня вокруг пояса верёвкой. Я покосился через противогазные очки на эту верёвку, но ничего не сказал: надо — так надо.
В руки мне дали груз — мешок с песком.
А это для чего ещё?
Ах да, это чтобы вода меня на поверхность не выталкивала.
И я начал спускаться по железной лесенке.
Осторожно ступил на дно. Сделал шаг, другой. Ничего, вроде бы получается.
Только дышать тяжело. Давит вода на грудь.
Ещё шаг, ещё…
И тут вдруг сбился с дыхания. Сразу почувствовал — мало воздуха! Начал хватать воздух ртом — ещё хуже! Словно подушку мне на лицо положили.
Оглянулся по сторонам — кругом вода колышется. Одинаковая. Куда идти?
В ушах зазвенело. В глазах тёмные круги пошли.
Ещё не хватало, чтобы меня за верёвку вытягивали!
Бросился в одну сторону, в другую — совсем запутался.
«Спокойнее, — говорю себе, — спокойнее».
Ещё раз огляделся и сквозь воду угадал чёрные перекладины лесенки. Значит, совсем недалеко отошёл.
Выбрался из бассейна, стянул маску. Ах, как хорошо — свежий воздух! Дыши — не надышишься!
Командир спрашивает:
— Ну как?
— Ничего, — отвечаю.
Но он, наверно, по моему лицу и сам всё понял.
— В первый раз, — говорит, — всем трудно бывает. Без тренировки.
Потом я вытирался полотенцем и с уважением посматривал на солдат, которые готовились спускаться в бассейн. Я-то и пяти минут под водой не пробыл, а выскочил, как пробка. А они сколько работают! Да ещё тяжеленный трос таскают! Каково им?
И ещё я думал про себя:
«Со стороны-то, выходит, любое дело лёгким кажется. Пока сам не попробуешь».
Как стреляют танкисты
После бассейна я отправился на полигон. На полигоне танкисты учатся стрелять. Если говорить откровенно, не очень-то я надеялся отыскать там сержанта Пирожкова. Но побывать у танкистов и не увидеть, как они стреляют, — с этим я не мог смириться.
На полигоне было жарко и пыльно. Танки, грохоча, трогались с места. Пыль тянулась за ними, клубилась и долго не оседала. Броня танков казалась не зелёной, а серой.
Но вот вдалеке, впереди поднимались мишени — плоские тёмно-зелёные макеты противотанковых пушек. Гремел первый выстрел, и танки тотчас же исчезали в облаках пыли, точно в дымовой завесе. Только огненные вспышки выстрелов разрывали это облако. Гром разносился над полигоном.
Как отыскивали наводчики в этой пыльной буре мишени? Как механики-водители не сбивались с пути? Для меня это оставалось загадкой.
А тут ещё поднялся ветер. Пыльные вихри понеслись над полигоном.
Танкисты, те, кто ждали своей очереди стрелять, нервничали.
— Не повезёт, так уж не повезёт, — переговаривались между собой солдаты. — Вчера соседняя рота стреляла — и дождичек утром прошёл, пыль прибил, и ветра не было… Знай себе стреляй…
И тут возле танкистов появился молодой весёлый лейтенант, комсорг полка. Был он в чистенькой гимнастёрке, с командирским планшетом на боку. А в руках держал блестящий фотоаппарат.
— Ну что, орлы? — весело сказал он и щёлкнул фотоаппаратом. — Носы повесили? Погода не нравится? Ветерка испугались?
Он опять нацелился на танкистов своим аппаратом.
— Выше головы! Снимаю!
Конечно, что ему было не шутить: аппаратом щёлкать — это не из пушки стрелять!
Солдаты что-то отвечали, но я уже не слушал их разговор. У меня были свои заботы. Мне непременно надо было найти командира. Ведь одно дело — смотреть на стрельбы со стороны, а совсем другое — самому оказаться в танке. Только кто же меня пустит в танк без разрешения командира?
Командира я нашёл на командной вышке. Здесь тоже было на что посмотреть! Возле специального пульта управления с переключателями и сигнальными лампочками сидел солдат. Щёлкнет солдат переключателем, и вдалеке, словно по волшебству, послушно поднимаются мишени. А на пульте вспыхивают лампочки. Щёлкнет другим — и мишени начинают двигаться — как будто вражеские бронетранспортёры катят вдали. А угодит снаряд в цель — сразу гаснет на пульте сигнальная лампочка. И командир уже знает — цель поражена.
Я не очень рассчитывал, что мне удастся уговорить командира. Командир наверняка был не в духе: и пыль, и ветер портили ему настроение.
Но, к моему удивлению, он согласился. Он распорядился, чтобы мне подыскали комбинезон по росту и шлемофон. Потом подумал, подумал и подозвал к себе комсорга.
— Товарищ лейтенант, — сказал он, — поедете с корреспондентом за наводчика…
— Товарищ майор… — начал было комсорг, но командир его тут же перебил:
— Поезжайте, поезжайте, заодно покажете, как вы стреляете. Он не приказывал, он просил. Но когда просит командир — просьба становится приказом.
Мне показалось, я поймал на себе сердитый взгляд лейтенанта. Ведь это я был виноват в том, что сейчас ему предстояло натягивать промасленный комбинезон и забираться в пыльный, раскалённый на солнце танк. Но главное, пожалуй, было даже не в этом.
«Неизвестно, — подумал я, — когда он стрелял в последний раз. Наверно, можно хорошо проводить комсомольские собрания и в то же время неважно стрелять из пушки. И конечно, если сейчас, на глазах у солдат, у своих комсомольцев, он промахнётся, ему не позавидуешь…»
Честно говоря, мне стало жаль этого молодого весёлого лейтенанта. Уж лучше бы я не совался к командиру со своей просьбой.
Впрочем, раздумывать было некогда. Раздалась команда, и мы побежали к танку.
И вот уже тяжёлая бронированная крышка люка захлопнулась за нами.
Танк тронулся.
Я прижался к узкой щели смотрового прибора. Лейтенант приник к прицелу.
Вот что-то шевельнулось впереди, в пыльной траве. Мишени? И сразу фонтанчики пыли взвились возле них. Это заработал наш пулемёт.
Мишени исчезли.
Танк бросало из стороны в сторону. Мне казалось, он несётся слишком быстро. Все были заняты своим делом. Солдат-заряжающий швырнул жёлтый снаряд в приёмный лоток. Я ещё не успел ничего разглядеть, а лейтенант уже опять прицелился.
Танк даже не замедлил ход. Это раньше, чтобы прицелиться, чтобы выстрелить, танк обязательно должен был остановиться. А теперь — нет. Теперь у пушки есть особое хитрое устройство — как бы ни подбрасывало танк на ухабах, ствол пушки останется наведённым точно в цель.
Грохнул выстрел. Полыхнул отблеск пламени. Кисло запахло порохом.
Танк потонул в пыли.
Где-то там впереди должны были появиться ещё новые — движущиеся мишени. Но как их разглядеть? Мне казалось, мы плывём в буром облаке.
Я покосился на лейтенанта. Он по-прежнему не отрывался от прицела. Его лицо было напряжённым.
Тускло сверкнул новый снаряд в руках у заряжающего. Заряжающий орудовал у лотка, точно кочегар у топки, бросающей отсветы пламени.
Выстрел!
Я ещё не успел опомниться, прийти в себя, а наш танк уже возвращался на исходный рубеж.
Как и положено, вчетвером, друг за другом мы подошли к командиру.
— Товарищ майор, — доложил лейтенант. — Первая цель поражена. Вторая поражена. Третья поражена.
Лицо его оставалось серьёзным, но голос звучал весело. А командир хитровато посмотрел на меня и спросил:
— Ну что, увидели теперь, как стреляют танкисты?
И я ответил совсем по-военному:
— Так точно. Увидел.
Как я ждал Пирожкова
Сержанта Пирожкова я отыскал в танковом парке.
Вот уж где было интересно — так интересно!
Никогда в жизни я не видел сразу столько танков.
Повсюду стоял звон и грохот. Около танков возились солдаты в чёрных промасленных комбинезонах.
Сержант Пирожков проверял рацию в своём танке. Он крутил ручки настройки и щёлкал переключателями. Оказывается, танкист ещё должен быть и умелым радистом.
Я не стал мешать Пирожкову.
Я решил, что дождусь перекура и тогда поговорю с ним. Я был уверен, что ждать мне придётся недолго.
Когда-то я сам служил в армии и знал, что солдаты всегда не прочь перекурить. Потому что во время перекура обязательно кто-нибудь расскажет какую-нибудь весёлую историю. А после нелёгкой работы нет лучше отдыха, чем как следует посмеяться. Я уж не говорю о заядлых курильщиках, которые только о том и думают, как бы поскорее затянуться сигаретой.
И вот я отошёл в сторонку и стал терпеливо ждать.
Отсюда мне было хорошо видно всё, что делалось в парке.
Трое солдат натягивали на катки танка тяжёлую гусеницу.
Двое других протащили небольшие зелёные ящики.
Кто протирал ветошью приборы, кто возился в двигателе, кто, забравшись под танк, орудовал гаечным ключом.
Все были заняты работой.
Так прошёл час, а перекура всё не было.
— Ничего, — сказал я себе. — Уже недолго ждать. Это точно.
Один танк поводил из стороны в сторону стволом пушки, словно прицеливался. На другом танкисты прогревали двигатель. Они раскрывали рты и что-то кричали друг другу, но что — я не слышал, такой стоял грохот.
Я посмотрел на часы. Прошло ещё сорок минут. Перекура не было.
«Ну уж теперь-то, — подумал я, — совсем скоро».
Солдаты время от времени скрывались в люках танков, и снова появлялись на броне, и опять исчезали в своих машинах. Руки у всех были чёрные и лица тоже перепачканы.
Так прошёл ещё час. Я почувствовал, что моё терпение кончается. И тут я увидел сержанта Пирожкова.
Он торопился куда-то с гаечным ключом в одной руке и с промасленной тряпкой — в другой. И лицо у него было озабоченным.
Я поймал его за рукав комбинезона.
— Послушайте, сержант Пирожков, — сказал я, — у вас будет когда-нибудь перекур или нет?
Пирожков засмеялся:
— Так у нас весь экипаж некурящий! Был один курильщик — наводчик наш — так и тот позавчера бросил! — И добавил серьёзно: — У нас, у танкистов, ведь как — поработаешь сейчас хорошо, и танк тебя не подведёт на учениях. Поработаешь с прохладцей, кое-как, и танк тебе тем же отплатит — намучаешься потом. Так что сейчас нам не до перекуров. Приходите вечером в казарму, поговорим.
И сержант Пирожков побежал дальше.
Препятствие
Вот какую историю рассказал мне вечером в казарме сержант Пирожков.
— Есть у меня друг — Володя Кукушкин. Во всей роте — да что в роте! — во всём полку считается он лучшим механиком-водителем.
Про него наш командир, лейтенант Громыхалов, всегда говорил:
— Нет такого препятствия, которое не смог бы преодолеть танк, если им управляет рядовой Кукушкин.
А другой наш командир, капитан Дегтярёв, говорил:
— Завяжите Кукушкину глаза, он и с завязанными глазами проведёт танк, как по ниточке.
А третий наш командир, майор Каратыгин, говорил:
— Запустите танк с Кукушкиным в самое что ни на есть непроходимое болото — он и то выберется.
Другой бы человек на месте Володи Кукушкина, наверно, давно возгордился, но наш Володя Кукушкин оставался таким же скромным парнем, каким был, когда прибыл в армию.
И вот однажды приехали к нам гости — комсомольцы с фабрики из соседнего посёлка. Пришли на танкодром, где учатся солдаты водить свои боевые машины.
— Ну, — говорит лейтенант Громыхалов Кукушкину, — доверяем вам исключительно важное дело — показать, на что способны наши танкисты. И чтобы всё было без сучка и задоринки.
— Есть! — говорит Кукушкин. — Без сучка и задоринки!
Надел он, как положено, комбинезон, надел танковый шлем и забрался в свой танк.
Комсомольцы, наши гости, кто на вышке стоит, чтобы виднее было, кто возле вышки, кто через бинокли смотрит, а кто — просто так. И мы все, солдаты, товарищи Кукушкина, стоим тут же.
Вот подал лейтенант по радио команду: «Вперёд!»
Загрохотал танк, выбросил облако сизого дыма и рванулся с места.
Только пыль взвилась из-под гусениц.
И хоть знаем мы, какой отличный водитель наш друг Кукушкин, а всё равно волнуемся — мало ли что бывает.
И вот мчится танк с Кукушкиным всё вперёд и вперёд.
А на танкодроме, надо сказать, каких только препятствий нет! И крутой подъём на гору, и отвесный спуск, и самый настоящий противотанковый ров, и узенький мост — чуть ошибёшься, и всё, застрял.
Только для нашего Кукушкина все эти препятствия не препятствия.
Одно — позади.
Второе — позади.
Третье — позади.
Молодец Кукушкин! Знай, ребята, наших!
Взобрался танк на гору и аккуратненько спустился.
Нырнул в ров и тут же задрал нос к небу — выбирается.
И уже несётся, грохоча, по прямой к мосту.
Лишь пыль клубится над ним.
— Нет такого препятствия, — объясняет нашим гостям лейтенант Громыхалов, — которое не мог бы преодолеть танк, если им управляет…
И вдруг замолчал лейтенант Громыхалов на полуслове.
Что такое?
Мы даже глазам своим не поверили.
Замер танк, остановился как вкопанный.
Что случилось? Никогда такого не бывало. Неужели отказал мотор? Видим издали — открывается крышка люка и выбирается Кукушкин из танка.
Повозился возле гусеницы и назад — в люк.
Тронулся танк. Но время-то уже потеряно!
Лейтенант от досады даже зажмурился.
— Эх! — говорит. — Надо же, чтобы именно сегодня такое случилось! Подкачал Кукушкин. Опозорился перед нашими гостями!
А танк уже рядом. Откинулась тяжёлая бронированная крышка, и из люка высунулась голова Кукушкина.
— Принимайте, — говорит, — пассажира! А на ладони у него, видим, свернулся маленький ёжик.
— Чуть под самую гусеницу не угодил, — говорит Кукушкин. — И как только я его заметил!
Вот тебе и препятствие!
На танкодроме
Конечно, вы понимаете, теперь я не мог уехать, не отыскав Кукушкина.
А где же был Кукушкин?
Кукушкин был на танкодроме.
Пока я добирался до танкодрома, стало уже совсем темно.
«Эх, — думаю, — опоздал. Кто же будет в такой темноте заниматься?»
Но вижу — возле вышки, у фонаря, стоят танкисты.
А где-то совсем рядом в темноте танк грохочет.
Грохот всё ближе, ближе. Нарастает.
Мне даже не по себе стало. Долго ли танку в такой темноте на человека наскочить? Я, на всякий случай, поближе к фонарю подошёл, чтобы меня виднее было.
И тут из темноты танк вынырнул.
Фары не светятся. Тёмный весь.
Остановился танк. Сразу тихо стало.
Открылся люк, и из него выпрыгнул невысокий солдат.
— Товарищ майор, — докладывает командиру, — рядовой Кукушкин упражнение выполнил!
«Что за чудеса? — думаю. — Я в такой темноте в двух шагах ничего не вижу. Как же он танк водит?»
Наверно, я вслух эти слова произнёс, потому что майор дотронулся до моего локтя и говорит:
— Ну-ка, товарищ корреспондент, забирайтесь в танк! А теперь смотрите.
Взглянул я в смотровой прибор и ахнул! Что такое? Вижу дорогу, залитую зеленоватым светом. И каждый камень вижу. И дерево справа от дороги вижу. И кусты слева темнеют.
Может быть, пока я в танк забирался, луна вышла?
На всякий случай я даже наружу выглянул. Нет, по-прежнему вокруг кромешная тьма. Хоть глаз выколи.
Снова к смотровому прибору приник.
Дорога. Камень. Кусты. Всё видно.
Прямо волшебство какое-то!
— Что? — смеётся майор. — Глазам не верите? Такие у нас теперь приборы есть, что и в темноте видят.
— Да, — говорю. — Здорово. Даже вылезать не хочется.
— А вы и не вылезайте, — говорит майор. — Сейчас мы домой отправляемся. Поедете вместе с нами.
И я поехал в танке, как настоящий танкист.
Работа идет нормально
— Что я! — сказал Кукушкин, когда мы вернулись в казарму. — Вот у меня есть друг! Степанов его фамилия. Смелый человек. Можно даже сказать — отчаянный.
И я подумал: наверняка мне теперь предстоит искать этого Степанова. И если дальше дело пойдёт так же, то мне, пожалуй, ещё нескоро удастся вернуться в редакцию.
— В прошлом году тут, недалеко от нас, километров за пятьдесят, обнаружили минное поле. Старое минное поле, ещё от войны осталось. Сотни мин, говорят, там были. И вот сапёры наши поехали разминировать это поле. А вместе с сапёрами должны были отправиться и танкисты — самые опытные механики-водители…
— Зачем же танкисты? — удивился я.
— Как зачем? Помогать сапёрам. Это раньше танк боялся каждой мины. А теперь нет. Теперь впереди танка катится специальное приспособление — трал. Идёт такой танк, медленно идёт и утюжит тралом поле. Вот мины и взрываются.
«А это опасно?» — хотел спросить я, но не спросил. Конечно, я и сам понимал, что опасно. Недаром говорят, что сапёр ошибается только один раз в жизни.
— Подумали, подумали наши командиры и послали Степанова. Собрался он, взял свой вещмешок и уехал. Уехал — и нет от него писем. Пять дней прошло, десять дней — ничего нет. Я уже переживать начал — мало ли что может случиться. С минами шутки плохи. Наконец почтальон приносит письмо. Разрываю конверт, тороплюсь, волнуюсь. Читаю. Да вот, хотите, сами почитайте — сохранилось у меня это письмо…
Кукушкин порылся в тумбочке и протянул мне письмо. Это был помятый тетрадный листок в клеточку. От него пахло соляркой и бензином.
«Володя, привет! — прочёл я. — Пишет тебе твой друг и однополчанин Николай Степанов.
Вот уже десятый день, как я на новом месте. Живу хорошо, только комары донимают, здесь их тысячи. Обязательно пришли мазь от комаров. А в остальном работа идёт нормально.
Больше писать нечего. Привет всем ребятам.
Николай».
— Я, когда получил это письмо, — сказал Кукушкин, — когда прочёл про комаров, грешным делом подумал: а может, и правда, там не так опасно? И только потом, когда уже вернулись сапёры, рассказали мне: дважды танк Степанова нарывался на мины с коварным секретом, дважды Степанов был на волосок от смерти. Вот вам и мазь от комаров!
Я бережно сложил тетрадный листок и отдал Кукушкину.
Я представил себе, как медленно-медленно движется танк Степанова по минному полю.
Впереди с грохотом рвутся мины. Свистя, летят осколки, срезают ветви деревьев, щёлкают по броне…
Работа идёт нормально.
И тогда я решил: пусть я опоздаю в редакцию, пусть со мной делают, что хотят, но Степанова повидать мне надо во что бы то ни стало.
— А где… — начал было я, но Кукушкин понял меня с полуслова.
— Где Степанов? — сказал он. — Далеко Степанов. Уехал уже, демобилизовался. Теперь на заводе работает. Испытателем. Новые танки испытывает.
И я пожалел, что так и не увижу этого человека.
О чем я думал, когда ехал обратно
На другое утро я распрощался с танкистами и отправился назад, к себе в редакцию. Наверно, редактор уже ждал меня там и сердился за то, что я так долго не возвращаюсь.
И пока я ехал обратно, я вспомнил, как не хотелось мне отправляться к танкистам, и все свои мысли тогдашние вспомнил, и мне стало даже немножко стыдно.
Сколько нового узнал я за один лишь день!
Оказывается, это только на вид танк не очень изменился. А на самом деле…
Метко стреляет.
Уничтожает мины.
Преодолевает препятствия.
Видит в темноте.
Ходит под водой.
Вот, оказывается, какая умная машина, наш танк! Вот, оказывается, какой сложной и грозной машиной управляют наши танкисты!
Двадцать строчек
— Ну как? — спросил редактор. — Хорошо съездили? Материал есть?
Он сидел за большим столом и составлял план послезавтрашнего номера газеты.
— Ещё бы! — сказал я.
— Вот и прекрасно, — сказал редактор. — Срочно напишите заметку строк на двадцать.
— На двадцать?!
Сначала я очень расстроился. Потому что мне обязательно хотелось рассказать и о бывшем писаре Верёвкине, и о рядовом Кукушкине, и о некурящем экипаже сержанта Пирожкова, и о молодом весёлом лейтенанте, и о скромном Степанове, и ещё о многом, а разве всё это вместишь в двадцать строчек?
А потом я решил: обо всём, что я видел у танкистов, я непременно напишу целую книжку и назову её: «Что умеют танкисты».
Но это, конечно, после. А пока я пристроился к свободному столу в нашей редакции и стал писать заметку в двадцать строчек.
Потому что, как бы там ни было, а газета обязательно должна выходить в срок.
Когда я служил в армии, полоса препятствий, на которой мы тренировались, была куда проще, чем теперь. А как она выглядит теперь, вы видите на этом рисунке. Рассмотрите его повнимательнее. Рассмотрите каждое препятствие, которое надо преодолеть солдату. Пробежать по буму, пробраться сквозь хитроумные переплетения проволоки, проползти под брёвнами, перепрыгнуть через яму с водой, не замешкаться в огненном лабиринте, перебраться через забор, преодолеть горящий разрушенный мост, взобраться по разбитой лестнице, перетащить ящик с патронами, пробраться по подземному ходу сообщения, затем, укрывшись в окопе, метнуть в цель противотанковую гранату— и дальше, дальше, вперёд! А впереди ещё один каменный забор и наконец фасад пылающего дома: самое последнее, самое тяжёлое усилие — подтянуться, добраться до окна на высоте в три с половиной метра, пролезть сквозь окно, спрыгнуть вниз… И после всего этого быть готовым к бою.
А теперь взгляните ещё раз на этот рисунок и подумайте, сколько смелости, выносливости, ловкости, силы нужно солдату, чтобы преодолеть полосу препятствий!
Побывал художник и в учебном парашютно-десантном городке. Многое из того, что он там увидел, художник изобразил на этом рисунке.
Справа вытянулась вверх тренировочная парашютная вышка: видите — один солдат уже приготовился прыгать? Неподалёку стоят макеты самолётов — здесь солдаты учатся правильно выходить, или, как говорят десантники, «отделяться» от самолёта, в точности так, как потом они будут делать это в воздухе. А вон видна и деревянная горка, на которой десантники выполняют своё самое первое, самое простое упражнение, чтобы научиться приземляться по всем правилам, и специальные качели — лопинги. Ещё чуть подальше — видите? — парашюты подвешены под перекладинами. А под неподвижным парашютом висит человек. Так десантники учатся управлять парашютом. Допустим, подует ветер слева, начнёт относить парашют в сторону, значит, надо тянуть за одни стропы, подует ветер справа — за другие. Если этому не научишься на земле, если не потренируешься как следует, учиться в воздухе будет уже поздно. А вот справа по наклонному тросу на специальном приспособлении стремительно летит вниз десантник с автоматом. Он тоже сейчас учится — учится владеть в воздухе оружием.
Очень интересно в парашютно-десантном городке. Тому, кто хоть раз побывал здесь, наверняка захочется стать десантником!
Круглые сутки — и зимой, и летом, и в ясную погоду, когда светит солнце, и в ненастье, когда льёт дождь, — смотрят в небо антенны радиолокационных станций, круглые сутки дежурят у светящихся экранов радиолокаторов солдаты ПВО — противовоздушной обороны.
Летит самолёт далеко, а здесь о нём уже знают, летит самолёт высоко, а здесь его уже видят.
Невелик военный городок, в котором живут солдаты: казарма, клуб, столовая, радиолокационные станции — всё изобразил на своём рисунке художник. И служить здесь нелегко. Заметили — от казармы к радиолокационной станции тянутся канаты, словно верёвочные перила. Зимой солдаты держатся за них, отправляясь из казармы на дежурство. Иначе, когда начинается долгая полярная ночь, когда налетают снежные бураны, недолго сбиться с пути, заплутать. А то и ветер может свалить с ног.
Разные антенны у радиолокационных станций, и устроены станции по-разному. Есть станции на колёсах, вся их аппаратура умещается в автомашинах, есть станции, которые прячутся в земле, в бетонных укрытиях, только антенна вращается наверху.
Станции разные, и люди, которые несут здесь боевое дежурство, тоже разные, но цель у них одна — главная: чтобы ни один чужой самолёт не мог незаметно приблизиться к нашей границе.
Воины противовоздушной обороны всегда начеку!
На этой картинке художник нарисовал танкодром. Вот два танка застыли на исходной позиции, возле вышки. Сейчас прозвучит команда — и они ринутся вперёд. Посмотрите, сколько разных препятствий им предстоит преодолеть! Сначала узкий проход в «минном» поле (видите, на рисунке он обозначен красными флажками), нельзя отклониться ни вправо, ни влево. Только остались позади «мины», а впереди уже мост, да не простой, особенный — всего два бревна, две колеи — будь, водитель, внимателен, не ошибись, иначе сорвётся танк вниз. А дальше — крутой подъём и отвесный спуск, и водная преграда, и лесной завал… А впереди уже поднимается дым и бушует пламя — и тут танкист должен не растеряться, смело направить машину в огонь. Что там ещё? Надолбы, развалины дома и наконец противотанковый ров. Тут уж, водитель, гляди в оба! Чуть не вовремя переключил скорость — и застрянет танк во рву. Вы заметили: танкист и пушку нарочно развернул в обратную сторону, чтобы не уткнуться ею в стенку рва.
Наконец все препятствия позади. Теперь своё слово скажет стрелка часов, потому что танкист должен не только преодолеть все препятствия, но и сделать это быстро, стремительно.
Днём и ночью гудят на танкодроме танки, днём и ночью учатся танкисты водить боевые машины, чтобы стать отличными мастерами своего дела.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Мы сидели вдвоём с художником и рассматривали рисунки к этой книжке.
— А почему бы, — неожиданно сказал художник, — вам не написать ещё и о моряках?
— И о ракетчиках, не так ли? — сказал я.
— Да, конечно, и о ракетчиках…
— И о лётчиках, и о сапёрах, и о пограничниках… — добавил я.
И тут художник понял, куда я клоню, и засмеялся.
— Ну, не обо всех сразу… — сказал он.
— Нет, — сказал я. — Военных профессий очень много, и все они интересны и важны, но если бы я решил рассказать о каждой из них, эта книжка никогда бы не кончилась. Со временем ребята подрастут и тогда сами откроют для себя многие военные профессии, сами станут солдатами или офицерами, сами научатся летать на самолётах, управлять боевыми кораблями и запускать ракеты…
— И всё-таки…
Но художник не успел договорить, потому что как раз в этот момент зазвонил телефон. Я снял трубку.
— Есть интересное предложение, — сказала трубка знакомым басом. — Не хотите ли вы отправиться в армию к связистам?
— Нет, нет, — сказал я.
Но трубка меня не слушала.
— Поживёте там, познакомитесь с солдатами, поработаете… Люди там интересные. А?
— Да знаете, у меня другие планы… — начал было я и замолчал.
Я замолчал, потому что вспомнил, как сам когда-то начинал службу в армии связистом. Вспомнил, как расстраивались мы сначала, что попали в войска связи, — ведь связисты не стреляют из пушек, не водят грозные боевые машины, не ловят шпионов и нарушителей. И о том, как гордились мы потом своей профессией, тоже вспомнил. Потому что без связи и командиры сейчас не смогут командовать своими войсками, и самолёты не поднимутся с аэродромов, и ракеты не оторвутся от земли. Вот какие важные люди — связисты!
Я вспомнил всё это и ещё не очень уверенно сказал в трубку:
— Хорошо… Наверно, я поеду… Да, да… Что говорю? Говорю, что поеду.
А когда я положил трубку, художник засмеялся и сказал:
— Значит, продолжение всё-таки следует?
— Пожалуй, что так, — сказал я. — Продолжение следует.