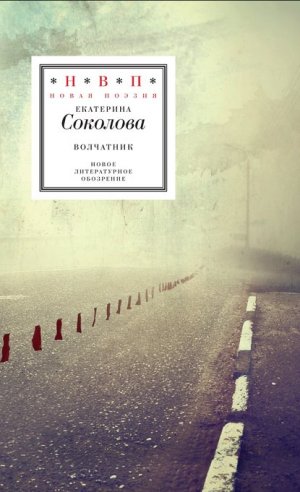
© Е. Соколова, 2017
© К. Корчагин, предисловие, 2017
© В. Крыжановский, фото, 2017
© ООО «Новое литературное обозрение», 2017
«Мы не саженцы твои, а беженцы…»
Предисловие
«Волчатник» — слово, которое на первый взгляд кажется понятным. Так может называться растение или человек, промышляющий охотой на волков, — в словарях изредка встречаются оба варианта, а иногда под таким именем в них возникает лента с флажками, используемая то для охоты, то для украшения моллов и торговых центров. В книге Екатерины Соколовой, кажется, не идет речь ни об одном из этих значений: волчатник здесь не только окружает горные тропы («Волчатник» — слово, которое на первый взгляд кажется понятным. Так может называться растение или человек, промышляющий охотой на волков, — в словарях изредка встречаются оба варианта, а иногда под таким именем в них возникает лента с флажками, используемая то для охоты, то для украшения моллов и торговых центров. В книге Екатерины Соколовой, кажется, не идет речь ни об одном из этих значений: волчатник здесь не только окружает горные тропы (дальше дорога крутая, / волчатник и серпантин), но и, скажем, горит, шевеля плавниками. Эта размытость не случайна. Именно так в целом устроена эта поэзия: основной предмет ее внимания — сущности словно бы стертые, то ли от частого употребления, то ли, напротив, оттого, что никто долго не интересовался их судьбой. Почти каждое стихотворение — вопрос к ним: кто вы, чем занимаетесь в этом мире? И они, обычно пребывающие в сонном забвении, стремятся ответить. Их ответы зачастую смутные, неопределенные, чтобы разобрать — нужно потрудиться: вещи и люди, населяющие эти стихи, не привыкли, когда кто-то говорит с ними. Однако каждому из них должно быть дано право голоса, и отклик каждого из них должен быть выслушан.
Такова стержневая этическая проблема этой поэзии: как дать голос тем, кто его лишен, и, главное, как разобрать то, что они говорят в ответ? Именно такой вопрос, напомню, стоял в центре постколониальной теории, ключевой сюжет которой — отсутствие у бывших колонизируемых собственного голоса, того языка, на котором они могли бы обратиться к остальному миру. Стремясь быть услышанными, они вынуждены использовать язык колонизаторов, что, в свою очередь, порождает глубокий разрыв, проходящий сквозь их жизни: они не могут полностью примкнуть ни к одной из сторон — ни к колонизаторам, чьим языком они вынужденно пользуются, ни к колонизируемым, к которым принадлежат по рождению. Но вопрос, поставленный в стихах Соколовой, шире и глубже: в них такой разрыв обнаруживается внутри каждой вещи, каждого существа — все они хотят выговориться, мучительно ищут собственный голос. Поиски часто заканчиваются ничем, и все же поэт не оставляет попыток, снова и снова выспрашивая у вещей, что же их волнует.
Язык этой поэзии также содержит следы двойственности, гибридности населяющих ее сущностей: иногда они сами свидетельствуют о том, что принадлежат к другому языковому пространству, где реалии, привычные для современной России, перестают что-либо значить, порождая курьезные и двусмысленные ситуации:
Однако чаще смутная изнанка вещи скрыта от наблюдателя, пребывающего в убеждении, что имеет дело с привычным и даже в чем-то рутинным миром, — как и положено колонизатору, у которого нет желания вслушиваться в невнятные речи аборигенов.
Колонизированный язык возникает здесь неслучайно: родной город Соколовой — Сыктывкар, столица Республики Коми, слова и имена из этого финно-угорского языка периодически проникают в ее поэзию. Судьба литературы на языке коми близка судьбам литератур на других языках России: писателей коми не видно из метрополии, часто они повторяют то, что уже давно перестало быть актуальным в столицах. Правда, финно-угорское возрождение рубежа XIX — ХХ веков отразилось и на этих территориях: в 1916 году Каллистрат Жаков, вдохновляясь «Калевалой» Лённрота, пишет на русском языке поэму «Биармия», пересказывающую и реконструирующую древнее мифологическое пространство коми. Однако в новейшее время в литературе коми не нашлось своего Геннадия Айги, способного накоротко замкнуть язык колонизаторов и язык колонизируемых, чтобы показать двойственность и призрачность жизни внутри империи и обрести ту особую свободу, которая недоступна поэтам, владеющим лишь одним языком.
Отчасти поэзия Соколовой выполняет для коми ту же роль, что поэзия Айги для чувашского: у Айги образ чувашского пейзажа, напоминавшего окрестности его родной деревни, проступал в подчас мало похожих декорациях — например, в районах московских новостроек. У Соколовой нет такого постоянно повторяемого образа пространства — ей важнее не визуальные, а речевые и коммуникативные категории: то слово, что будет произнесено в ответ. В силу этого ее стихи всегда направлены на Другого, пытаются прислушаться к нему. Этот Другой не обязательно обладает финно-угорскими чертами — Соколова ставит перед собой более широкую задачу: показать, что любая вещь и любой человек, по сути, пребывают в положении колонизируемого, и всё, чем они владеют — от языка до личных примет, — не осознаётся ими как свое: всегда воспринимается как назначенное «сверху», выработанное в недрах огромной машины власти.
Но какова природа этой власти — так и остается неясным, несмотря на то, что разговор о ней идет у Соколовой постоянно. Власть наваливается на людей и вещи удушающей громадой, она непостижимым образом организовывает их жизни, не считаясь ни с чем, кроме себя самой. Она абсолютно самодержавна и, в то же время, призрачна, так что нигде невозможно обнаружить ее центр, то место, откуда исходят команды и указания. Суд, тюрьма, люди в милицейской форме возникают почти в каждом стихотворении, хотя часто лишь смутным намеком. Это ощущение постоянного присутствия власти порождает особую тревогу, выраженную то в сбивчивом канцелярите, то в почти конвульсивной логике развития текста, который словно прощупывает, насколько опасным для его обитателей будет тот или иной вариант развития событий:
Тот Другой, что находится в фокусе внимания этих стихов, тоже часто едва различим, укрыт тенью, отбрасываемой властью. Он назван либо по роду занятий (милиционер, редактор), либо личным именем — иногда говорящим (Гербарий Арсеньевич), иногда загадочным, одновременно узнаваемым и нет (как Кузьбöж Валя, ведь буква ö из алфавита коми неизбежно приковывает внимание). Присущие ему черты всегда размыты — трудно заключить что-то о его поле или возрасте, иногда можно подумать, что он принадлежит к народу коми (как Ульныр Пиле). Но во всех этих случаях важна не этническая принадлежность, а двусмысленное положение персонажа в мире, его неспособность встроиться в существующий порядок, отчасти напоминающая о финно-угорских чудаках из прозы Дениса Осокина. Чем незначительнее выглядит такой персонаж, тем более он сжат тисками власти, почти столь же безличной, как античный фатум, и тем больше у поэта желания поговорить с ним, узнать, что беспокоит именно его, а не ту безличную волю, что направляет его жизнь.
Но именно поэтому поэзия Соколовой — это поэзия одиночества: в книге часто встречается местоимение я, но можно заметить, что это я будто не принадлежит себе, действует на тех же правах, что и другие местоимения — мы, он, они. Это я тоже оказывается тем, кто переживает на себе действие власти — как и другие вещи, живущие собственной жизнью. В таком мире никто не принадлежит себе — вялотекущий, неспешный рок определяет все поступки тех, кто населяет стихи Соколовой, и сами они часто захвачены этим тревожным движением.
Похожую обреченность судьбе можно увидеть и в поэзии Геннадия Айги, у которого, впрочем, отсутствует фигура власти, а проблематичной предстает скорее абсолютная свобода расстилающихся перед взглядом полей. Ближе к Соколовой оказывается Леонид Шваб, чьи герои также словно бы видны сквозь тусклое стекло, рассеяны по миру непонятным роком, который заставляет их забыть, кто они такие и как здесь оказались. Шваб фиксирует диаспорическое состояние с характерной для него невозможностью воспринять ни одну территорию как свою. Диаспора у него лишена голоса — она лишь совершает какие-то неясные действия и вступает в смутные отношения друг с другом: можно сказать, что персонажи его стихов всегда пребывают в тяжелой меланхолии, лишающей их не только способности говорить, но и интереса друг к другу.
Соколова, на первый взгляд, движется из той же точки — изнутри меланхолического рассеяния, однако стремится найти выход из присущей этому состоянию апатии. То, что говорят предметы и люди в ее поэзии, оказывается важным потому, что лишь посредством этих речей можно связать разрозненные фрагменты мира друг с другом, собрать заново разлетевшуюся в разные стороны диаспору. Способность предметов и людей говорить о себе оборачивается предчувствием грядущей солидарности: даже стертые почти до неразличения сущности могут однажды найти общий язык, при помощи которого можно будет обустроить новый мир, лишенный тягостной тревоги и непрерывного властного надзора.
Конечно, эта утопия не столь безоблачна: и говорящий, и слушающий часто устают от бессвязности собственных речей и тщетности попыток понять друг друга. И все же разговор каждый раз возобновляется снова, а каждое стихотворение предстает новой попыткой разговорить вещи. В этом смысле поэзия Соколовой — антропологична, хотя ее внимание направлено не только на людей, но и на предметы:
Поэт осуществляет своего рода «включенное наблюдение»: наблюдающий за чужой жизнью — за жизнью трав и листьев, лесов и равнин, — он сам становится одним из тех, что составляют его предмет исследования, или, по крайней мере, приближается к ним настолько близко, насколько это возможно. В этом мире, однако, уже не важно, люди перед нами или вещи: все они в равной мере истощены властью, все они находятся на грани незаметного исчезновения.
Это может напоминать не только об антропологии, но и о традиционных дохристианских верованиях, влияние которых еще заметно на финно-угорских территориях и в граничащей с ними Чувашии (что отчасти фиксирует и поэзия Айги), — о древнем тотемизме, всматривающемся в души предметов. Соколова не без иронии относится к старому язычеству, но далека от того, чтобы отказаться от него: ведь оно не только помогает разговорить мир, но и одно лишь способно сопротивляться повсеместной централизованной власти. Возможно, дело еще и в том, что без поддержки со стороны предметов человек обречен на поражение — только в союзе с ними можно по-настоящему перестроить мир, но для этого стоит спросить, что же предметам, собственно, нужно от мира.
Поэтическая программа Соколовой уникальна в новейшей русской поэзии: она указывает, что помимо политической борьбы, осуществляемой посредством критики властного высказывания, помимо болезненных столкновений разных картин реальности, разрывающих сознание читателей блогов и социальных сетей, современный человек может найти совершенно иную опору для сопротивления — тогда, когда он будет готов выслушать Другого, чтобы его самого услышал Другой.
Кирилл Корчагин
«Передайте, пожалуйста, русскую соль…»
«Что происходит в доме, где сосед живет…»
«В белом окошечке регистратуры…»
«Греет глаза на солнышке…»
«З асыпая, слышал незнакомые голоса, дерево…»
«Примите наши искренние пустые чашки…»
«Близится, братцы, — тело мое сомнулось…»
«Збигнев приготовился взлетать…»
«Во сне покойный отец…»
«Некто У́льныр Пи́ле…»
«Падает и лежит свет…»
«Я говорит антрополог своей жене…»
«Так не зря они посадили меня водителем…»
«Всю жизнь я прожил неизвестно с кем…»
Шева
«Экая шпулька вышла бормочет швец…»
«Г де теперь пассажиры…»
«Предадимся любви и верности…»
«Первый суд не по делу…»
«Пусть все переедут…»
«Очнитесь, чтобы отметить друзей, Володя…»
«Здесь в россии…»
«Товарищи европейцы…»
«Он нес разборный…»
«Я покидаю Замоскворечье в спешке, в аду…»
«Обнимите его ибо теперь он…»
«Устал — говорит луговой человек…»
«Отбился от коллектива человек отдыхающий…»
«Перед нами фотография жителя архипелага…»
«Высох и стал беззаботен Гербарий Арсеньевич…»
«Редактор проявил ко мне неуважение…»
«Подближается возраст такой…»
«Мы не саженцы твои, а беженцы…»
«Возможно ли, Господи…»
Д. С.
«Голосом бурым со мной говорит зима…»
«Отличная собака встала у моей постели…»
«Я уже прилегла, до свиданья…»
«Полевой человек пугливый…»
«Замечательный милиционер сделал свою работу…»
«Там, где зожник подтягивается…»
«Запишусь в школу мяча…»
«За двоих передайте, пожалуйста…»
«Вода нанесла наносное…»
А. Ч.
«Дом стал стационаром, знаете…»
«Мы съели ролл с адвокатом…»
«Нет строительству диснейленда в нагатинской пойме…»
«Прекратил горевать человек…»
«А вот что хочется…»
«Тот молодец работник…»
«Человек как блестяшка в траве…»
«Не каникулы, а баночка-морилка…»
«Покрывай меня испарина…»
«Должны ли мы отнестись как к самим себе…»
«Не то пальто, брат Чешира, ты подогнал мне…»
«Нет возможности поблагодарить…»
«В тех местах, где патрульничаем уже давно…»
«Проходи, эта жизнь, проходи…»
«То ли в будке ментовской, а то ли в крутой тачке…»
«Что стряслось? — ничего не стряслось…»
«По техническим причинам…»
«Приедешь, и я, стреляный человек, расскажу…»
Г. К.
«Откажите мне без объяснения причин…»
«Спереди, в зоне видимости водителя…»
«Поздним вечером возвращается в дом…»
«Подвязался сон за мной…»
«Люди спать хотят и прилегают…»
«Дорогой Энди…»
«Всякий раз перед собственным самолетом…»
«Собаки провожающие нас…»
«Тихие узбеки подбирающие наш двор…»
«Цуцик ли с обезьянками у вокзала…»
«Где победитель шапку не надел…»
«„Это конец, мой Только-друг“ — он поет…»
«Пользуясь услугами государства…»
«Где курсировать стану посмертно?..»
«Остановили меня…»
«Догони меня, птичка-тери́берка…»
«Человек-сухотик хочет добавить меня в друзья…»
«Слёзы в глазах, Николай Яковлевич…»
Н. Ш.
«На зеленой траве расположены будто…»
«Как оказалась пустая коляска…»
«Некий фикционер прикопался…»
«Иссекай, брат, по своим золотым часам…»
«Мне ли не надо любви? да мне больше всех надо!..»
«Дежурный охранник гаражного пространства…»
«Дедушка жук-пожарник, не приведи…»
«Человек вышел к реке…»
«Круг за кругом виток за витком…»
«Отпустили к тебе человека…»
«Дорогой майор Иван Иваныч…»
«Снился мне караван барабашек…»
«Выбрав услуги грузчиков…»
«Выние ли мое последнее Ты слышишь, Господи…»
«Что это красное?..»
«Как хозяева ноги мои пошли по земле…»
«Хотели мы скоротить путь, но не вышло…»
«Почему же мы в касках обычных…»