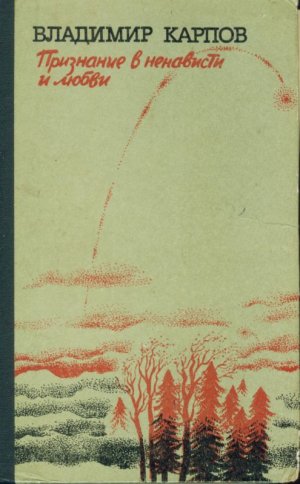
ОСЕНЬ СОРОК ВТОРОГО
из воспоминаний
Мы простились в небольшой деревушке Зуи, где размещался штаб не так давно созданной бригады Семена Михайловича Короткина — на Витебщине традиция давать специальные названия партизанским соединениям не привилась, — чувствовалось влияние близкого фронта.
С месяц назад сына и жену вывезли ночью из «нейтральной» Слободы, устроив шумный спектакль. Перевернули в доме все вещи, подняли шум. Нужно было, чтобы никто не смог обвинить славную, отзывчивую семью, которая в первые дни войны приютила нас.
Хлопцы, участвовавшие в катавасии, делали это попутно — главной их задачей была заготовка соли для бригады. Потому, пока они проводили свою затяжную операцию, жена и сын вместе с ними жили в Тошнике — недалеком от Слободы лесу, помогая партизанам готовить пищу и мыть котелки.
В Зуях их поселили в доме рядом с госпиталем, и они занялись другим — стали собирать малину для раненых. Питались же на кухне при госпитале.
Последнюю ночь перед расставанием мы провели вместе. На пригуменнике отыскали стожок под навесной кровелькой, забрались на него, зарылись в сено и проговорили до рассвета.
Что осталось в памяти от той ночи и ясного утра? Свежесть и луговые запахи. И еще — родная теплота. Да, да! Она воспринимается сердцем и, согревая его, не тает, а как бы остается в тебе. Я не помню точно, о чем мы говорили. Но могу поклясться: разговор был наивным, далеким от испытаний, что ожидали нас. У жены есть фотокарточка — она в шестнадцать: лобастая, открытая, с гривкой, в простенькой, одолженной у подруги «баядерке» и поношенном, тоже чужом пальтишке. А на оборотной стороне подпись-напоминание старшему брату: «Не забывай, что твоя сестра, как и ты, твердо стоит за дело рабочего класса». Мне кажется, разговор наш по духу был тютелька в тютельку похож на эту подпись, Во всяком случае, такой след в душе остался от него. Помню только, когда мы первыми проснулись с сыном, я взялся за «ТТ». Разбирал, чистил пистолет и очень гордился, что глазенки у сына сверкали.
Группа, которая шла из Зуев за линию фронта, была небольшая. Сбитый под Витебском летчик — бледный, изнеможенный, в шлеме и позеленевшей кожанке, побывавшей в земле. Резвая, коротко постриженная студентка-медичка в сапогах и перешитой из шинели куртке. Председатель райисполкома — пожилой, бровастый, с добрыми, будто выцветшими глазами, в брезентовом плаще. Его жена с сестрой — еще полные, в летах женщины, которые, видимо боясь лихих событий, надели на себя лучшее, что сохранилось у них. И, наконец, моя жена с сыном, который будто бы собрался в гости — в туфельках, носках, рубашонке и седельчатой — дань времени — испанке с кистью. Сопровождали их два молодых парня-партизана — подводчик и проводник, одетые с каким-то охотничьим шиком. Но участвовали они в таких походах не впервые и держались по-будничному спокойно. Правда, у проводника на шее висел новенький автомат — ППШ — и парень чаще, чем следовало бы, трогал его, поправлял. И потому казалось: он подтянут, пружинист в движениях и может при удобном случае пальнуть из своего новенького оружия прямо в густое синее небо, не успевшее еще стать сентябрьским.
На улицу провожать их высыпали раненые — на костылях, с забинтованными головами, и медсестры — в халатах и белых косынках. Стали в ряд вдоль забора. Пришел Короткин, аккуратный, собранный, искренне пожал каждому, кто уходил, руку, дал моей жене адрес семьи.
— Хотя и в городке живут, а свой огород имеют, — сказал с грустной усмешкой. — Так что помогут. У них там и светомаскировки нет. Скупым не приходится быть.
— Хорошего вам хлопца оставляю, — вырвалось у жены. — Смотрите, берегите его, пожалуйста.
— Постараемся, — слегка смутился Семен Михайлович.
Помнится, я вообще удивлялся жене.
За день их предупредили: в районе так называемых «Витебских ворот» положение усложнилось, и не исключено, что придется искать глухих, нехоженых троп. Кое-кто отказался идти, ожидая лучших дней, а она вот напросилась и идет.
Жена стояла передо мной, опустив безвольно руки, но смотрела почти спокойно: нельзя плакать прощаясь, иначе беда будет подстерегать обоих.
О, как тогда я любил ее глаза, в глубине которых замирал и вспыхивал осторожный блеск! О, как любил их всегда! И в слезах — будто в расплавленном жемчуге. И сияющие, широко раскрытые от радости. И какие-то скорбящие от преданности, от желания, чтобы мне было лучше. Любил потемневшие от готовности броситься на любого, кто посмеет обидеть меня, сказать наперекор грубое слово, или полные мольбы быть справедливым и достойным справедливости.
Как и все светлые глаза, они меняли цвет. Когда она надевала зеленое платье, глаза молодели, отливали изумрудом. Когда надевала янтарные серьги и бусы, серые глаза как бы становились золотистыми, что-то обещали. В них отражались и чистое, ясное утро, и хмурая предвечерняя пора… Она знала об этом и охотно пользовалась даром-секретом, как женщина, которая любит и хочет быть любимой.
При людях жена разрешила поцеловать себя не обнимая. И когда я поцеловал ее в губы, они показались мне холодноватыми.
Подводчик посадил сына в передок телеги, нагруженной чемоданами, баульчиками, узлами, вскочил сам и дернул вожжи. До этого времени стояла сушь, и я заметил, как с колес, будто вода, по спицам потек песок. Но где-то за лесом лиловела туча, проливалась дождем. За ней, тоже с полосами дождя, плыла вторая. А над ними коромыслом выгнулась радуга. И вот туда, под дождевые тучи, отправилась подвода с группкой сутулившихся людей.
Такой, похожей на похоронную процессию, и осталась та картина в памяти. Околица Зуев выглядела бедно — вытоптанный животными выгон, из деревьев одна усыхающая раскидистая груша с порыжевшими нижними ветвями над дорогой. И только вдали лес… Курится пыль. Поскрипывает, тянется подвода, за ней — по обе стороны и сзади — несколько невеселых людей. Все!..
А на следующий день наша группа в десять разведчиков-связных, которую подобрали в Зуях прибывшие из-за линии фронта представители Минского и Вилейского обкомов партии, двинулась в другую сторону — на запад.
Задания у нас были разнообразные. Штаб партизанского движения имел сведения — гитлеровцы включили некоторые районы Западной Белоруссии в генеральный округ рейхскомиссариата Остланд, куда входила Литва, и литовские коллаборанты будто бы отдали приказ занять наши пограничные кордоны на бывшей западной границе. Обследовав ее, небходимо было проверить, так это или нет. Мы получили письмо ЦК КП(б)Б, где подчеркивалось важное значение партизанских ударов по коммуникациям врага, по которым шло все необходимое на Восточный фронт, — как раз разгоралась Сталинградская битва. Мы должны были устанавливать связь между существующими отрядами, что могли встретиться по дороге, и в частности установить судьбу отряда Осташенка и Федора Маркова, который после окончания спецшколы в августе сорок первого был направлен в тыл врага и от которого не было вестей… Мне кроме всего поручалось собрать материал о Минске — о паспортном режиме в нем, о контрольно-пропускных пунктах, проверках и облавах, о борьбе минчан с захватчиками.
Минск! Туда в добрые мирные дни я ездил на зачетные сессии. Там, когда началась война, сдавал последний государственный экзамен и пережил первую в жизни бомбежку, — прижатый взрывами, лежал на булыжной мостовой Привокзальной площади, прикрыв собой девочку, которая вдруг осталась одна. А потом, когда немецкие стервятники улетели, благодаря удаче втиснулся в поезд. Правда, он шел уже не в Витебск, куда нужно было мне, чтобы попасть на Сиротинщину, в Долгую Ниву, где осталась моя семья, а в Могилев. Из Могилева же то железной дорогой, то пешью после злоключений и мытарств я все-таки добрался домой…
Нашей группе везло: в Червенские леса с нами одной дорогой до Бегомлыцины направлялся спецотряд под командованием Блина, как говорили, Героя Советского Союза. Это очень облегчало нам задачу: отпадали многие хлопоты — о проводниках, о головной разведке, о часовых на привалах и дневках.
Ночью, действуя нахрапом, мы с блиновцами пересекли железную дорогу Витебск — Полоцк прямо по переезду, выставив только боковые заслоны.
Шум подняли довольно сильный. Понукали коней. В спешке телеги соскальзывали с настила, и их приходилось скопом водворять на помост. Натужно скрипели колеса, фыркали лошади. Бряцали оружие, котелки. Ожидая, что вот-вот посветлеет ночь, мы перебежали один, второй путь и как бы нырнули во тьму, что по другую сторону полотна показалась еще темнее. И только тогда засвистели пули и в небо взвилась ракета.
Рельсы, лошади как бы отбросили меня назад — в прошлое. Ослепив, оно будто ворвалось в меня вместе с толчками крови в висках. Промелькнула картина бегства из Долгой Нивы… Председатель колхоза дал мне тогда серую в яблоках молодую кобылицу. Но когда мы запрягли ее в телегу, как из-под земли вырос чернобородый муж пашей школьной уборщицы и, тараща налитые кровью глаза, схватил кобылицу за уздечку — он сам претендовал на эту лошадь. Пришлось, чтобы показать свою решительность, вытащить из-под узла топор и, нахлестывая необъезженное животное, мчаться; куда потянула она сама, — прямо по лугу, простиравшемуся перед школой… От мыслей — главным все же были жена с сыном — заныло сердце. Как они там? Фронт не железная дорога!
На эту картину набежала вторая. Мы в деревне Слобода, куда свернули под вечер с шоссе, чтобы переночевать. Я пою кобылицу. Губы у нее трогательно вздрагивают, и у меня на душе становится хорошо. Но только на мгновение, ибо тут же я слышу, как кто-то кричит, что там, на шоссе, беда, и, хотя хватаюсь за хомут, прекрасно понимаю: не-ет, танки на лошади не обгонишь!..
Но едва только ракета погасла и над нами опять сомкнулась тьма, воспоминания как нахлынули, так и отлетели. Осталась только боль — в сердце.
…Дальше лежал самый опасный отрезок пути — там не было партизанских отрядов, и его нужно было покрыть за ночь, чтобы достигнуть Западной Двины, где невдалеке действовала бригада Мельникова и мог угрожать, в сущности, один лишь немецкий гарнизон Улы.
Из отряда Блина наиболее колоритными были двое: сам командир и комвзвода Володя Левшин — высокий, худощавый, с большими грустными глазами. С ним я и подружился, и когда шли позже лесами, говорили о высоком — литературе, Родине, мужестве ленинградцев в блокаде. Реагируя на все остро, Володя, однако, оставался грустным и немного вялым, будто его точила боль или он думал одну недодуманную думу, и беспрестанно посасывал свою неразлучную трубку.
Блина, как потом выяснилось, только что представили к почетному званию Героя, воодушевленный, он жил на высокой волне, немного позировал, носил папаху с красным донышком, хотя впереди было бабье лето и если холодало, так только на рассвете. Приземистый, загорелый, с быстрыми карими глазами, он принимал решения не особо задумываясь, веря в свою счастливую звезду.
Возможно, это обстоятельство содействовало и тому, что, достигнув Западной Двины, мы не форсировали ее, а остановились в прибрежной деревне, кажется, Ерошеве — не так уж далеко от Улы.
Что обусловило блиновское решение? Он понимал: отряд станет притягательной силой и пополнится здесь добровольцами. К тому же бойцы в его отряде были обмундированы неважно. Совсем износилась обувь. В таком же положении были и мы. А под Улой когда-то размещались наш аэродром, как помнится, тяжелых бомбардировщиков, и склады с армейским обмундированием. В сумятице первых военных дней обмундирование разобрали крестьяне из окрестных деревень. Представилась возможность и нам кое-что приобрести и одеться получше. Забегая вперед, скажу: мне досталась новенькая, с иголочки, шинель, которую я и проносил, пока не вышел с отчетом в советский тыл. Но многие из партизан и партизанских командиров, с которыми мы встречались позже, недоумевали — с кем они имеют дело? А это иной раз даже помогало.
Осень стояла золотая, безветренная. Двина несла воды плавно, величаво. Журчало только у берегов. Нас с Володей Левшиным удивляло, почему ей, такой спокойной красавице, не везло в песнях, как, скажем, Днепру или Неману.
Свои операции мы проводили по ночам. В одной из деревень встретили работника Бешенковичского лесничества — приписника. Как офицеру предложили вступить в отряд Блина — нам расти запрещалось. Живой, проворный, он не задумываясь обещал достать оружие и выполнить совет. Однако, когда мы через день пришли опять, дома его не оказалось. Жена, бледная, полная женщина с большим животом, засуетилась, приглашая нас к столу, не знала что подать. Уважать людей тоже надо уметь. Кто-то нажал на курок винтовки и выстрелил в потолок. Женщина схватилась за голову, присела, а мы пошли искать хозяина. Я завел привычку носить электрический фонарик на пуговице шинели. И когда мы вошли в хлев, где вздыхала корова, я посветил им. Половину хлева занимало огороженное жердями сено. И вот где-то на высоте груди мы в сене увидели подошвы. Вместе с сапогами вытащили и хозяина.
К нашему удивлению, он растерялся не очень. Оббив сенную труху, усмехнулся и с каким-то непонятным облегчением повел нас назад в дом. Подойдя к жене, погладил ее живот, и тогда мы увидели — женщина беременна.
Я сам чувствую — пишу не с той серьезностью, какой требуют события. Сейчас их трагичность видится мне более ясно, но тогда я воспринимал именно так. Почему? Возможно, потому, что был по-молодому неискушенным и прямолинейность нередко принимал за признак преданности делу.
Но жизнь была куда сложнее.
Судьба наказывает тех, кому жизнь кажется проще, чем она есть. Мы дали своему новому знакомому старенький «смит-вессон», помогли вступить в отряд Блина. Бросив все, что имел, захватив с собой жену, он пристроился к отрядному обозу. Однако с половины дороги переменил решение и отослал жену назад — ничего не случится, пусть рожает в своем доме. И, как нужно было ожидать, ее уже на околице перехватили полицейские. Надругавшись, притащили умирать к воротам родного дома.
А сейчас несколько слов о себе.
Сам факт, что твою землю топчут пришельцы, вызывал у меня боль. Издевательство же гитлеровцев над привычными формами жизни прямо мучило. Около Слободы вместе с нами попало в окружение и было разбито Лепельское минометное училище, и я уже тогда припрятал для себя пистолет, карабин, гранаты. Не позабыл и о бинокле, планшете, широком ремне с портупеей. И вообще многое тогда начинал сам, кустарно, если так можно сказать. Но как стало ясно сейчас, я смутно представлял и опасность, угрожающую стране, и борьбу, разгоравшуюся вокруг. Да, помнится, очень подмывало заявить о себе так, чтоб сразу изменились и собственная судьба и судьба семьи. Заявить громко — взорвать комендатуру, уничтожить районных верховодов. Сообщив свои намерения Короткину — ко мне в Слободу по ночам часто приходили с заданиями партизаны, — я подыскивал работу в Шумилине и стал наезжать туда на велосипеде — до местечка было километров десять, Но вскоре надо мной нависла угроза ареста: знакомства, которые я заводил, да и то, что жил за горами, за лесами, насторожили полицию безопасности, и мне пришлось отказаться от своих замыслов и уйти в партизаны.
Семена Михайловича Короткина, как довоенного секретаря райкома партии, уважали все. Ему верили, ему без колебаний вручали свою судьбу. И когда я пришел в Зуи, то буквально на второй день попросился на задание: связи, приобретенные мной в местечке, надо было все же использовать. Правда, слушая, Семен Михайлович долго смотрел мимо меня — думал, однако наконец кивнул, как показалось — лбом.
В помощь мне дали спокойного, рабочей закалки уральца, который перед войной секретарствовал в парткоме прославленного Березинского комбината, — Леонида Политаева, почти одновременно со мной пришедшего в отряд. Мы двинулись в путь.
Из людей, с которыми я успел познакомиться в местечке, мы выбрали двух — Петра Шаройку, бывшего курсанта Лепельского минометного училища, о котором я уже вспоминал, и главврача районной больницы.
Отец и мачеха Петра жили в деревне, что чуть ли не вплотную примыкала к Шумилину. И вот после того, когда училище перестало существовать, парень приплелся домой, в отцовскую избу, стоявшую в конце деревни, недалеко от зеленой гребли, за которой поднимался лес. Чтобы легализоваться, устроился на работу на Шумилинскую биржу труда, где стал ведать мобилизацией подвод. Молодость била в нем ключом, и, несмотря ни на что, он оставался ясноглазым и, как представляется сейчас, кудрявым.
— Этот сможет! — согласился Леонид, провожая глазами стройную фигуру парня, уходившего от нас после встречи. — Подъедет к комендатуре, выдавит стекло в окне, бросит подарочек… и поминай как звали! Тем более сейчас как раз гонят подводы на ремонт шоссе. А если что, прикроем…
Как ни удивительно, бывший офицер-минометчик понятия не имел о противотанковых гранатах. Пришлось в том же Тошнике проводить репетиции. Особенно поражало Петра то, что брошенная граната взрывалась мгновенно, как только касалась какого-либо предмета. Удивляло: как она, такая тяжелая, не давала осколков? Вся ее сила заключалась во взрывной волне, которая убивала людей, рвала металл.
Молодости сопутствует мужество. Но, возможно, никто и ничто — если только вдуматься — так не жалеет себя, как та же молодость. Когда Петр забывал бриться, над губами и на щеках у него еще белел, вихрился пушок. Он любил лес, небо, отца. Говоря о родине, умилялся, замолкал и откашливался.
Чтобы застраховать его от привычного с детства, которое может сделать человека сентиментальным, мы запретили ему в тот день ночевать дома и посоветовали переспать в гумне. Но он, скорее всего из гордости, не послушался нас. А возможно, захотел проститься с домом. И, разумеется, лежа в постели, долго ворочался, вздыхал, шарил под подушкой, где лежал у него пистолет. |
Отец же, как назавтра сообщили нам сельчане, замечал таинственные отлучки сына, изменения в его настроении. А увидев, как тот томится в постели, не сомкнул глаз и сам и, дождавшись, когда сын выбился из сил и уснул, вытащил из-под подушки пистолет, ахнул и разбудил жену. Через час старик уже шагал в казарму железнодорожной охраны, находившуюся на другом конце деревни, надеясь — покорностью, признанием спасет Петра. А еще через час, на заре, из местечка примчались гестаповцы, как называли обычно сотрудников СД и полиции безопасности. Они связали парня и, заставив старика запрячь лошадь в телегу, на которой Петр и собирался ехать выполнять приговор, швырнули прямо на голые доски, лицом вниз…
Чтобы немцы не успели разгадать, что нам нужно, и не приняли мер, мы на другой же день вызвали на явку главного врача Шумилинской больницы, военного эскулапа из окруженцев, попросив приехать вместе с женой, — пусть поездка выглядит и как визит к больному, и как прогулка.
Они прикатили к нам на один из казекавских хуторов. Он в прорезиненном плаще с башлыком, она, как настоящий грибник, с корзиной, ножом, в простеньком ситцевом платьице, в сером пыльнике и кокетливо завязанном кровелькой платке в крупный синий горошек. Ловко соскочив с телеги, врач привязал лошадь к пряслу, взял докторский саквояжик под руку и, улыбаясь жене, помог ей слезть с телеги. С застывшей усмешкой послал по грибы в недалекий березнячок, приказав быть на виду.
Не мешкая мы зашли в чистую половину избы, сели за стол. Без лишних слов выложили ему задание — любыми средствами уничтожить районную верхушку.
Он, наверное, ожидал всего, но только не этого, хотя остался спокойным и как смотрел в окно, так и продолжал смотреть. Сказалась профессиональная выдержка: врачу часто приходится решать, как вести себя — говорить правду, полуправду или лгать. Но я все-таки заметил: глаза его стали зыбкими, и он смотрел уже в окно не только чтобы следить за женой.
Полнясь еще вчерашним гневом, я наступил под столом на Ленину ногу и решительно положил ладонь на стол.
— Вы беспокоитесь за супругу? Тогда давайте мы возьмем ее с собой. А вы в местечке пустите слух, что она уехала к своим.
В какой-то неимоверно краткий миг глаза у него наполнились слезами.
— К своим? — простонал он. Меня передернуло.
— Чего это вы? Может быть, боитесь сжечь мосты за собой? Тогда скажите прямо.
— Нет-нет! Я даю вам слово…
Леня не поддержал меня, и операция, как оно скорее всего должно было произойти, сорвалась. Но мне вспомнилось все это вот почему. Глядя вслед отдалявшемуся эскулапу, который торопливо дергал вожжами, я почему-то совсем не думал о его жене, как вообще не думал, можно ли насильно сделать человека героем… Леня сделал правильно: непосильное задание — беда и для дела, и для человека, на чьи плечи взвалили такую ношу. Но разве можно — и это открылось мне, — чтобы каждый выбирал себе дело сам и по своим силам? Разве Родина не имеет права, особенно в тяжелую для себя минуту, послать на смерть каждого — иди и умри? Тем более при таких условиях — выполни или умри!
Не знаю, догадывался ли о моих мыслях и переживаниях Семен Михайлович Короткий. По-моему, да. Ибо после разговора со мной по его представлению я был включен в группу разведчиков-связных и назначен заместителем командира.
Минщина!
Она встретила нас холмистыми борами, грибным запахом (боровики, помнится, попадались до самого конца октября), запахом смолы-живицы. Встретила побуревшими полями, непривычно изрезанными, правда, не межами, а бороздами на узкие полоски, отчего было очень горько. Березовыми рощами и осиновыми перелесками, что наливались багрянцем. Встретила лесными, еще не осенними дорогами, колеи которых только в низинах наполняла вода, чистыми-чистыми лужами в мураве. Болотами и болотцами, в которых немного прибавилось тихой воды и которые с берегов заросли лозой, а дальше редкими карликовыми сосенками.
Большие, при гравийках и шоссе, деревни мы обходили — там были волостные управы. Туда наезжали за всякими продуктами и хлебом зондеркоманды. В некоторых же обосновывались гарнизоны, и переоборудованные в казармы школы были обсыпаны землею, опутаны колючей проволокой.
Колючая проволока перегораживала подходы и к мостам на шоссейных дорогах, где в самых неожиданных местах выросли дзоты и пулеметные гнезда.
Страхуясь от неожиданных нападений, немцы начали вырубать лес, подходивший к дорогам ближе, чем на сто метров. Сами ставили засады в карьерах, у когда-то заготовленных камней.
В бой нам вступать не рекомендовалось. Да и нельзя было подвергать опасности сельчан. И заходили мы только в небольшие лесные деревни. Но и тогда по-партизански — огородами. Разведывали, как и что нового происходит в окрестности, слушали жалобы, давали советы, проводили собрания. Видели, люди живут двойной жизнью: внешней — серой, в работе, в тревогах, и подспудной — с надеждой на завтрашний день. Слышали, за иконами прячут партизанские листовки. Замечали — бывшие колхозные строения чаще всего стоят целыми. Под навесами — ничего, как вымело.
С блиновцами мы простились на развилке лесных дорог: Блин с отрядом шел в Червенские леса, а мы к Палику — перекрестку многих тогдашних судеб.
Как нарочно, невдалеке серела открытая немецкая легковушка. Она с разбегу ударилась в сосну, и радиатор ее врезался в комель. За рулем, склонившись, сидел немец, мышастый мундир которого на спине как бы прострочили и он потемнел от крови. Рядом в исподнем валялись еще двое.
Я обнялся с Володей Левшиным, простился с командиром, который уже красовался в седле на мохноногой лошадке.
Вскоре всадниками стали и мы.
Это было рискованно — не везде проедешь, где пройдешь. Да и прибавлялось забот, шуму. Зато на лошадях можно было сберегать силы, быстрее передвигаться, расширялась возможность маневров.
Нашу группу возглавлял спокойный коренастый алтаец с бледным добрым лицом — Николай Сидякин. И невольное соревнование, которое возникло при поисках седел, не нарушало единства, что восстановилось между нами.
Однажды лошади просто спасли нас.
Партизаны сожгли мост на шоссе Лепель — Бегомль. Восстановив его, немцы усилили охрану шоссе и в ответ, чтобы отомстить, зачастили с засадами. Дорог много, но у таких групп, как наша, да и у местных партизан были любимые. И противник со временем узнал их.
В этот раз нам нужно было переехать вышеназванное шоссе.
Ночь выдалась густая, звездная. Лес и кучи камней с обеих сторон лесной дороги, которая пересекала шоссе и по которой мы ехали, чернели, будто нарисованные тушью. И вот тут, подчиняясь какой-то интуиции, Сидякин, вместо того чтобы послать вперед пару разведчиков и осторожно приблизиться к шоссе, подал команду:
— В галоп, море широкое!
Осенние ночи не только темные, они сторожкие. Фырканье, храп лошадей, топот их копыт, лязганье всего железного, что было у нас, обрушилось на шоссе, как вал. Высекая из булыжников мостовой искры, мы перелетели через нее, и, только когда ворвались в лес, захлебываясь, затарахтел пулемет и вразнобой затрещали выстрелы. Немцы, как потом дошло до нас, полагали, шоссе пересекает целый эскадрон.
Первых минских партизан мы встретили в деревне Кветча, стоявшей на берегу запущенного, убогого Сергучовского канала с его деревянными мостами-шлюзами.
В чисто вымытой избе, где пахло печеным хлебом, борщом, а на окнах зеленело алоэ, мы с Сидякиным представились командованию отряда «Железняк».
Организованный еще в сорок первом на нелегальном собрании коммунистов Бегомльщины, он в основном состоял из местных жителей. Командиром его был молодой, лет двадцати пяти, улыбчивый, весь в скрипучих ремнях лейтенант Роман Дьяков; комиссаром — бывший секретарь Бегомльского райкома партии Степан Манкович, умудренный опытом партийной работы; штаб же возглавлял подполковник Коваленко — интеллигентный, в военной форме, со знаками отличия на петлицах. Правда, форма у него была поношенная, вместо шпал обшитые кумачом палочки, но все равно от него веяло чем-то штабным, службистским, и, как кажется мне сейчас, на носу поблескивало пенсне.
Они по-разному встретили нас: Дьяков — дружественными объятиями, похлопыванием по спине, Манкович — сдержанно, немного просветлев лицом, только когда прочел наш отпечатанный на лоскутке материи мандат. Подполковник же вообще не дал проявиться своим чувствам и остался таким, каким был вначале, — серьезным, озабоченным.
Сели за стол, и Сидякин вынул из планшета газеты, письмо ЦК КП(б)Б.
За окнами шла почти мирная жизнь. Звякали ведрами женщины, проходили с резгинами сельчане, партизаны в штатском и в полувоенном, подпоясанные поверх пиджаков и ватников ремнями, на которых висели гранаты в кожаных чехлах. Далеко, над самым небосклоном, летал немецкий «костыль-разведчик». А мы говорили и говорили.
Вошел молодцеватый адъютант в немецкой форме. Козырнув, доложил Дьякову;
— Подрывники ждут вас, товарищ командир!
Дьяков отмахнулся рукой — сейчас, мол.
У меня кроме «ТТ» был еще «коровинский» пистолетик, который при необходимости можно носить под мышкой. Разговаривая, я механически вынул его из кармана и перебрасывал с ладони на ладонь, не замечая, с каким вниманием Дьяков следит за мной. Когда же на пороге появился адъютант, он не выдержал.
— Покажи, — заговорщицки подмигнул мне и, взяв пистолетик, взвел курок.
По чисто вымытому полу ползла сонная осенняя муха. Дьяков подмигнул опять, прицелился и выстрелил. На половице вместо мухи темнела дырка. Но через минуту из нее медленно выползла муха.
— Ха-ха-ха! — залился смехом Дьяков и пошел из избы. Плечи у него вздрагивали, и было видно, как он молод и сколько в нем энергии.
В Кветче мы решили не останавливаться. Предупредив — есть директива возвращать на прежние места дислокации партизан, самовольно направляющихся за линию фронта, пообещал наведаться за новостями и почтой, когда пойдем обратно, — направились на Палик и Старину, которые часто и не совсем добрым словом вспоминал в разговоре с нами Манкович.
В лесной деревне Пострежье мы оставили отдохнуть и подготовиться к дальнейшему походу своих ребят и втроем — Сидякин, проводник и я — двинулись дальше.
Миновав соснячок, попали в смешанный лес. Показалось, и осень здесь иная — пасмурная, сырая. Золота на деревьях мало, карминового цвета нет вовсе. Не покраснели даже осины. Невдалеке каркал ворон. И не каркал, а как-то сипел и хрипло по-собачьи тявкал.
А через несколько шагов под ногами уже хлюпало. Выбирая более сухие места, прыгая от куста к кусту, мы перешли одно болото, другое.
На длинной побурелой поляне, дальний край которой спускался также к болоту, между обколотых серых пней паслись коровы. Поставив ногу на пень, седой бородач-дед в меховой шапке, в длинной свитке, с винтовкой за плечами плел корзину.
— Наверно, отбивать у немцев эту скотину было легче, чем переправить сюда? — поддел его наш проводник.
— Давай топай, топай, — неохотно отозвался дедок, не отрываясь от работы.
Потом пошел опять лес — ольховый, поросший крапивой, малинником. Чаще стали встречаться сухостоины, и все чернее становилась земля. Когда она начала рыжеть, из кучи хвороста, кем-то набросанного здесь, мы выбрали палки и уже грязной лесной тропою, а где и по кладкам стали пробираться заболоченным лесом. Скользкие жерди под ногами качались, погружались в воду, — спасали только палки.
Сколько мы шли? Долго. Но когда, потные и усталые, почувствовали под ногами землю, нас внезапно окликнули.
Это была Старина — остров неподалеку от озера Палик с его топкими бескрайними болотами и заболоченным лесом.
Мы уже видели немало партизанских лагерей. Одни напоминали таборы, где вместо кибиток стояли шалаши из еловой коры. В других царил более строгий порядок— имелись даже кухни, столовые под навесами. Видели мы и выстроенные в ряд под зеленой сенью землянки, где можно было зимовать. Но такого!.. Землянки на Старине были с подрубом в несколько венцов, островерхие крыши старательно обложены дерном, окна аккуратно застеклены, тропинки посыпаны желтым песком.
Около землянки, к которой нас подвели, стоял сторожевой гриб, и часовой под ним, приветствуя нас, торжественно откинул на вытянутую руку приставленную к ноге винтовку.
Внутри оказалось просторно, светло, потолок обит парашютным шелком. У окна секретер и кровать, на которой, укрывшись по грудь одеялом, лежал дородный пожилой круглолицый мужчина с бородкой-клинышком и быстрыми умными глазами. Рядом на табуретках почтительно сидели, судя по знакам различия, батальонный комиссар с настороженными пучкастыми бровями и капитан, у которого на узком горбоносом лице застыло внимание.
— Старик, — представился хозяин землянки и сделал широкий жест рукой. — Прошу к нашему шалашу. С новостями, конечно?
Батальонный комиссар с капитаном встали, уступая нам место.
— Значит, усилить удары?! — прочитав письмо ЦК и передав его батальонному комиссару, важно покашлял Старик в кулак. — Интуиция, как видите, не подводит нас… Нужны мощные удары, а значит, и такие сильные соединения, как дивизии! — стукнул он кулаком о кулак. — Сейчас они должны стать главными боевыми единицами. Особенно там, где имеются кадры и условия.
«Старина… Старик… Дивизия…» — подумал я.
Сидякин с военными пошел в соседнюю землянку — познакомить с письмом начальника штаба. Меня же Старик (В. С. Пыжиков) попросил остаться, и мы через несколько минут медленно прохаживались с ним по живописной поляне, окаймленной трепетными березками. Над головой со свистом пролетела стая уток, через минуту послышался их возбужденный крик.
— Теперь будут летать и крякать, пока не замерзнет озеро, — недовольно сказал Старик.
Слушая его лаконичные, как бы округлые предложения, я удивлялся и его словам, и тому, что кое-где между березок замечал фигуры автоматчиков — они караулили своего командира. От кого? И вот диво! Все здесь было продумано, эффектно, а во мне рождались сомнения.
Зачем все это? Откуда скепсис, который чувствовал я в Кветче, когда разговор заходил о начинаниях Пыжикова-Старика? Что это? Его слабость? Чудачество? И все-таки хотелось верить этому пожилому, безусловно, умудренному жизнью человеку, который с маленькой группой добровольцев пришел сюда из-за линии фронта, сплотил вокруг себя ближайшие отряды и, вынашивая план организованной массовой борьбы, поставил перед ними задачу расти в более крупные соединения. Что же касается его слабостей, — если это только слабости, — у кого их нет?
— Зачем здесь охрана? — все же не выдержал я. Пыжиков хитро прищурился и, прочитав мои мысли, насмешливо погрозил палкой, которую захватил с собой из землянки.
— Она охраняет комдива. По-нашему, логично. Да и французы говорят, что жителям неба тоже нужны колокола.
Его шутливое признание также было продумано и сбило меня с толку.
— Верно, — согласился я. — Но… до них ли сейчас?
— Ого! Ну-ну! — подзадорил меня и удивился Пыжиков-Старик, взяв в горсть бороду-клинышек. — Наслушались уже… Однако не далеко ли зайдете такой дорогой? Вы слышали что-либо, ну, скажем, о таком, как Славка Победит? Вот какая кличка! Слава и Победа.
А ведь он, Казинец, который взял ее себе, по нашему мнению, зачинатель общегородского подполья в Минске. Мужество, видите, и то бывает разное. То оно отзвук на чужое мужество, то принятая эстафета. А Победит — слышите? Победит — начинал и утверждал мужество. И вот тоже приходится что-то утверждать… Поговорите с комбригом Воронянским, например. Его «Мститель» недалеко отсюда стоит…
Так перед нами вставали совсем неожиданные вопросы. Их необходимо было решать для себя, чтобы потом правдиво и объективно доложить о виденном и слышанном за линией фронта.
Бригада «Народные мстители» существовала пока что номинально. Отряд «Борьба», который должен был присоединиться к «Мстителю», не торопился с этим. Но идея образовать партизанскую дивизию импонировала Воронянскому. Она восстанавливала привычную армейскую субординацию, усиливала единоначалие. Она узаконивала, делала определенными роль и место майора Воронянского в борьбе, где из первооснователей он был старшим по званию. Вместе с тем он не мог не видеть и отрицательного, что несла с собой дивизия Старика, который стянул в болота Палика тьму народа.
Встретил нас Воронянский у штабной землянки. В военной форме, статный, подтянутый, с перекрещенными на груди ремнями от планшета и маузера, стал к нам как-то воинственно, чуть боком, будто приготовился к дуэли. Смуглое, волевое, по-военному строгое лицо, стальные спокойные глаза. В нем, украинце из-под Полтавы, — в позе, в лице, — замечалось что-то гордо-казацкое, воспитанное, видимо, долгим пребыванием в воинских кавалерийских частях.
Штабная землянка оказалась просторнее, чем у Старика, но более скромной — окно, стол при нем, по обеим сторонам нары, на обшитом досками потолке-крыше слева — портрет Сталина, справа — карта Советского Союза с нанесенной линией фронта. На столе карта-километровка, бумаги, маленький радиоприемник.
— Из Минска, — объяснил Воронянский, переняв мой взгляд.
— У вас там имеются связи? — спросил я.
Он нахмурился, видимо, решая, какой должна быть мера откровенности, и ответил уклончиво:
— Мы, военные, здесь пионеры. Остатки моего дивизиона связи да бойцы лейтенанта Еськова начинали движение в этих местах. Правда, позже появилась артелька «Гоп со смыком». Но пошумела-пошумела и исчезла… А мы не знаю за счет кого больше и росли — беглецов-пленных, минчан или активистов из деревень. Мой первый комиссар Саша Макаренко не скажу даже, где чаще бывал — в отряде или в Минске. Он и голову там сложил. Весной гестаповцы напали на след подпольщиков. Начали вешать, расстреливать. Саша бросился в город — спасать, выводить их в лес — и погиб. Был на конспиративной квартире у товарища, члена подпольного горкома, когда туда налетели гестаповцы. Выскочил в окно со второго этажа и вывихнул ногу. Понятно, настигли на Беломорской улице. Отстреливался, пока было чем, а последнюю пулю пустил себе в висок…
Мне представилась холмистая, немощеная, с деревянными домиками Беломорская улица и то, как гитлеровцы гнались за хромым, обессиленным человеком, целясь ему в здоровую ногу, чтобы сохранить его для допроса, и я, наверное, побледнел, потому что Воронянский более благосклонно добавил:
— С железнодорожниками, к примеру, там у нас самые надежные связи были. Переправляли они нам все — и медикаменты, и оружие. А в марте появились целой группой во главе с Федором Кузнецовым — начальником русских паровозных бригад. Он теперь у меня комиссаром в «Мстителе».
— Вы разрешите поговорить с ним? — заволновался я, удивляясь своей удаче.
Воронянский поднял брови.
— Пожалуйста. Но, к сожалению, сам Кузнецов на задании. Да вы хоть поели сегодня? Может, заночуете? Давай, лейтенант, организуй, как говорит командир «Штурмовой», обстановку. Правда, у нас нет ни меду, ни сала.
Только сейчас мы обратили внимание на молодого белозубого военного с преданными, широко открытыми глазами, который неизвестно когда появился в землянке и молча стоял за спиной Воронянского.
— Знакомьтесь, кстати. Это есть наш Еськов, с которым закладывался фундамент, — кивнул на него Воронянский.
Старик не спросил, сыты ли мы, а Воронянский спросил, и его естественное в этих условиях гостеприимство как-то сразу размежевало их.
Спать нас уложили в штабной землянке. За окном шумели сосны, шелестела осина, и под этот однотонный гомон-шелест уснулось легко, само собой. Однако во сне, помнится, пришла тревога — приснился распластанный на рыжей, перемешанной со снегом земле Саша Макаренко, потом минский вокзал в панике, каким видел его тогда, в начале войны; рельсы, которые сходились где-то вдали, и черную пелену-навись над всем этим — от пожаров, что начались около аэродрома. И было тошно, и сердце сжималось от жалости и сочувствия.
В Пострежье мы вернулись с лихим кубанцем; ухарем, которого дал нам Воронянский в проводники и который, как мальчишка, был влюблен в своего командира.
— Увидели бы вы его в бою! — идя впереди, взбивал он русый выгоревший чуб. — Правда, ему, как Василию Ивановичу Чапаеву, на лошади бы, с саблей. Да где тут развернешься… Но я все равно никогда не слышал и не видел, чтобы он команду лежа подавал. При нем не сдрейфишь, не сорвешься. Если что, отцу родному не простит. Будь хоть папой римским, а ежели отступил от боевого закона, расплачивайся.
Ему хотелось как можно больше наговорить хорошего о Воронянском, он даже не успевал четко выговаривать слова.
— А по-вашему как? У нас только отступи…
— А если показалось, что кто-то отступил? — все-таки возразил я.
— Не бойтесь, ему не покажется!..
И столько веры чувствовалось в его словах, что грешно было разрушать ее, и я промолчал. Да и был под впечатлением разговора с железнодорожниками-минчанами.
Ожидал меня и еще один сюрприз. Перед домом, где обосновались наши ребята, мне встретилась женщина — в стеганке, в суконной шали, с рюкзаком за плечами и корзиной в руках.
«Издалека, наверно. Не из Минска ли?» — стукнуло мне в голову.
Я пригласил ее сесть на бревно, что лежало под забором около ворот. Взмахнув руками, как крыльями, усмехаясь, женщина сбросила рюкзак, развязала платок на плечи и спину упали темные волнистые волосы. Она, видимо, сделала это, чтобы отдохнуть. Да и знала: станет тогда другой. И правда — сразу сделались заметными милое веснушчатое лицо, большие, в синих кругах глаза и молодые, яркие губы. Она явно не скрывала радости, что добралась до партизанской деревни, что среди своих, и в ней пробудилась игривость. Дав посмотреть на себя, похожая уже на девушку, она встряхнула головою, обеими руками собрала сзади волосы в пучок и завязала их в узел.
— Ну, спрашивайте, — блеснула глазами.
— Да вопрос будет один, — немного ошарашено проговорил я. — Вы из Минска, конечно. Как там у вас?
Она тяжело вздохнула.
— Разве расскажешь… Горит, бахает каждую ночь. Одни наши истребители со своей «карманной артиллерией» чего стоят! Комендант Клюге запретил солдатам как стемнеет показываться на Пушкинском поселке, на Долгобродской и Первомайской улицах. Так что там теперь танкетки патрулируют… Но зато новые облавы, аресты начались. Может быть, более страшные, чем весной. Типографию, где подпольная «Звязда» печаталась, раскрыли… По улицам предателей водят, чтобы выдавали…
Я попросил показать документы, рассказать, какими путями-дорогами добиралась сюда, не останавливал ли кто по дороге.
Она ушла, оглядываясь и грустно улыбаясь мне, а я остался сидеть. Думалось о Минске, об удивительных, почти людских судьбах городов. Одни изведали горечь поражения. Другие, попав в блокаду, или грудью прикрыв родину, выстояли, и о них теперь разбивается ярость врагов. Третьи, опаленные войной, лишь стали жить по ее законам. Четвертые же вообще не испытали, что такое светомаскировка. «Не там ли и мои?..» Некоторые, приняв огонь на себя, замерли в глухом оцепенении. А иные, как Минск, хотя и захвачены в плен, остались страшными для врага. Многие, малые и большие, прикрывшись огнем зениток, под бомбами делают, что требует война, — отправляют на фронт солдат, обеспечивают их необходимым. А есть и такие, что далеко-далеко от фронта несут свою вахту, и война там чувствуется только по цене хлеба, тепла и сна. Да еще разве что рядом появились госпитали и люди получают треугольные солдатские письма, аттестаты, похоронные. «Получат ли аттестат мои?..» И все-таки, видимо, найдется единая мера, которая даст потом основание судить, как участвовал город в войне…
И хотелось уже служить Минску, помочь ему, и догадка — когда-то самому, это ясно, тоже придется побывать там и встретиться с самыми разными судьбами минчан — уже соблазняла. О, как я был благодарен Короткину!..
А тут еще небо! Оно явно победнело — исчезли кучевые облака, их заменили косматые тучки, которые куда-то торопились; однако того, что уходит, жаль, и холодноватая синева, и скупое солнце, и его несмелая теплота казались еще дороже.
Вторая наша «временная смычка» с отрядом, который с членами межрайкома минской зоны направлялся из-за линии фронта в Пуховичские леса, была менее счастливой.
Не успели мы, форсировав Березину, прийти в деревню Мстиж, где стоял отряд, облюбовать избы и разойтись искать продовольствие, как кто-то из ребят крикнул в окно:
— Володя, немцы!
Я схватил бинокль и, выскочив во двор, взобрался на крышу сарайчика. По шоссе Зембин — Бегомль, проходившему рядом, в самом деле пылила колонна грузовиков. Отдав распоряжение созвать остальных и немедленно разыскать Сидякина, я начал собирать «имущество».
Перебегали мы улицу, когда грузовики уже показались в конце деревни. Как было уже сказано, нам советовали уклоняться от лобовых стычек, но, понимая — карателей обязательно нужно задержать и дать отряду подготовиться к защите и с этой стороны, — мы открыли огонь. Из кузовов, кувыркаясь через борта, стали падать на землю солдаты — в касках, с ранцами за спинами, в мышастых шинелях. Падали пружинисто, на живот, и сразу огрызались очередями.
Мы с Сидякиным решили отходить к Уборку — немцев там быть не могло: дальше этой деревни дороги не шли, вокруг простирались болота, и недалеко почти без берегов текла Березина.
Отстреливаясь, дворами и огородами мы отступили на гуменник. Стало слышно: в другом конце, где обосновался отряд, также разгорается бой — началась ружейно-автоматная перестрелка, застрочили пулеметы, забухали мины. Значит, каратели решили взять деревню и нас в клещи.
Пришлось залечь в лощине — за валунами, в яминах, на росистой от осенней влаги траве, которая уже не высыхала за день.
Не замечая, что мокрый по уши, я переползал от валуна к валуну и стрелял, стрелял.
Сколько мы держались, не давая немцам замкнуть окружение и отрезать нас от леса, не скажу — это был мой первый в жизни бой. Но знаю: когда мы отступили в лес и побрели по колено в топкой жиже, направляясь назад, за Березину, свершилось чудо — в небе послышался гул самолета. И не с тем ноющим, что пилит душу, подвыванием, а с ровным знакомым гулом — наш! Сделав круг над Мстижем, он как бы остановился, и из него, набирая скорость, посыпались остроносые бомбы. Землю и воздух потрясли взрывы.
Назавтра пришли ужасные вести. Давясь злобой, каратели обрушили ее на сельчан — стариков, женщин, подростков. Пригоняли их к колхозному погребу, и когда пригнанный ступал на порог, стреляли ему в затылок. Вот тогда и появился наш самолет-разведчик и, поняв, в чем дело, постарался остановить преступление — сбросил бомбы. Считая — против них начинается операция, — каратели не мешкая погрузили в кузова грузовиков своих убитых и, не окончив опознания убитых партизан (для этого они привезли даже предателя), оставили Мстиж.
Мне везло — я часто встречал людей сильных, колоритных. А может быть, вообще так было — в условиях партизанской борьбы они росли как на дрожжах и проявляли себя на удивление ярко.
Ивана Матвеевича Тимчука, комиссара бригады «Народные мстители», мы нашли в Руднянском лесу, на берегу Дикого озера, — он организовал там базы для подпольного Логойского райкома и типографии, а также для будущей бригады «Большевик».
Родился Тимчук в прикарпатской деревне с бурной кристальной речушкой. В годы гражданской войны бойцом-добровольцем Седьмой Самарской кавалерийской дивизии сражался с деникинцами, с врангелевцами. По мышки в ржавой воде форсировал Сиваш, громил банды Махно, Тютюнника. В боях был дважды ранен, А когда партия объявила ленинский призыв, вступил в ее ряды. Накануне же Великой Отечественной войны работал директором Первого белорусского зверосовхоза.
Он сидел на пеньке, а перед ним, жестикулируя и приседая, чтобы лучше видеть лицо Тимчука, топтался обросший серой щетиной дядя. В военной фуражке, в черной, подпоясанной широким ремнем дубленке, опушенной по бортам и внизу, с колодкой маузера, повешенной на ремешке через плечо, Тимчук выглядел внушительно, но не совсем по-военному. Круглое лицо его, карие, с хитрецой, глаза усмехались — и тоже как-то мирно, по-штатски, и, видимо, не от слов крестьянина, а от его затрапезного вида, от смешных приседаний.
За ним поблескивало Дикое озеро, спокойное, зеркальное. На рассвете неожиданно нагрянул колючий морозец, и с деревьев стали падать желтые и зеленые листья. Попадали они и в воду, которая казалась сияющей и тяжелой, как живое серебро, и плавали на ней, как плавают детские бумажные кораблики, чуть касаясь воды.
— Вот видите, — знакомясь с нами, сделался более серьезным Тимчук, — товарищ обижается и сетует, что за ночь обязательно раза три заходят партизаны — и каждый со своими претензиями. То дай, то подай… Назрело, видимо, время распределить деревни между отрядами. Пускай назначают комендантов. Верно? — обратился он к крестьянину.
— Это, пожалуй, дело, — согласился тот, однако не совсем уверенно вертя перед собой рукою и пожимая плечами.
Вот таким, веселым и серьезным одновременно, на пеньке, мне и запомнился Тимчук. Поводив нас по своим владениям и угостив заправленной салом картошкой в Ходоках, он опять потянул нас с Сидякиным на опушку. Сел на пень и, положив на колени планшет, стал писать письмо Центральному Комитету о том, что наболело.
— Движение в самом деле становится всенародным! — неожиданно подал он голос, положив на планшет авторучку. — Но зачем тянуть всех в болота, от коих три года скачи — ни до какой железной дороги не доскачешь? Что за причина этому? Да и как ты прокормишь собранных там людей? Зачем и кому это нужно?
«Что за причина этому?.. Не это ли кроме всего дает ему силу? — подумалось мне. — Воронянскии, Старик также ссылались на примеры из жизни. Но логика там была куда проще: «Видите, такое имеет прецеденты. А почему оно не может иметь место и сейчас?» Воронянскии же вообще старается обойтись без обобщений. Ему важен факт сам по себе и то, как соотносится он с уставом. Но все они, понятно, ищут лучшего для борьбы, хотя и отводят своей личности разное место в ней…»
— Куда девались «гопсосмыковцы»? — перевел Сидякин разговор на другое.
Тимчук, безусловно, догадывался, почему Сидякин задал свой вопрос, и использовал случай, чтобы внести коррективы.
— «Гоп со смыком» — накипь, — отмахнулся, как от надоедливой мошкары. — Вырвались из лагеря военнопленных, раздобыли велосипеды, баян — и давай куражиться. Устраивали концерты, потрошили немецкие сепараторные пункты. Не забывали, конечно, и крестьян. А теперь вот в «Штурмовую», кажется, нырнули… Однако не думайте, настоящее сопротивление у нас с первых дней. После нелегального собрания, на котором выбрали тройку для руководства, оформились сельские партийные организации. Ну и, известно, пошло-загудело. В Кораньском, Швабском, Бесядском, Слободском, Острошицком сельсоветах, — он с каким-то гордым удовлетворением перечислял эти названия, само звучание которых было ему приятным, — стали зарождаться партизанские группы…
Я ожидал, попадет ли и в связи с чем в это перечисление Минск, и дождался.
— Но что возьмешь с мелких групп? В декабре Минский подпольный горком подсказал: необходимо объединяться. И со второй половины февраля начал регулярно посылать пополнение. Так что к марту и наш «Мститель» вырос до двухсот человек. А это уже сила! Начали проводить засады на шоссейках, диверсии на железных дорогах. Ликвидировали полицейские участки в Беларучах, Слободе, Янушковичах, Корени, Крайске. А в июне в Валентиновском лесу приняли открытый бой. Лоб в лоб. Днем. А это этап уже! В настоящее же время ведем борьбу за хлеб. Крестьяне прячут его, а мы сжигаем скирды в немецких имениях… Если же говорить о трудностях, то основная загвоздка в одном — в оружии, в толе. Все, что можно было собрать на местах былых боев, подчистили, собрали. А знаете, из одного Илиянского района в «Мститель» около полуторы тысячи заявлений подано…
Тимчук опять наклонился над планшетом. А я смотрел на крутые Тимчуковы плечи, на его лицо, ставшее вдруг упрямым, и проникался верой в него. Это был второй после Короткина человек, который заставил меня серьезно думать о войне, о себе и о народе в войне.
Побывав в бригаде «Штурмовая», попробовав хлеб-соль, поданную по комбриговскому приказу: «А ну, организуйте обстановку!» — мы направились на бывшую западную границу. В тот же день попали под винтовочно-пулеметный и минометный огонь, потом попадали снова и снова, но каждый раз нас спасали то военное счастье, то лошади, то ночь.
Места, оставленные человеком, где заметны еще следы его рук, выглядят очень тоскливо. Тоскливой, заброшенной выглядела и граница. Когда-то взборонованная, ухоженная полоса, с которой в воображении всегда связывались романтические истории, заросла травой, на ней поднялись березки, пирамидки елочек. Заставы и кордоны опустели. Здания стояли без рам, дворы заросли спорышем… Нет, захватчикам не удалось даже временно перекроить карту — помешало народное движение.
Дальше ехали совсем осторожно — никто до этого времени не бывал в западных областях Белоруссии. Да и деревни здесь выглядели по-иному — уже улицы, мостовая, следы побелки на заборах, на комлях деревьев, которыми обсажены дороги.
Под Молодечно, в районе лесничества Руда, с приключениями отыскали группу Черкасова. Это, по-видимому, был его временный лагерь, помещался он в лесном массиве, откуда, если я не ошибаюсь, слышны были гудки паровозов. Да и шалаши выглядели не приспособленными к зиме.
Прибыли мы туда перед восходом солнца, его еще не было видно. Но по всему угадывалось: оно вот-вот покажется из-за горизонта — облака над головой были подсвечены и на удивление ярки.
Несмотря на то что Черкасова разбудили, нам он обрадовался, как званым гостям. Потягиваясь и кряхтя, в нижней рубашке, обнял Сидякина, меня и только затем пригладил растрепанные во сне волосы и принял молодцеватую позу.
— Везет же нам! — выкрикнул, держа руку на затылке и передергивая от холода плечами. — Ух, ты!.. Надолго?
Вокруг возвышались мохнатые стройные ели, под ними виднелись построенные на скорую руку шалаши, столики со скамейками. И только то, что земля здесь была вытоптана — из нее проступали даже жилистые корни деревьев, — а столики были чистыми, старательно выскобленными ножом, свидетельствовало: обжито место давненько. Во всяком случае, посещают его часто.
На наши голоса из соседнего шалаша вылезли еще двое — чернявый и блондин. Застегивая на ходу защитного цвета гимнастерку, блондин придержал товарища свободной рукой и, оказавшись впереди, причесал гребешком светлые, аккуратно подстриженные волосы.
— Что за шум, а драки нет? — хрипловатым голосом спросил он.
— Новые гости, Федор! Ты ищешь связей, а тут ищут тебя, — ответил Черкасов, обнимая Сидякина и меня за плечи и сильно прижимая к себе. — Доходит?
— Тогда за животовкой из бузины посылай… Выдумали тоже! — как будто не поверил тот.
Бывают же случаи! Просто как в сказке! Это и был Федор Марков, за чью судьбу беспокоились в обкоме. Я смотрел на него как на чудо, а он как ни в чем не бывало, поводя серыми озорными глазами, быстро шел к нам, адресуясь пока что к одному Черкасову.
Они были в добродушном, приподнятом настроении, когда все на свете кажется несерьезным и хочется подтрунивать над другими. Даже новость, которая должна была остепенить Маркова, наверное, показалась ему не совсем реальной. А может быть, тут таилось другое — гордость, желание показать: ну что же, это, конечно, радость, но я не мальчишка. Однако когда он подошел и протянул руку, я заметил — на серые своевольные глаза набегают слезы.
Потеряв по пути товарищей, Марков какое-то время действовал в одиночку. Но и после, когда возглавил группу, отряд, 'часто встречался с врагом лицом к лицу. Человек редчайшего мужества, он побывал даже в Вильнюсе, где, вспомнив прошлое — борьбу с пилсудчиками, покарал предателей и установил нужные связи. Неугомонный, решительный, он неизменно принимал участие в засадах, в диверсиях на железной дороге, в разгроме управ, вражеских гарнизонов — всегда впереди, всегда там, где огонь. Он сумел наладить такие отношения с населением, что оно помогало отряду, чем только могло, охраняло его от неожиданностей, вело разведку, сообщало о планах врага.
— Так, значит, ищете? — усмехнулся он. — Тогда условие. Получу взрывчатку, оружие — где наше не пропадало, это гебитскомиссаровская игрушка твоя.
Он полез в карман брюк, достал оттуда никелированный офицерский «вальтер» и протянул мне.
— Трофей. Взял лично под Свентянами. Тепленький. На, подержи для большего соблазна.
— Не хвастайся, — подзадорил Черкасов. — Мои ребята тоже позавчера состав с живой силой под откос пустили. Двенадцатый. Так, говорят, немцы потом целую плащ-палатку пилоток собрали. Ясно?
— Ничего, мы тоже пускали. И с пилотками, и с фуражом.
— Ну ладно. Нужно в отряде митинг провести, познакомить людей с письмом ЦК. Правда? — посерьезнел Черкасов.
Через день-два снова ударил морозец, затянул землю корочкой. В подлеске начали опадать листья. Правда, неохотно, по одному, неожиданно. Сорвется и летит черенком вниз. Сколько их упало за ночь? Не много, но они покрыли землю, приглушили шаги. А звуки в лесу, наоборот, как бы ожили, стали звонче.
Проверив, видно ли дыхание, мы с Сидякиным, однако, облились по пояс водой, растерлись полотенцем и только тогда сели за столик под елью. Завтракали молча — Черкасов и его первые гости оставались, а мы уезжали, но, видимо, грустно думать о далеком, пусть и хорошем. Даже жизнерадостный Марков, который только что кончил писать докладную в обком, говорил вяло, то и дело задумываясь.
Простились мы почти без слов. Конечно, не знали, что, отчитавшись за линией фронта, вся группа, за исключением меня, вернется к Маркову — принесет с собой автоматы, взрывчатку и будет в его бригаде ядром, из которого вырастет отряд имени Чапаева.
Овса у Черкасова не нашлось, сена было в обрез, и голодные лошади, как только почувствовали — мы возвращаемся назад, — сами срывались на рысь. За месяц я привык к своему гривастому сибирячку, научил его отзываться на зов, баловал. Теперь я также приберег ему угощение — полкраюшки хлеба, и он умудрялся, повернув голову, на ходу хватать хлеб из моей руки, губами.
Опять чередой пошли ночные деревни, граница, знакомые отряды, бригады. И опять спасла избранная тактика: чтобы не увязался опасный хвост, переходы делали от одного партизанского отряда к другому. Переднюем, отдохнем — и новый рывок…
Западную Двину в этот раз форсировали с лошадьми. Ночь была звездная, с высоты смотрел узкий серп молодого месяца, и вода в реке фосфоресцировала, светилась. Плывя следом за лодкой на поводу, лошади похрапывали, в их глазах дьявольски полыхало, и они стригли ушами. Выбравшись же на противоположный берег, встряхивались всем телом так, что во все стороны летели брызги. К тому же, как это часто бывает осенью, небо затянуло серым, начала сыпаться крупа. Лошади были мокрые, и пришлось, чтобы согреть их, бежать с ними рядом, пока они не обсохли.
Дневали мы в лесу, километров за восемь от железной дороги Витебск — Полоцк. Погода испортилась совсем. Время от времени начинал идти снег. Думалось, это к удаче. Но как только мы приблизились к знакомому переезду, полыхнули осветительные ракеты и застрочили пулеметы. Кажется, два. Хорошо, что в снежной замети свет от ракет не достигал земли и ее не всю укрыла бель. Рассыпавшись, мы были вынуждены вернуться на место своей дневной стоянки.
Здесь, среди заснеженных елей с тоскливо опущенными лапками-ветвями, мы простились с четырехногими друзьями. Чтобы, совсем проголодавшись, они смогли уйти искать себе новых хозяев, чуть-чуть привязали их к деревьям. И мало кто из нас тогда оставался безразличным…
Став пешим, я будто вернулся на землю. Вокруг была знакомая Сиротинщина, и каждая услышанная беда болью отдавалась в сердце. Жителей деревни Чисти гитлеровцы согнали в сарай, заминировали его и взорвали. Пролили они кровь и в Слободе. Убили мою лучшую ученицу Ирочку Изофатову. Надругавшись, распороли ей клинком живот и бросили на обочине дороги, запретив хоронить.
Дороги Минщины, встречи с людьми многое мне раскрыли. Но вместе с тем во мне как бы прорезалось чувство вины: прошло более года адской войны, а что сделано конкретно? Да и как там с самыми близкими?
В Зуях я заглянул к Леониду Политаеву. Шел и колебался. Как я узнал, он возглавлял уже особый отдел бригады, был полон высоких планов, любил. До меня ли ему было? Чтобы скрыть волнение, я подарил ему «коровинский» пистолетик: «Отдай своей…» — сказал я и не совсем поверил, когда он, расцеловав меня на прощанье, вдруг растерялся.
— Совсем затоковался, дурак! Как я мог позабыть?.. Твои линию фронта перешли, не тревожься… Хотя «Витебские ворота» и закрыты…
И опять дорога, короткие остановки в партизанских деревнях. Продуктов мы заготовили еще на Минщине, потому просили только картошки, молока, воды. В одной из прифронтовых деревень я забежал в крайнюю избу — захотелось пить.
Было утро. В окна лились косые лучи не очень золотистого, но зато яркого солнца. Они полоской ложились через всю избу. Около печи, как раз в конце солнечной полоски, возилась с ухватом сухонькая старая женщина с добрым морщинистым лицом. На кровати спали вихрастые дети и черная кошка.
Я переступил порог, окинул взглядом избу и, вдруг почувствовав в жилах холод, окаменел — над кроватью, прикрепленные к стене кнопками, висели фотокарточки: я с женой и она одна — та, в шестнадцать! Боже мой, значит, погибли! Значит, как и думалось, Лене не хватило духу сказать мне правду!
Не помня себя, я шагнул к хозяйке. Наверное, лицо мое было страшным, потому что она, вынув немного Ухват из печи, как бы загородилась им.
— Откуда у-у вас фотокарточки? — с трудом пошевелил я губами.
— А боже мой!.. Маруся нашла за околицей… — охнула она, догадываясь, почему у меня отнялся язык. — Понравились, и вывесила вот… Посмотрит и плачет. Правда, сейчас не трудно заплакать…
Но женщина была косая, и мне казалось, что она лжет, не может смотреть на меня.
— Они, бедные, только что подошли к деревне, а немцы тут как тут, — тараторила она, снова пугаясь моего вида. — Ваши, конечно, кто куда. У нас за гумнами лен рос. Бегут они, а ноги заплетаются. А немцев, видно, вещи заинтересовали… Чего вы так смотрите на меня?.. О боже мой!
Вышел я из дома, слабо понимая, что происходит вокруг. В голову лезло сразу многое. Вспоминались Могилев, учительские курсы, на которых, увидев будущую жену, я делал все только для нее. Мерещилось-вспоминалось, как перед отъездом из Могилева, не чувствуя под ногами земли, шагали мы по Первомайской улице, смеясь, спрашивали у милиционера, где тут загс, а потом, растерянные, искали свидетелей, чтобы подписались под брачным свидетельством; как ехали ко мне на Комаринщину в пустом темноватом вагоне, где верхние полки сходились над головой вплотную, как потолок, и оттуда слышалось сердитое ворчанье: «Молодые люди, в общественном месте так себя не ведут!» Представлялось, как потом вечерами вместе писали планы уроков; как во время поездки в совхоз со спектаклем она простудилась и ей сделали в Чернигове операцию и тут же перевели в роддом; как потом болела сама Светланка и врач шепнул мне, что надежды нет; как я с невинным выражением на лице отправлял жену под Гомель в дом отдыха, а похоронив дочь, также примчался туда; как, полный подозрений и ревности, стоя у дерева, искал ее среди отдыхающих, которые слушали концерт в «зеленом театре», и успокоился лишь, когда увидел: она, стриженая, худенькая, в светлом платьице с пелеринкой, сидит с краю, рядом с пожилой полной женщиной… А позже родился сын…
«Неужели я больше не увижу их?» Некого будет любить, ревновать, не с кем связывать завтрашний день? Существо мое восставало против такой несправедливости…
Связались мы с армейской полковой разведкой через штаб бригады Дьячкова. В близлежащие деревни прибывали беженцы. Потому, чтобы за нами никто не увязался, разведчики назначили место для тайной встречи. Однако когда мы пришли туда и тронулись в дорогу, из темноты появилось и пристроилось к нам человек тридцать.
Разведчики знали здесь каждый пень и вели колонну уверенно. Только в одном месте, переводя через заминированную прогалину, заволновались, приказали взяться за руки и ступать след в след. И опять я, думая о своих, мало обращал внимания на то, что за молодым сосняком, который все время оставался у нас справа, иногда мелькал огонек костра и при нем толпились фигуры в натянутых на уши пилотках.
Похолодало. Мела поземка. И когда мы приблизились к линии немецкого боевого охранения, что проходила здесь по шоссе, метель еще усилилась. Свистел ветер и гнал, гнал, слепя глаза.
Немцы поставили уже снегозаградительные щиты, — видимо, по этому шоссе при необходимости они перегруппировывали войска… И вот когда мы приблизились к щитам, у которых метель успела намести сугробики, то увидели на горке часового, стоявшего к нам спиной и смотревшего в сторону нейтральной полосы.
Что было делать?
Бесшумок ни у кого не было. Отступать и искать иное место для перехода разведчики посчитали еще более опасным. Стрелять также было нельзя — поднялась бы тревога, при которой гитлеровцы открыли бы огонь по нейтральной полосе и спровоцировали бы открыть его наших. И можно было представить, в каком бы тогда положении оказалась наша колонна!
Обнаружив между щитами проход, мы поднялись на шоссе. Старший разведчик жестами попросил меня взять пару ребят и остаться на шоссе, держа часового на мушке.
Впереди дымилась в поземке низина и куда-то плыл кустарник — уже нейтральный! По одному, почему-то пригибаясь, люди начали пересекать шоссе, и казалось, не было им конца. Но вот я почувствовал: пробежал последний. А часовой все стоял, как окаменелый, будто не видел ничего.
Когда, вильнув, хвост колонны исчез в кустарнике, бросились бежать и мы втроем. Бежали затаив дыхание, оглядывались, но часовой не ракетил и не стрелял. Почему? Боялся за свою жизнь? Сочувствовал нам? Возможно. Потому что когда все же пустил ракету, она упала не в кустарник, где мы укрылись, а значительно правее, куда через мгновение полетели злые, визгливые мины.
Тяжело переводя дыхание, я слушал их пронзительные взрывы, и виденное, пережитое за эти месяцы будто оживало во мне — росло, шире открывало глаза. Я знал — там, за кустарником, наше боевое охранение. Нас непременно окликнут. Но сейчас так же отчетливо сознавал и другое: наше боевое охранение не только там. Оно всюду. И потому, чтобы уничтожить нас, нужно стереть с земли города, деревни, лес, поле — все живое.
В СНЕЖНОМ ПЛЕНУ
рассказ
Желваки у Исая Казинца напряглись. Откинув от себя газету, он стукнул литым кулаком по шершавому, в трещинах, подоконнику и оглянулся — не хотелось, чтобы кто-нибудь видел его сейчас.
Те, что определяли психологическую войну у немцев, делали свое: упорно афишировали план уничтожения Москвы — хоронили ее на дне ими же созданного моря, угрожали перемешать с землей все, что внутри Московского железнодорожного кольца. И без конца твердили, что ни о каких капитуляциях, даже безоговорочных, никто и слушать не будет…
Из окна виднелась узкая улица. А если бы Исай смотрел на нее не отсюда, с первого этажа, а из мезонина, то, наверно, видел бы только сточную канаву, выщербленный горбатый тротуар да дом напротив. Недавно выпала пороша. Мостовую, тротуар и крышу противоположного дома ровно покрыл снег. В окно лился белый свет, и в нем обросшее темной щетиной Исаево лицо выглядело обрюзглым и болезненным.
По тихому поскрипыванию половиц Исай узнал: идет Ляля — дочка хозяйки, глазастая, с петлями косичек возле ушей, девочка-подросток. Наивная до того, что при встречах каждый раз ожидает от Исая необычных открытий, слов и сердит его этим своим ожиданием. — Вы все думаете, Славик? — удивленно спросила она, поправляя на столе самодельную скатерть. — И ночью не спали. Я слышала ведь через стену. Когда станет легче, Славик?
— В войну всегда найдутся заботы и беды. Легче будет, когда будет легче, — ответил он, подумав, что под Москвой снегу еще больше и сугробы там тяжелые, с гребнями.
В сточной канаве мальчик с замотанной шарфиком шеей, в шапке, налезавшей ему на глаза, катил ком снега — покатит-покатит, остановится, поправит шапку, подышит себе на руки и катит дальше. По тротуару просеменила старушка с девочкой, закутанной в пуховый платок, — людям холод казался еще большим, чем был. Появился мужчина в демисезонном пальто и фетровой шляпе. Он шел как бы против ветра — одним плечом вперед, заботливо придерживая рукой поднятый воротник.
— Иди, открой интеллигенту, — попросил Исай девочку.
Та усмехнулась, словно вступая с ним в сговор, моргнула своими большущими глазами в знак согласия и выскользнула из комнаты.
Володя Омельянюк, неся в руках пальто и шляпу, переступил порог, выставив вперед бородку. Швырнул пальто и шляпу на диван.
— Слава! — выдохнул он расслабленно. — Их наконец остановили! — И, видя, что Исай от волнения бледнеет, двумя руками схватил его руку. — Ехали, катили… Делали остановки, чтобы покупаться!.. И знаешь, где попробовали вернуть удачу? На нашей магистрали.
— Здорово научился ты перевоплощаться, — как бы мимоходом сказал Исай, еще не в силах говорить о такой новости.
— Под чеховского Тузенбаха стараемся, — не сдался Омельянюк, зная, что обнаружили его слабость. — Мы с Жуком вместе слушали! Сила!.. Потеряли половину танков и ночью откатились к Голицыну!
— Ну-у? — все еще бледный, будто не поверил Исай. — А волосики кому-нибудь из нас придется сбрить. И здесь трафарет, Тузенбах. Но это между прочим… Теперь, судя по всему, между прочим…
В воображении его мелькнуло Подмосковье — березовые рощицы, перелески в снегах, холмистое поле, рассеченное магистралью, пустынное, синее, окутанное ночным мраком, за которым противотанковые рвы, надолбы.
Москва. Мрак вздрагивает, взрывается, и тогда синее делается оранжевым. А вместе с этим, потому что представились всплески света, перед глазами встал отец, его предсмертная минута — ветряная мельница вдали, одинокая груша-дичок среди ржаного разлива и тяжело дышащий отец, прижатый к груше лошадиным храпом и блеском белобандитских клинков. Вспомнилось, что в семье Омельянюков траур — не так давно под бомбами погибли внуки и дочь.
«Сейчас заработает динамо-машина! Держись! — посерьезнел Володя, почти угадывая, куда повернули мысли Исая. — Но пускай. Это тоже неплохо. Кто знает, уважали бы его так, если бы он был тихим…»
— Собираем доппартком, Тузенбах! — действительно не сказал, а изрек Исай, запуская растопыренную пятерню в густую шевелюру. — И собираемся опять у тебя! Мать все плачет? Не сорвется? Или это не относится к делу?
— Представим, что нет… Я подготовлю сводки, Слава. Это кроме всего подшевелит железнодорожников. У них на станции сейчас как раз столпотворение.
Исай Казинец пришел на Комаровку, к Омельянюкам, первый.
— Приветствую вас, нэнька, — низко поклонился он хозяйке, встретившей его в передней.
Исплаканные глаза у той подобрели.
— Я тоже рада тебя видеть, — пропела она, ожидая, чтобы взять и самой повесить Исаевы пальто, шарф, шапку. — Ты сегодня как именинник. Все разутюжено, под галстуком. — И, слабо улыбаясь, закачала головой в венке тяжелых кос.
Он обнял ее за плечи.
— Скажите мне, нэнька, слово, в котором четыре «ы». Не знаете? Ымыныниык.
— А ну тебя…
Стол в столовой как будто ожидал гостей.
— Неужто сохранили все эту бутафорию с того раза? — зная, что это будет приятно ей, удивился Исай.
Омельянючиха порозовела.
— Великая штука, нэнька, предвидение. Нам бы поучиться у вас…
И подумал: есть страшно обидное в том, когда дети умирают раньше родителей. Но, кажется, Омельянюки понемногу преодолевают свое семейное горе. А ведь еще недавно наедине, вспомнив о несчастье, Омельянючиха теряла разум и топтала все, что попадало под ноги, — половички, траву, снег.
Вошел слегка сутулый Степан Заяц. Поздоровавшись, подержал в узловатой руке старательно закупоренную деревянной пробкой бутылку с самогонкой — одну, вторую — и направился к облицованной кафелем голландке. Рванув дверь, словно кто-то держал ее, вошел Георгий Семенов — Жук. Козырнув не то по-пионерски, не то по-военному, зашагал к Исаю.
— Ну и снег!.. Новости какие или что-нибудь стряслось, секретарь?
— Есть и новости, — ответил Исай, стараясь настроиться на новый лад.
— А-а, — щелкнул Жук пальцами. Потом округлил светлые, холодные глаза и, словно прислушиваясь к своему щелчку, повернулся вполоборота к Зайцу — ожидал слов и от него. Однако тот лишь плотнее прислонился спиной к теплой голландке и не ответил на его немой вопрос.
Важно и спокойно вошел Григорьев — «Катай», как он окрестил себя еще в годы гражданской войны. За ним — Володя с коренастым, широкоплечим отцом, рядом с которым он выглядел подростком. Раздал всем размноженные на машинке сводки.
— Можно побыть с вами? — спросил Омельянюк-старший, глядя на Зайца, с которым давно и крепко дружил
Все сгрудились вокруг стола, затем, как званые гости, не спеша расселись за ним и стали просматривать сводку.
— Я хочу поставить перед вами два вопроса, товарищи, — выждав, пока все прочитали ее, сказал Казинец, бледнея, как и тогда, у себя дома. — Чем мы ответим на последние события? И, в частности, на то, когда Красная Армия приблизится к нам. И, во-вторых, не стоит ли изменить нам само название «доппартком»? В городе, это уже очевидно, второго комитета нет. Руководить же восстанием или чем-то вроде того должен наиавторитетнейший орган.
— Восстанием? — задумчиво, а может быть, удивленно переспросил Заяц.
На минуту стало слышно, как поскрипывает снег под ногами дозорного, ходившего по двору.
— Ты думаешь, оно возможно и вскоре назреет? — снова поинтересовался Заяц.
Как всегда, готовый поддержать товарища, поднял руку Жук и, собираясь говорить, поправил пробор на голове.
— Планы немцев сорваны! — сказал он безапелляционно. — Значит, блицкриг отменяется. Из этого нужно и исходить.
— Вот именно, — повернулся всем корпусом к нему Исай, однако тут же жестом попросил, чтобы Жук дал возможность ему продолжать — На такое можно ответить лишь самым большим, на что способны. Да мы и в долгу, товарищи!..
— А силы? — отдавая назад Володе сводку, в третий раз коротко спросил Заяц.
— В нашем распоряжении организация, Степан Иванович.
— Согласен. А не подставим ли мы ее под удар? Кто знает, сколько еще придется ждать.
— Мужество — это, видимо, и есть, когда человек перестает думать о себе, — убежденно сказал Володя.
— Нет! Мужество — это когда человек решает утвердить свое во что бы то ни стало, — не согласился и с ним Исай. — Что же касается восстания, его можно готовить постепенно и параллельно с прежней работой
— Ну, если философствовать, — чуть поздновато заметил Катай, — то иной раз большим мужеством будет отказаться от риска, чем идти на него…
Дни побежали быстрее.
Исай и до этого не очень замечал, как идет время. Разве лишь в наиболее горькие минуты — когда сдали Брянск, потом Калинин, Калугу… Особенно когда немцы вышли на берег Московского канала, ворвались на южную окраину Каширы! Но и тогда, каменея, он верил: худшего не случится.
Испытания пробуждают энергию. Жизнь Исая была полна ими. Сирота и детдомовец, который изведал цену заработанного хлеба, он с детства летом и осенью спал под открытым небом — в дождь, в непогодь, все равно. Словно предвидя — впереди встретится разное, — зимой обтирался ледяной водою, снегом, с увлечением колол дрова, занимался самбо. Следил, чтобы не было на ветер пущенных слов. Работал в Горьком, в Сормове, упорно впитывал в себя пружинистую выносливость рабочих-волжан, их житейскую искушенность.
Война застала его в Белостоке — главным инженером и секретарем партийной организации нефтесбыта. Выполняя наказ товарищей-коммунистов: «Твои заботы, секретарь, — люди. Догоняй уехавшие семьи, помоги им пристроиться в Минске, а мы тут сами, если что, справимся со складом…» — поехал в Минск. И хотя после тяжких испытаний попал в плененный, разрушенный город почти хромым, сразу взялся с Катаем, тоже «нефтяником», сколачивать подпольную группу, вокруг которой вскоре и объединились остальные.
К Исаю шли с сомнениями, за советом, за оружием, за адресами квартир, куда тайными тропами пробирались посланцы из партизанского леса.
Теперь к этому прибавились новые заботы. Не смыкая по ночам глаз, он, увлеченный, засел с Жуком за планы восстания и иногда даже пугал товарища.
— Ты помнишь? — вставая из-за стола, вдруг начинал смеяться он и вытирал выступившие от смеха слезы. — «В начале было слово». Здорово придумано, Жучок!
— Ты о чем? — приходя в себя и думая, что Исай шутит с ним, недовольно морщился лишенный чувства юмора Жук и подсовывал Исаю исписанные листки, чтобы удержать того у стола. — Здесь объекты, секретарь. Казармы, комендатура, узлы связи, — объяснял он.
— Не будь занудой, лейтенант, — в тон ему отвечал Исай и направлялся в дальний угол комнаты. — Я серьезно… В «Прорыве» работает надежный человек, и там в подвале валяется русский шрифт.
— Разузнал уже? — осматривая его атлетическую фигуру, смягчался Жук. И думал: «Откуда у него такая сноровка? От отца? От старших товарищей? Или от белостоцких друзей, которые имели опыт борьбы с дефензивой?..»
Это было в субботу. А в воскресенье на конспиративной квартире, откуда виднелись Свислочь и руины каменных зданий на приречном склоне, Исай уже пожимал руку бывшему капитану — худому, узколицему окруженцу, который, чтобы легализоваться, устроился в немецкую типографию. Капитан носил теперь длинную украинскую фамилию, был в штатском и подкупал своей суровостью и настороженным, чуть ли не враждебным видом.
Сердитая решительность в людях нравилась Исаю. На Советскую улицу после этой встречи он вышел в самом чудесном настроении. Хорошо думалось о Подопригоре, о Жуке… Однако, поднявшись к театральному скверу, Исай будто на что-то наткнулся: по мостовой двигалась серая, мучительно медленная колонна, конец которой терялся за поворотом улицы.
Гнали военнопленных.
С закутанными во что попало головами, в лохмотьях, рваных шинелях, в опорках, рыжих сапогах, перевязанных веревками, пленные еле-еле передвигали ноги, оставляя после себя длинные следы в грязном снежном месиве.
«С товарной, наверно. Переправляют глубже в тыл», — подумал Исай, вдыхая кислую вонь, что забивала запах свежего снега, и, чтобы не стоять, заставил себя пойти навстречу. Однако когда с ним поравнялся высокий, с забинтованной головой пленный и, блеснув единственным, каким-то шальным глазом, крикнул: «Глядишь, чистая сволочь? Гляди, гляди… твою мать!» — Исай свернул в развалины и по целине добрался до тропки. И как ни был подготовлен к подобным зрелищам, попав в разрушенную коробку, где воняло мочой и старым, размокшим кирпичом, остановился, уперся лбом в заиндевелую стену. По какой-то связи вспомнил жену, детей, о чьей судьбе так ничего и не узнал до сих пор.
— Ы-ых! — проклял все на свете.
Дома его ожидала новая беда. Он почувствовал ее еще на улице, когда увидел напротив грузовик, который, чтобы могли проезжать другие, кособоко стоял, въехав одной парой колес на тротуар. Исай прошел было мимо, но на крыльцо выбежала его хозяйка. Прикрывая ладонью щеку, жестом поманила к себе.
— У нас оргтодовец, Славик! — с трудом произнесла она. — Вернется отец… вернется же, быть не может… он отблагодарит тебя… Зайдем, ради бога!..
Розовощекий, в годах, с аккуратно подстриженными усиками немец сидел у стола и что-то смачно жевал. На столе перед ним лежали хлеб, колбаса и выпотрошенный рыжий ворсистый ранец, а на диване, сжав плечи и безвольно положив руки на колени, горбилась Ляля.
— Слава! — рванулась она, когда Исай показался в дверях.
Немец шире раскинул ноги и уставился на Исая подичавшими глазами. С трудом — даже пришлось нагнуть голову — проглотил, что было во рту. Но видя — Исай ведет девочку от двери назад, на диван, — скривился. Посматривая то на него с Лялей, то на свои лакомства-искушения, принялся совать их в ранец. Покончив с этим, надел шинель и вдруг злобно рявкнул:
— Швайн!.. Русиш швайн!..
Когда дверь за ним захлопнулась. Лялю затрясло.
— Холодно, Слава, — пожаловалась она, припадая к нему грудью. — У нас тут, наверно, холодней, чем на улице.
— Тогда, — пошутил он, — давай откроем форточку.
И растерялся: старательно причесанная, с приспущенным на лоб завитком, девочка по-взрослому смотрела на него и, кажется, чего-то ждала. Когда же он осторожно отстранил ее, вскинула голову. Чутьем, неизвестно откуда взявшимся, угадала: она смутила Исая. Вильнув плечами, приосанилась.
Исай нарочно, как маленькую, погладил ее по голове и громко позвал хозяйку.
Родственников, к которым можно было бы отправить Лялю, хозяйка в городе не имела, и, посоветовав ей, чтобы девочку пока прятала в мезонине, сказав, как в крайнем случае найти его, Исай покинул домик, в котором начиналась его подпольная деятельность в этом разрушенном и теперь дорогом городе…
События на фронте отвлекали все его внимание. После черных дней отступления казались не первыми ласточками, а самой весной. И подмывало открыто приветствовать ее, отдать ей душу.
Сдерживая себя, Исай торопил других. Когда становилось невмочь, сознательно вызывал в воображении картину Октябрьского парада в Москве, о котором принес весть все тот же Володя Омельянюк, и никогда позже так ярко не представлял его себе. Словно на экране, — в красках! — он видел заснеженную Красную площадь, Мавзолей, колонны пехоты и танков, двигавшихся строгим строем… Сыплется снежок. Он не падает на брусчатку, а, подхваченный ветром, летит в конец площади, к Василию Блаженному, к Москве-реке, — туда, куда устремлены колонны, направляющиеся с площади прямо на фронт…
Исай не был ни художником, ни поэтом, но он жаждал быть участником событий, и это помогало ему представить все как только что пережитое и виденное. А возможно, будучи натурой страстной, одержимой идеей борьбы, он становился и поэтом, и художником — талант обычно имеет несколько граней.
На этот раз Жук пришел в его новое жилье — узенькую, оклеенную старыми, выцветшими обоями боковушку, где стояли столик, табуретка и похожая на больничную койка, — озабоченным. Откинув угол одеяла, простыню, устало опустился на кровать. Но холодноватые глаза поблескивали, и это выдавало его.
— Давай выкладывай, — терпеливо сказал Исай, зная, что у Жука в последнее время, видимо, от прилива сил, появилась привычка разыгрывать собеседников.
— Наши, секретарь, взяли Калинин! — послушно произнес Жук, видя, что игра его разгадана. — Гитлеровцев окружают и по частям уничтожают. Значит, гнать будут долго. И плюс снег. Сыплет и сыплет. Аж в снежки поиграть хочется.
Вопреки своим правилам, он облапил Исая и собрался поднять.
— Подожди, — расцепил его руки Исай и стиснул их — у Жука подогнулись колени. — Говори по порядку. И сперва о лагерях и железной дороге. Ты знаешь, что мне кажется?..
Жук еще рассказывал: комплектование штурмовых групп идет гладко, Володя Омельянюк засел писать листовки о боях под Москвой, а Исай уже мерил шагами боковушку и, кусая губы, хмыкал себе под нос.
Встреча с колонной военнопленных кое-что подсказала ему. Стараясь наверстать упущенное, горком поручил «кюнстмалерам» готовить нужные документы. Обязал подпольщиц собирать теплое белье, шить маскхалаты… И когда в лагерь, размещавшийся напротив парка Челюскинцев, переправляли первую партию оружия и боеприпасов, Исай чуть ли не ночь напролет сидел за столом, подперев ладонями лоб. За окном стыла морозная звездная синь, потрескивала липа, черневшая у крыльца в снежном плену, а он все думал и думал.
Так и не заснув, за полночь он вышел во двор. Проваливаясь в снег — хозяйка не успела расчистить тропинку, — прошел к воротам. Прислушался. Ни звука. Взялся было за калитку, но та завизжала так, что отдалось в ушах. Поморщившись и отойдя от нее, Исай уставился в высокое мерцающее небо. Проследил за мглистым Млечным Путем, пересекавшим небо из края в край. В воображении возникла картина — укатанная дорога с беспорядочно брошенными грузовиками-фургонами, с уткнувшимися по верхнюю перекладину в снег крестами, с припорошенными трупами в шинелях, в пилотках, натянутых на уши…
Но вдруг, разорвав тишину в клочья, прогремел взрыв — там, где была товарная станция, грохнуло. В морозном воздухе взрыв разнесся с присвистом. Но тут же оборвался — окрестная тишина будто ринулась туда и приглушила его. Лишь небо в той стороне посветлело.
«Деповцы», — с благодарностью подумал Исай и, как бы что-то перечеркивая, рукой рассек воздух.
— Все, Исай! Тут перевал…
Вернувшись в дом, он зажег коптилку, нашел бумагу, ручку и стал писать присягу повстанца. Мысли наплывали волнами, и он работал до рассвета, пока его не сморил сон.
Когда Исай сказал Жуку о своем решении посетить лагерь у парка Челюскинцев и самому посмотреть, что за люди вершат там дело, у Жука отвисла челюсть.
— Это, секретарь, невозможно! — возмутился он. — Я против.
— Почему? — вскипел Исай. — Я не ясновидец! Мне нужно самому видеть, чтобы доложить остальным…
— Все равно! Раньше, туда хоть можно было передать бутылку воды, картофелину. А сейчас и детей близко не подпускают. Наши проникают только с беднягами, которых гоняют на расчистку улиц. Чужие слабости ты хорошо подмечаешь, посмотри хоть бы на себя!
Исай прошелся по боковушке туда-сюда, мимоходом глянул в туманное зеркало с желтыми подтеками, висевшее на стене напротив кровати.
— Да, габариты не те. Ты прав. Однако цепочка, по которой переправляют оружие, существует?
Споря, он все же отступил, согласился; ладно, пусть встреча состоится не в лагере, а в парке. Ежедневно от голода, болезней умирали десятки пленных, и специальные обозы вывозили их в парк, где их ожидали могилы-рвы. Значит, достаточно было сделать так, чтобы среди землекопов-могильщиков в назначенный день попали нужные люди, — и все…
Впечатление, вынесенное Исаем от встречи, было тяжелым. Он увидел: люди в плену теряют многие качества. Правда, командир тамошней группы, худой, как щепка, скуластый, понравился Исаю знакомой злой решительностью, готовностью выполнить любой приказ. Хорошее впечатление оставил и комиссар — спокойный, рассудительный, хотя и медлительный в словах и движениях. А вот начальник штаба насторожил. И не потому, что оказался тем самым пленным, который кинул Исаю оскорбительные слова из колонны на Советской улице, а споим стремлением все знать, требованием быстрых крутых мер. Он спешил засвидетельствовать: «Я бедовый!»— и умышленно разжигал себя. Заменив умершего майора, занял свою должность два дня назад, но старался обо всем высказать свое мнение. И, посматривая единственным, очень подвижным глазом то на согнутую дугой рябину, верхушку которой присыпал снег, то на Исая, добивался, чтобы тот одобрял каждое его слово…
В то же время более ёмким сделалось само понимание цели. Видя, как между сосен тянется обоз с трупами, Исай вдруг понял: восстание кроме всего даст вторую жизнь лагерным заключенным! И тем, которым уже суждено было умереть, и тем, кто, многое потеряв, остался живым, и тем, кому придется погибнуть в бою. Даже одноглазому! И это стало необычайно важным.
Вызвав на явочную квартиру Жука с Омельянюком, Исай потребовал пересмотреть командно-политический состав лагерных групп, свести ячейки во взводы и застраховать таким образом тройки еще одним звеном от провала.
— Листовки, оружие, перевязочные материалы, разведка, — загибал он цепкие пальцы. — Строгая функциональность. И никаких горизонтальных связей. Заяц и Катай правы… И помнить, помнить: восстание нужно всем!
— Ты забыл о хлебе насущном, — подсказал Володя Омельянюк, хотя и знал, что увлеченный своим Исай не очень доволен, когда его перебивают.
Но тот неожиданно засмеялся.
— Известно, и хлеб! Хорошо бы попросить Зайца, пусть использует довоенные связи. Заведующему земотделом не занимать знакомых в деревнях… Умрем, но сделаем все, что зависит от нас!
Он сгреб товарищей двумя руками и, побледнев до слез, прижал к себе.
— Подскажи, Володя, как там у Пушкина… «Благословенен наш союз!» Так, кажется?
«Смотри ты! — по привычке, укоренившейся в нем, отметил Омельянюк, которого тронуло Исаево вдохновение. — Это новость уже!»
Через несколько дней Степан Заяц в самом деле организовал доставку продуктов из деревень — помогли прежние бригадиры и председатели колхозов.
Жук с Исаем сидели на койке и обсуждали, не стоит ли выделить часть картофеля и мяса для энзэ, как в дверь постучали и на пороге появилась Лялина мать.
— Не вкусненькое ли, тетка, почувствовали? — становясь строгим, неприязненно спросил у нее Жук, но, увидев какое-то размытое, в слезах лицо, вопросительно поднял брови.
— Спасайте, товарищи, доченьку! — чужим, срывающимся голосом выкрикнула она и, бросившись на колени, с протянутыми руками поползла к Исаю. — Лялечка на тебя молится, Славик! А те в этот раз на все могут пойти! Ты покажись только…
— Встаньте! — вскочив, отступил от нее Исай.
Испугавшись его возможного гнева, женщина опустила руки, оперлась одной на пол и начала вставать. Исай помог ей подняться.
— Я пошел, Жучок! — сказал он скорее с просьбой, чем решительно.
— Стой! Куда? — растерялся Жук. — Я буду жаловаться Зайцу! Володе!
— Ну и что же? Давай…
— И вы тоже! — шагнул Жук к бедной женщине. — Вы хоть бы у Омельянючихи поучились. Подумали бы, на что человека толкаете. Остановите его сейчас же! Если что случится, я не прощу вам, тетка!
Однако необоримая сила уже несла Исая.
Правда, голова у него оставалась ясной. Недавно выпал снег, все выглядело четким и поразительно чистым, мысли его были такими же. Повторялось и вносило чтение разве одно: «Чтобы только не опоздать!» Он знал: Жук уважает его, но из-за этого преданного уважения почему-то считает, что его нужно опекать, как маленького, и поэтому он обязательно следует сзади, хотя и кипит, дергает плечом. Однако и это не смущало Исая: «Ничего, поймет. Вряд ли можно быть где-то одним, а в другом иным!»
Против домика, въехав колесами на тротуар, косо стояли два грузовика.
В комнате, где когда-то жил Исай, его ожидала отвратительная картина. На стуле, поставленном боком, опираясь спиною на стол, сидел знакомый немец и, откинув голову назад, тянул что-то из фляги. На диване лежала потерявшая сознание Ляля. Над ней, словно рассматривая ее, навис широкоплечий, с сытым затылком второй оргтодовец.
Не давая им прийти в себя, Исай ринулся к ближнему, второму. Наотмашь, со всей силы, ударил ладонью наискосок под ухо и, когда оргтодовец, падая, повернулся к нему, рубанул в переносицу. Это произошло мгновенно, однако первый успел вскочить на ноги. Он видел удары Исая и потому побежал к двери, прикрывая затылок руками. Но в дверях стоял Жук. Немец остановился и, боясь оглянуться, втянул голову в плечи.
Отправив хозяйку с девочкой к своим знакомым в Грушевский поселок, объяснив, как лучше пробраться туда, Исай устало опустился на диван. Со скорбным облегчением подумал: в грузовиках, верно, найдутся канистры, бензин, и надо сделать так, чтобы в домике загорелось не сразу, но затем забушевало вовсю. Ветровое стекло в чертовых фургонах, безусловно, залепило снегом, а неизвестно, как там включать «дворники», и придется заранее спросить об этом у Жука. Что же касается самих автомашин, их лучше всего отогнать в руины Замковой улицы, где нет уцелевших жилых домов. И еще думалось, но уже не так, как думается, когда чего-нибудь ищешь, а когда, остывая, осматриваешься вокруг: завтра, конечно, придется давать объяснение Зайцу и Омельянюку. «Всыплют, — думал Исай. — Всыплют, наверное… Но что там в сегодняшней сводке? Не придется ли созывать горком?..»
А тем временем за окнами, словно по заказу, который уже раз в день сыпанул снег, густой, спорый, и в комнате стало темно, как в сумерках.
НАДО
рассказ
Вы интересуетесь судьбами минчан и хотите, чтобы я рассказала о Ване? Ну что же, попробую, если смогу…
Усталое, в тенях, как у человека после большой беды, лицо ее передернулось. Из сердитых зеленоватых глаз, казавшихся от окружающей зеленой благодати почти изумрудными, выкатились слезы. Она горько усмехнулась и сняла их языком над уголками рта.
— У железнодорожников, — с усилием промолвила, — все ведь свое… Война для них, как и для пограничников, начинается сразу. Беда, как вы знаете, обрушилась в воскресенье. Ваня с компанией собирался на открытие озера идти. Хотел покупаться, поиграть в волейбол. Ну вот и покупался. А в среду уже задержал диверсанта. Бежал на работу и встретил его. Сытенький такой, в красноармейской форме, что еще швейной фабрикой пахла. Не поздоровавшись, стал расспрашивать, есть ли в городе магазины. У нас-то?.. А еще через несколько часов Ване под бомбами довелось уже везти семьи железнодорожников и беженцев до Орши.
Вот как! С места в карьер… И это ему, который во всем держался порядка.
А тут еще, вы ведь тоже знаете, всякая всячина… Последние дни июня… Он в управлении Белорусской железной дороги в Смоленске… Понимаете? Когда немцы за Борисовом были, получил приказ отправляться восвояси — восстанавливать минский узел. Хорошо, что в Орше его потом известный Заслонов перенял.
Удивило, как признавался, и следующее задание — когда послали вести состав с цистернами в сторону Лепеля.
Доехали до Комарова. Есть такая станция. А там гремит все. Пыль, огонь, дым. Танки без горючего стоят… Однако одну цистерну только и опорожнили — немецкие самолеты тут как тут. И если бы не один старикашка, страшно и подумать, как бы все повернулось.
Подошел к танкистам и повел. И поверите — за березнячком, рукой подать, резервуары с бензином стоят. И еще говорил… Когда спохватились, чтобы поблагодарить старика, его и след простыл. Будто в сказке какой-то. Ваня рассказывал и даже смеялся… Ну как юродивый какой!
И вообще… Станет говорить, все как по писаному — место, день, месяц. Все точно. Мне даже иногда казалось, что он себя к отчету какому-то готовит. Из головы не выпускает, будто какая-то проверка непременно должна быть… Жизненного порядка держался…
Ну да ладно… Двенадцатого июля, в субботу, он снова двинул на Смоленск. На дороге эшелонов — полным-полно. А когда доехал все-таки — и там на городских окраинах немцы. Вокзал обстреливают. Диспетчер, понятно, распорядился оглобли поворачивать. Так что довелось под огнем прорываться назад, самим переводить стрелки.
Однако и в этот раз сначала повезло. Добрались до Колодни, взяли направление на Вязьму. Да перед мостом под Ярцевом опять пробка на несколько километров. Немцы, как выяснилось, высадили десант и тот мост под обстрелом держат.
Десять дней стоял Ваня. Ни назад, ни вперед. Не бросишь же состав без разрешения — народное добро! Да и надеялись — десант с часу на час добьют… Но вышло все наоборот. На одиннадцатые сутки мимо эшелонов пропылили немецкие танки. Повалила мотопехота. Поезда окружили, сняли с паровозов бригады…
В лагере под Духовщиной и увидел Ваня своими глазами, что такое фашизм.
После полудня двадцать шестого над лагерем разгорелся воздушный бой. День выдался мглистый, бой завязался под облаками, и трудно было различать, где чей самолет.
Нежданно-негаданно один из самолетов задымил. Вахманы заликовали: «Капут русиш, капут!» Знаете, как они… Ан нет. Когда, падая, самолет приблизился, стали видны кресты на борту. Потом и со вторым так. Охрана остервенела. Потрясают кулаками над головой: «Доннерветтер! Доннерветтер!» Один из наших улыбнулся было и, поверите, осел тут же на землю. Товарищ его склонился над ним и не то что с упреком, а с удивлением скорей спросил только: «За что это вы его? А?» И caм также осел…
Потом уцелевших построили в колонны. Под усиленной охраной погнали в Витебск. Но Ваня уже решил: надо убегать подобру-поздорову — иначе действительно капут.
А ему только сказать это себе…
Договорился с двумя тоже нашенскими и стал поджидать удобный момент. Подвернется же он, не может не подвернуться!
Под Витебском, когда колонна вошла в придорожное село, все кинулись к колодцам. Поднялась неразбериха, пальба.
Использовав случай, Ваня с товарищами шмыгнул в ближайшее подворье. А оттуда не мешкая в избу. Женщине, на которую наткнулись в сенях, приказали спрятать их. Когда же свалка на улице кончилась и все затихло, хозяйка, дородная, в подоткнутой юбке, вытащила из печи громадный чугун на добрую артель.
Да вот диво — глядят, а в печи второй стоит. Еще больше его размером. Зачем это? И выяснилось… ежедневно варит женщина свое варево такими порциями. Что поделаешь, идут люди и идут. Под вечер один чугун пустеет, а к утру второй. А она все старается и старается. У Вани каким-то образом ручные часы сохранились, так он их ей под скатерть сунул…
Только одиннадцатого августа добрались они до Минска.
Вот тогда-то впервые я и встретилась с Ваней. Вижу— шагает по улице Машинистов лобастый, худой парень. Я не из жалостливых, может быть, напротив даже, а тут жалко стало, перекинуться словом с ним захотелось. Да и каким-то простым, открытым, беззащитным показался он мне.
Огляделась я кругом — пусто… «Ай, была не была, — думаю. — Давай, Липа, блесни!» Играя бровями, поинтересовалась издали, откуда-де он и куда ковыляет. Предложила: если некуда идти, найду пристанище. А потом, видя, что он не отвечает, отвернулась и пошла себе — смотри тогда и завидуй! И только дома сообразила, почему помрачнел он и шаг ускорил, — появились ведь и такие, что первого встречного в примаки тянут… Однако так или иначе, а запомнил, стал потом искать…
Многое, как признавался после, удивило Ваню тогда. Железнодорожный узел работает. На некоторых паровозах наши бригады. И руководит ими наш бывший начальник депо. Успел уж! Плоховато, наверно, тому, кто подержал в руках вожжи, остаться без них. Подняло голову и отребье. Плюгавый Захаревский, который крутился всегда при поворотном круге, и тот воспрянул — отпустил баки и, чуть что, грозить пальцем начал. Цыгана-токаря выдал… Даже Балашов Афанасий, машинист, член партии, друживший некогда с Ваней — у них было все пополам! — работал уже.
— Мы, Иван Иванович, паровозники, — ударился при встрече в рассуждения. — И хотя паровозы по рельсам ходят, управлять ими нам… Поступай, не раздумывай. Все равно начинать с чего-то нужно… Сходи-ка вот и а товарную, посмотри…
Ваня направился туда и растерялся даже. Запасные, деповские пути забиты составами. Одних паровозов сотни три.
Однако работать — это не из плена бежать. Убегая, ты спасаешь себя и одновременно искупаешь прежний грех — не имел ты права сдаваться в плен. А тут наоборот получается: не имея права наниматься на службу к врагу, ты на свой страх и риск собираешься наняться служить ему. Да еще где!
Но вот чудо, снова все решило это «надо». Надо жить, а значит — что-то делать. Нельзя же иначе! Я даже возненавидела тогда это слово!.. Подпирало и сознание: видишь ли ты это или нет, а борьба идет. Она не может не идти. Вон сколько паровозов стоит! И не так уже важно, как ты примкнешь к ней. Важно примкнуть, чтоб ты вносил в нее свою лепту. Нечего тут думать о наказаниях или наградах каких-нибудь, ежели на земле твоей такое творится.
На работу его приняли безо всякого — помог бывший начальник. Старался, видно, обеспечить фашистский транспорт кадрами. Дали Ване паровоз, помощником назначили Осипа Корзюка — и пожалуйста, ишачьте.
В первую поездку, как потом я узнала, они «притирались». Знакомились с порядками, приглядывались к охраннику, который сидел рядом, держал их на мушке. Слышали — некоторые из таких понимают по-русски и малость кумекают в специальности машиниста, хотя и не показывают виду.
А вот во второй раз Ваня убедил себя… Почему убедил, говорю? Не так это все просто, по-моему, хотя и видно было, что Корзюк свой, а немец — ни бе, ни ме. Сидит с повешенным на шею автоматом и зыркает глазами исподлобья.
Поезд шел до Осиповичей. Миновали Пуховичи. Ваня принялся объяснять немцу, что впереди участок трудный и надо подготовиться, почистить топку. Тот глянул на Ваню, на лес вокруг, но кивнул.
Остановились, забегали.
Давление в котле падает, воды становится меньше, а они бегают, суетятся. Правда, немец вскоре начал вертеться на своем сиденье. А они лишь руками разводят. Тронулись только, когда тот автомат наставил. Но и тогда предупредили: ну, смотри, если что-нибудь случится, сам отвечай… И, известно, случилось. В Осиповичах паровоз пришлось гасить — сожгли топку, так как не почистили ее как следует.
А следующий раз получилось еще мудрее. Проехали всего до Степянки. Ваня, правда, загодя зажал клином поршневой подшипник, замазал его сверху мазутом и присыпал песком — чирканул, дескать, о кучу балласта. Ну, подшипник и выплавился, понятно… И снова довелось ставить состав на боковой путь в лесу, а самим подаваться в депо на ремонт…
Действовали они совместно, но, по существу, как кустари-одиночки. Вслепую, что ли, по инерции. Надо — и все тут.
К этому времени мы подружились. Правда, тогда все девичье для меня было гонором, славой. Собой и своими косами гордилась, не замечая по мирной привычке, кроме них, ничего. Да и жить очень хотелось. Потому что если живешь себе и живешь — это одно, а если знаешь, что при каждом повороте можешь потерять жизнь, — это другое. Тогда невольно задумаешься, и бунтовать подмывает. Жизнь-то один раз дается, а ты еще к тому же ничего не видела и любить хочешь.
После комендантского часа по улицам ходить запрещалось. Квартировал Ваня у знакомых, где по три-четыре своих души в комнате. А что за дружба-любовь без ночных прогулок? Ей лишними кажутся не только чужие глаза, а иной раз и взгляды друг друга. Может быть, ничто так не сближает, как проведенная наедине ночь… Сердилась я.
Было еще одно… Я из-под Пуховичей, из деревни. Батя, мама живы еще. Ездила я, бывало, к ним как в рай. Сплю — все на цыпочках ходят. Потому, может быть, и казалось мне, что война сейчас там у них тоже не война, что более тихого уголка на свете не было и нет. И я жила как бы и тут, и там. Вот и не поняла Ваню. Более того — задурила. Даже не задумалась над тем, почему это он, когда начинал учиться, уже тогда сразу в два училища поступил. И только когда директора случайно на общегородском совещании разговорились, вынужден был бросить одно из училищ… Легко ему! — думалось. Ни гордости, ни престижа, и в голове розовый туман.
Потому мы и жили, как рельсы бегут… Я, конечно, догадывалась кое о чем, но не придавала этому значения — глупости, поумнеет, когда осмотрится. А он… он, видимо, захваченный своим, тоже не слишком имел время думать обо мне — другое заслоняло.
Мы ежели и спорили, так и то шутя.
«Как ты можешь так?» — спросит он, бывало. А я ему: «Не всем гореть, если кто-нибудь себя поджег». Усмехнется, пожмет плечами, а я тогда уже вдвое, втрое ему: «Я не рабыня, чтоб себя цепью к чему-нибудь приковывать. У каждого своя жизнь. Мне ее никто второй раз не даст. Ты посмотри на меня. Ну, посмотри!» — и начну тормошить, подразнивать.
Сидит в некоторых из нас нечистый…
Вредили Ваня и Корзюк немцам, известно, не одни. Гестаповцы стали принимать меры. Попробовали изучать причины аварий.
В начале зимы подсадить проверщика должны были и к Ване…
Тут бы ему придержать себя, обо мне подумать. Но где там!
Когда они однажды с Корзюком, приняв паровоз, взялись готовить его к поездке, и в самом деле пришел немец. Высокий, красивый такой, с аккуратно сложенным одеялом под мышкой. Стал раскорякой и начал наблюдать. И что, вы думаете, предпринял Ваня? Когда, как и полагается, явился слесарь и спросил, нужна ли какая-нибудь помощь, Ваня только рукой махнул. Сами, дескать, с усами.
И это понравилось проверщику. Выждав немного, он спокойно полез в кабину, — ну что ж, пока недурно, мол, а там увидим… Закутавшись в одеяло, уселся на место машиниста и приказал топить паровоз. От доверия, от самоуверенности люди успокаиваются. Мороз был лютый, от топки тянуло теплом, и немец вскоре стал клевать носом. Где, что, как — не совсем доходит.
Под Борисовом, как известно, путь покатый. Поезд, которым не управляли, набрал скорость. Красавчик подхватился, захлопал глазами. Увидев красный сигнал семафора, принялся тормозить. Но тормоза не сработали — постарались наши. Ваня с Корзюком на подножки уже стали. Да путь оказался свободным. И, сообразив тогда, Ваня оттолкнул немца и включил тормозную систему состава. Но, как и нужно было, скаты у паровоза заклинились, и он пошел юзом.
Но все равно пролетел станцию. Остановился лишь за мостом через Березину. И, конечно, на колесах, там, где скользили они по рельсам, металл как наждаком слизало.
Прибежали эсэсовцы. Бросились к нашим, потом к своему проверщику. Приказали осадить поезд назад. А Ваня рад стараться. И хотя побыл на волосок от смерти, взял да и погнал состав так, что рельсы от ударов стали лопаться. И потом даже летом видел свой паровоз — стоит, где показали ему поставить тогда.
Я позже, конечно, прослышала об этом. Не подозревала я, разумеется, и о других Ваниных делах… Перед войной мне тоже довелось профтехшколу окончить и получить диплом помощника машиниста. На «отлично» сдала тогда экзамены. Но при немцах, понятно, пришлось разнорабочей работать. Да все равно верила в свою планиду — красовалась, жила собой, не очень присматриваясь к тому, что происходило вокруг…
А в депо тем временем листовки попадали. На угольном складе ни с того ни с сего у крана стрела сломалась. В цехах вагоноремонтного из строя моторы выходили. Куда-то исчезали знакомые железнодорожники, были — и вдруг нет, и все после воскресного базарного дня. Под Новый год водонапорная сеть порвалась. Паровозы гасили или гнали к Свислочи, на мост, наливали грязной водой. Испортилась водокачка и в Петровщине — кто-то завалил воздушные трубы черт знает чем…
Это радовало, но и мучило Ваню, хоть он и понимал, что после его приключений да плена сразу ему не поверят, но не был бы Ваня Ваней — все равно надеялся: не сегодня-завтра, как бы там ни было, встретится с кем-нибудь… Или, когда понадобится, сами придут за ним.
И, конечно, пришли. Все тот же Балашов. Подержав Ваню какое-то время при себе, отвел на Вирейскую улицу, к… бывшему начальнику депо…
Впервые раскрылся он передо мной под весну — рассказал, как водил паровоз с пустыми вагонами на станцию Минск-Северная. Это важно, и я про это тоже расскажу вам.
Прибыл он на главный путь, но подбежали немцы и замахали руками — из Молодечно, оказывается, поезд шел. Довелось немедленно давать задний ход. Только что набрал Ваня опять скорость, глядит — в двухстах метрах грузовик с прицепом катит по Опанской улице к переезду. Ага! И вместо того, чтобы тормознуть, прибавил пара. Правда, из будки выбежала охрана. Но грузовик уже за шлагбаумом. А тут еще Ваня свисток дал. Шофер завилял, съехал передними колесами с настила. Короче, перевернул Ваня тот транспорт с кирпичом.
Пока вытянули из-под грузовика шофера с каким-то военным чином, пока оттащили с полотна искореженный грузовик, подобрали разбросанный кирпич, прошло с час. А тут плюс еще у Ваниного паровоза поршневой шток согнулся. Пришлось ожидать другой паровоз, снимать дышло, гасить топку…
Чтобы не нарваться на беду, по улицам мы не гуляли. В скверах тоже. Там солдатня и сорванцы, которые чистят им сапоги. К тому же везде понаставлены разные витрины для приказов и плакатов, которых Ваня не переносил. Поэтому гуляли мы в безлюдных кварталах, среди развалин. Сидели на крылечках, что уцелели при коробках бывших зданий. Я сидела, сцепив руки на коленях, а Ваня обычно водил какой-либо палочкой по рыжему снегу.
Не очень веселыми были наши встречи. Подзадоривая Ваню, я больше жаловалась. На работе-де липнет, скалит свои выщербленные зубы Захаревский. Косынку вчера совал в карман. Немцы из охраны пристают, чтобы переходила к ним в столовую официанткой… Ваня же слушал и чаще молчал. А если и говорил, так обычно об одном — о беде, что свалилась на головы людей. Грел мои руки в своих, обнимал, но, казалось, и тогда не переставая думал о чем-то своем.
Пока не перейдена граница, мы, девчата, более рассудительны. Да вряд ли собственная рассудительность кого из нас тешит. Ванина сдержанность обижала меня. Чары мои оказывались как бы бесплодны.
— Сегодня, Липа, повезло мне… — начал он тогда.
— Ну-ну? — подогнала я его.
Он пристально посмотрел на меня.
— Утром я автомашину, двух фрицев и свой паровоз угробил, — докончил жестко.
— Матушки мои! — ужаснулась я. — Нашел чем хвалиться! Ты в своем уме?
— Ага, — говорит.
— Подучили, значит? Кто? И выкрутился? — съехидничала я, скрывая, что сердце заныло, как обреченное: опять про свое!
— «Выкрутился»… Не стоит так, — попросил он, но тон сменил. — Я там ехал по главному пути и хозяином был. Пускай на себя пеняют… А тебе что, не нравится эта история?
У меня хватило ума промолчать.
— Уедем отсюда, Ваня! — в свою очередь попросила я. — Что мы, не имеем права остаться живыми? Порадоваться жизни?
— Когда? Теперь радоваться? И куда уехать?
— Да хоть бы к моим, в деревню. А так ведь сами навстречу беде идем.
Над развалинами вели свои гульбища вороны. Носились с криком, кувыркаясь, как над лесом, будто и тут искали место для гнезд. Мне стало страшно. И этот страх, раздражение помешали догадаться, что все это было проверкой мне, что Ваня сам ищет определенности в наших отношениях и ему самому нелегко… Посмотрели бы вы, как он растерялся, когда я спустя какое-то время поглядела в зеркальце на себя и запела тут, а развалинах… Откуда мне было знать, что у него вступило в силу еще одно — ответственность перед товарищами! Что там, у начальника русских бригад, принял он присягу подпольщика, поклялся не выдавать никому секретов? Да если бы и знала, изменило бы это что-нибудь?.. Он ведь оскорбил меня своей отрешенностью, унизил, и мне хотелось все делать ему назло…
Признаться, я и сейчас не все понимаю… Почему он так упорно таился передо мной? Ну, скажем, сначала был одиночкой. Но после ведь его заботой стал рост подполья. Значит, жалел? Так? Но почему тогда, например, втянул в подпольную работу хозяина своей квартиры? У него ведь жена, трое детей, бабуля семидесятилетняя… Меня остерегал, охранял, а их?
Жестоко это!..
Нет, простите, я все-таки немножко приврала. Каждому хочется выглядеть лучше. Желание каяться позже приходит. Ваня, безусловно, замечал за мной такое, что не давало ему права открыться, сделать меня соратницей. Я будто ослепла и знать ничего не хотела, кроме себя да его. Шалела оттого, что не только он, но и я уже собой не могу распоряжаться. «Как это так? Не хозяйка себе?..» А потом и того хуже. Вбила в голову — Ваню самого необходимо спасать.
И будто бы чтоб показать — правда на моей стороне, в марте подполье постиг провал. Начальник с Балашовым как в воду канули. Ну, а Ване пришлось возглавить подпольную организацию депо. Его ввели в состав вновь созданного райкома. Вон как! А я?.. Я во всем этом лишь правильность своих предостережений увидела. Разве не правда, что вместе с тем, как Ваня растет, петля на его шее затягивается и он дальше от меня отходит? Ну, и защищалась… Да и возмущало само бессилие свое изменить что-нибудь. Не было ведь раньше такого! Если хотела, веревки вила из парней. Свое Восьмое марта на год растягивала…
Весна и в развалинах весна. Помню, перед тем, как мы встретились, отбушевала гроза. На земле лужи, лужи. В них купаются взъерошенные воробьи. На покрасневшем кирпичном крошеве трава зазеленела. И развалины будто светлой водой вымыло.
После грозы силы прибывают. Их сердцем чувствуешь. И хочется делать что-то хорошее.
Держась за руки, обходя лужи, мы бродили по мертвому кварталу. Я вскидывала голову, косилась на Ваню. Он, похудевший, грустный, смотрел себе под ноги, и мысли его снова были далеко отсюда.
Остановились мы, как всегда, возле развалин с крыльцом. Но ступеньки были мокрыми, и сесть было негде. Я взглянула на Ваню и удивилась. В добрых глазах его стыло упорство. Да и смотрел он как-то угрюмо, исподлобья — словно перед бедой или дракой.
— Что с тобой? — поторопила я его с признанием.
— Жду от тебя слова.
— Слова? — переспросила я, хотя отлично понимала все. — Неужто тебе хочется, чтобы я оставалась спокойной, когда ты подставляешь голову под обух…
— Мне нельзя иначе, Липа! — перебил он меня. — Не надо. Не становись на дороге. Я машинист, Липа, рабочий. Мне дорого здесь все.
— Ну и что? Тот, кто поумнее, давно стрекача задал отсюда. Хорошо им!
— Кому?
— Да хотя бы тем, кто каждый день тебя, как нанятого, издалека посылает куда вздумается. Пускай сами попробовали бы сначала!
— Меня посылают потому, что я обязан идти.
— Не терпится, как твоему начальнику, в лапы гестаповцев попасть? Ты же самоубийца, Ваня!
Он отступил от меня и уставился, как на диво.
— Откуда у тебя такое? — криво усмехнулся. — Это все брехня ведь. Не Захаревский ли ее подбросил?
Его усмешка совсем вывела меня из себя. Батюшки, будто полоумок какой! Им дорожишь, за него переживаешь. А он, как загипнотизированный, сам к смерти рвется… Неужели не доходит, что в моих заботах и хлопотах — любовь, обещание стать его? Неужели мало этого? Предлагаешь себя, ищешь спасения!.. А он раздумывает, манежит. Ну ладно! Я не глупей тебя! Видели мы таких!
— Зачем мне твои издевки? К чему они? — закричала я. — Думаешь, баба перед тобой? Цену этой бабе устанавливаешь? Взвешиваешь, подойдет ли? Потому что это тоже надо? Кто тебе такое право дал? Думаешь, я меньше, чем ты, люблю родное?
— Нет, Липа! — как бы пожалел он. — Любовь без готовности защищать, что любишь, не любовь.
Но я не дала ему говорить. Сама сыпанула, как из мешка. Бесхребетным недотепой — и это Ваню-то! — назвала. Высмеивать начала, что все, кому не лень, помыкают им, его руками жар загребают. А он рад стараться — надо, так надо!.. Ну пусть, жить для других еще можно: кое-что и самому останется. Но голову под обух по своей охоте подставлять?.. Нет! Все равно потом спасибо никто не скажет. А если и скажет, что с того? Кому от этого польза или слава? Родителям его? Так они в земле давно. Детям? А где они? Была у собаки хата. Мне? Но зачем она, эта слава, мне, если у него голова разбита будет и если я той головы как следует еще и не гладила и наглядеться на нее не нагляделась?.. А что касается его начальника, в депо все знают: выследили и схватили как миленького…
Он молча вынул из внутреннего кармана пиджака зачитанную газету и протянул мне.
— На, читай, — кинул. — Такая и в остальном твоя правда…
Позже я по крупице собирала все, что имело отношение к Ване, и многое узнала. Провал, немецкая шумиха вокруг него расшевелили подонков. И, чтоб не повадно было, их решили приструнить. Ваня взял на себя Захаревского. Хотел за все отплатить. Придумал план — проезжая мимо поворотного круга, сбросил глыбу угля… Но тут их подпольная газетка напечатала обращение. Бывший начальник депо, который в лесу оказался, разоблачая немецкие враки, поименно перечислил и немецких прислужников с их «заслугами». Обещалась и отплата. И газетка та попалась в карман Захаревскому. А попав, так ошарашила, что тот заговариваться стал… Где ты лучшую наглядную агитацию найдешь?.. Вот как!..
После я никак представить себе не могла. Удивляюсь и сейчас — какая нужна выдержка, чтоб, при всем этом, сказать мне всего два-три слова… А затем, когда я заикнулась, взвалила на Ваню новую тяжесть — пускай выбирает, ехать к моим родителям или перестать встречаться со мной, — батюшки! — только вздохнул со всхлипом…
Собирались райкомовцы регулярно — через неделю, по воскресеньям, когда немцы и полицаи обычно пили. Для встреч облюбовали квартиру члена райкома из службы пути. На Проводной улице. Обсуждали отчеты, намечали, что будут делать завтра. Если же поступало срочное задание от горкома, проводили внеочередные совещания.
Ну, так вот… Ваня и до этого добровольно брал на себя такие неожиданные срочные задания. Но теперь, будто что-то доказывая мне, просто стал лезть на рожон. Будто нечто большее, чем он сам, владело им, подчинило его себе. Надо, надо, надо!
Работая на маневрах, сам вызвался составить план размещения военных складов, входных и выходных путей, мест, где наиболее скапливаются эшелоны. Чтоб помочь многодетным семьям фронтовиков и партизан, собирал среди знакомых продукты, одежду. Сбрасывал в условленных местах уголь с тендера. А летом со своим Корзюком (тот теперь за ним как нитка за иголкой ходил) напросился взорвать наливные цистерны в Осиповичах. Минска, вишь, им стало мало! Махнули на чужом паровозе, будто на похороны Корзюковой матери. Порядки, понятно, знали отлично. Приехав, выдали себя за вагоноремонтников и направились на станцию осматривать составы… Потом передавали, как ухнуло там!..
Ну, кому не ясно, что до поры жбан воду носит…
Не встречались мы с месяц. Правда, мимоходом я видела его — то в депо, то у поворотного круга. И каждый раз сердце мое падало, замирало — погибнет ведь, — хотя я и фыркала. Оказывается, можно любить и человека, который отрекся от тебя. Да иногда еще сильнее, чем тихого и послушного. Потому что мало кто сразу примиряется с поражением, не старается взять свое.
Скоро я уж не владела собой. Куда и гонор девался. Готова была решиться неизвестно на что, только бы от него беду отвести и вернуть к себе. Я в мыслях разговаривала с ним, убеждала, видела во сне, строила невероятные планы. Наконец решилась. Подстерегла, когда он возвращался с работы, и, перегородив дорогу, сказала, что мне очень нужно с ним поговорить.
Он побледнел, передернул лопатками, но на встречу пришел. Верно, боялся, что иначе наделаю глупостей. А возможно, и в самом деле любил еще…
Солнце садилось, на развалинах лежал багряный отблеск. До комендантского часа оставалось не много.
— Завтра будет ветрено, — сказал он, подавая руку. — Что случилось, Липа? Ты словно сама не своя. Ну, говори.
Так, значит, он надеялся: я скажу ему что-либо такое, что, возможно, станет мостиком к нашему примирению. Полагал, что месяц разлуки образумил меня, заставил задуматься. Если уж такой подонок, как Захаревский, стал заикаться и заговариваться, то неужто для меня все прошло стороной, не затронуло? И себялюбие, слепота оказались сильнее, чем разум?
Но так мне представляется сейчас. Тогда, глупой, мне казалось иначе — он обратился ко мне, назвав по имени, чувствуя свою слабость.
«Ага, отступаешь! — подумалось мне. — Давно бы так! Человек всегда человек… Разве я не люблю тебя, дуралея?!»
Существо мое ликовало. Сердце и то против меня было.
Повиснув на Ваниной руке, я потянула его к знакомым развалинам с уцелевшим крыльцом. «Погоди погоди! — грозилась, веселя себя. — Вечная мерзлота и та тает, Ванечка! Милый ты мой!»
Подошли к крыльцу, ступеньки которого были точно вымытые.
— Я не могу, Ваня, — призналась, боясь одного — чтоб он снова не спросил, что я собираюсь ему сказать. Чтобы опередить его, пустила в ход свое испытанное средство — начала сыпать словами: — Приходит ли тебе в голову, чем ты рискуешь? Страшно мне, руки отнимаются!
Он нетерпеливо вздохнул.
— Зачем ты заранее пугаешь себя, глупая?
— Ведь не шутка, Ваня! Это конец всему.
— Пусть. Но человек для жизни рождается. У него цель есть. Иначе он не был бы человеком. Не говоря уж — советским…
Я трогала его плечо, лохматила и приглаживала ему волосы. Как никогда до этого, глядела в глаза — туда, в самую глубину, терлась щекой о грудь и целовала, целовала то в переносицу, то прямо в губы.
Но мои ласки, видимо, были недобрыми. Когда я обвила его шею и, сжимая, припала к нему телом, Ваня легонько отстранил меня.
Неужели он прочитал мои мысли? Разгадал?
Добиваться своего, искушая, чтоб потом спекулировать на Ваниной совести?.. Что может быть подлее… Но выход нашла. Закрыв ладонями лицо, упала ему на колени, затряслась в плаче. И сама не знаю, что это было. Отчаяние? Просьба простить? Раскаяние? Ужас?
Потом, уже не имея сил быть с ним, вскочила и побежала, неясно чувствуя, что он очерствел, виноват в чем-то передо мной… Но на что решиться, так и не знала…
Спустя некоторое время Ваню арестовали. Прямо на работе, сняв с паровоза.
Держали сперва в СД — в карцере. Затем в тюремных камерах номер десять, номер тринадцать, номер восемьдесят семь. На сто девятый день вместе с другими заключенными погрузили в двухосный вагон и отправили в Освенцим. И когда поезд тронулся, я побежала вслед. А когда споткнулась и упала, жить уже не хотелось… Без высокой цели трудно сознавать: надо так надо!..
Мы сидели на пеньках под елями с окоренными комлями, между осиновых и березовых стволов виднелись лагерные, с заросшими травой крышами землянки, куда, петляя, пробирались тропинки, на которых выступали точно набухшие корни.
Вокруг было много солнца. Комары толкли мак. Пели птицы. Пахло прелыми листьями, хвоей, нагретой корою. Из оранжевых шишек, что гроздьями свисали с лохматых ветвей, то и дело вылетали крылатые семена. Шишки словно стреляли ими, и они, отлетев, спускались на землю, крутясь спиралью.
От собственного признания Липе сделалось легче. Она выпрямилась и, прислонив винтовку к плечу, все говорила и говорила, глядя перед собой. Лишь глаза были как у незрячей. Над лесом кружил «фокке-вульф». Когда он пролетал над нами, я не слышал ее слов, но Липа не замечала и этого.
ПРОЩАНИЕ
рассказ
Я долго решала, куда мне пойти. Где побыть с тобой один на один? Чтобы попросить — укрепи, подскажи, наставь… Мысли мои неподвластны мне. Они ищут поддержки у тебя. Ты мне необходим, может быть, больше, чем прежде…
Особенно тяжко по ночам. Ты сам когда-то говорил, что ночью и боль больнее, и муки страшней. А тут еще тоненько, вроде умирая, стонет Ализа. Почитай, каждую ночь по приказу шефа проводят «акции», и под окном, на дворе, без конца вздыхает доморощенный страж. Какой здесь сон? Лежишь с закрытыми глазами, ждешь неизбежной беды и думаешь…
Вспоминается Вильно, наше знакомство, отец… Как ты пришел к нам в школу во время перемены. На улице метелица, в учительской холод. Я в платке, накинутом на плечи, у голландки, грею руки. А ты… ты в меховой шапке, в блестках снега, порозовевший. И, наверное, потому, что я мерзла, что стояла сжавшись, ты показался мне лохматым увальнем.
«Медведь, — подумала тогда. — Ха! Какой он художник?..»
«Знакомьтесь», — назвав твое имя, отрекомендовал тебя директор.
Кто знал, что в эту минуту решалась наша судьба? Что через день, после собрания в Союзе учителей, ты пойдешь провожать меня и будешь читать свои стихи, выдавая их за чужие? Как дорого все это! Как хорошо, когда тебя любят!.. Вспоминается, и как ты рисовал мне картинки, чтобы я по ним развивала речь учеников. Как рассказывал на экскурсии о чудесном сне боровом. Как водил меня в летний театр «Лютня»… А твоя мнимая болезнь! Когда тебе захотелось проверить, взволнует ли меня твоя беда…
Конечно, нелегко жилось. Отец бился как рыба об лед. Известно, кустарь-скорняк. Но разве это заслоняло солнце? Восьмой же класс кончила. Хоть и под вексель. Хоть и пришлось зарабатывать частными уроками. Однако закончила ведь! Правда, когда вольнослушателем поступила в университет, нас, студентов-евреев, эндэки заставляли сидеть отдельно. Пришлось, протестуя, вместе с другими слушать лекции стоя… Однако же училась и даже считала себя счастливой! Одиннадцатого ноября — в день независимости Польши — евреев в аудитории эндэки не допускали вообще. Но ведь были надежды на лучшее, была любовь! Мы жили… Что еще нужно?
Верно, были предрассудки, наивность. Отец не хотел и слушать о нашей свадьбе. Считал, что сперва должна выйти замуж старшая сестра. Да и ты «капцен», «апикерас»[1], как он говорил… А мы взяли и — ровно это не касалось нас! — записались у казенного раввина. Посмеялись над традиционным балдахином, съели принесенный тортик, пригубили рюмки — и все. Говорили даже, что получилось здорово…
Тебе запретили учительствовать за вольнодумство. Лишили постоянной работы… Но подумаешь! Зарабатывать можно и на декорациях, на рекламах, на этикетках для конфетной фабрики «Фортуна». Ты же художник!..
А я? Что я? Я радовалась каждый раз, когда возвращалась из школы и ты встречал меня у Зеленого моста. Отнимал портфель, а потом и самое на руках нес на третий этаж. Нес и заливался смехом: «Не можешь выше — бери ниже…»
Все, конечно, помнится… Помню, и как ты, когда кто-нибудь из женщин пробовал флиртовать с тобой, сразу вынимал из кармана фотокарточку и показывал: «Это моя Сара…» Первый сборник стихов так и подписал — Бер Сарин. И первую дочку, настоял, назвали Ализой — радостью.
А что уж говорить, когда после освобождения Западной Белоруссии переехали в Лиду… Стало так хорошо, что шевельнулась тревога. Я — в школе, ты — в районе. Пишешь картины, закладываешь фундамент краеведческого музея. Приветствовал самого Купалу, баллотировавшегося по нашему округу. Собирался писать портрет Сайчика. «Какое лицо, фигура! Настоящий белорус, революционер…»
И вот обрыв. В какую-то страшную прорву, в омут неожиданных событий, расставаний, встреч… Но мы и тогда остались неисправимыми. Даже когда попали в минское гетто с Ализой и Сонечкой на руках.
Признаться, меня немного беспокоил этот оптимизм. Услышим в полночь гул самолета — наш! Бесспорно, разведка, и, значит, жди наступления… Передали, что через станцию проследовал санитарный состав. «Ага! Значит, бьют их. И, значит, вскоре покатятся голубчики туда, откуда явились…» Ты даже взялся коллекционировать приказы и объявления, вывешиваемые в гетто: «Передам судебным органам. Лучшее вещественное доказательство!» Когда я промолчала в ответ, удивился, сказал: «Ну, чего ты? К чему паника! Давай уж до конца будем вести учет злодеяниям, совершенным врагами».
Душа подсказывала, что события более грозные, опасность более страшная. Но я не возражала — боялась, не малодушие ли это с моей стороны, не страх ли за детей говорит во мне. Хотя и не могла понять, как ты можешь, живя в кривобокой халупке, в тесноте и голоде, под вечным страхом смерти, нося «латы»[2] невольника, собирать по вечерам детвору, рассказывать ей разные сказки и, выделывая манипуляции, показывать на стене тени разных зверей и птиц. Ибо, прости, доброта твоя, стремление жить, будто все наиважнейшее в завтрашнем дне и все идет, как должно идти, выглядели наивными.
Тебя не выбила из колеи сама Сонечкина смерть. Когда я завернула дитятко в чужой рваный платок и по Сухой улице понесла на кладбище, ты не забыл даже прихватить кусок доски, чтобы выкопать ямку. А потом… чтобы не оставаться с глазу на глаз с горем, пошел собирать детей…
И вот, вспомнив это, я решила объясниться с тобой, пойти сюда, к Сонечке. Прийти, лечь на холмик, обхватить его руками и высказать тебе все-все, излить душу… Но когда пришла, растерялась — ни холмика, ни того места. Все перекопано и перерыто. Даже разбросаны каменные плиты со старых могил. И рвы, рвы… Перемешалось и то, что надумала сказать тебе…
Ага!.. После Октябрьских праздников, когда гестаповцы провели первое «сокращение гетто», уже не было ни одной семьи без жертв. Двенадцать тысяч! Земля в Тучинке стонала, пока танки с красно-белыми кругами трамбовали ее. А мы?..
Мне и теперь многое неясно. Что, например, кроме как копать тайники-«малины» да создавать подпольные группы или, как ты, составлять списки гитлеровских преступлений, можно было еще делать? «Если враг задумал уничтожить тебя, борись за свою жизнь — это тоже борьба с врагом», — сказал ты. Помнишь?.. «Если трудно отомстить сейчас, делай так, чтобы отомстить потом…» Но разве это соответствовало событиям, происходящим вокруг? Не слишком ли много мы думали о своей жизни и слишком мало, чтобы как можно дороже продать ее? Откуда взялась надежда, что все еще может и без наших усилий повернуться к лучшему? Откуда взялись люди, которых вдруг прельстили разглагольствования этого Эпштейна с биржи труда: «Настоящих евреев больше трогать не будут». Ха! «Кончится война — их переправят в Палестину!»
Нет, нет, я, кажется, сама не знаю, что говорю. При чем здесь ты? Если бы не было веры, стремления жить, отомстить после, не было бы ничего. Нельзя враз, по взмаху руки, создать подполье, поднять людей, повести за собой! Таких чудес не бывает!
Однако же были и другие люди. Например, Гебелев с его готовностью к неожиданностям. С его мужеством, умением жить для борьбы.
Он, Мойша, видел дальше… Иногда я даже рассматривала его — хотелось понять, в чем его секрет. Лицо как у многих. Разве только открытый лоб, строгие, сосредоточенные глаза… Но, видимо, в этой вот зоркой строгости, в нацеленности его и заключалась разгадка. Теперь для меня бесспорно, что именно он в главном и определил новое направление… То, что мы начали объединять подпольные группочки, налаживать связь с окружающим, его заслуга. И позже его можно было встретить всюду — и в подземелье комсомольцев, и на «радиостанции», и на Юбилейной площади у юденрата при отправке подпольщиков в партизанские отряды.
Помнишь? Все подтянулись, занялись своим. Ты сел за подготовку нужных документов. В лесные районы пошли группы. Мы взялись шить теплую одежду, маскхалаты, рукавицы с двумя пальцами…
А Эмма Родова с ее талантом конспиратора и сердцеведа? Скольким скептикам она вправила мозги, возглавляя тройку комсомольских агитаторов! Забывала о себе. Сердилась, когда ей приносили хлеб из юденратовской столовки. Хотя во рту и не было ничего, кроме картофельной кожуры… Хочешь обидеть — спроси, выполнила ли она поручение… Ты ведь сам знал это…
Только благодаря таким людям в юденрат, на биржу к Эпштейну, в рабочие колонны были засланы свои люди. На кожевенном заводе, на швейной фабрике, на обувной стали портить кислотой кожи, мануфактуру. На ликеро-водочном — спирт. Выносили полевые телефоны, подошвы, теплое белье.
И все-таки скажу: мы и половины не сделали бы, не побывай у нас посланцы горкома, Сайчик со «Звяздой». Как можно этого не видеть. Все ведь стало таким и не таким…
Нет, я не упрекаю тебя. Тебе досталось тоже тяжелое — тюрьма. Теперь я увидела: ты выбрал ее сам, хотя и подтрунивал над собой. Почтальон, дескать. «И к тем, и к этим в доверие втерся. Тюремщиков, мол, рисует. Любят они, как и всякие деспоты, позировать и увековечивать себя». Добился — в «полезные евреи» зачислили. Старшим в колонне назначили… Бедный ты мой! Хороший мой! Разве этим тебе заниматься? Какой ты актер? Война, получается, не только жертвами страшна…
Нет, нет, снова пойми меня правильно. Ты свое делал! Ой, как важно будет после к позорному столбу поставить нелюдей!.. Но я хочу об ином сказать.
Человек в жизни через многие испытания проходит. Но не каждое из них проверка ему. Да вот есть одно испытание… Неумолимое, как говорят. Это — когда ты перед смертельной опасностью решаешь, как дальше быть. Тогда цена твоя как на ладони. Смерть не перехитришь, не подкупишь. Здесь или так, или этак. Нет середины, и некуда отступать… Над многим ты заставил тогда задуматься, дорогой!
Так вот. Ты знаешь, о мартовском провале нас предупредила городская разведка. Да и от юденрата был затребован список на пять тысяч человек. Будто бы для отправки на срочные работы. Но включать в него людей, работающих на предприятиях, запретили. На вопрос, а можно ли вносить в список стариков, ответили: «А почему же нет?..»
Это ты знаешь, даже записал у себя. Но вот не знаешь, что было дальше. Когда на сборный пункт пришла лишь горстка доверчивых, эсэсманы бросились по домам. Хватали без разбора — всех, кто попадал под руку. Взяли сирот и воспитательниц из детского дома… А когда не хватило и с ними, гаулейтер приказал покрыть недобор из рабочих колонн.
Мойша, Мойша! Пусть бы, конечно, лучше этого не было. Пусть!.. Но что тогда получилось бы? Я сама, прости, прокляла бы случившееся: почему тебя черный год не взял раньше? Почему по нашим законам камнями не забросали? Я пугала бы тобой Ализочку. Врагам желала бы твой позор… А так, представляя, как ты держал себя, полнюсь гордостью. И хотя сердце обливалось кровью, хотя не хотелось жить, я благословляю твой поступок. Долгов за тобой не осталось!..
«Вахман, отпусти его! Это полезный еврей. Кюнстмалер!» — «Слушаюсь, господин начальник. Выходи, юден!» — «Выходи, Мойша, ты сегодня перебудешь здесь, в безопасности». — «Не могу, господин начальник тюрьмы». — «Что-о?» — «Я выйду, если вы отпустите вместе со мной и других…»
Тюремщик показывал свою власть и волю. Ничем не рискуя, думал только о себе. А ты ставил на карту жизнь. Ему хотелось, чтобы был окончен его портрет. Тебе же нужно было остаться самим собой и спасти осужденных. И это зная, с кем имеешь дело!
Мне рассказывали, как они били тебя после этого, как впихнули назад в колонну и погнали на товарную станцию. Однако — вот человеческая слабость! — надежда, как и у тебя, не хотела исчезать. Только когда услышала разговоры о Старицком лесе, увидела на полицае твою кубанку, поняла: по-о-ги-иб! Я рвала на себе волосы, билась о стену. Оторвав «латы», вышмыгнула из гетто. Добежала, поверишь, до самого Фаниполя, и никто не остановил меня, простоволосую, безумную. Хватало вокруг, видишь, горя и без моего. Горе, Мойша, было всенародным…
Нет! Снова все перемешалось в моей голове. Я собиралась сказать тебе совсем не об этом… Расстреливали не только в Старицком лесу. Рабочую колонну, которая входила в гетто по Шорной улице, остановили перед воротами. Ожидая дальнейших распоряжений, заставили лечь на снег. По тем же, кто бросился в гетто с надеждой спрятаться в тайниках, открыли огонь. Стали убивать и тех, кто лежал на снегу. А назавтра гестаповские полицейские с гамбургскими евреями принялись подбирать трупы. Так что на кладбище вырос еще один длиннющий, извилистый вал…
Потому-то я и не нашла холмика, под которым лежала наша Соня, и поднялась на эту извилистую могилу. Стала на колени. Как-никак, но погиб ты в один день с ними…
Нет, прости, я и в этот раз говорю не о самом главном…
Когда немцы потребовали список, Эпштейн предложил юденратовцам включить в него стариков и детей: «Нам не на кого надеяться… А здоровое, молодое всегда понадобится». После же расправы на Шорной совал всем фиги, хлопал себя по лбу и дул на поднятую вверх ладонь, показывая, что всякие иные мудрствования как спастись — бессмыслица. «Ну что? — морщил нос. — Спаслись? Перехитрили? Думали, кто заступится, поможет?.. Но ничего, ничего, это тоже пригодится. Кровь заставит заботиться о себе, подскажет, во что верить…»
Правда, трудно было ожидать иного от воспитанника тарунского «Бейтара»[3]. Но чтобы стать людоедом? Работорговцем?.. Шеф гетто организовал что-то вроде гестаповской службы безопасности — пусть свои выдают и уничтожают своих. И Нохим Эпштейн, безусловно, был тут как тут. Знал, что самой преданнейшей собаке самый вкусный кусок.
Как это назвать, Мойша? Выгадывать что-то на жизни и смерти людей! Плевать на святое, чтобы подняться над другими и добиться своего!
Завоеватель, безусловно, враг. Его, конечно, надо изобличать и бороться с ним. Но разве меньший враг вот такой изверг, торгующий тобой? Который смотрит на тебя как на глину? Учитывали ли мы это? Не боялись ли лишних жертв? Словно там, где все осуждены, могут быть лишние и не лишние жертвы. Угроза смерти, что нависла над каждым, как бы уравнивала нас… Нет, Мойша, она и размежевывала нас!
Теперь и о главном… Я попросилась на твое место.
Немцы, будучи и тюремщиками, склонны к педантизму. Нежданно-негаданно им взбрело в голову замостить тюремный двор — порядок должен быть во всем. И я стала подносить мостильщикам булыжник. Затем устроилась в пошивочную мастерскую, потом в прачечную. Надрывалась и тем временем, как и ты, собирала сведения о зверствах, охране. Но… Но и о доносчиках… Удалось даже выявить тех, кто получал паек в тюремной кладовой, не служа нигде, и передать списки Марии Черной, приходившей из города будто бы в пошивочную…
Мартовский погром заставлял торопиться. С горкомовскими проводниками отправляли новые партии. Посылали и без проводников — под видом едущих заготавливать дрова, торф, чтобы подбирали места и для гражданских лагерей. Михел Гебелев нашел способ переправлять детей в белорусский детдом. Чтобы отвести беду от близких, беглецов вычеркивали из учетных книг как покойников. Их семьям помогали из пожертвований специалистов.
Но и шеф с комендантом не дремали. Усилили охрану гетто. Кроме желтой «латы» приказали носить номер своего дома. По воскресеньям ввели «переклички». Около проволочной изгороди, по улицам, на Юбилейной площади, где, прежде чем идти на работу, собирались люди, стали шнырять подручные Эпштейна. Я говорю об этом, чтобы ты понял меня…
Недавно они выследили Гебелева. Были дни, когда он по нескольку раз ходил в город. С документами на имя Русинова, со столярным инструментом под мышкой проберется к проволочной ограде, переоденется в развалинах — и ищи ветра в поле. Тогда он тоже нырнул в развалины. Но едва успел снять рваный пиджак с «латами», как оказался в руках новоявленных гестаповцев.
Пришла очередь и Ализочки. Соседке сделали паспорт на украинку. Вписали ее сына, Ализу. Оформили прописку в городе. Я выкупала дочушку. Пролежала с ней ночь, обнявшись, и отправила… на смерть — начался новый погром…
Выпустив колонны рабочих, гетто оцепили. Прислужников, ха, заперли в помещении юденрата, приставили охрану. Вот честь!
Три дня тянулась бойня. Сгоняли людей на площадь, грузили в машины. Больных и старых расстреливали на месте. Сарайчики, халупы, где, по их мнению, мог кто-нибудь прятаться, забрасывали гранатами. Потом пустили собак-ищеек. За ними — подручных Эпштейна. Те заходили в дома и по-еврейски кричали спрятавшимся, чтобы вылезали из «малин». Погром, дескать, кончился, и вернулись рабочие колонны… Вот до чего дошло!
Признаюсь, жизнь как бы потеряла смысл. Ты погиб, погибли дети, я одна… Ни дома, ни родных. Мало уцелело и товарищей, с кем начинала подполье.
Однако у человека есть прошлое. Да и несет он в себе какой-то свет. Наверное, для будущего. И пусть вокруг кромешная темень — ни огонька тебе, ни звука, — свет этот напоминает: я есть, предостерегает о беде, не дает принять беспросветность.
Я ходила сама не своя. Единственное, что связывало меня с жизнью, было подполье — центр уцелел. А если бы нет? Страшно подумать! Мог бы погаснуть и свет, который наперекор всему еще теплился. Даже сознание, что необходимо отплатить врагам, я чувствую, привело бы к какому-нибудь дикому поступку. А то и того хуже: в отчаянии стала бы проклинать жизнь, людей, себя — все. Восстала бы против всего на свете.
Нет, Мойша, последнего, видимо, уже не могло случиться. Я… полюбила и, кажется, как Эмма… Горе, горе!.. Она тоже попала в руки палачей. Но почитал бы ты ее письма из тюремных застенков, написанные с раздробленными при допросах ступнями!..
Но подожди!.. Я сейчас кончу… Дело в том, что из отряда Буденного пришло задание — утихомирить предателей. Требуют командование и беглецы из гетто. Чтобы не вызвать дополнительных репрессий, центр решил выманить некоторых из них в лес. Пусть сами убедятся, что безнаказанного предательства не бывает.
И вот — не страшно произнести и это — я на бирже труда.
Сам Эпштейн доволен мною. Ему, видишь, импонирует, что я «западница», знаю готический шрифт, древнееврейский язык. Ты, наверное, не одобрил бы моего риска, а может быть, и всего нашего замысла… «Разве это главное?» — спросил бы. Да, да, Мойша, и это главное!..
Пусть не обижают тебя мои слова… Пришла сюда, начала исповедоваться, и кажется, что жизнь моя начиналась не в Вильно, где родилась, встретилась с тобой, полюбила… Даже не в Лиде. Хотя там впервые и стала свободной, почувствовала, что работа, семья — счастье…
Нет, нет! Теперь я знаю: она начиналась здесь. В этом гиблом месте, где я потеряла самых дорогих. Где пережила минуты, трагичней которых не выдумаешь, но где осознала себя частицей других.
Повезет мне или нет? Кто знает… Но клянусь, хочу прежде всего одного — чтобы хватило сил и ловкости осуществить задуманное и попасть к лесным товарищам.
Ты умный и добрый. Прости и прощай! Ты всегда останешься со мной… Теперь вот, кажется, сказала все.
СТОН
попытка остановить мгновение
Ы-ы… Неужто, когда я свернул в развалины, он запустил в меня булыжником? От злости. Оттого, что подвела выдержка. А может, просто чтобы повалить на землю… Держись, Володя! Держись, Омельянюк! И давай вон за угол той обшарпанной коробки. Ну! Ну!
Он, конечно, следил давно. Может, с самого утра. И тогда, когда я отправлял людей в отряд, и тогда, когда грузовик уехал, а я направился в аптеку… Ай-яй! Там ведь, в подвале, паспорта, шрифт, медикаменты… С гаком хватит, чтобы повесили и славного провизора, и его любовь…
А этот явно выдал себя лишь, когда спохватился, что может упустить меня. Когда сдали нервы у сволочи!
Кто он? Немец? Сынок белогвардейца? Наш отщепенец? И как выследил? Снова что-то недосмотрели? Или опять измена?
Стоп! Думай, Володя! Думай, Омельянюк! Может, он еще не успел передать своим хозяевам о грузовике и аптеке…
Исай Казинец смеялся, когда говорили, что есть предчувствие. А оно есть… Как он называл меня? Тузенбахом. Чеховским Тузенбахом. Нет, это я говорил, что работаю под Тузенбаха. Подшучивал надо мной и Геннадий. Но как спокойнее было бы, если б Гена оказался сейчас со мной. Вдвоем бы мы нашли выход и обсудили все подробно. Однокашник ты мой, друг ты мой закадычный и рассудительный! Есть в тебе этакая пружина, которая держит тебя во всегдашней форме — трезво решать и трезво действовать.
Скажи-ка мне, пожалуйста, дружище: не слишком ли рисковали мы? Не слишком ли были увлечены одним? Ежедневно. С самого начала.
Помнишь приемник? Помнишь, что в квартале немцы не жили и его отключили от электросети? И уже тогда, с первых шагов, пошли напропалую — ночью провели линию, подключили к радиозаводской. Свою линию! Под носом у немцев! А приемник-то нашли где спрятать? Под этажеркой. Завесив шторкою. И слушали конспиративные передачи, лежа на полу. Вот она, какая конспирация!
Стоп, стоп!.. Не хитри сам с собой, Володя! Не подбадривай себя «Цэ ж було та за водою пішло», — как говорит мама… Бедная ты моя мама! Не придется ли тебе опять страдать и мучиться, как тогда, когда полегли наши под бомбами у Замбрева?.. Нет, нет, хоронить себя рано еще! А вот оглянуться назад стоит. Тот не человек, кто оценивает только чужие поступки. А что, если вдруг беда начиналась с тебя самого?
Ну-ну!.. Вспоминай, Омельянюк! Разбирайся. Да построже, построже… Ну, так… Пришли Вороновы. Так-так. Два Михала — сын и отец. Ты их, Гена, конечно, также отлично знаешь. Электромонтер и начальник печатного цеха. Появилась «домашняя типография» на Шорной. Сыпанули листовки, сводки. Продуктовые карточки для подпольщиков. Как и положено… Хотя и не те желанные габариты. Не газетные…
Но река ведь и та начинается с ручейка. Как и ожидали, нашлись еще ребята… Свиридов, Борис Пупка… Эх, Борис, Борис! Не случайно ты был черный, как жук… Он, Гена, из Лиды. Как только началась война, сразу рванул на восток, но под Минском попался. Загнали в Дроздовский лагерь, оттуда в тюрьму. А когда понадобилась полиграфисты, перевели в Дом печати. Жил в комнатушке рядом с ротационным цехом — ни рабочий, ни заключенный. Даже подтрунивал над собой… Нет, Омельянюк, здесь, видимо, пока все в порядке…
Правда, дальше дела усложнились. Открылись две возможности. Мы еще спорили, Гена, с тобой, когда ты пришел из своего Держинска. Помнишь проблему? То ли расширять «домашнюю типографию» и тем временем создавать резервную, настоящую, то ли, как предлагал осторожный Воронов-старший, набирать газету в Доме печати, а печатать у него в доме? Вспомнил? Комитет склонился к последнему — так было быстрей. И правильно.
Ибо в самом деле — как ты будешь ждать, если вокруг горлопанят, атакуют и немцы, и их подпевалы? Самым ходким словом сделали «капут».
К тому же в Доме печати вахманы стояли только у ворот и главного входа. А внутри даже не охраняли… Хотя, правда, на втором этаже шеф с семьей жил. А на четвертом — чернорабочие-военнопленные с охранниками. Но все же представляли, что за махина этот Дом. Так что при определенных мерах предосторожности набирать по ночам можно было свободно. Особенно в небольшом складике для шрифтов… Ну, и началось… В домик Вороновых, как по конвейеру, пошли гранки, зажимы, верстатки, типографская краска, ручные валики, бумага. Даже перевалочный пункт организовали…
А как работалось, дышалось! Неизвестно, откуда и силы брались. Часами с наушниками сидели. Встречался, разумеется, и с партизанскими связными. Расспрашивал, пока не начинали просить — хватит. Целую кипу блокнотов исписал.
Однако, Гена, рядом вырастала и беда…
Ы-ы!..
Нет, Омельянка, это не камень. Слышал, как грохнуло? И дальше ты, вероятно, не побежишь… Прислонись к стене вот. Плечом, плечом. И думай, думай! Только так можно пересилить слабость. Держись, думай и следи. У тебя скорее всего остается одно — встретиться с ним лицом к лицу и стрелять. Он, безусловно, появится вскоре…
Наверно, из тех, что нанялись недавно. Вишь, как старательно вел… Трусливый до измены, такой после чаще всего из шкуры лезет, чтобы выслужиться. И не только потому, что боится новых хозяев. Нарочно разжигает себя. Все делает, чтобы продемонстрировать свои способности перед самим собой.
Помнишь метаморфозу «троицы» из Военного совета, с которой ранней весной начался провал?
Амбиция, бравада. «Не прятаться, а воевать нужно!» Действовали, словно играли в войну и в военных. Совещания, дежурства в штабе, приказы… О, как возмущался, Гена, Казанец, когда узнал о первопричине! «Засыпались, сукины дети!..» А как провалились, сразу скисли. Стали тыкать пальцами друг в друга, а потом и в других… Выдали Зайца, Семенова… Душа щемит от омерзения. И, пожалуй, не меньше, чем от опасности, что надвинулась на нас вновь…
Вспомни Жудро, Сашу Макаренко. Комиссара «Четыреста пятого»! Примчался из леса, чтобы спасать нас. К ним, оказывается, тоже пробрался один из «троицы» — послала СД. И когда поднажали на него, упал на колени, признался, назвал остальных.
Второй такой слизняк — откуда только ухватка взялась! — привел эсдековцев на квартиру к Жудро. Прежде чем стрелять в запертые двери, убеждал: «Васек, открой, свои! Саша, скажи ты ему!»
Второй этаж, единственные двери… Прыгнули в окно. Саша вывихнул ногу. И можно представить, как он отступал, как отстреливался! Целые сутки валялось его тело на Беломорской улице. Ждали — а вдруг кто-либо подойдет, а вдруг кто-нибудь станет сочувствовать, горевать… Жудро же посчастливилось больше — Саша отвлек внимание на себя. Но при перестрелке в комнате ранили и Василия. Правда, мама с подругой спрятали его в надежном месте, да обнаружилось, что раны тяжелые. И, хотя было поздно, переправили в больницу. Но и туда, уже к мертвому, привел слизняк своих хозяев… Вот какая активность у таких!..
Ох, до чего жалко товарищей! И, может, сейчас сильнее, чем тогда, когда слушал маму, принесшую эту горькую весть. Может быть, сильнее, чем и тогда, когда, ища слова, писал о их гибели, бегал по своей комнатушке, как одержимый. Вот и сейчас, кроме всего, возмущает: гибнут самые лучшие, а такая вот дрянь пока живет. И если выберусь отсюда целым, потребую… Под солнцем нет места таким. Борьба идет во имя светлого! И нам предопределено истреблять дикарей…
А где же шпик? Спрятался и наблюдает? Неужели оказался хитрее, чем думалось, и разгадал мой план? Непонятно только, почему не свистит до сих пор? Наверно, надеется, что в панике наделаю глупостей, кинусь прятаться куда-нибудь к своим. Ему невдомек, что могут помешать и развалины… Но почему он не засвистит и сейчас? Думает справиться сам? Не хочет делить успех?.. Ну ладно, посмотрим…
А как тошно на душе! Как обидно! Недавно в облаву попал и отец. Не уберег и его… А ведь не так давно отправлял партию за Держинск. Подбирал по одному, думал о каждом, а об отце-то и не подумал… Эх, ты!.. И только сейчас припомнил, что лицо у него уже белело от старости. И сообразил: слишком многие знали его в городе…
И представляешь, Гена, как все это происходило? Мы сидели за предпраздничным банкетным столом, а эсдековцы в ту минуту волокли его в машину… Мы шутили, анекдоты рассказывали. Напевали «Заповит», «Орленка», а его уже истязали в застенке… Утром мы слушали по радио праздничную передачу из Москвы, коллективно записывали первомайский приказ, а отец, потерявший сознание, распластанным валялся на голых нарах.
Хорошо, что у борьбы свои законы. Кровь, пролитая за справедливое дело, укрепляет его. А погибший становится совестью и советником живых. В этом кроме всего залог и того, что все движется вперед.
И признаюсь, когда горком поручил мне написать письмо Центральному Комитету, это именно и утешило меня. Помнишь, когда ты зашел тогда, а я метался по комнатушке?
Помнишь, как мы клялись тогда от имени минчан, что белорусский народ был и останется верным дружбе советских народов? Что он гордится трудом своих побратимов в тылу, их мужеством на фронте… Заверяли — и там, на свободной земле, они могут гордиться нашей борьбой. Вспоминали Жудро, Макаренко… И опять клялись: мы с честью пройдем сквозь невзгоды. Так было, так будет!..
И хотя приближался новый черный день, когда в скверах и на базарных площадях вновь готовились вешать наших, стали собирать подписи. Тысячи подписей. И собрали…
Стоп, Омельянюк! А не здесь ли ошибка? Нет!.. Потому что иначе было нельзя. Знаешь — рискуешь, но все равно идешь на риск, ибо нельзя иначе…
Однако почему так летят мысли? Почему подкашиваются ноги? Тянет земля? Развалины словно покачиваются, и солнце жжет глаза. Косматое, слепящее!.. Крепись, крепись, Омельянюк, чего бы это ни стоило. Ибо в противном случае как ты достанешь из кармана пистолет? Как будешь стрелять, если грохнешься на землю? Ты ведь обязательно тогда на миг станешь беспомощным. А потом… если даже и удастся вытащить «ТТ», шпик — это видно по всему! — просто-напросто наступит на твою руку. Небось вышколенный, исполнительный. А раз наступит, ты в его власти. А самое обидное — его не обезвредишь уже…
Подожди, что я хотел додумать? А! Где просчет? Кто мог продать? Что нужно нам иметь в виду?..
Так, так… Возьмем опять хотя бы «Звездочку». Правда, горком торопил меня. Но все же шло по плану. Законник Вася Жудро еще раньше обосновал: «Правильно, «Звязда»! Пусть светит, как и светила».
И вышла ведь! Увидела свет! Название, чтобы сильней бились сердца, набрали довоенным шрифтом. Рядом дали: «Товарищи! С сегодняшнего дня… пишите!..» О-о! Затем передовая «Шире борьбу!», «Вести с фронтов», «Партизанские новости». И, само собой разумеется, юмор — живем, дескать, и не кашляем!..
До последнего дня не забудется ночь, когда вычитывал корректуру. До последнего дня?! Мама плакала от радости и гладила меня, как бородатое диво. Ребята обнимали…
Но зачем, как и прежде, за мной оставался Держинск?.. Чтобы по-прежнему был в гуще событий? Не знаю… Хотя… Сейчас уже и в этом можно признаться… Я любил эту «нагрузку»… Сколько мне? Двадцать пять. Не так уж и много. Но я молодел, Гена, когда направлялся к вам…
Когда я последний раз побывал в нашем Дзержинске? В начале месяца? Так? И, веришь, выбравшись из минских развалин, захмелел прямо-таки. Над головой небо, облака. На край света шагают столбы. В жилах придорожных берез сок. У одной, наклонившейся, надрубили комель, и между корней ее, прикрытый еловыми лапками, стоит выщербленный горшок с узким горлышком… А за березами? Просторы открытой воды! И там, где мелко, цветет калужница. Желтые цветы ее, как мотыльки, которые вот-вот вспорхнут. Правда ведь? Через день-два лопнут набрякшие почки, зеленоватое облако окутает деревья, и по перелескам покатится зеленый шум.
Каюсь, Гена! Я свернул с дороги к пеньку, нахлебался тогда чужого холодного сока… Сидел ослепленный окружающим светом, оглушенный птичьим щебетом. Нежился, пока не спохватился и не заставил себя «проголосовать». Ехал дальше, признаюсь только теперь, в кузове с веснушчатым вахманом.
Но что со мной? Я и сейчас, кажется, пьянею и… падаю. Падаю, Гена! Ничком, не закрывая глаз… И почему нет боли? Лишь горячим обдало грудь… Смогу ли я хоть шевельнуться?
Стоп, Омельянюк! Держись, держись! И не забывай о том одном, что осталось… Ибо факт — виноват кто-то из тех, кого отправляли в лес. Привел за собой «хвост» или выдал… Да и сам ты, Омельянюк, упорол ошибку. Стоял, наблюдал со стороны, все ли идет гладко, а потом растрогался и помахал на прощанье товарищам в грузовике. О, как необходимо, крайне необходимо передать обо всем этом… И это когда против нас целая вымуштрованная свора…
Хотя… Подожди!.. Гляди правде в глаза!..
Мог ли спастись, скажем, Семенов-Жук? Мог. Когда они появились возле ворот, он уже бежал по коридору. Сердобольная соседка, схватив за руку, почти насильно втянула его к себе в квартиру. Из тайника он вылез, когда поднятая в доме суматоха уже улеглась… Но не сдержался — потянуло глянуть в окно из-за занавески. Посмотрел и встретился взглядом с эсэсманом, тащившимся по тротуару сзади всех.
А Казинец? Сам Славка, всегда собранный, как пружина? Осторожнейший из осторожнейших. Разве ему надо было ввязываться в историю с Лялей? Или идти на явку с партизанской проводницей, когда в городе облавы и повальные аресты? Когда, наоборот, нужно было притаиться, как требовал сам от других. А вот взял и пошел… И шагнул уже не в сени, а в тюремный застенок…
А Пупок?.. Правда, выручил шеф. Помнишь? Ценил Пупка за сноровку, опыт — тот умел набирать и по-белорусски, и по-немецки. Выручил! Да не от случая, не от себя… Когда назавтра его подруга по подполью через дыру в заборе вывела Пупка на Тихую улицу, он вспомнил, что забыл пиджак… Вот не было больше беды! Но как ни умоляла женщина, не послушался, вернулся. И, разумеется, влез в западню… А подготовка восстания? В ней же наша сила, но и наша слабость…
Что все это такое? Просчеты? Лихачество? Безответственность? Возможно… Но не вернее ли, Омельянюк, что это — борьба? Ее эпизоды. Свидетельство — человек прежде всего создан для труда, а не для войны. Он живет миром. И если воюет, то для того же мира… Разве мы не учились воевать? Учились не раз. Но каждый раз наново…
Держинск!.. Неужто это было, Гена? Были красный галстук, комсомольская работа, институт журналистики, Дружба с тобой…
Что ты делаешь сейчас, кижевец мой? Готовишь листовку? Очередную операцию? Или тайно на велосипеде подался в недавно созданный отряд? Мо-ло-дец!.. Когда я старался представить себе чистую, трудолюбивую семью, я всегда вспоминал вашу. Честное партийное. Очень уж легко дышалось у вас, очень хорошо думалось, и самому хотелось быть лучше. Неспроста мой сын — твой тезка. Не случайно вокруг тебя сплотились ребята из «Штамповщика». Врастай, врастай, Гена, в рабочих! Они подскажут, как и что делать. А если придется туго, укроют… Вспомни, как они слушали рассказ о событиях в Минске. Как после в вашем саду глядели на звездное небо, услышав гул «Ил-4», идущих на бомбежку…
А помнишь, как ахала твоя мать?.. «Володечка» да «Володечка»! «Проголодался, конечно, голубок!» Как обняла меня, потянула к столу, подтрунивала над отпущенными усами и бородкой. Как убивалась, узнав обеде с батей. Успокаивала — все обойдется еще, будет хорошо…
Меня всегда занимало в сказках, как, желая узнать, далеко ли погоня, беглецы бросаются на землю и прикладываются к ней ухом. Как-то случилось, что я не проверял, слышно так что-нибудь или нет. Слушал, как гудят телефонные столбы, как подрагивают и гудят рельсы, когда приближается поезд, а землю не слушал. Сейчас же хочешь не хочешь — слушай. И чудо!.. Я ясно слышу шаги! Кто-то бежит ко мне. Вот он споткнулся. Ближе, ближе… Даже не один. А два, три. С разных сторон… Кто-то из них, безусловно, тот. Кто остальные? Друзья? Враги? И кто из них подбежит первым?…
Нет, зачем обманывать себя? Кто бы они ни были, спасения, Омельянюк, нет. Помнишь, говорил Казинец: «Можешь — борись! Не можешь — не пятнай в себе человеческое, умирай».
Но тяжело принять одиночество и темноту. Нелегко распрощаться с друзьями. С солнцем! Под ним и боль не боль… Обидно: есть… были еще силы. Душа жаждала борьбы. Мерещатся книги, написанные честно, душой… Горько: новое горе добавится маме. Потеряла дочь, внуков. На дорогах войны потерялась моя Лида с Генкой. Замучили в застенках батю. Погнали в Германию брата. Погибаю и я… Одна осталась из большой семьи… Жалко, что не твоя будет и «Звездочка»…
Нет, Гена, мы все-таки были иногда наивными. Но… Но не знаю, сделали бы мы больше, если бы были иными.
Ы-ых!
ЦЕНА РАДОСТИ
рассказ
Ну, ну, смелей, мальчик! Этому учиться не надо. Вот так. Правильно, дорогой! Ты думаешь, мне не щекотно? Щекотно, мальчик. Но, ой, как приятно, что ты сопишь у сердца. Вяленький, тепленький. Что мое молочко течет в тебя струйкой. Ну, кушай, кушай, милый!
Тебе и невдомек, как это связывает нас. Что ты с каждым мгновением делаешься все дороже для меня. Хоть, кажется, куда уж?
Видишь, как хорошо?.. Давай поговорим немножко. Скажи-ка вот, например, мне, кто нас запишет? В какую книгу? Как будут писать? Ну, понятно, отец, мамка. Это есть. Найдем и крестных. Но где тот загс? В штабе? Как заполнишь графу «место рождения»? Неужели лесной лагерь? Вот здорово! Один будет хвалиться: я москвич. Другой — я гомельчанин. А ты как скажешь? Лесовичанин? Ха-ха-ха!
И вообще… Когда ты родился? Тридцать первого? Нет, лесовичок мой, этим днем я тебя записывать не могу. Придется сказать, что родился в ночь на первое января сорок третьего. Вот как. Потому что кому нужно, чтобы из-за нескольких часов ты старшим на целый год стал? Мы с тобой опытные уже. Недаром столько пережили. Так, лесовик?
Эдик, подойди, взгляни на сына! Он же вылитый ты. Честное слово. Так же и гримасничает, когда что-нибудь не по нему…
Ну, на первый раз хватит. Переешь еще. Видишь, отрыгиваешь. Дай платочек, Эдя, он на твоих нарах, под подушкой, и бери своего анику-воина. Да осторожно. Хватит, и так испытал, почем фунт лиха. Глянь только, не дует ли в окошечко. Стекла будто в сказке о снежном царстве — изо льда.
Чего ты проснулся чуть свет? Неужели уже есть захотел? А может, мокрый опять? Давай перепеленаю.
Сейчас это пока самое важное для нас. И тихо, тихо! Не разбуди папку! Проснется — атата даст. Он только что с задания вернулся. Чуть ли не под самый Минск ходил. Устал, измотался совсем.
И-и, мальчик!.. Сегодня утречком комбриг заходил. Когда рассказала ему о разговоре с тобой, хохотал. Говорил, что ты лесовик, понятно, но не чистокровный. Так как жить начал в городе и там боевое крещение принял…
А загс что? Мы с твоим отцом перед весной поженились. И тоже без всякого загса. Даже поначалу в разных местах жили. Я в деревянном домишке за колючей проволокой, а он с твоей бабусей за несколько кварталов от меня. На Беломорской улице… Горемычная это улица, мальчик! О ней целую историю можно написать. Как и о Дроздовском лагере. Хоть тот и просуществовал всего с месяц…
Твоя мамка с папкой учились тогда. В Политехническом институте. Три курса кончили. Мало чего и замечали вокруг себя. Стипендию одним отличникам давали, ну, и гнали «пятерки». Война как гром среди ясного неба для нас загромыхала. Меня с однокурсниками на аэродром заравнивать взлетные дорожки послали. А папку твоего — ловить немецких десантников. Много их, переодетых, сбрасывали. У парка Челюскинцев, неподалеку от аэродрома, вокруг города.
А вскоре и танки немецкие ворвались… Наших хлопцев вместе с другими мужчинами в концентрационный лагерь засадили. В тот самый Дроздовский… Расстреляли Изю Махлиса — был среди нас такой весельчак, балагур. Те, кто русые, с голубыми глазами были, стали с товарищами паспортами меняться, чтобы их застраховать…
Нам, девчатам, больше повезло — мы на свободе остались. Я, Вера Романовская, Нина Голубенко в разбитом хлебозаводе нашли тесто. В искореженных цистернах на железнодорожных путях — постное масло. Принялись печь преснаки. Напечем и бежим в Дрозды. Бежим и лезем под колючую проволоку… Сколько радости, мальчик, им тогда приносили. Посмотрел бы ты, как они ели эти наши лепешки!
Когда же удалось высвободить их оттуда, наша студенческая семья снова собралась. Тебе, дорогой, и невдомек, конечно, что такое студенческая дружба. Особенно при испытаниях. Говорят, это взаимовыручка, поддержка друг друга. Не-ет! Наша дружба была воздухом, которым мы дышали, солнцем, которое согревало нас.
А решительность! Среди нас была Лида Сысоева. Дипломантка-комсомолка. Когда один фриц попробовал приставать к ней, она просто плюнула ему в зенки. А когда тот стал издеваться — намотал ее косу на руку и дернул направо-налево, — пригрозила: «Издевайся, гад, издевайся, но помни — тебе и твоему Гитлеру все равно будет конец!» И это когда они под Москвой были… Расстреляли, понятно, Лиду. Без суда, на месте…
И если бы от меня это зависело, я после победы памятник ей у нашего Политехнического поставила бы. За чистоту, за достоинство…
Институтский интернат наш немцы под госпиталь заняли. Разбрелись мы кто куда. Но компаниями. Несколько человек, в том числе и я, переселились в дом Белгоспроекта. На Академическую улицу. Это недалеко. Но и оттуда нас скоро потурили. Ночью прямо. Приехали на автомашинах, забегали по лестницам. В двери застучали. «Вег, вег!»
Хорошо, что на дворе пустой домик бывшей пожарной охраны стоял. Перешли туда…
Оказалось, что авиаштаб какой-то летной группы прибыл. Облюбовал себе этот дом и решил обосноваться в нем. Так что, когда здание огородили колючей проволокой, мы тоже оказались за проволочной изгородью. Даже под охраной часовых. И, понятно, не бесплатно. Девушек-студенток заставили мыть кухонную посуду в столовой. Студентов — колоть дрова для кухни. Правда, за это как вознаграждение выдавали котелок супу, а иногда и другие объедки.
Зато Новый год отпраздновали мы — будь уверен — в пику всем тем, кто раскошествовал на банкете в столовой. Ребята раздобыли шнапс, мы стибрили на кухне булку хлеба. Сидя за праздничным столиком, пели прежние песни. И послушал бы ты, мальчик, что за чувства вкладывали мы в слова! Каким чудесным, невыразимо Дорогим казалось отобранное у нас! Это справедливо, — чтобы как следует оценить что-нибудь, его сначала нужно потерять…
Я не знаю, как сложилась бы наша судьба, если б в городе не появился Верин отец — Сергей Антонович. Его, старого коммуниста, по-моему, знал каждый десятый минчанин. Последнее, возможно, наиболее и поразило меня. Что это было? Спокойное упорство? Готовность служить делу, не думая ни о себе, ни о своих детях? Вспомнился и твой, мальчик, дед, который партизанил в гражданскую войну…
Тревожное волнение охватило меня. Будто вместе с этим спокойным, уверенным человеком пришел привет откуда-то. Мне лично.
Мы и прежде строили разные планы. Но были они какие-то беспредметные. Им не хватало деловой серьезности, а нам — чувства ответственности за события, а значит, и той необходимой силы, с которой начинается дело… Мы ненавидели захватчиков. Свою ненависть высказывали вслух. Демонстрировали ее, отмечая праздники… И перед собой, таким образом, оставались чистыми. Но вот это чувство-то, как ни странно, позволяло нам… растрачивать свой задор и ненависть как попало.
Появление Романовского будто отрезвило нас, запретило плыть по жизни без руля и ветрил. Нет, правда, еще одно…
Человеку, мальчик, доводится за жизнь держать много экзаменов. И каждый из них определяет ему цену. Достоинство его. Хоть иной раз и случайное… Знаешь, как, скажем, у нас, студентов, шпаргалки, подсказывания. Но есть экзамен, во время которого человек как на ладони. Вот он! Вот его достоинство, смотри! Это экзамен смертью, мальчик. Тот момент, когда человек глядит в глаза своей смертушке…
Мы с твоим папкой видели, как умирал один. Фамилию его я и теперь не знаю. Слышала: «Славка», «Славка» — и все… Привезли его в Театральный сквер на грузовике. Поставили под петлю. Руки связали. Сам измученный до бесконечности. Однако держится гордо, будто эта затеянная казнь перед людьми касается кого-то другого. Будто не его, а он судит палачей. Говорили, что следователь, который вел допрос, осатанел от бессилия и приказал охраннику проткнуть Славе язык штыком винтовки. Но, стоя и с нанизанным на штык языком, он так и не дотронулся ни до бумаги, ни до карандаша. Так вот, когда палач накинул ему на шею петлю, Слава что-то выкрикнул — понятно, для нас, согнанных на место казни. Но язык ведь у него был раненым… И тогда, пользуясь тем, что ноги не были связаны, Слава пинком свалил палача на землю. Удар был таким сильным, что с ноги у Славы сорвался ботинок.
Разве такое может пройти бесследно, мальчик?..
Так или нет, а твой папка и я встретились с Романовским на его квартире. В доме по Слесарной. Отвечать на вопросы старались с видом опытных подпольщиков. Однако только здесь, в комнатке со светлыми обоями, с ветвистым фикусом и простенькой мебелью, сами узнали, что номер летной части, в размещении которой я жила, 31 537, что это часть тяжелых бомбардировщиков дальнего действия. Видишь, как я разошлась и как заговорила, мальчик?.. Гляди, идет коза рогатая…
И еще скажу, хоть и это не для тебя. Вышли мы из домика Романовских с ощущением, что у нас занимает дух… Ростом я, видишь, будто девочка, да и вообще-то… Но знала — папка твой и до этого любил меня. Однако не показывал, не признавался. Ни-ни! А тут едва свернули по протоптанной дорожке в руины, схватил мою руку и припал губами. А я, недотрога, вырвала ее, поймала его руку и также начала целовать. А потом, опустившись на колени, обняла папкины ноги…
Рядом с нашей землянкой, мальчик, мастерская есть. В ней такие мастера работают, что любо-дорого. Из винтовочного ствола да железного лома автомат могут сделать. Вот они твоему папке и изготовили инструмент. Вишь, как заботятся о тебе. А он уже корытце выдолбил. Правда, не очень гладкое. Но ничего. Мы в него пеленочку постелем и покупаемся не хуже, чем в купленном. А потом вытрем сухонько и сенца туда положим. Вот колыбелька будет — чудо!
Подожди только, пускай в землянке потеплеет. Печка уже горяченькая. Вода закипела. Давай покачаю немножко и дальше расскажу. История-то лишь начинается только. А я болтунья, люблю рассказывать.
Стали мы с папкой разведчиками. Ты слушай, слушай. Он в отряд, чтобы указания получить, сходил. Вернувшись, проинструктировал и меня как следует. Мы разделение труда между собой ввели. Я выброшенные в мусор приказы по штабу стала подбирать, использованную копировальную бумагу из машинного бюро… А папка обобщает добытое. На папиросной бумаге пишет. А после скрутит хитренько рулончиком — и в отверстие карандаша вместо грифеля.
Вера Романовская придет посидеть к нам — возьмет карандаши и новое задание оставит.
Так и балансировали на острие ножа…
А тут вдруг ты еще заявил о себе!.. Несла я раз после банкета поднос с грязной посудой на кухню, переступила порог, и на тебе — толк ты меня в бок. Чуть не упустила я свою ношу. Вот заработала бы. Представляешь?..
Но поверь маме, вряд ли у меня вообще были более чистые и счастливые дни, чем те. И хотя жизнь осложнилась как-то сразу, мы будто на крыльях летели. Папка меня любил, я — его. Он меня старался заслонить собою, я — его. Да и дело спорилось. Что еще нужно? Каждому по двадцать одному, каждый любит, старается на себя большую тяжесть взвалить, в завтрашний день верит. Страшно, понятно, да зато радостно…
Ну вот, сейчас налью в корыто воды и проверю температурку локтем. Меня моя мама кнопкой звала. Ругала, когда я, удивляясь, глаза таращила. Но серьезные беседы все-таки вела. Так она говорила, что лучше, чем локоть, градусника вообще, верно, нет. Да, да… Не верится? Но посмотришь сам, когда мы с тобой будем куп-куп делать… Что, приятненько? Ну вот. Это только сперва страшно!
И слушай, слушай. Под осень заметила я, что в штабе какая-то суета. Уезжают, приезжают. И все — «Сталинград», «Волга»! Кое-что паковать принялись.
«Ага, — думаю, — ясно!..»
Папка на велосипед и снова в отряд…
Догадывались ли мы, как и куда все клонится? Да, лесовичанин-минчанин, догадывались. Но прости нас, дорогой, не могли по-другому поступить. Они ведь тыловые, это значит — мирные, города наши бомбили. К Москве прорывались! Сколько таких, как ты, малюток убили!
К тому времени я потолстела уже, живот поднялся… Советуемся мы с папкой, как все это лучше обделать, а сами, честное комсомольское, плачем…
Когда Вера сообщила, что из отряда прибыли мины, пошли мы опять на Слесарную. Уточнили все с Сергеем Антоновичем. Условились — взрывать будем во время ужина. Потому что завтракать и обедать офицеры имели право в любое время, а вот ужинать им вменялось в обязанность ровно в двадцать ноль-ноль по часам.
До этого времени никто даже не садился за стол — ждали начальство.
Точно минута в минуту в зал по ковровой дорожке вбегала генеральская собака. За ней неторопливо шагал сам генерал, лысоватый, бравый. Гремело: «Хайль!» И лишь после этого все уже занимали свои места соответственно военному рангу.
Поглядел бы ты, мальчик, как важно они садились! С каким гонором! Я даже рассматривала их — старалась понять: а как же у них с совестью-то? Неужели есть сила, способная вовсе ослепить людей, уничтожить в них чувство справедливости, человечности? Сделать бессердечными, спесивыми исполнителями?
Я как-то попала в склад, который находился неподалеку от нас. Оказалось, туда они свозили вещи своих жертв. Не верится просто! Отдельно очки, отдельно гребешки, отдельно детские ботиночки… Все расфасовано, посчитано, заприходовано!
А как уважаемые асы расписывали свои полеты! Особенно если удавалось налететь неожиданно и оставить город в огне. Если после каждой новой волны начинали бомбить от полосы пожаров…
Ну, будет!.. Зато и мы придумали… В зале еще с зимы чугунная печка стояла. Решили заминировать ее — пускай и осколки свое делают.
Правда, беспокоила судьба друзей, с которыми я в домике жила. Но придумали, как отвести опасность и от них…
Что я должна была делать? В специально сшитом поясе пронести мины в столовую. Улучив момент, вывинтить из них пробки, ввернуть в одну взрыватель, в другую детонатор и подложить мины под колосники в печку… Так вот, пробки я должна была нарочно оставить в карманах рабочего халата как вещественное доказательство… Ну, и, понятно, нужно было переехать мне из домика к папке, запретить друзьям встречаться с нами, заходить к нам, не раскрывая причины… Это тоже не легко было…
Накануне, за сутки, папка вынул чеку из взрывателя. Мы замерли даже. Началось ведь! И помню — какое-то холодновато-томительное чувство охватило меня. Будто и во мне начало происходить то же, что и во взрывателе.
Без особых колебаний обратились к бабушке. Усталая от домашних хлопот — целый день на ногах, — она уже лежала у себя в кровати.
— Мама, — сказал твой папка, — завтра утром вам придется оставить Минск. Пойдете по Слуцкому шоссе до деревни Мякота. Вы поняли меня?
В ту ночь мы не сомкнули глаз. Встали с солнцем. Опять повторили манипуляции с пробками и взрывателем… Старательно подвязали меня тем поясом и долго проверяли, не угадывается ли он за складками широкого платья, какое я теперь носила.
К авиаштабу шли медленно — в минах содержался гремучий желатин. Проволочка во взрывателе, которая через определенное время должна была порваться, становилась все тоньше. Приближался и сам решающий момент… Но, мальчик, сомнения и тогда почти не мучили меня. Был, понятно, страх. Холодело сердце. Были и мысли… Я ведь тоже имела маму, город, где родилась. Я, как и другие, училась в школе, носила коротенькие платьица, влюблялась, вздыхала… Ну, понятно, и ты… Но, клянусь, до сей поры не знаю, легче ли мне было бы, если б не было тебя… Честное комсомольское, не знаю. Все-таки вдвоем…
Утро выдалось ласковое, ясное. Кажется, раньше такого и не видела никогда. А солнце слепящее, большое. И все вокруг чистое-чистое.
Промаршировала команда солдат. На противоположном тротуаре, откозыряв друг другу, разошлись два офицера. Поправляя на ходу ремень, прошел полицай в черной шинели.
«Подонок! — даже пожалела я. — Не смог остаться человеком!»
Показалось, окружающий свет хлынул в меня, и я будто захлебнулась в нем. Да и выпавшая мне судьба показалась не такой уж безнадежной. Однако в тот же момент обдало и холодом. «Бр-р!»
Не доходя до ворот, мы простились. И признаюсь, мальчик, может, это и было самым трудным. Перед тем, как выйти из дома, Эдуард решительно сказал: «Не бойся, Славочка, я буду рядом». Но чем он мог помочь мне? Чем мог поддержать? Я понимала его положение и, чтобы не тянулись секунды, отвернулась и пошла: ему предстояло ожидать меня по другую сторону здания — туда выходил балкон из кухни, и оттуда я должна была подать ему знак, как все получилось.
В запасе у меня были минуты. На работу я могла прийти, ну, на полчаса раньше других «вольнонаемных». В такую рань на кухне находился обычно один повар Эрих. Остальные ефрейторы и обер-ефрейторы, обслуживающие столовую и жившие этажом выше, приходили позже, минут через пятнадцать. Вот за эти пятнадцать минут мне и предстояло управиться…
Дверь мне открыл Эрих, неумытый, заспанный. Зыркнув косыми глазами, молча, вразвалку заковылял к крану с водой.
Я надела рабочий халат, взяла поднос и направилась в столовую.
Маскировочные шторы на окнах вчера опустили, и в зале было темно. Я зажгла свет — стоило проверить, не спит ли здесь в кресле кто-нибудь из ефрейторов, любивших после ужина допивать остатки с офицерского стола. Собирая на поднос рюмки и фужеры, обошла зал — нет, нигде никого.
Как на спутанных ногах приблизилась я к чугунной печке. Поставила поднос на угол ближайшего стола. Прислушалась. Но в висках стучало, и ничего не было слышно. Чтобы успокоиться, перевела дыхание. Так и есть, в кухне уже собирались — доносились шум и звяканье посуды.
Мигом развязала пояс, положила мины на пол. Потом взялась вывинчивать пробки. Усилием воли уняла дрожь в руках. Но снова заволновалась, когда стала подкладывать мины под колосники в печку. Вторая никак не лезла — мешала первая. А тут еще ясно послышались шаги — кто-то шел сюда по коридору. Пот залил мне глаза. Помню лишь, что металлический щелчок — мина, прилипла к мине — совпал со скрипом двери.
И вдруг ты, мальчик! Вдруг опять вздрогнул, потянулся и застучал в бок. Я не знаю, была ли тут связь между первым и вторым, только я мгновенно, осененная мыслью, схватила за край поднос и рванула его на себя. Хрустальные осколки брызнули и разлетелись по полу. Затем, помню, меня пронизала радость — я увидела, как круглеют, наливаются яростью глаза у Эриха. Значит, скорее всего он свое внимание обратил не на печку! — Русиш швайн! — разразился он криком, не сразу от этого переступая порог. Ох, коза-дереза!.. Он кричал на нас часто. Особенно когда хватало работы. Видя, что мы не очень усердствуем, швырял в нас чем попало — горячими сковородками, мокрыми тряпками. Глаза у него тогда косили еще больше. Но мы, зная его слабинку, не особенно боялись этого бесноватого повара. Он торговал всем — и своим, и чужим. Он недовешивал офицерам порции масла, недодавал кусочков мяса и, не стыдясь, при нас сбывал краденое «налево». Поглядел бы ты, мальчик, каким триумфом светились его глаза, когда он набивал деньгами кошелек и тряс им над головой!
Однако сейчас была иная ситуация… Я поднялась и стала перед ним, согласная и на то, чтобы он отхлестал меня по щекам. Я ведь спасла тебя и себя, мальчик.
— Я постараюсь уплатить вам сполна, герр Эрих, — пробормотала я, ударяя себя в грудь. — Мне помогут муж и свекровь. Ей-богу…
То ли мое обещание, то ли мой вид маленькой неуклюжей беременной женщины сделали свое — руки он не поднял.
— Подбери! — гаркнул только.
Вот и все, радость моя! Подмела я веником осколки, ссыпала их в помойное ведро и вышла на кухонный балкон. На, Эдик, гляди, какие мы!.. А теперь давай вытремся насухо и будем бай-бай.
Фу, какой ты! Как ни купай тебя, оказывается, все равно под мышками потничка, даже покраснело. Моя мама советовала когда-то присыпать ее пыльцой от плауна. От него даже порезы и раны затягивает. Но где ты найдешь плаун зимой…
Да ничего. Скоро, наверное, у нас с тобой лучшие лекарства найдутся. Раздобудем пудры. А может быть, и талька настоящего! Это же все-таки Москва! Вот как! В ясельки тебя устрою. А сама, как обещают, снова за науку возьмусь. Чудо, да и только! Снова за пятерками придется гоняться, чтобы стипендию оправдать. Но, понятно, не одним этим жить буду. Жалко только — с папкой, минчанин ты наш, придется разлучиться. Война ведь не кончилась, он здесь нужен. Никогда еще не бывало, чтобы она всем счастье приносила. Дай поцелую… Да и нам с тобой через линию фронта еще перелетать… Что, страшно?
Ну, гуди, гуди! Ты имеешь теперь право…
НЕ ТРАВАМИ РОСНЫМИ
рассказ
Мне не в чем опра-авдываться, товарищи! Хотя, конечно, и хлебала, как говорится, одним лаптем борщ с немцами. А это, как известно, по мнению некоторых, уже позор. Точно целый народ мог эвакуироваться. Глупости, известно, а все равно… Заметили? Все начинают с объяснения, каким образом на оккупированной территории остался. Не смогла, мол, — рожала. Ехала в поезде, да его разбомбили. Обогнали, мол, немецкие части за Толочином… Потому и мне придется сказать вам пару слов, чтобы недомолвок не было.
Я в Друскениках лечилась. Приняла как раз грязевую ванну, собралась побродить по бору, а из репродукторов новость…
Наверно, нет ничего страшнее, как очутиться в такое время вне дома. Где тот Минск? На краю света. Да, как бывает, подвернулась попутчица. Славная такая, открытая, еще ребенок. Все возмущалась: «Как они смели да как посмели!» Вдвоем локтями проложили себе дорогу на перрон. С горем пополам доехали до последней литовской станции. А там… та-ам поезд как в вершу-невыливайку вошел. Остановился, а по одну и вторую сторону вагонов немецкие автоматчики — приветствуем, господа!
Однако ночью мы с Ниной прошились сквозь охрану и побежали. Куда? А кто его знает. Только наутро, расспросив, взяли направление на Гродно…
Раньше я сама удивлялась, как это солдаты запоминают, где что форсировали, где держали оборону, переформировывались, за какие населенные пункты дрались. А теперь знаю: если связан с чем-нибудь жизнью — не забудешь.
Урожай в том году выдался на диво. Рожь стояла стеною, в рост человека. Я в семье девятой, предпоследней росла. У хуторянина за батрачку была. Потом на фабрике работала и только уж тогда учиться стала. Так что цену хлеба знаю. А тут его топчут, мнут. В придорожных хлебах людей, поди, полегло не меньше, чем на дорогах.
Плетемся, горюем. Хуторянин вспомнился. Он, бывало, своими лошадьми чужой овес травил. Пускай, мол, у других меньше будет, а его лошади подъедят. А работой так просто душил всех и все под себя греб. Раз я коров пасла и орехов нащипала. Так он, когда я вернулась домой, и их отнял… Его у нас Гегемоном звали — отгородился, мол, заборами, жердями и царствовал. Но не думайте, что сам вволю и вкусно ел. Где там! Хоть, чтобы пыль в глаза пустить, и выходил в праздничный день за ворота, садился на лавочке и ковырял в зубах. А если кого-нибудь оскорбить надумает, откинет полу кожуха и испортит воздух. Нина просто верить не хотела. «Не может быть» да «не может быть!..»
А Гродно горело уже. Довелось обходить его. Усталые, голодные, прибились мы к воинской потрепанной части. Хотя и запрещали нам, потащились сзади. Все-таки смелее как-то. Но после одной бомбежки осмотрелась я, а вблизи ни души. Были, и не стало. Исчезла и Нина. Когда? Куда? Кто знает? Никогда, наверно, так одиноко не было. Вокруг все гибнет, а я одна…
У Петрищина толпу, к которой я затем пристала, обстреляли немецкие танки. Удирая от них, наткнулась на автомашину. Горит, как костер. В кабине водитель задыхается… Правой рукой глаза прикрыл, а левой ручку дверки ищет и не может найти. Подбежали еще женщины, и мы помогли ему на землю сползти. Потом плащ-палатку нашли, плача, занесли в ближайшую избу.
Все перемешалось у меня в голове, чуть не голошу. И в Минск пришла с мыслью — делать все равно что-то нужно, нельзя просто так…
На Немиге с немецкими солдатами столкнулась. С расстегнутыми воротами, в сапогах с широкими голенищами. Хохочут, несут связки ботинок на плечах, картонные коробки. Поравнявшись со мной, затопали сапожищами, начали свистать. Думали — испугаюсь и побегу.
От дома моего, конечно, одни развалины остались. Только и узнала, что измятый чайник да спинку кровати, которые из битого кирпича виднелись.
Минск как муравейник. Хотя немцы сразу начали стараться порядок наводить.
Уголок я себе нашла на Коммунально-Набережной. В комнатке машина швейная, кровать застланная, в буфете чай, сахар. Мало, верно, чего хозяева захватили с собой.
Про мужа говорили разное. Одни — что погиб еще при бомбежке, другие — что видели его недалеко от города. Стоял на обочине шоссе в одном исподнем, а в ногах гимнастерка, галифе и сапоги валялись. Будто кто-то приказал ему раздеться, штатскую одежду взял, а свою бросил… Напекла я немного хлеба, картошки — и в Дрозды. А вдруг мой Марка там… Пришла. Лагерь немцы разбили на берегу Свислочи, на лугу. Но земля уже стала там черной — ни травинки. Военные от гражданских веревкой отгорожены. Припала я к проволоке, стала звать. Но не откликается никто. Не-ет! Солнце и то, кажется, потемнело.
Марка мой из-под Смоленска. Заперла я, вернувшись, свою каморку и пошла. Думала, что расспрошу у родственников, а возможно, и за линию фронта попаду. А разве ты такое в одиночку совершишь?! Крыльев же нет — не птица.
Правда, добралась до Витебщины. Фронт не за горами. Зашла в деревню, Мазурино, кажется, называется. Выбрала избу попросторнее. Стоит в одиночку между двух озерцов. Обгорожена новым частоколом. Сетка на нем сушится. На дворе бревна из разобранного строения. Хлев начат, венца четыре положено. В хлеву конь овес хрупает. У вереи плуг, борона.
Заволновалась я — откуда это все здесь?.. Натаскано, скорее всего, когда неразбериха началась. На бревна, поди, не одну стенку в колхозном коровнике разобрал… Собралась уйти, но было уже поздно. На пороге вырос хозяин. Насупился, придержал собаку, которая хотела было прошмыгнуть между его ногой и косяком.
Долго молчал, чесал нос — соображал, как быть. Наверно, я не первая вот так зашла к нему. Потом, взяв за ошейник собаку, вышел с ней на крыльцо и пропустил меня в избу.
Я и сейчас себя ругаю — зачем зашла? Разве не было видно, что за гусь? Зачем вообще поддалась, а не плюнула, не крутнулась и не ушла? Такие все равно на открытое насилие, когда люди увидеть могут, не отважатся. Боятся они свидетелей, подлецы!
А как покатилась, так и покатилась. Во время ужина стала расспрашивать про дорогу и почти себя не помнила. Руки сами к сережкам потянулись. Вот дурища! Простенькие они у меня были, но все-таки золотые. Одно сейчас жалею — кому? А утром, когда пошла по его указке, прямо на немецкий гарнизон и напоролась…
В Минск я вернулась — кожа да кости. Правда, с листовками, которые по ночам на дороги сбрасывали наши самолеты. Стала знакомых искать…
Так началась моя подпольная деятельность.
Сперва в группу вошли только хорошо знакомые. А после и кое-кто из работавших вместе, на «Коммунарке». Руководить поручили бывшему, как и мой муж, партийному работнику.
Вот человек был! Квартира его и штабом стала. Благо в глухом углу Немиги, на втором этаже, с наружной лестницей. Кто туда идет или спускается оттуда, видно с улицы. Да и семья маленькая, тихая — он, жена да одиннадцатилетняя дочка Люся. Живут тяжело, голодно, но как-то весело, без жалоб. Славная семья.
Как только не вредили мы немцам! Кто устроился на кожевенный завод, кто на дрожжевой, в пекарню. Одна из наших, ученая, нанялась уборщицей в здание Академии. Ой, как понадобились потом ее знания и химикаты, поплывшие оттуда! Один наш молодец ухитрился самодельным зарядом, сделанным из них, взорвать колодец на Комаровке, когда к нему подогнали награбленных коров поить. Представляете? «Дрожжевики» спускали на пол меляс сладкий. Сплывает он по желобу к речке, а там с ведрами ожидают его…
Правда, весной начались аресты. Но нас они не коснулись.
И вот все-таки что хотелось вам сказать. Тут бы ужаснуться нам, зажмурить глаза — льется кровь, сотни товарищей под расстрел, на виселицу попали. Ан нет — мы все равно еще на одну ступеньку поднялись. Подпольная «Звязда» стала выходить.
Я не знаю, как судьба одного влияет на судьбы других. Но влияет. И, верно, уже тем, что делается известной, что ты узнаешь в ней свою… Я не нахожу, как сказать. Но, по-моему, в такой неистребимой преемственности и таилась наша сила.
В сентябре меня послали нa связь с партизанским отрядом, в котором изменилось командование, почему молчат? Свели с напарницей. Глянула я на нее — бог мой, Нина! Моя Нина! Повзрослела, подтянулась, хоть тут же, когда остались с глазу на глаз, не смогла не похвалиться, что у нее на квартире сам секретарь подпольного горкома живет.
Взяв махорки, мыла, «Звязду», мы босоногими выбрались из города. Тапочки, куда зашили газету, надевали только там, где ожидали опасность. Но когда за Песочным нас задержали партизаны, распороли свою обувь и вручили им «пропуск».
В вашем лагере поселили нас в стороне от других. В шалаше из еловой коры. Завели какие-то моторы: слушайте, какая сила! Запретили ходить без разрешения.
Командир ваш прикинулся простачком. Выслушав нас, поковырял в носу. Оживился малость, когда услышал, что у подпольщиков кое-что припасено для отправки в лес. Распорядился приготовить подводу, муки, мяса.
Но назад, в город, отпустили меня одну. Лошадь дали молодую, норовистую. Пока ехала, изнервничалась вся. Как было и условлено, отвезла подарки к Нине. Да там еще больше рассердилась. Нинин отец принял меня и привезенное неохотно. Сгрузив в сенях, сразу выпроводил!
— Поезжай, поезжай, Маруся! Не до разговоров сейчас… И будь осторожна. К другим не заходи пока…
Чувствуя недоброе, я вспрыгнула на телегу и погнала лошадь к Немиге. А тут, как назло, по Советской колонна грузовиков двигалась. Еле переждала ее, успокаивая свою лошадку. Решила тут же: зачем она мне? Свернула в тупичок, бросила ее — и к своему Герасименко. Однако там-то и встретилась с самым страшным. По ступенькам наружной лестницы кулем скатилась Люся, а за ней эсэсманы сводили растрепанную, считай — не в своем уме, ее мать.
Что оста-авалось делать? Бросилась предупреждать кого знала…
Командир ваш в этот раз вообще не глядел на меня. Спросил только про мужа, где работал, где сейчас. Похмыкал в кулак и послал отдыхать в прежний шалаш.
А там пусто, вроде и не жил в нем никто. Только на соломе в углу Нинин платок валялся. Но спустя некоторое время и его забрал ординарец. Принес дерюжку, предупредил, чтобы я без спроса никуда не отлучалась и никому ничего не говорила.
Мучил голод. Угнетала неизвестность. Неужели опять большой провал? Лежала я на соломе и ждала: вот-вот случится что-нибудь еще.
Раза два мимо шалаша пробежал ординарец. Провели мужчину в демисезонном па-альто, без шапки. За ним женщину с подростком. Следом прошел командир, что-то бормоча себе под нос.
Оттого, что меня так приняли, от мысли — недаром нас разделили с Ниной, — даже выпить захотелось. Тюкнуло, что и мужчина, и женщина с подростком также из Минска. Но в то же время охватило и какое-то умиление. Точно никогда не приходилось видеть ни такого неба, ни таких облаков на нем. Угрюмый ельник и тот показался как с картинки.
От пережитого я забо-олела. Провалялась несколько дней. Выползала только погреться на солнышке да посмотреть на лес.
Не успела поправиться, вызвали к командиру. Обрадовалась, подалась в штабную землянку чуть ли не бегом.
Командир сидел за столом и курил. Когда подошла к нему, зевая, разогнал перед собою дым растопыренными пальцами.
— Садись ближе, не съем. А? Как кормят? — спросил.
— Ничего, — поблагодарила я.
Столик стоял у окна. В окно лился свет, и лицо командира отряда я видела хорошо. И даю слово — мне совсем ясно сделалось, что он лишь хочет выглядеть свойским да рассудительным. А на самом деле ему просто скучно возиться со мной.
— Мы здесь надумали послать тебя в райцентр, — сказал он, делая вид, что собирается облагодетельствовать меня.
— Ку-уда? — удивилась я.
— В Минск все едино тебе нельзя. Денег дадим… Пивную откроешь.
— А это зачем?
— Будешь настроение изучать и докладывать. А?
Сердце у меня упало. Но, чтобы не выдать, что я поняла его, — тогда еще хуже, конечно, станет, — возразила:
— Какая из меня торговка, товарищ командир? Я не только в пивных, а и на базаре ничего не продавала. Про настроение же, если нужно, давайте я хоть сейчас доложу…
Обо мне точно забыли. Другие уходили на операции, возвращались. Ребята из хозяйственного взвода строили землянки к зиме, утепляли шалаши. А я как валялась в своем дырявом, как решето, так, и валялась. Нина же будто в воду канула. Про события в Минске тоже ни слова не сообщают. Простите, но за глоток самогонки я бы последнее кольцо отдала. Беда прямо!..
После одной ночи, когда опавшие листья покрыл иней, я не вы-ыдержала. К тому же в отряде присягу принимали… Меня, известно, и близко не подпустили. Ох! Неужели я виновата в чем?.. Ну, и подстерегла я его… Переняла, когда к своей землянке подходил. Закатила истерику.
— За что такое? — спросила. — Разве вам живодером быть?..
И что, по-вашему, он сделал? Скривился, копнул землю носком сапога. Заметив, что к бричке, стоявшей здесь же, около землянки, приблизилась корова, закричал на нее. И меня снова осенило: нет, зря я силюсь заставить его открыто поговорить со мной. Зачем ему я, лишняя забо-ота? Хватает и без меня своего. А я усложняю только все, и пользы от меня никакой…
Однако что-то предпринять ему все-таки нужно было.
— Ну ладно, — почесал он нос, — будут тебе дела, если не терпится. Но те и там, где скажут. А?..
Что дали мне с собой? Липовый паспорт, адрес почти неизвестного человека, маршрут, и я пошла.
И все-таки мне посчастливилось. Наверно, честных людей на свете куда больше, чем подлецов. В деревянном голубом домике на Базарной улице райцентра встретил меня взлохмаченный угреватый мужчина. Не дав объяснить до конца, зачем я пришла к нему, распорядился снять ватник-стеганку и лезть на печь. Терять мне было нечего. Да и обессилела я, одубела совсем. А здесь пе-ечь! На ней сушатся груши, на крючках висят плетенки луку. Тепло сухое, знакомое.
Так мы и начали деловой разговор, я — свесившись с печи, хозяин — сидя тут же, на лежанке.
Он, как выяснилось, по профессии был ветеринаром и служил в районной полиции. Принадлежал к тем упрямым людям, которые почему-то считают, что самое важное слово — это их. К тому же, нося форму полицейского, он имел дело только с животными.
Наученная горьким опытом, подозревая, не хуторянин ли снова попался, я повела разговор на высоких нотах. Он же, напротив, говорил спокойно, даже волосы на голове для важности приглаживал. И только к концу вспылил. Соскочил с лежанки, выбежал на середину комнаты.
— Не-ет, не-ет! — захлебнулся словами. — Извините! Разве можно так — шах-мах? Мы же все-таки не насекомые какие-нибудь. Вряд ли кому хочется, преодолевая канаву, лечь под ноги другим, не зная, поможет ли это преодолеть ее. У меня одна жизнь. Да я не только я. В доме жена. У меня Светочка есть.
— Но война есть война. Не разбив яичек, яичницу не приготовишь, — возразила я, хотя говорить с ним стало трудней. — У каждого перед войной обязанности…
— Пускай! Но мы советские люди… Вон утром мне наш полицмейстер встретился. Поздоровался и предлагает: «Идем арестантов бить!» Но ведь это же он…
Три дня прожила я в голубом раю. Хозяин мало бывал дома — находился на службе, бегал по моим заданиям, а я отогревалась. Помыла голову, залатала одежонку… А когда открылись кое-какие возможности на электростанции, на радиоузле и почте, подалась назад.
Во второй раз в городок я ехала, как и в Минск, на подводе. Везла окорок, мешок ржи, мины. Не теряя времени, встретилась с кем нужно. Парни оказались как на подбор. Приходили по очереди, слушали молча. От отчаяния, как я заметила, люди тоже смелеют.
Сердце обливалось кровью, только когда на хозяйку со Светкой смотрела.
Пока суд да дело, пока собрались все, чтобы уходить из городка, наступил комендантский час — ни оста-аваться, ни ухо-одить. И хозяин повел нас улочками, точно арестованных.
К счастью, сыпанул снег. Но зато, как вышли в поле, так и потеряли ориентиры. Наткнулись на какую-то деревню. Договорились брать в ней проводника. Но не успели открыть калитку на огороде, как забахали выстрелы. Снова пришлось плутать, пока опять-таки не наткнулись на огороды. И тогда вот ухнуло. Раз, второй, третий… Вернулись, значит, назад, под городок…
Борьба, по-моему, как и работа, берет в плен. Когда нас обстреляли, мы, замерзающие, почитай, с полчаса лежали в снегу. Потом, будто с завязанными глазами, кружили еще с час. А я, верно, впервые на таком седьмом небе была. Представляла, что творится в городке, как встре-етят нас в отряде, и даже икала от радости.
Накануне — помните? — «рама» ваших на поляне заметила и обстреляла. Командира ранило. Поэтому принимал он меня в своей землянке. Я никогда еще не видела такой просторной. Обита ситцем. Кровать с горкой подушек. Разрисованный цветами сундук. Между ними, у окна, как и в штабной землянке, столик. Герань, часы, тарелки с кусками розового сала. На всем следы женских рук.
Я говорю вам про это потому, что вместе с радостью у меня пробудилось и желание во всем видеть хорошее. В землянке светло, уютно, рука у командира на перевязи. Захотелось раскрыться. Возможно, даже признаться в неблагодарности.
— А где же Нина, может быть, скажете? — спросила я с надеждой, что теперь все пойдет иначе. — Затосковала я о ней…
Командир отбросил кожух, который укрывал его ноги. Жилы на шее надулись, словно от боли.
— Ты лучше спроси, где и что делает ее квартирант! — гаркнул он. — Сказать? Ну, так вот, недавно выступал там у вас перед рабочими вагоноремонтного. Со специально построенной трибуны выступал, а по бокам мурчали. А? На какое лихо мне раздваиваться? Сама сначала скажи! Не очень ли ты самостоятельная стала? И почему не оправдываешься? Сама, видимо, чувствуешь— не оправдаешься. Так? Ну, и молчи тогда…
— Я спрашиваю: Нина где? — рванулась я к нему. Он точно и не услышал моих слов. Я повторила их — он снова остался глухим. Вы, поди, знаете его способ показывать презрение. Однако что-то все же сдерживало его, не давало распоясаться. Верно, опасался — вернется когда-нибудь муж, начнет искать концы. Из настойчивых они, партийные работники. Да и наши успехи в операции сдерживали, наверно… Сел, взял спичку со столика, заострил ее зубами и начал чистить зубы.
И, поверите, во мне опять всколыхнулось прошлое. Я даже растерялась. «Ну-ну!» — подогнала я себя. Глянула на бричку за окном, на корову, хватающую и теперь из нее сено полным ртом, и поняла. А-а!.. Здесь коммунисты, и я прямо скажу: ничем он не лучше моих прежних благодетелей! «Раздваиваться»? Подумать только!..
Ну, а на следующее утро, вы наверняка догадались уже, получила я новое поручение — ковылять назад, в злосчастный городок. Немедленно. Так как чрезвычайно необходимо доставить письмо начальнику районной полиции — это тому, помните? — который вместо зарядки каждое утро ходит арестованных бить. Не согласится ли он сотрудничать с нами… И, верьте иль не верьте, не до шуток, конечно, было, а я усмехнулась. Дудки, подумала, теперь меня уже ничем не испугаешь! Письмо я, само собой разумеется, передам, но по-своему. Встречу с узелком семечек какого-нибудь наиболее важного бобика у казармы и отдам. Скажу, что от сестры начальника, мол, которая учительствует в Старицах. Пускай, если будет охота, допрашивают и расстреливают его… Ну, а вернувшись сюда, пойду к вам… И если казню себя сейчас, так только за одно — почему не сделала этого раньше. Пора было понять, что и я не лыком шита и отвечаю за все, хотя до всего каждый раз доходишь наново… Он ведь сейчас про себя иначе уже не говорит, как во множественном числе…
ЗИМА СОРОК ТРЕТЬЕГО
из воспоминаний
Теперь я часто думаю, почему была тревога, а не страх. Видимо, потому, что война стала уже бытом. Все мы жили на высокой волне. Верхолазы, как известно, не замечают привычной высоты.
Имело значение и еще одно…
Через линию фронта нас переводила фронтовая разведка, которая знала на своем участке каждую корягу и пень. Правда, разведчики на этот раз рисковали. Ночь была темная, кружила метель, и они решили не петлять кустарниками и перелесками, а идти прямо по льду скованного не так давно морозцем озера, которое как бы разрезало передовую линию. Ни мин, ни немецких патрулей там пока что не было, и только время от времени для острастки немцы открывали пулеметный огонь, пуская очереди низко, над самым льдом, — пули даже рикошетили. Но так было через определенные интервалы, и мы увидели светлые бусинки трассирующих пуль уже за своей спиной.
Так же счастливо — где на крестьянских санях, где пешью — мы преодолели сотни километров. Форсировав в знакомом месте железную дорогу Витебск — Полоцк, а под Улой — Западную Двину, попали в леса Минщины. И мало того, что попали, мы установили своеобразный рекорд во времени, — не говоря уже о Витебщине, от Бегомля почти под самый Минск широкой полосой теперь пролегала партизанская зона, где немцы осмеливались появляться только во время карательных экспедиций.
Я уже не тревожился о семье — жена и сын перешли линию фронта и жили на Урале. Разве все это не заставляло надеяться — удачи не оставят и дальше! Да и совсем не верилось, что загнанная в патронник тебя ожидает твоя пуля, что тебя могут схватить, вывернуть назад руки, а тогда… Пусть никому не выпадет такое, что было бы тогда!..
Конечно, другие гибли и гибнут, но при чем же здесь ты? У тебя своя и только своя звезда. Да и как ты можешь погибнуть или попасть в лапы врага, если над тобой родное небо, вокруг искрится в снегу милая сердцу земля, а рядом товарищ?
А все же?.. Речушка Вяча и Радошковичское шоссе, которые служили границей партизанской земли, остались позади. И хотя ты одет сносно — меховая шапка, вязаный шарф, неказистый кожушок, порыжевшие сапоги, — но все это страшно чужое, никогда ранее тобой не ношенное. В кармане же липовые документы, взятые у покойного крестьянина из «нейтральной» Гайны (есть такая деревня на Логойщине). Да и шагаешь ты совсем не по-крестьянски, а как-то пружинисто, высоко задирая голову.
И уже перед Паперней, где, прикрывая подступы к Минску, стоял гарнизон литовцев, закутанная в платок Соня, сидевшая в передке саней с Иваном Луцким, предупредила:
— Не считайте звезд, Володя. Опустите голову…
Эта девушка вообще смотрит на людей немного иронически, с вызовом, и понимает их больше, чем хотелось бы им самим. Теперь же ее смуглое лицо, игривые, немного раскосые карие глаза, кажется, дрожат от насмешки и сочувствия. Луцкий же подергивает вожжами, остается спокойным, почти безразличным, видимо веря, что все и так будет хорошо.
Дал мне их в мое распоряжение славный Иван Матвеевич Тимчук, теперь секретарь подпольного Логойского райкома партии. Правда, да простят мне мои товарищи, у войны свои законы доверия и недоверия. Ко мне приходил военный опыт, и я предварительно проверил их, будущих своих товарищей по делу.
Из Минска как раз ожидали автомашину — она должна была привезти гранаты, рулоны бумаги, краски и шрифты для райкомовской типографии. Я вызвался поехать вместе со всеми под Острошицкий Городок и принять это добро. По дороге, в кустах у шоссе, и позже, на самом шоссе, когда передавали подпольщикам опаленного подсвинка и поспешно выгружали из кузова присланное богатство, я наблюдал за Иваном и Соней…
И вот я с ними еду в Минск.
— Вы лучше садитесь на сани, — попросила меня Соня.
Мы выбрали базарный день и через несколько километров ехали уже в обозе. Впереди покачивался круп нашего мышастого сибирячка, а сзади фыркала заиндевевшая рыжая лошадиная морда. Скрипело, визжало под полозьями, а по сторонам искрился, сверкал снег.
Неожиданно глазам открылся город. За холмистой сверкающей далью, заснеженный и далекий, он показался совсем прежним. Это впечатление усиливалось еще и потому, что лучше всего были видны уцелевшие окраинные домишки в белых, видимо от инея, садах и знакомые очертания зданий Академии наук, оперного театра, устремленная вверх башня красного костела и почти голубая громада Дома правительства.
Посчитали за лучшее миновать контрольно-пропускной пункт на Долгиновском тракте. И, повернув вслед еще за одной подводой, желтым проселком двинулись к Болотной станции, приготовив на худой конец оправдание: в том районе дом Ивана Луцкого.
И опять, как помнится, почти не было страха. Были только волнение и тревога: как все пойдет там, в городе, удастся ли подобрать необходимых ребят, убедить их делать то, что нужно?..
Хотя на стене домика Луцкого и синела вывеска «Добролюбовский проезд, 13», стоял он на отшибе, как хутор. Это было удобно и неудобно. Из окон видно было, кто подходил к домику. Зато и тебе при необходимости пришлось бы бежать по открытому пустырю. Но в то время важнее казалось первое. Чистая половина была теплой, уютной. Плотно поставленные друг к другу два шкафа и веселенькая ситцевая ширма на проволоке делили горницу на две части. В меньшей — боковушке — стояли кровати, в большей — деревянный диван у глухой стены, фикусы и стол в углу, около одного из окон швейная машина. В окна, на которых зеленели цветы, лился свет и придавал всему мирный знакомый вид.
Родители Луцкого поехали в деревню менять кое-какие вещи. Дома остались только сестра и меньшой брат. И мне подумалось, каким преданным, самоотверженным человеком надо быть, чтобы согласиться поставить под смертельную угрозу не только свою, а и их жизнь, таких на первый взгляд непрактичных и беспомощных без родителей. Неужели Иван тогда не думал о возможной беде?
Но как же так? Не так уже давно были разгромлены типография «Звязды», городской партийный комитет, райкомы. За несколько ночей исчезли сотни минчан— были, и не стало. И совсем уж недавно душегубки вывезли новые тысячи из гетто…
Должно быть, само мужество бывает разным. Правда, до сих пор я видел Ваню больше за каким-нибудь мирным занятием — когда он сгружал привезенное с машины, когда правил лошадью, а потом по-хозяйски распрягал ее на своем дворе… И мне казалось, да и теперь кажется, что он, бывший учитель, и на свое участие в подпольной борьбе смотрел как на работу. А честные люди, как известно, работают не только тогда, когда им это нравится или выгодно. Ваня, по-моему, не представлял, что в его жизни нечто могло быть иначе. Он делал то, что нужно было делать, что делали другие честные люди. Он, без сомнения, отлично понимал: в случае провала ему, его близким грозят тюрьма, пытки, смерть. Но разве есть иной выход? И вообще — чем он лучше или хуже Других? Короче говоря, мужество военного времени у Ивана Луцкого как-то натурально вырастало из мужества мирных времен.
Это был труженик подполья.
Я знал людей, способных на подвиг. У них хватало мужества, сняв часового, ворваться в караульное помещение, выхватить из кармана «эфочку» и заставить врагов отступить в угол с поднятыми руками. Они могли средь бела дня на людной улице, в присутствии близких прохожих расстрелять изменника. Но они не были рождены для повседневной, я сказал бы, изнурительной борьбы, когда она каждую минуту испытывает тебя «на разрыв». И не час или два, а недели, месяцы. Такой, например, представлялась мне Соня, озорная, немного беззаботная. Таким казался и Яша Шиманович — подпольщик, который в моем присутствии привез Логойскому райкому гранаты, шрифт, бумагу и с которым я ближе познакомился в первый же день своего пребывания в Минске. А вот Ваня мог, как бы не замечая опасности, упрямо и настойчиво делать свое изо дня в день.
И еще. Есть люди, которые рискуют, идут на подвиг, думая о славе, будущих благах. Они верят: их подвиг что-то оправдает и будет отмечен. А потом, когда делят заслуженное с товарищами, иной раз стараются взять себе львиную долю. Ваня же принадлежал к тем доверчивым бессребреникам, которых воспитали тридцатые годы. Он добровольно взваливал на себя ношу, брал ее потому, что нельзя было не брать, оставаясь честным.
В первый же день над нами нависла беда — связи, которые дали мне за линией фронта, не все оказались надежными. Соня, посланная по одному из адресов, где я рассчитывал обосноваться, вернулась возмущенной, обиженной.
— Это предательница чистой воды, Володя! — крикнула она с порога и обессиленно прислонилась спиной к прикрытой двери.
Я помог ей раздеться, посадил на диван.
— Успокойся, пожалуйста.
— Она намеревалась звонить в СД! Даже взялась за телефонную трубку. Остудил лишь мой пистолет. Ох, как хотелось, если б вы знали, нажать спуск!..
— Телефонный шнур перерезала?
— Нет. Только предупредила… Подвела к окну и показала — смотри, мол, гражданка, это ведь наши. А потом петляла…
Я попросил позвать Ваню. Он пришел со двора, пахнущий морозцем и сеном. Заметив наше возбуждение, молча уставился на меня серыми внимательными глазами.
— Ну что же, — выслушав, пожал плечами, — будешь жить у нас. Я, между прочим, подготовил своих. Павлик уже на посту, караулит.
Мне захотелось обнять Ваню, поблагодарить его, но я побоялся, что мою благодарность примут за сентиментальность.
Прежний план рухнул. Приходилось все начинать сначала. С чего? Лежа на кровати в боковушке, поглядывая на далекое, как казалось, окно, за которым стояла мутная темень, я долго не мог уснуть. На другой кровати похрапывал Ваня, и спокойно дышал Павлик. Временами долетал металлический, с подвыванием, гул самолета, и когда он приближался, стекла в окнах тоненько дребезжали.
Представлялся город. Пустые, плохо различимые в белой зимней темноте улицы. Редкие уцелевшие громадины зданий, вызывающие удивление среди развалин. Замурованные, с узкими амбразурами окна в цокольных этажах. Сутулые часовые у подъездов за проволочной оградой. Гулкие шаги патрулей в подкованных сапогах… В некоторых районах, как говорил Ваня, они вообще стараются не показываться — боятся.
После разговора, который состоялся у меня вечером с Ваней и Яшей Шимановичем, я выбрал кое-кого из предложенных ими и, судя по всему, надежных, смелых людей, уже проявивших себя. При сложившейся обстановке с этого начинать было вернее. И вот завтра одного из них — Алеся Матусевича — Соня должна была пригласить ко мне. Журналист, сотрудник редакции «Беларускай газеты», он хорошо зарекомендовал себя, знал националистические круги и был знаком с верхушкой политиков-спекулянтов.
Придет ли он?
В воображении возникал образ элегантного, немного иронического мужчины, знающего нечто такое, чего не знаешь ты, и живущего среди таких людей и вещей, среди которых ты никогда не жил и жить не будешь. Чужое, враждебное рождает интерес. Матусевич прикоснулся к этому чужому и потому интересовал сам по себе. К тому же я знал: он переправил в бригаду «Штурмовая» целую типографию — бери и издавай партизанскую газету.
Он пришел с Соней часов в пять, когда короткий февральский день клонился к вечеру. Оконные стекла, разрисованные морозными узорами, уже не искрились, а синели, и комнату наполняли сизоватые сумерки.
Победно глянул на меня своими милыми глазами, Соня выждала, пока мы протянули друг другу руки, и неслышно вышла.
— Ваня, — донесся из кухни ее голос, — я побуду во дворе.
Нет, Алесь Матусевич оказался иным. Тронутая сединой голова, открытое лицо, худощавая, широкой кости фигура. Больше того — простонародное, крестьянское проглядывало во всем его облике. Даже было что-то от традиционного лирника, который упрочился на полотнах наших художников. И только печальный наклон головы, старательно расчесанные на прямой пробор волнистые волосы да проницательные глаза, в которых светилось внимание, выдавали в нем интеллигента.
— Значит, вы из-за линии фронта?.. Это хорошо, — сказал он густым басом и сразу стало заметно, что моя откровенность поправилась ему. — Это очень кстати… Такие события! Ста-алинград!.. Наши спадары засуетились и при всяком случае, как жулики, осматриваются по сторонам.
— Каждому свое, — заключил я.
— Понятно… Даже в канцелярию СД, к Шлегелю, реже стали бегать. «Что-то надо делать, — твердят, — делать!» Хотя руки, как и раньше, от крови не высыхают…
Я ожидал экспрессивного жеста, бурной реакции, но Матусевич почти спокойно расстегнул пальто и, раздевшись, поискал глазами вешалку. Я взял из его рук пальто, австрийскую шапку, шарф и повесил их на гвоздь, вбитый в косяк. Догадался: новый мой знакомый ни о чем не будет расспрашивать меня и постарается сам рассказывать так, чтобы не было необходимости задавать ему вопросы. Проникаясь уважением к его какой-то очень натуральной выдержке, я сказал:
— Видимо, недаром Данте поместил их предшественников на самое дно пекла — в последний круг.
— Они поедом ели не только других, но и один одного. Грызлись за вкусный кусок, за теплое местечко. Играя, понятно, в принципиальность. Из «принципа» даже доносили в СД — Козловский на Сенкевича, Сенкевич на Козловского… А сейчас, напуганные Сталинградом, торопятся еще больше. Нашлись любители, которые пытаются сколотить новую партию. Нелегальную и с прицелом!
Матусевич неожиданно приблизился ко мне и взялся за пуговицу моего пиджака.
— Я понимаю, чего вы ждете от меня, и сделаю, что в моих силах. Кстати, я уже отправил жену и старшую дочь в партизанскую зону. Пустил слух — к своим-де в деревню. Надежные люди тоже есть. Рекомендую Гришу Страшко…
Война, возможно, как ничто иное, обнажает достоинство людей, показывает цену их слав и искренности. Это — испытание. Жестокое, но почти безошибочное, Испытание страхом, лишениями, болью и муками, правом убивать другого. Насильственно ворвавшись в жизнь людей, она все изменяет: переключает события на большую скорость, где страшную силу приобретает случай, ставит тебя в зависимость от него, заставляет по-своему смотреть на кровь, смерть и завтрашний день. Потому она закаляет одних и развращает других, поднимает со дна их душ самое мутное — такое, что, возможно, никогда и не поднялось бы на поверхность в мирных условиях.
Утром того же дня мне пришлось быть свидетелем страшной сцены.
Заключенные гетто подкупили полицейских, и те мирились, что около колючей, в несколько рядов, проволоки шла торговля. Из города сюда несли картофельные очистки и картошку, черствые краюхи хлеба и мерочки круп, а из-за проволоки примуса, золотые кольца, одежду. Хотя толпа бурлила и жестикулировала больше, чем на базаре, торговля-обмен шла здесь бесшумно. И все-таки сегодня полицейские открыли огонь — видимо, кто-то донес «по начальству». Толпа бросилась врассыпную: одни — назад, за проволочную изгородь, другие — в ближайшие развалины.
Правда — кое-кто из горожан руководствовался чувством сострадания и даже бесплатно отдавал принесенное. Но иные!.. Они попросту наживались на тех, кто был во власти голода, насилия и смерти. Что может быть более диким? А частные забегаловки, где поят очищенным денатуратом и самогоном из бузины? А карточные притоны и тайные абортарии, что начали открываться в городе. Разве это не измена прежнему, разве нет тут связи с тем, что делают изменники-политиканы?
И вот диво: вместе с этим, наперекор этому — мужественная борьба. Я, видимо, не ошибусь, если скажу: тысячи минчан имели к ней отношение. И не просто благословляли ее, являлись врагами врагов (таких было абсолютное большинство), а так или иначе принимали в ней участие, рискуя самым дорогим.
Я сказал об этом Матусевичу. Тот устало усмехнулся.
— Вы обратите внимание, что почти каждую ночь где-то что-то да будет гореть. Вот в чем главное…
Минск!
Я только что покинул партизанский край — бескрайний лесной разлив, где жизнь оставалась советской и, естественно, борьбе было подчинено все — и усилия, и мысли, и быт. Но и здесь, в плененном городе, где разместился многотысячный гарнизон врага, его армейские резервы, штаб корпуса охраны тыла группы войск «Центр», штаб и войска карательного корпуса СС, управления войск СД, полевой полиции, абвера, сила народного сопротивления была не меньшей. Это казалось невероятным, но было так. И ни зловещие застенки, ни концентрационные лагеря, ни близкий Тростенец и далекий Освенцим не могли ничего изменить. Минчан вывозили на каторжные работы, вешали на телеграфных столбах, в скверах на тополях, на специально построенных виселицах, расстреливали в подвалах круглой тюрьмы, на старом острожном дворе, в Тучинке и под Койдановом, а сопротивление нарастало. Что за явление и как назвать его?
Когда стемнело, зашел Яша Шиманович.
— Довольно, — сказал он, подходя ко мне, — пора перебазироваться.
— Что? — не понял я.
— Собирайтесь, Володя, и пойдем ко мне. Пусть Луцкие ночи две поспят спокойно. А завтра я познакомлю вас с латышом и профессором. Ей-богу, понравятся. Колоритные!..
Задорное лицо его тронула усмешка. Однако по тому, как быстро она сошла, стало ясно: он не только просит, но и настаивает, ибо привык задавать тон и распоряжаться.
— Что ж, можно, — участливо согласился Ваня, прикрывая за Шимановичем дверь. — Благо недалеко тут…
Мы вышли вдвоем.
Ночь была звездная, вдали мерцали, как мерцают только в мороз — ярко и зябко, — редкие городские огни (немцы светомаскировки еще не вводили).
Почему-то была уверенность, что Яша Шиманович еще холостяк. Так независимо, без особой оглядки, принимал он решения и вел себя. Оказалось же, у него есть жена и дочурка, — такая же, как и мать, белокурая, с большими удивленными глазами. Говорят, волосы как лен. В самом деле волосы у девочки были шелковистые, как лен, их тянуло погладить.
— Зина, это Володя, — представил меня Яша жене: значит, все было решено заранее и совместно.
Внимательно рассматривая меня, та поздоровалась, спустила с рук дочь, и вскоре на столе уже дымилась миска тушеной картошки, стояли квашеная капуста, огурцы.
— Подкрепитесь, — предложила хозяйка. — У Луцких не очень густо…
Теперь, когда писались эти строки, признаюсь: я колебался, рассказывать или нет о том, что произошло дальше. Стоит ли? Не поймут ли все это по-своему и не обидится ли кое-кто? Но потом решил — надо. С разными людьми приходилось встречаться в те времена и в разные попадать ситуации, значит, они тоже оставляли свой отпечаток на событиях и жизни. Да и сама жизнь, как выяснилось, была более сложной.
Не успел Яша, в котором уже всколыхнулся азарт рассказчика, дойти до главного в своих подпольных приключениях, как в оконную раму постучали. Требовательно, с угрозой.
Хозяйка засуетилась, но тут же решительно взяла на руки дочь и подошла к окну. Приоткрыла занавеску и глянула во двор. Потом, как-то обессилев, видимо потому, что от сердца отлегло, повернулась к нам.
— Там Савчик, — кивнула она головой на окно.
Теперь побледнел Яша. Лицо у него угрожающе заострилось, тонкие ноздри хищно раздулись. Он хлопнул себя по карману и рванулся из комнаты.
В раму застучали громче. Послышалась возня — сначала под окном, потом в сенях. Дверь в комнату открылась и с силой захлопнулась.
— Не пус-скаешь?.. Ага! — кричал кто-то с пьяным вдохновением. — Думаешь, я да-аром тебе гранаты таскал? Черта с два!.. Разделили между собой все, что партизаны прислали, а мне одни потроха достались. Пусти, проверю! Я не меньше тебя рисковал!..
Это могло кончиться плохо. Я открыл дверь и стал на пороге.
Яша держал за ворот низкорослого человека в кавалерийской бекеше, а другой рукой старался зажать ему рот. Человек вырывался, крутил головой и все хотел что-то крикнуть еще.
— А ну, довольно! — сказал я. — Как не стыдно!
…Назавтра Яша познакомил меня с Александром Платаисом — начальником гаража при Доме печати.
Встретились мы с ним прямо на Пушкинской улице. Поздоровались, как знакомые, и неторопливо подались к парку Челюскинцев, деловито и тихо разговаривая.
В потертом демисезонном пальто, с пустым левым рукавом (я знал, что у него когда-то была раздроблена ключица), худой, высокий, он произвел на меня сильное впечатление. Чем? Скорее всего, своим видом. Точнее, несоответствием этого вида внутренней силе, которая давала себя знать, и в убежденности, с какой он говорил, и в строгом, будто застывшем на одной какой-то мысли, узком лице. Чувствовалось, он принадлежит к людям, которые имеют в жизни свои определенные, ясные задачи и последовательно осуществляют их, чего бы это им ни стоило. Он не боялся ни грязи, ни бед. Пил с немцами и даже помогал им красть у самих себя, лишь бы это помогало ему делать главное. И Платаису верили свои и чужие. Когда же позже, арестованного, — он все же, как оказалось, был больше массовиком, чем конспиратором, — гестаповцы пытали его и нарочно нажимали, давили на раздробленную когда-то ключицу, Платаис так ничего и не сказал им ни о себе, ни о других. Наверное, эта была его последняя задача, которую он поставил перед собой.
Мы подошли к парку. После развалин и убогости — печные, из жести, трубы были выведены из окон и в центральном здании Академии наук — парк выглядел нетронутым и нездешним бором.
— Ладно, — согласился Платаис на прощанье. — Пароль запомнил. Люди есть и будут. А при необходимости, само собой, будут автомашины и так далее. Жаль вот — поговорили мало…
С парком Челюскинцев оказалась связанной и следующая моя встреча.
Сейчас этого домика нет — сгорел. А тогда он стоял недалеко от входа в парк, среди стройных медностволых сосен. В распятом, разрушенном городе он показался мне тогда сказочным — в сугробах снега, с расчищенной к крыльцу дорожкой, с заснеженной, присыпанной сосновыми иглами крышей. А главное — из его трубы, совсем как в сказке, поднимался голубой дымок, пахло жильем, и вокруг мирно, по-лесному, стояли сосны.
Правда, тут же, за оградой, сказка кончалась. Почти напротив, через улицу, за недостроенными домами, размещался лагерь военнопленных и маячили фигуры часовых. Каждое утро лагерные ворота открывались и из них выезжали покрытые рогожей сани (часто целый обоз) — вывозили тех, кто умер ночью от мороза и голода. Но здесь, среди милых сердцу сосен, сказка все же напоминала о себе. Да разве много надо, чтобы фантазия человека создала желанный мир? Особенно когда этого хочешь…
Жил в домике сотрудник Академии наук П. И. Финкевич, который, прирабатывая на жизнь, ремонтировал керосинки, чайники, делал ведра и цинковые корыта. Вот сюда, в домик-мастерскую, и должен был прийти для встречи профессор Дорожкин — биолог, известный когда-то выращенными им видами ракоустойчивого картофеля.
Связь с Николаем Афанасьевичем давала большие возможности и была на то время принципиально важной. В Минске открылся так называемый штаб Розенберга, созданный, чтобы организованно грабить достояния нашей науки. Кроме того, совместными усилиями немцев и их прислужников готовилась очередная провокация — провозглашение «Белорусского культурного общества», призванного объединить творческую интеллигенцию Белоруссии и «приблизить ее культуру к европейским культурным основам». Иначе говоря, чтобы она обрабатывала народ в нужном, захватническом духе и делала как можно больше людей прямо или косвенно виноватыми перед родной властью. Потому необходима была не только оперативная информация, но и соответствующие меры.
До этого времени мы ходили с Яшей плечом к плечу, или, страхуя меня, он следовал за мной сзади. А тут, в парке, мы вдруг как бы забыли друг о друге.
И когда я зашел в дом, Яша, развалившись, сидел на тахте, а хозяин, пожилой, лысеющий мужчина, накрывал на стол, придвинутый уже к тахте.
— Мы решили эту встречу обставить фундаментально, — засмеялся Яша и открыто подмигнул мне. — Благо один заказчик Петра Ивановича сегодня животовкой расплатился. Даже если кто и зайдет, так пусть заходит.
Возражать, не обидев его и хозяина, было поздно.
— Вам лучше знать, — сказал я, видя, как качает в знак согласия лобастой головой и искренне улыбается Финкевич.
Перехватив мой взгляд, поставил на стол сизые, закупоренные бумажными пробками бутылки, подошел и взялся руками за мои плечи.
— Неужели из-за линии фронта? А? — спросил пресекающимся дрожащим голосом. — Поверьте, может, только сейчас и чувствует, каким оно было, прошлое. Давай, Яша, помогай мне…
Я и ранее замечал, как хорошеют люди при упоминании о Большой земле. Даже те, которые побаивались ее или сомневались — поймет ли она их муки, простит ли их, что, может быть, не все возможное сделали в войне? Примет ли во внимание обстоятельства, в которые попадали они, или останется глухой ко всему, кроме анкеты? Бывали же случаи…
Профессор Дорожкин пришел не один. Взял с собой дочь — маленькую, в кудряшках девчурку; в дверях сначала показалась его склоненная спина — он ожидал, пока девочка, держась за его руку, переступит порог.
Взял с собой дочь!.. Это не могло быть просто конспирацией. Значит, он заранее принимал любое задание и готов был идти на самые большие жертвы. Правда, во всем этом могло таиться и напоминание: «Хорошо, я согласен и пойду на все, но пойду не один. Не забывайте, пожалуйста, и об этом…»
Еще моложавый, с темными, зачесанными назад волосами, со смуглым, чуть восточным лицом и быстрыми, умными глазами, он остановился у двери, не выпуская руки дочери.
— Как там Иван Матвеевич? — спросил, поздоровавшись, и сел на тахту рядом с Яшей. Взял дочь на колени.
— Наводит советские порядки в районе, организует самооборону в деревнях, — ответил я. — Просил передать вам привет.
— И долго пробирались к нам?
«Испытывает», — подумал я и, подхваченный невольным чувством, вынул из кармана новенький «ТТ».
— Видите, еще не успел заржаветь.
Дорожкин взял пистолет, незаметно взглянул на дату выпуска.
— Да, еще теплый… Вас, безусловно, интересуют наши дела?..
Сидя за накрытым, как для пирушки, столом, мы долго говорили о деятельности розенберговского штаба, об ученых, оставшихся в Минске, о принимаемых немцами мерах привлечь их на свою сторону. А когда договорились о пароле и явках, я попросил:
— Сделайте, Николай Афанасьевич, пожалуйста, так, чтобы в руки захватчиков как можно меньше попало ценных документов. Вы понимаете меня? Изымайте их и прячьте в тайниках. Они еще послужат нам. Пусть будут на примете и люди, которых стоит вывезти из города. Остальное позже, через связных…
Тем временем Иван Луцкий и Соня готовили новые встречи. На явочную квартиру по Цнянской улице — в двухэтажный, барачного типа дом, оштукатуренный снаружи, — Ваня привел Лидию Девочку. Она заведовала аптекой по улице МОПРа. В тайниках аптеки хранились не только медикаменты, бинты, заготовленные для отправки в лес, но и листовки, мины, полученные из леса.
Когда я вошел в комнату, то увидел стройную симпатичную девушку с простой, строгой прической, в скромном, но со вкусом сшитом костюме.
Она сидела за круглым столом, стоявшим посреди комнаты, и листала книгу. Увидев меня, поднялась и подала узкую руку.
— Хорошо, что вы опоздали, — улыбнулась. — Хорошо, что и хозяин с Луцким на посту. — И без особого перехода, торопясь, начала говорить: гитлеровцы во время очередной блокады решили применить отравляющие газы и бактериологические средства. — Нужно что-то делать, предупредить партизан, товарищ Володя!..
Второй раз я встретился с Девочкой через несколько дней. Но уже не с одной — она привела с собой друзей-соратников: Захара Гало, работавшего по приказу подпольщиков в городской управе, и рабочего железнодорожной товарной станции Викентия Шатько.
Помнится, они показались мне тоже красивыми не только потому, что были молодыми. Шатько — чубатый, лобастый, с широко поставленными, страшноватыми для девушек глазами; Гало — с приятным, тонко очерченным лицом, какое бывает у людей с чувствительной, поэтической душой.
Мы сели за круглый стол. И, видя, что все молчат, я предложил:
— Ну что же, товарищи, начнем. Прошу, будьте добры, рассказывайте, какие у вас новости.
— У нас? — нахмурился Шатько, сбрасывая с колена руку друга, который, видимо, хотел сдержать его. — Почему мы должны это делать?
— Хотя бы потому, что вы пришли сюда.
— Два месяца назад, после разгрома, нас тоже пробовали собрать. И также «десантники из-за линии фронта». Прилетели, мол, вручать правительственные награды… Вы, грешным делом, не награды привезли?
— Пусть так, — ответил я. — Но вы ведь все равно, дорогие товарищи, в моих руках. Есть в этом логика?
В отчаянных глазах Шатько полыхнул недобрый свет: он не принял моей шутки.
— О, нет! — выкрикнул. — Пока вы здесь, вы в наших! — И положил на стол наган.
— Викентий! — вмешалась Девочка, видя, что я тоже кладу перед собой «ТТ».
— Спокойно, товарищи! — попросил Гало.
Трудно сказать, чем бы все это кончилось, но вошел Иван Луцкий и разрядил атмосферу. Да и мое поведение делало свое. Однако было ясно — требуется что-то еще, — и я заговорил о Большой земле, о событиях на фронтах. И опять начали меняться, расцветать лица у присутствующих.
— Вы не обижайтесь, — сказал Гало. — Не так давно арестовали человека, который первым из нас здесь, в развалинах, и на Логойском шоссе начал войну. Карал и подрывал… Мы боготворили его. Я говорю о Жане. Вы, конечно, слышали о нем…
На глазах у Девочки заблестели слезы.
— В самом деле, товарищ Володя… Викентий словно ошалел. Захар рвется в лес. Ему осточертело играть в верноподданного!
Ни Захара Гало — Зорика, ни Викентия Шатько — Огнева — нет сейчас в живых. Зорик и Огнев!.. Чего стоила одна, скажем, майская операция Викентия и его товарищей! Им удалось на глазах железнодорожной охраны заминировать эшелон с авиабомбами, замаскированными тюками сена. Мина была замедленного действия, и эшелон, как и рассчитывали, дошел до станции Руденск, куда перед этим прибыл состав с бензоцистернами. И, понятно, ухнуло! А юный Зорик, чьи аусвайсы, пропуска, разрешали и днем, и ночью действовать подпольщикам, разведчикам и связным!.. Однако тогда Шатько и Гало только набирали разгон. Но мне кажется, что уже и тогда угадывалось их славное, крещенное огнем и смертью будущее.
Нисколько не смущенный стычкой, будто ее и не было вовсе, Шатько пожаловался:
— Немцы настороженны, как осы. С толом управляться неудобно и тяжело. Неужто мы так бедны, что нет «магниток»? Дайте «Магнитки»! Неужто не понятно, что мины здесь в сто раз нужнее? А железнодорожники выполнят задания.
— Это правда, хочется в партизаны. Очень… — задумчиво отозвался Гало. — Но, признаться, мне все больше доверяют. Спадар бургомистр собирается даже послать в Германию, изучать опыт работы с молодежью. Видите, какая честь и доверие… И я, безусловно, останусь. Только дайте живое дело…
Я уходил первым. Простился и увидел, что не одному мне грустно от этого прощания.
События, казалось, развертывались счастливо. Товарищей становилось все больше. И каких товарищей! Но беспокоила мысль: у всех ли из них хватит выдержки ждать — идет ведь война! — пока то, что создавалось тобой, придет в движение и каждый займет определенное ему место, чувствуя рядом плечо невидимого друга, а за спиной — целое государство?
На эту мысль навел меня еще Алесь Матусевич. Я остро почувствовал его стремление к делам. Он связался с подпольным Логойским райкомом и посылал туда разведданные. Он установил связь с партизанской бригадой «Штурмовая» и переправил туда шрифт и типографскую краску. Ища новых дел, он пришел ко мне.
Когда я предложил Шатько и Гало порвать наиболее опасные связи, они задумались.
— Остаться мы останемся, это факт. Можно и порвать, — наконец сказал Викентий. — Но при одном условии — если это разрешат нам сделать сами дела.
— И совесть! — воскликнул Зорик.
Многие тогда, по-моему, были убеждены, что в военное время одна задача — наносить военный урон врагу, что цена людей после войны будет измеряться в первую очередь этим. Особенно тех, кто был на оккупированной земле, ходил рядом с врагом и мог дотянуться до него руками. Далекие цели им казались, пожалуй, чем-то эфемерным. В самом деле, что ты скажешь родной власти, если ты не убил ни одного немца или немецкого прислужника, если не взорвал ни одного склада или станка в заводском цехе? А что отчитываться в этом придется, знали все.
Следовательно, необходимо было что-то делать немедленно. Тем более, как показали последующие дни, это подсознательно жило и во мне.
Поселился я опять в домике на Добролюбовском проезде.
В первые же сутки, как я перебрался туда, опять произошло ЧП, да не одно… Уже стемнело, в права вступил комендантский час, когда на улицах пусто и они живут в ожидании плохого. А перед этим еще кружила, мела метель. Сугробы гребнями поднимались у заборов и домиков, вырастали поперек проезжей части улиц. Ни санного, ни человеческого следа, а в нескольких шагах от тебя муть, мгла.
Ваня вбежал ко мне с дымящейся картошкой в руке.
— Кто-то, Володя, идет к нам. Кто бы это мог быть? Что сказать, если станет спрашивать о тебе? И вообще?..
Это был Алесь Матусевич. Возбужденный, довольный, он обеими руками поздоровался со мной и, уже сам, как хорошо знакомый, раздеваясь, заговорил:
— Ваш пикет за квартал меня встретил. Такие дела. Вы только почитайте! Получил под расписку. Как будто специально для вас.
Я взял довольно толстую сброшюрованную кипу бумаг, которую Матусевич сунул мне, и, листая, начал просматривать ее.
В самом деле это было интересно. Я держал в руках отпечатанный на шапирографе первый номер «Бюллетеня», где торжественно и возвышенно сообщалось об образовании так называемой «Независимой партии». Затем шли устав, программа, хроника — все как следует…
— Обратите внимание на задачи и цели, — не мог остановиться Матусевич. — Борьба на два фронта! Видите хронику — «Немецкие и советские жертвы»? Что это? Провокация абвера?
— А может, трюк союзников?
— Какое вероломство!.. И знаете ли, эти же вот самые зависимые и независимые на днях дружно собираются сварганить банкетик. Будут отмечать сотый номер своей «Беларускай газеты», которая верой и правдой служит гитлеровцам. Так как же так можно? Какая гадость!
Матусевича оставляла выдержка. В нем, мирном человеке, который до войны, как я уже знал, с любовью землероба только и писал о торфяниках и осушке болот, пробуждалась жестокость.
Коптилка мигала. Полумрак в комнате вздрагивал. И в этой мерцающей полутьме фигура Матусевича выглядела еще выше, а лицо казалось гневно-багровым.
— Вы смогли бы попасть на это их сборище? — спросил я, заражаясь его азартом.
— На банкет? — переспросил он, и мало что изменилось в нем, разве что дернулись губы. — При желании, думаю, мог бы…
Когда-то мы с Леонидом Политаевым тоже пробовали расправиться с местечковыми верховодами. Но тщетно. Для удачи, видимо, необходимо, чтобы подобная мысль-идея зародилась не только у нас одних. Нужно, чтобы она жила или хотя бы подспудно созревала у тех, кто должен осуществлять их. Нужен и соответствующий накал борьбы. А этого всего, видимо, там не оказалось. Главный врач местечковой больницы мог бы передавать партизанам разные лекарства, мог бы даже, рискуя, при случае оказать медицинскую помощь им, но на большее он не был способен и стал отступником. А тут? Скорее всего тут дело обстояло по-иному. На меня нахлынули мысли.
— Слушайте, дорогой Алесь, — дотронулся я до его плеча, — а что, если взять да и шарахнуть эту мразь? Будет ли честно, если, имея такую возможность, мы пройдем мимо нее? Сколько сохранилось бы жизней, душ!..
Теперь лицо его, оставаясь спокойным, начало все же меняться, и Матусевич будто худел на глазах.
— Вы предлагаете уничтожить их? — спросил он, сердясь не то на меня, не то на самого себя.
— Да!.. Причем вы получите все, что необходимо. Даже автомашину. Хотите — «опель-капитана», хотите — грузовик. При необходимости кроме шофера неподалеку будут и ребята, которые прикроют вас.
Наступило молчание. Стало слышно, как на другой половине закашлял Ваня Луцкий.
— Ну что же, я понимаю… — проговорил Матусевич через минуту. — Ну что же… Придется только вывезти младшую дочь и кое-что из библиотеки…
И вот что бросилось в глаза: Алесь держал себя уже так, будто задание должен был выполнить кто-то иной, а не он.
Что это было? Скорее всего — осознанная необходимость.
Утром за очередным поручением пришла Соня. Она успела уже побывать на базаре и купить себе кубанку — барашковую, с ярким донцем, перекрещенным нашитыми полосками. Став у зеркала, высокомерно бросила платок на спинку дивана и, довольная, что избавилась от него, надела кубанку. Вызывающе, набекрень.
— Дома пришью красную ленточку. Вот так, наискось, — показала она, хитро посматривая то в зеркало, то на меня, и, уперев руки в боки, приняла гордую позу.
Порозовевшая с мороза, в ухарской кубанке, она нравилась себе, и это веселило её, подбивало на озорство.
— Что нового на базаре? — смутился я.
От ощущения независимости, оттого, что может озадачить старшего, Соня сделалась совсем веселой.
— Видела спекулянтов, бедность Что еще? Даже облавы не было… — И вдруг погасла. — Там ходил один немец с бутылкой брандвейна. И все совал ее, совал всем. И не просил, а приказывал, чтобы ее купили у него. За кого они нас принимают, Володя?..
Но тучка как быстро набежала, так быстро и рассеялась.
— Мне сегодня к Страшко?
— Да.
— Отважный он, Володя! Загорается, как порох, но положиться можно…
Она ушла. Понемногу разошлись и остальные. Дозорным остался один Павлик.
События брали меня в плен, подгоняли, кружили голову. Я чувствовал это. Понимал: в таких условиях выдержка особенно нужна. И все-таки желание сделать что-то еще и еще усиливалось. Росла и вера в людей— вон какие они и на что способны!
Ночью я не успел дочитать «Бюллетень». Приоткрыв занавеску, чтобы видеть двери, спрятал под подушку пистолет и лег на кровать.
В комнате, которая нравилась мне своим простым уютом, было тепло и светло. Тикали ходики, по-моему, даже стрекотал сверчок — так мирно, певуче.
Я слышал, как хлопнула калитка и кто-то вошел в сени.
«Павлик», — подумалось с благодарностью. В дверь постучали.
— Входите, — разрешил я.
На пороге показались двое… бравых, в форме украинского батальона. Один чернявый, с винтовкой, другой почти белокурый, с ручным пулеметом.
Медлить было нельзя. Если они одни и я их опережу, это может спасти. Выстрелов на улице не услышат. А если и услышат, не так страшно: немцы часто стреляют сами — по воронам, по лепным карнизам руин, по фарфоровым чашечкам на телеграфных столбах с оборванными проводами.
Не спуская с нежданных гостей глаз, я сунул руку под подушку.
Но тут произошло совсем непредвиденное. Те быстренько поставили оружие в дверях и отступили на несколько шагов.
— Мы к Полине… Она дома? — заторопился чернявый, подозрительно и настороженно наблюдая за моей рукой.
Он явно догадывался, что под подушкой, и боялся как того, что я выхвачу пистолет и начну стрелять, так и того, что просто увидит в моих руках оружие.
— Садитесь, — предложил я.
Появились новые опасения. Правда, опасность пока что миновала меня. Но потом, когда они опять возьмут оружие? Выйдут на улицу? Увидят своих?
— Вы давно знакомы с Полей? — поинтересовался я, чтобы выиграть время.
— Не очень… — виновато ответил чернявый. — Мы ведь в змиевском гарнизоне служим. Знаете, под Семковым Городком? Сюда за боеприпасами приезжаем. Поля нам новости сообщает…
«Ага!..» — вскипело во мне, и я пошел напролом — их нужно было ошарашить. Встав с кровати, я вынул из-под подушки пистолет, сунул его в карман и ступил к двери. Заметив, как гости бледнеют, бросил:
— А о разгроме под Сталинградом она вам сообщала? Слыхали? Тогда чудесно. А о завтрашнем дне думали?
Чернявый заерзал на стуле, но второй остался сидеть со сжатыми губами. От безысходности в нем, видимо, что-то медленно, но неуклонно вызревало.
— Мы можем оставить вам патронов и часть гранат, — наконец сказал он, прикуривая от зажигалки и жадно затягиваясь дымом.
— Этого мало! — не согласился я. — Для вас этого мало.
— Он наш командир, — подсказал чернявый, — он вправе решать. Но, пожалуй, нужно поговорить с остальными…
Он начал проявлять инициативу, наверно заботясь уже о будущем. Это было неплохо, но хотелось услышать больше.
— Исчерпывающий ответ разрешите дать завтра, — догадался тот о моем желании. — Хотя почти все наши тоже ищут способов связаться с партизанами…
Он говорил немного зло, с вызовом, но ему хотелось верить. Было видно: он вряд ли изменит слову и отступит от принятого решения, хотя очень ждет счастливого конца сегодняшней неожиданной встречи. Но так или иначе, с ним можно было разговаривать начистоту.
— Будут условия, — прервал я его. — Если ваш шеф заартачится — расстрелять. Казармы сжечь. Все боеприпасы, оружие взять с собой. Пойдете с проводником…
Каюсь снова — я больше думал о деле, чем о своих товарищах. Правда, меня немного оправдывало то обстоятельство — я не так уж много думал и о себе. Но разве это что-нибудь меняло?
Когда вернулся Ваня, я рассказал ему о случившемся и попросил подготовиться к походу: на его долю выпадало не менее опасное — проследить за выполнением намеченного плана и отвести гарнизонщиков в партизанскую зону.
А мне самому? Самому необходимо было, не медля, перебраться на другую квартиру — на Беломорскую, 48… К Николаю Савчику. Чем я руководствовался, принимая это решение? Опять же чувством, которое укреплялось во мне здесь, в Минске. И нужно сказать, оно не подвело меня. Я попал в семью, где царили нужда, бедность, но с ними — и глубокая преданность прежнему.
Яша Шиманович приехал за мной на «опель-капитане». За квартал от дома шофер Владимир Некрыш поднял капот и принялся копаться в моторе, пока я не сел в машину.
До этого времени я видел одни окраины: Сторожевку, Комаровку, Пушкинский поселок, район Болотной станции, парк Челюскинцев… Домики здесь в большинстве сохранились. Только скособочились, ослепли, вросли в землю. А в центре… что здесь было!
По Логойскому тракту мы выехали на Советскую улицу. Нет, не на улицу — ее не было, — а на расчищенный проезд между заснеженных руин, из которых там и тут торчали покореженные железные балки и прутья. И хотя слева, над руинами, на Золотой горке, маячил костел без колокольни, а напротив — расписанный камуфляжем дом, все равно казалось: едешь по каким-то раскопкам, начатым и брошенным. Только за Свислочью можно было с горем пополам узнать когда-то знакомое — здания, коробки бывших строений, сквер. Зато развалины здесь были еще страшнее. Они поднимались изувеченными громадами, которые, казалось, вот-вот рухнут. От бывшего кинотеатра «Чырвоная зорка» сохранилась одна фасадная стена. Над черным дверным проемом навис балкон. Как он держался?
Тут и там руины обвалились, осели, стали курганами. По мертвым кварталам люди проложили тропинки, и они почему-то проходили как раз по этим курганам. Но больше всего удивило меня то, что раздробленный кирпич пробивался сквозь снег и тропинки были рыжими, будто из-под них проступала ржавчина или кровь.
Вокруг господствовало безлюдье. Встретилось только несколько автомашин да обоз огромных фур, которые тянули кряжистые битюги с хвостами-культяпками.
Ехали мы к профессору Клумову, который заведовал хирургическим отделением Первой городской больницы. Когда повернули на Ленинскую улицу, на угол вышел патруль полевой жандармерии — с автоматами, в касках, зеленоватых шинелях. У одного из жандармов на груди висела бляха-полумесяц. Она придавала ему начальнический вид. Он чувствовал это и держал голову важно, спесиво.
Сколько жизней подпольщикам и партизанам спас Евгений Владимирович! Четыре полевых партизанских госпиталя оборудовал он, обеспечив их медицинскими инструментами, препаратами, перевязочным материалом — всем необходимым. А тот, кто прошел сквозь войну, знает цену индивидуального пакета или ампутационного ножа, тем более если он заменил ножовку или ржавую лучковую пилу.
Еще сильный, крепкий, с пушистой, тронутой сединой шевелюрой, Клумов стоял перед нами, ожидая, что мы скажем.
— Я хочу познакомить вас с товарищем Володей. Он из-за линии фронта, профессор, — открыто сказал Яша, представляя меня. — Вы не против?
— Ну-ну, интересно, — поднял лохматые брови Клумов, не слишком удивляясь Яшиным словам. — Но сначала объясни: почему я, по-твоему, могу быть против? Разве это не радость? Твоя и моя… Ты знаешь, о чем это г-говорит?
— О чем, профессор?
— О-о-о!
Это было для меня новостью. Ни подобной откровенности, ни подобной отрешенности от тревог о себе я еще не встречал.
Жестом он указал нам на белые табуретки у белого стола.
— Читаю Достоевского. Его «Д-дневник», — признался с улыбкой. — Иной раз возникает потребность разобраться и в психологии ницшеанства. Но вот знаменательно — и там чу-увствуешь: человеконенавистники обречены. Вообще — что питает их в жизни? Из живого, конечно. Ничего. А что они м-могут? Могут оскорбить людей, принести им страдания, пролить море крови и захлебнуться в ней. Все!.. Потому важно одно — приблизить эту их гибель. Хотя, по правде говоря, х-хочется, чтобы стоила она не столько, сколько стоит. Ну, а как там м-матушка Москва?
Я начал рассказывать.
— Да иначе и быть не могло! — воскликнул Клумов. — А ты, друг подп-польщик, спрашиваешь… — И, будто в том добром, что услышал, он черпал силу, стал напористо развивать мысли, как и что, согласно его соображениям, стоит сделать, чтобы события развивались более счастливо.
Я сказал, зачем заглянул к нему.
Евгений Владимирович задумался, провел по лицу ладонью и протянул мне руку. Но в этом его согласии я не почувствовал прежней решительности, хотя он и пожаловался:
— Да, с этими партизанскими связными б-бывает всякое. Иногда за помощью обращаются п-просто ферты, которым море по колено. «Дайте», «Подготовьте», «Имейте в виду»… Вы не разрешите показать вас жене? У меня нет от нее секретов. Галя, иди сюда!
В дверях появилась пожилая женщина в черном. К сожалению, она только и запомнилась такой — приятное лицо, седина на висках и черный наряд.
— Галя, — певуче сказал Клумов, — посмотри, Га-аля! Этот товарищ оттуда, издалека… Ты понимаешь? П-послушай, что говорит он о Москве!
В нем, видимо, всколыхнулись воспоминания, грусть. Он пододвинул свою табуретку жене и стал сзади, положив ей на плечи руки. Поднялся было и я, но Клумов энергично запротестовал:
— Сидите и рассказывайте. Рассказывайте, пожалуйста…
Я, разумеется, не знал тогда, что было уготовано этим славным, мужественным людям, которые укрепляли друг в друге веру и были готовы ко всему. А ожидало их страшное…
Долго задерживаться было нельзя — приближался комендантский час.
— Да-а, — вздохнул Клумов, — вы имеете резон. Хватит… Передайте там, что я выполню лю-убое задание…
Человек чувствует границу возможного, за которой беда. Это чувство обостряется, когда ходишь рядом с ней.
Когда для удачи нужны десятки счастливых случайностей, а для провала — всего одна несчастливая. Казалось, все должно быть наоборот. Человек привыкает к опасности и случайностям. В нем нечто притупляется от них. Верхолазы, повторяю, не замечают привычной высоты. А вот чувство, что натянутый до последнего спасательный пояс, когда ты возьмешь в руки чуть больше тяжести, порвется, наверно, есть и у верхолазов. Во всяком случае, я почувствовал — граница!
Правда, многое само пришло к своему логическому концу. С задания вернулся Ваня Луцкий. Усмехаясь, доложил, что расквартировал гарнизонщиков со Змиевки в лесной деревне Якубовичи и те ждут меня. Ждет и Тимчук и, кажется, отдал распоряжение подготовить кое-какого «снадобья» для встречи. А здесь, в городе? Алесь Матусевич отправил дочь и получил от нас все необходимое. Шоферу Некрышу передали приказ в назначенное время быть с машиной на Обойной улице, вблизи от домика, где соберутся немецкие прислужники, и вывезти за город человека, который подойдет к нему с паролем. Я сходил к Матусевичу и в опустевшей квартире продиктовал листовку-приговор. К тому же не было секретом — после террористического акта все контрольно-пропускные пункты закроют, и город будет блокирован. И, наконец, — вот оно, предчувствие! — Платане передал через Яшу немецкий план Минска и новость: в СД начали поступать неясные сигналы — угадывалась какая-то активность подпольщиков. Значит, оставалось или притаиться и ждать, или немедленно оставить Минск. Платаис настаивал на последнем, обещая обеспечить автомашиной.
Однако в назначенные три часа машина не пришла. Не было ее и в четыре. «Неужели беда?..» Сбитый с толку, я, однако, приказал Ване запрягать верного сибирячка. За эти дни он отдохнул, стал сытее, шерсть на нем залоснилась.
Это почему-то придавало уверенность, и мы двинулись в путь довольно бодро. Чтобы миновать контрольно-пропускной пункт, Паперню, поехали мимо Болотной станции в направлении Боровцов.
Как и тогда, управлял лошадью Ваня Луцкий, как и тогда, закутанная в платок, рядом с ним сидела Соня. Но настроение и мысли были другими. Я уезжал от опасности, от возможной беды, мой отъезд отводил ее и от других, но вместе с радостью во мне жила и печаль. Было чрезвычайно жаль того, что оставлял в Минске, тревожно за Матусевича, горько… за многое горько. Беспокоило предчувствие — это еще не все…
Километров через семь догнали крестьянскую подводу. Я соскочил с саней и, пробежав, подсел к дядьке. Поклажа его показалась мне необычной — узлы, чемодан, книги, домашние вещи, — но я не придал этому значения. Попросил закурить.
Смеркалось. Синели небо, лес на горизонте, холмистое снежное поле. Крепчал мороз.
В кожухе, меховой шапке, дядька, не зная, как держать себя, настороженно молчал. Не слишком хотелось говорить и мне.
Почему Ваня не предупредил меня о Цнянском торфозаводе? Наверное, позабыл в хлопотах и волнении. Но как только мы поднялись на один из холмов, вечернюю тишину разорвала очередь. Над головой просвистели пули.
— Стой! — послышался возглас. — Слазь с саней! Быстро!
Я толкнул дядьку локтем и попросил:
— Гони, гони, браток!
Но он, что-то буркнув, соскочил в снег и натянул вожжи. Задрав голову, сзади остановился и наш сибирячок. Хомут у него полез на уши.
Только сейчас я увидел занесенный снегом дзот и четыре фигуры, выросшие из снега. По шинелям и оружию узнал — немец и солдаты так называемого «украинского батальона».
Что ответил мне дядька, я не услышал и только по тону догадался — давал какой-то совет.
А те приближались.
Дядька бросил вожжи и побежал навстречу.
— Степан! — крикнул он. — Это же я, Сергей из Боровцов! Неужто не узнал?
— А эти откуда? — опуская винтовку, спросил Степан.
В голове внезапно установилась ясность. Мысли стали четкими, быстрыми. Такими быстрыми, какими, по-моему, никогда не были.
— Мы тоже из Боровцов! — опередил я дядьку и шепотом сказал своим: — Без приказа не стрелять, товарищи!
Теперь картина выглядела так. Навстречу Степану торопился дядька. Двое охранников напрямик, по целине, быстро шли ко мне с Ваней. Немец, переваливаясь, ковылял к Соне, рассчитывая, видно, подойти, когда нас обыщут. Однако прежней настороженности у них не было.
Остальное совершилось за минуту — предельно сконденсированный промежуток времени, когда события набегают одно на одно, совершаются параллельно и трудно восстановить их порядок.
Тот, кто подошел к Ване, оказался более опытным. Он схватил его за живот и сразу нащупал под ремнем пистолет. Но от неожиданности растерялся. Растерялся и Ваня. Отмахиваясь от охранника, как от привидения, он начал отступать.
Видя это краешком глаза, я сказал «своему» охраннику:
— Мы партизаны. Ясно? Хочешь стреляться — давай. Нет — поедем вместе. Скажи и тому!..
А тот, сделав несколько шагов с протянутой рукою, вспомнил, что у него есть винтовка.
Выбора не было. Не вынимая «ТТ» из кармана, я выстрелил. «Мой» охранник ахнул, схватился руками за живот и, скорчившись, осел на землю. Второй же выстрелил. Но не в Ваню, а в меня, в упор. Я как раз поворачивался к нему, и пуля разорвала мне верхнюю губу. Но боли я не почувствовал. Как сейчас помню, большой палец у меня потянулся, чтобы взвести курок, но мысль: «Зачем? У меня же самовзвод!..» — остановила палец, и я выстрелил опять. Охранник с разведенными руками повернулся спиной, сделал шаг и выпустил винтовку. Но упали они одновременно и после того, когда я выстрелил еще раз.
Уже от первого выстрела все пришло в движение. Дядькина лошадь шарахнулась в сторону и понеслась по целине. Немец, не дойдя до Сони, бросился назад. Не знаю, что стряслось с дядькой. Потому что, когда я выстрелил по немцу и тот упал, я увидел одного Степана. Подняв кулаки вверх, он нещадно матерился и бежал к дзоту.
— Огонь, туда вашу мать!.. — захлебывался он криком, не соображая, что сам мешает им стрелять в нас.
Мы вскочили на сани. Я схватил вожжи, но Соня заставила меня пригнуться и прикрыла собой.
Сибирячок несся под гору вскачь. И когда из дзота застрочил пулемет, пули шли уже где-то над нами.
Дядькина лошадь, описав дугу, тоже вынеслась на дорогу и, когда мы спустились в ложбину, догнала нас. Соня вытерла мне лицо платочком и пересела па подоспевшую подводу. Ногами растолкала вещи, которые мешали ей удобнее примоститься. Кто знал, что они — Алеся Матусевича и что на следующий день его двоюродный брат придет за ними к нам в подпольный райком? Да если бы и знали, вряд ли подумали о них. Не ведаю, как кому, а мне — я понимаю, это жестоко, — хотелось петь.
Да, мне везло. Не могу сказать, виновен ли в этом тот, кому везет. Наверное, немного виновен: значит, между ним и обстоятельствами все-таки имеется какое-то согласие. В райкоме я узнал: на Бегомльском аэродроме ожидают первых самолетов. Это заставило меня торопиться — мне предоставлялась возможность быстро попасть на Большую землю. В довершение всего Тимчук тоже собирался ехать с отчетом в партийный центр зоны.
Оставив себе двух знакомых по Минску гарнизонщиков, я сдал остальных, выведенных из Змиевки в бригаду «Большевик», и вместе с Тимчуком отправился в дорогу.
Выехали мы на двух возках. Лошади были резвые, погода мягкая, мглистая, и поездка сразу приобрела радостный характер.
После пережитого в Минске все окрест казалось несказанно дорогим, родным. Особенно лес — лещинник с золотистыми сережками и березы, какие-то трогательно стройные, пронзительно чистые на фоне потемневшего лилового неба. В лесу обычно теплее. Даже подъезжая к нему зимой, ты чувствуешь теплое его дыхание. Ранней же весной в укромном месте, под солнцем, теплота как бы окружает тебя, проникает в душу. И это тогда, когда ее очень жаждешь.
Закутавшись в длинную черную дубленку, положив на ноги желтую колодку маузера, Иван Матвеевич сидел задумчивый, успокоенный. Он, должно быть, думал о Большой земле, куда я направлялся, думал о себе и о своих завтрашних деловых встречах.
— Хорошо! — восхитился я, когда мы вынеслись на горушку и Тимчуков адъютант, рыжий, с густой россыпью веснушек на лице, молчаливый молодой парень, управлявший лошадью, дал нам полюбоваться окружающей красотой — натянул вожжи.
— Здесь недалеко, на шоссейке, в прошлом году мы засаду делали, — отозвался Тимчук, продолжая думать о своем. — Обстреляли грузовик. Но, видимо, огонь оказался редковатым. Многие из немцев успели укрыться в кювете. Огрызаться стали — головы не поднять. Но пулеметчик наш… Поблизости там мостик был, так он под ним пробрался на другую сторону дороги и чесанул вдоль кювета…
— Узнаю почерк, — порадовался я партизанской смекалке.
— Ого! — лукаво и весело похвалился Тимчук, щурясь от окружающего рассеянного света. — Тем паче, что этой шоссейкой немцы уже не ездят. Сельчане перерыли ее, перегородили завалами, спилили телефонные столбы.
Тимчук оживился, как по клавишам прошелся пальцами по колодке маузера.
— Гитлеровцы, по существу, распоряжаются лишь в райцентрах. На остальной территории советские формы жизни… Беженцев-минчан и тех принимаем в гражданские лагеря. Можешь — работай в швейных и сапожных мастерских. Умеешь — там, где выделывают кожи, выпекают хлеб. Выделываем даже овчины. Катаем валенки. Работают мельницы. Жителей гражданских лагерей в скором времени мобилизуем на посевную, а затем и на уборку урожая. На заседаниях райкома командиров и комиссаров заслушиваем не только о боевых делах. Рассказывай и о воспитательной работе. Плюс институт инструкторов, работа с секретарями первичных парторганизаций. В партию, браток, принимаем, как в мирное время… И задача теперь новая — главные удары по коммуникациям. Бьем их на дорогах и таким образом защищаем мирное население. В драматическом оно, надо сказать, положении пока что…
Есть люди, живущие лишь одним. О нем не устают говорить. О нем только и заботятся, для него ищут лучшего, наилучшего. Остальное как бы вне их внимания. Но, являясь вот таким одержимым, Тимчук оставался богатым в своих проявлениях, потому что его хлопоты были о большом и высоком — обо всем добром и хорошем для других.
Мне сделалось завидно, хотелось взять это себе от Тимчука, вдумчивого, рассудительного, для которого заботы о народе стали профессией, смыслом жизни.
Ночевали мы в Ходоках, и, помнится, как-то само собой кто-то, скорее всего хозяин, вытопил нам баньку, и мы всласть «пострадали» на полку, стегая себя душистым березовым веником.
Бегомльский аэродром запомнился ночным. Ожидая самолет, я поселился в близлежащей от аэродрома деревне и днем спал в полупустой избе, на соломе, набросанной просто на пол. Не помнится, где и как мы питались, с кем я встречался в то время. В памяти осталось только, как каждый вечер, когда начинало темнеть, мы уходили из дома и как возвращались обратно, когда приближался мутный опаловый рассвет.
В темноте всего аэродрома, разумеется, видно не было. Его пространство чувствовалось лишь по тому, как полоскались вокруг сумерки и мерцали тусклые огни костров.
Прилетел самолет неожиданно. Но когда послышался его гул и в небо полыхнуло пламя костров, число которых как бы увеличилось, он и не подумал снижаться. Напротив, дав над аэродромом круг и приветственно сверкнув огоньками, начал удаляться. Однако вскоре, буквально через несколько минут, до слуха донесся свист рассекаемого крыльями воздуха — на землю устремился и сел планер. Один, второй…
Не успели гости подойти к костру, а охрана оттащить к опушке теперь уже беспомощных и ненужных «птиц», как все повторилось. Только третий или четвертый планер, что как раз приземлялся поблизости от нашего костра, вдруг спикировал, ударился грудью о землю и стал на попа. Из фанерных его боков в разные стороны сыпанули рыбоподобные, с наконечниками на носах мины разных размеров. И тут же, а может, даже перед этим, в томительной тишине раздался стон-крик. Наиболее оперативные из нас, подшевелив огонь в костре, кинулись с палаткой к планеру.
Сколько их прилетело в ту ночь? Не знаю. Потому что я был среди тех, кто нес пилота к санитарному посту.
И все же один самолет сел — старенький двухмоторный биплан «Р-5». Он доставил людей в фюзеляже и притянул с собой целый поезд планеров. Садился он последним, за планерами, на посадку ушла уйма времени, и ему, замаскированному березками, пришлось перебыть день на краю аэродрома, у леса.
С первым крылатым посланцем выпало лететь командиру бригады «Железняк» Роману Дьякову, начальнику штаба той же бригады — подполковнику Коваленко, направлявшимся в распоряжение штаба партизанского движения, мне и тяжелораненым, которым были необходимы сложные операции.
Когда биплан вырулил на взлетную полосу, началась посадка. Погода, правда, испортилась. Дул ветер, по небу неслись рваные тучи, и из-за них то и дело торопливо выныривал и сразу же прятался молодой месяц. На душе было жутковато и радостно. Но счастливыми казались и те, кто провожал нас.
Садился я последним. Пожав руки сопровождавшим меня гарнизонщикам, которые оставались в здешнем отряде, обнялся с симпатичным, смахивающим на кавказца командиром отряда.
— Махнем не глядя? — предложил я, расчувствовавшись.
Тот, видимо, ожидал этого, потому что молча заулыбался, сорвал с головы кубанку и принялся расстегивать новенький, сшитый по фигуре кожушок. Зажав между ног автомат, я тоже снял ушанку и приобретенную еще под Улой шинель. Переодеваясь, догадался: командир ждет от меня еще чего-то и, возможно, для этого лишь и пошел на обмен, хотя военная форма партизанами ценилась на вес золота.
К оружию привыкаешь, как к живому существу, но в ту минуту ничего не было жаль. Я поцеловал приклад автомата и передал его в цепкие руки командира — ни в воздухе, ни за линией фронта он не был мне нужен. Так пусть служит здесь!
В фюзеляже горела одна электрическая лампа. Вповалку лежали раненые. Пахло лекарствами. Мы — Дьяков, Коваленко и я — пристроились кучкой у самого люка. Было тесно, неудобно. Невозможно было протянуть ноги. К тому же Дьяков обложился мешками, у ног его, завернутый в мешковину, лежал опаленный кабанчик — подарок командиру прифронтового аэродрома, который первый решил переправлять во вражеский тыл оружие и людей на планерах.
Взревели моторы. Самолет вздрогнул я затрепетал, готовый развалиться. Полнясь радостью, я заметил, как криво ухмыльнулся Дьяков и выпрямился напряженный Коваленко. Я разговаривал перед этим с Дьяковым и знал его обиду: «Раньше, когда начинали, был нужен, а сейчас, когда набрались сил, стал лишним». Знал также, что в верхах посчитали более целесообразным, чтобы и Коваленко был в армии.
«Новые задачи…» — вспомнились Тнмчуковы слова. — И вправду новые! Решая их, мало одного горячего сердца, как мало и одного армейского военного опыта…»
Перед отлетом Дьяков выпил. Ему хотелось поговорить, да рокот моторов, бренчание фюзеляжа мешали ему. Но что-то накипало в нем, и наконец он не выдержал. Развязав один из мешков, запустил в него руку и вытянул… деньги — сколько захватил.
— На, Володя, бери! — покрывая гул, лязг, бренчание, предложил он. — Пригодятся.
— Спасибо! — выкрикнул я в ответ, прижав ладонь к груди. — Не надо! Благодарю!
— Ат! — махнул он рукой. — Хочешь, я и тебе дам, подполковник? С танковой колонной ничего от этого не станется. А как там все вырисуется, еще не известно. Бери!..
Коваленко отшатнулся от него и пощупал на петлицах шпалы — палочки, обтянутые красным материалом. Вообще вместе с тем, как мы приближались к заветной посадке, он набирался важности и как бы отдалялся от нас.
Правда, все же он собрался было что-то ответить, но не успел — во все щели и дыры, что обнаружились в стенах фюзеляжа, ринулся ослепительный свет. Сомнений не могло быть — мы попали в клещи прожекторов. Потом под нами нечто взорвалось. Я бросил взгляд на оцепеневшего Коваленко и закрыл глаза. В ушах у меня зазвенело. Никто, конечно, не мог и подумать, что мы уже по ту сторону фронта, что прожекторы, поймавшие самолет, наши, а взрыв, ракета-сигнал: «Я свой!»
ЖАН
рассказ
Почему вы так смотрите на меня? Изучаете? Хотите понять? Ну что же, пожалуйста. Но я клянусь, что ничего не собираюсь утаивать.
Зачем? В нем все было и остается мне дорогим. Взгляд его, поверьте, я чувствовала спиной. Меня трясло, когда я думала, что он смотрит на меня. Хотелось набросить платок и закутаться. Сестра Эльза даже сердилась…
Правда, я знала — высокий, красивый, он нравился не одной мне. Его, по-моему, и из лагеря военнопленных освободила женщина — сказала, что муж. Вы знаете, что во время бомбежки хочется есть? Так и нас, женщин, в войну тянет к радостям. Пусть хоть какие, да будут. Хоть бы чувствовать, что у тебя есть жизнь, что она твоя и ее пока не отняли…
Я не думаю, что это понимал Жан. Вряд ли. Тогда зачем говорю? Просто так, потому что тянет говорить. Потому что мучилась этим… Ему слишком везло. Гестаповцы во время сентябрьского провала раскрыли и его квартиру. Он не раз попадал в облаву. В него стреляли на улице, и все равно он оставался невредим… А как везло с квартирами! Он менял их почти каждый месяц и обычно подбирал, где хозяйкой была женщина. И за кого бы ни выдавал себя — за парикмахера, за часового мастера, продавца из комиссионного магазина, — его принимали. Принимали, хотя никто не знал ни его настоящей фамилии, ни откуда он родом, ни кто его родители.
Особенно поражали его глаза. Я и сейчас не смогу описать их… Голубые, глубокие. Волосы он красил, и я не скажу, какой их естественный цвет. Но глаза!.. Я удивлялась: как могли они сохраниться такими спокойными и чистыми? Он ведь рисковал и убивал, наверно, больше, чем кто-нибудь другой в Минске… В сорок первом, когда решил установить связь с партизанским лесом, одиннадцать человек в ночь послал…
А прошлым летом объявился какой-то Иван Иванович. Назвался подполковником. Вербовал минчан в партизанские отряды. Собирал людей на Военном кладбище, сажал в грузовик и вез прямо в тюрьму. Так его заманили в могильный склеп на том же самом кладбище и оглушили молотком… Жан вообще, как сам признавался, действовал «карманным оружием» — пистолетом, финкой. Ночью — на улицах, днем — в развалинах. С напарником, а то и один.
Минск ведь очень разрушенный. Вам и представить трудно. В центре одни развалины да выгоревшие коробки. Будто из-под земли раскопали их. И прятаться можно, как в раскопках или заброшенных катакомбах. Генерал фон Шперлинг недавно на похоронах — они их пышно справляют — признался, что в этих развалинах легло больше тысячи шестисот оккупационных чиновников с их прислужниками. Ну, а Жан… он ведь специальную оперативную группу горкома возглавлял… Я отклоняюсь? Ну, ладно, буду говорить больше о себе, только не хмурьтесь, пожалуйста. Он просил меня… Мне нужно рассказать как можно подробнее. Ведь иначе бог знает, как смогут все истолковать. Да и мне покоя не будет…
В тот раз я ходила в отряд «Смерть фашизму». Управилась быстро. Передала списки предателей, разведдонесение, а назад получила листовки и коротенькую записку: «Жан! Достань, будь ласков, патронов для парабеллума». Записка, как видите, пустая. Без подписи. А на душе было хорошо: как-никак, а она ему! Лично. И передавать ее, понятно, я буду не так, как листовки.
Документы у меня — хо-хо! Я из немцев, которые осели в Белоруссии в двадцать втором. Ехали по какому-то соглашению с Поволжья в Германию, дотянули чуть ли не до самой границы, но соглашение по чьей-то инициативе было расторгнуто. Знаете, как иногда бывает. И мы осели: не возвращаться же назад, за тысячу километров… Язык родной, само собой разумеется, я знаю не хуже, чем русский или белорусский. Наружность у меня, как видите, тоже арийская. Одна золотистая кожа с рыжими патлами чего стоят. Так что не больно-то и почту свою прятала. Записку завязала в носовой платок, листовки положила в корзину с мякиной и яичками.
Посчастливилось без приключений переехать речку Вяча, которую у нас границей называют, миновать Паперню. Там гарнизон стоит. Гадкий такой, со службистами, которые придираются ко всему. Но проехали и его. Вдалеке уже Минск показался. И тут нас остановили. Не знаю, откуда и взялись. Человек шесть. Ну пусть бы немцы или папернские службисты. Для них хоть документы что-нибудь значат. С ними и побалясничать можно. А тут наши бобики, если судить по говору, из Западной. Им, что я немка, даже в радость. В новинку показать себя при таких обстоятельствах. Какой холуй откажется безнаказанно поизмываться над тем, кто напоминает ему хозяина? Нет таких холуев. Приказали мне с возницей слезть с саней и отойти на шаг. Перетрясли сани, выбрали яйца из корзин, высыпали мякину на снег и, понятно, увидели листовки.
У меня еще тлела вера в свои чары.
— Хо-хо! — начала я.
Но они свалили меня с ног и принялись бить. Особенно усердствовал один — верткий, губы ниточкой. Он меня и ударил первый. Обыскав сидящую на снегу, заставил разуться. Собрался даже чулки порвать, но не смог — они у меня шерстяные были, — тогда ткнул мне ими в лицо и швырнул в сугроб. И все с растянутыми губами, с усмешкой: знай, сука, наших! А потом связал мне и вознице руки пояском и погнал перед собой. А остальные обсели наши сани, свистнули лошади в ухо и помчались в Паперню, как на праздник.
Жан как-то предупреждал меня: если придется туго, самое важное — не потворствуй своей слабости. Потому что если уступишь ей в малом, уступишь и в большом. Решительность созревает в человеке последовательно, как и убежденность. Первое слово тут — звук, поданный камертоном.
Но случилось так, что у меня, как на беду, никто и не спрашивал ни о чем. Не принуждал ни хитрить, ни признаваться. Меня просто избили. Затем терли снегом лицо, виски. Потом связали руки и повели, растрепанную, незастегнутую, в ботинках на босу ногу, и я только и думала, как бы застегнуться да завязать на ботинках шнурки, на которые при каждом шаге наступала… Понимаете, меня лишили необходимости защищаться. Я очутилась во власти слепой силы. Она ненавидела меня, изобличала и вела на уничтожение. Что я могла сделать? Начать снова кокетничать или просить, чтобы смилостивились? Попробовать подкупить? Пригрозить будущей расплатой? Ну, что? Я же знала: все это попусту, зря, — и, кроме обреченности да холода, ничего не ощущала, и если что видела, то разве слепую, бескрайнюю белизну. Один снег. Снег, снег! Под ногами, вокруг, впереди…
В СД меня допрашивал сам Фройлик. Не то что допрашивал, нет. Я даже не знаю, как и сказать… Я было заговорила с ним по-немецки, но он только сощурился, брезгуя произнести в ответ слово, одними губами и взглядом показал подручным в мою сторону. Он, как казалось, презирал меня и насквозь видел!
В темном, вонючем застенке с меня сорвали одежду. В нижней рубашке посадили на какое-то кресло с подведенными разноцветными проводами. И опять, видя, как ловко, натренированно берут мои руки и ноги в зажимы, я ужаснулась от безнадежности и стыда, от сознания тщетности что-либо изменить тут: задача и у этих палачей оставалась та же самая — истерзать, уничтожить меня. Правда, прибавилось еще одно — желание опозорить, надругаться, как над блудной немкой.
Когда меня отлили водой, то опять повели к Фройлику. И снова он не словами, а гримасой приказал сорвать с меня рубашку и бить, меняя плети. Они у них, видите ли, разные — резиновые, сплетенные из проволоки, ременные, со свинчаткой на конце…
Назавтра все повторилось. Меня опять били. Делали перекур и снова били. Только я уже знала, что записки, адресованной Жану, в моем носовом платке нет. Это испугало меня как бы наново. Насчет листовок я еще могла наплести самого разного — нашла, дескать, и несла в город похвалиться… А что придумаешь сказать о записке? Ее, разумеется, следовало передать. Кому? Когда? Где? Во мне закипела глухая обида. Какая глупость! Какое равнодушие! Не потому ли это, что и в лесу я не совсем своя? Зачем было со мною посылать несуразную писульку? Разве я не могла сказать о злосчастных патронах устно? Хорошо им там…
Но и на этот раз Фройлик, который в моих глазах вырастал в злого духа, не требовал от меня признания. Напротив. Прежде чем заговорить со мной, он распорядился запихнуть мне в рот кляп. Я понимаю теперь: он не хотел, чтобы я начала выкручиваться, настаивать на своем, чтобы я ожесточилась. Это правда, оказывается: первое слово — само по себе сила.
На третий день я почти обезумела. От боли, от своей беспомощности. Я проклинала автора записки, Фройлика, палачей, проклинала судьбу. Даже мысли о Жане пробуждали во мне злую досаду. Память подсовывала двусмысленные сцены. Выдержка Жана казалась иезуитской. И когда палачи, схватив меня, стали загонять под ногти иголки, я, полная отвращения к себе и всем, начала выкрикивать, где и когда завтра может произойти явка.
Ночь я не спала — стыла на нарах, коченела, мучилась… Верилось, что Жана, как всегда, спасет случай. Он куда-то уехал из города — подоспело срочное дело… Заболел… А возможно, кто-нибудь видел, как вели меня по улицам, или заметил, как гестаповцы ставили около нашего дома засаду… Но раны саднили, сукровица, запекаясь, присыхала к рубашке, и стоило мне, забывшись, пожать плечами, пошевелиться, как острая боль пронизывала тело, и от надежд не оставалось следа.
«Господи, я подвела Жана!.. Господи!..» Представлялось, как они схватят его в нашем темноватом коридоре, как вывернут руки, потащат в машину, и я стонала, кусала пальцы.
И все-таки я, наверно, на какое-то время забылась. Так как день настал внезапно — не было, и вдруг засветились щели в двери, под дверью. Я провела в подвале СД, в своей камере, уже третью ночь, но лишь теперь заметила, что она узкая, как склеп, что пол в ней цементный, что воняет мочой, хлоркой. Стало страшно противно. Даже гадко прикоснуться к себе…
Когда меня спустя некоторое время привели к Фройлику, я даже не сразу заметила, что в комнате есть еще кто-то. Вошла, уставилась на Фройлика: «Что еще лобастый придумал?» Смотрю. А он, выждав минуту, неожиданно закрутил головой и кисло скривился. Будто его разочаровал мой вид.
— Ну? — обратился ко мне по-русски. — Не спалось, поди, Эмма? Жалко. Но, надеюсь, тебя покормили сегодня? С Эльзой еще не виделась? — И, словно желая чем-то порадовать, скосил в сторону глаза.
Только тогда, проследив за его взглядом, я увидела Жана. Заложив руки за шею, он стоял лицом к стене.
— Повернитесь, — разрешил ему Фройлик.
Жан опустил руки и повернулся. Я ожидала, что он заиграет желваками, обожжет меня взглядом, плюнет. Но в нем ничто не дрогнуло. Он пошевелил пальцами онемевших рук и, достав из кармана гребенку, причесал свои волнистые волосы. Его, видимо, только что привели, и он дышал здоровьем, силой. Что будет с ним через какой-нибудь час, два?..
Меня охватило отчаяние. И, поверьте, не потому, что петля на шее затягивалась, что из-за меня арестовали сестру, а значит, смертельная опасность нависла и над ней. Нет!..
Жан стоял со спокойным, пожалуй, даже просветленным лицом, и сердце мое изнемогало от жалости, просилось служить ему, тянулось к нему. Я видела, что взгляд Жана скользнул по мне, как по чужой, и снова остановился на Фройлике. Это было хуже всего. И, возможно, только тогда до меня совсем явственно дошло, что я натворила!
Не помня себя, желая хоть этим отомстить следователю — на, смотри, мне ничего не страшно! — я всхлипнула и бросилась к Жану. Встав на колени, обняла его ноги, припала к ним и стала целовать.
Опомниться мне помог Фройлик. Стукаясь затылком о высокую спинку кресла, показывая коротким пальцем на Жана, Фройлик захохотал. Лицо у него словно пополнело и вздрагивало, ему не хватало воздуха, а он все тыкал пальцем-коротышкой в Жана и не останавливался — хохотал.
Ненавидя его всеми фибрами души, уверенная, что это издевка над моей любовью и слабостью, над моим раскаянием, я передразнила его и показала язык.
— Жан, прости меня! — выкрикнула я в отчаянии. — Ради бога, прошу тебя!..
Так второй раз я выдала Жана.
Вас интересует, как реагировал на это Жан?.. Он никогда ни в чем не был мелочным. Остался таким и тут. Только отступил от меня и покачал головой.
— Какая ты все-таки никчемная, наивная, Эмма! — упрекнул с удивлением. — Как я не видел этого раньше?.. Ты, по-моему, и сейчас ни разу не вспомнила ни о родине, ни о близких. Как ты можешь так? Ты даже смерть свою не человеческой делаешь.
Это, безусловно, был приговор. И вынес мне его не Фройлик, а самый дорогой человек, чьей близости я жаждала… Да, да, именно никчемное, жалкое существо! И в борьбу я — это верно! — вступила, не слишком доискиваясь ее смысла, а так, из-за своей экзальтированности, без решимости пойти на все. Вступила прежде всего, чтобы слушать и слушаться его, Жана.
И вот, пожалуйста, — я потеряла и его. Безвозвратно. Да и не потеряла, а сама отреклась, отдала на муки и истребление. Так зачем тогда жить? Зачем?
Разгадал ли мое состояние Фройлик? Не скажу. Но прежде, чем отправить меня из комнаты, переваливаясь, по какой-то замысловатой дуге приблизился ко мне и снисходительно похлопал по плечу.
— Не горюй, Эмма. Порядок. Мы еще сообразим с тобой что-нибудь…
И все-таки я, видимо, еще хитрила сама с собой. В полузабытьи я целовала Жану руки. В уголке души тлела надежда умереть прощенной. Жертвой. Казалось, что смерть мне не страшна, что я примирилась с ней. Что она — избавление от ужасов, от путаницы, в которую попала. Пусть все это будет, но… но лишь при условии… Чтобы я своей смертью что-либо сделала для него! Чтобы понял! Ну какая я изменница, что изменилось во мне? Те же самые мысли, та же любовь, та же готовность выполнять его задания. Одно разве — повзрослела и в мыслях, и в любви, и в желании бороться. О, если бы он понял!..
Однако для этого нужно хоть бы еще раз встретиться с ним. И я стала искать предлог.
Вам опять не нравится, как и что я рассказываю?.. Похоже на заученное? Это, наверно, потому, что я десятки раз перебирала все в голове, в мыслях рассказывала сама себе, разговаривала с Фройликом и с Жаном… Говорить дальше?.. Слушаюсь…
Время для меня тянулось, почти не делясь на дни и ночи. О том, что наступал день, я догадывалась больше по светлым щелям и звукам. В коридоре чаще топали подкованные сапоги, чаще слышались крики, возня, стоны. Скрежетал замок на моей двери — приносили баланду, как тень, появлялась уборщица-еврейка плескать водой — мыть пол: тюремщики как черт ладана боялись эпидемий.
На пятые или шестые сутки я сквозь щель в двери попросила надзирателя передать Фройлику, что имею еще нечто сказать ему.
Он встретил меня без особого интереса. Окончив что-то писать, поджал губы, заткнул авторучку в нагрудный карман, довольный собой, посмотрел на нее. И поверьте, эта привычка носить авторучку в нагрудном кармане, на виду, его приказчицкое самолюбование будто сняли повязку с моих глаз — я увидела, что это просто злое насекомое и, кроме бездушия да предательской хитрости, приобретенной на службе, он, Фройлик, ничего не имел. Когда я сказала, что хочу назвать место дислокации отряда, куда ходила, а также фамилию человека, писавшего записку, он важно шевельнулся в кресле и почесал мизинцем лысое темя.
— Ну-ну! — поинтересовался он, как интересуются детской болтовней.
Но дзинькнул телефон резко, коротко, и Фройлик сразу изменился. Щеки у него обвисли, он превратился в слух. Даже вылетело из головы, что надо плотней прижать к уху телефонную трубку…
— Ну, чего вылупилась? — видимо сообразив наконец, что я понимаю по-немецки, заговорил он, когда осторожно положил трубку на рычаг. — Ты слышала что-нибудь? Говори, свинья!
— Да, — призналась я, уже не очень боясь, что он взбесится.
Однако Фройлик будто наткнулся на неожиданное препятствие.
— И насчет себя слышала? — спросил ошеломленно.
— Да, слышала.
— И что скажешь?
— Мне нужно подумать.
— Не бойся, твой святой давно раскололся и сыплет, как из мешка. Согласился даже выступить в печати. Показать? Иначе ведь пустота, капут…
На следующий день, как я и ожидала, он вызвал меня на новую очную ставку. И, боже мой, что я переживала! Шла с заложенными назад по-арестантски руками, но словно на свидание — пусть последнее, горькое, но все-таки свидание.
Жан стоял посреди комнаты. Правда, руки ему тоже приказали держать за спиной, но это придавало его фигуре независимый, почти гордый вид. Как обычно безупречный, костюм на нем даже не измят. Только не было галстука и был расстегнут воротник. То, что Жан оброс светло-каштановой щетиной и под глазами, на щеках, лежали тени, делало его подвижником.
— Подойди к своему сообщнику, — врастяжку сказал Фройлик.
С сердцем, которое словно выросло, приблизилась я к Жану. Против нас было окно, свет падал Жану в лицо, и худоба его стала еще заметнее. Почерневшие, потрескавшиеся губы. Значит, его не били, а морили голодом и не давали пить!
Он не посмотрел на меня, облизал сухим языком запекшиеся губы и уставился в окно, где синело небо и плыли растрепанные облака. У меня навернулись слезы. И — что за диво? — мне показалось, что на груди у Жана что-то блеснуло. «Неужели крест? — подумала я. — Откуда Жан взял крест? Почему надел?.. Чтобы не так мучили? Чтобы это обернулось упреком мне? А возможно, захотелось показать, что страдает за высокое? А возможно, вспомнил мать — и потянуло стать ближе к ней, почерпнуть от нее силу?» Представилась и сама мать, видимо, здоровая, чистая, женщина-труженица, кормилица… Боже мой!..
Но тут, как и в прошлый вызов, дзинькнул телефон.
Фройлик подозрительно глянул на меня, на Жана.
— А ну-ка, к стене давайте! — распорядился он вяло. Мы отошли к стене и, подняв руки, оперлись на нее.
Ощущая дыхание Жана, близко видя его профиль, боясь посмотреть ему на грудь, я промолвила одними губами:
— Готовится провокация, Жан. Позорнейшая провокация!.. Они задумали выпустить от твоего имени листовку. А мне предложили дать подписку и отправиться в лес. Взяли заложницей сестру. Как быть — согласиться или поднять бунт?
Я понимала — это дико. Изменила человеку, выдала его, а теперь у него же прошу совета. Но мне нужны были его слова! Нужно было показать, что я готова чудовищной жертвой оправдаться перед ним, попробовать спасти его честь, отвести черный поклеп.
Он прикрыл глаза.
— А как же с Эльзой?
— Все равно… Иного выхода нет!
— В общем ты права… — через мгновение блеснул он глазами, и плечо его коснулось меня. — Но уже ни грана хитрости, Эмма! Это мое условие и приказ. Расскажешь там правду. Она нужна не менее, чем мы с тобой. И сейчас, и потом…
— Из-за этого и крест? — опасаясь, что он рассердится, все-таки спросила я.
— Какой крест?.. А-а! Нет, до такого еще не дошло… — немного растерялся он. — Но что ты думаешь? С такими дьяволами, как Фройлик… возможно, и стоит побыть праведником. Хотя у одного мексиканского художника, как мне говорили, сам Христос крошит этот крест молотком…
Вот, пожалуй, и все… Наспех подлечив в тюремной больнице, меня выпроводили в дорогу. В отряде также почему-то торопились. И когда на Бегомльский аэродром из-за линии фронта прилетел очередной самолет, сразу отправили с ним. Остальное, товарищ следователь, вам известно… Гражданин? Ну что ж, учту. Я ведь понимаю, что кругом виновата…
ЖИВОЕ СЕЧЕНИЕ
маленькая повесть
Теперь это кажется почти что призрачным — таким оно было богатым на неожиданности.
Нашу десантную группу, пока допустили на летное поле и позволили грузиться в «Дуглас», с которого поспешно сняли подвешенные бомбы, две недели держали на хуторе. «Если вам своих людей не жалко, мне своих жалко», — повторяла Гризодубова, возглавлявшая тогда Внуковский аэродром, и спокойно ссылалась на какую-нибудь причину — погоду или опасность на трассе.
Не знаю, как другие, а я прямо-таки страдал. Донимали мысли о новом необычном задании: мы летели напомнить врагу — да, да! — что кровь людская не водица. Не терпелось встретиться с товарищами, которых я не видел почти полгода. Что там с Матусевичем, Платаисом, Гришей Страшко? Живы ли?.. Хотя о Матусевиче и Трише я кое-что слышал в Москве, да это еще больше разжигало меня.
Но нам не везло. Абсолютно. Когда мы подлетели и дали круг над расчищенной партизанской поляной, обнаружилось — приземляться нельзя, вокруг поляны идет бой. Правда, нас обнадежил командир «Дугласа» — он знал еще одно место, где можно было приземлиться… «Тут рукой подать, в Червеньских лесах», — видя наши вытянутые лица, кивнул он на иллюминатор. Однако то, что в воздухе было «подать рукой», на земле выглядело чуть иначе. От Логойщины, где мы намеревались обосноваться, нас отделяли десятки извилистых километров, железная дорога и автомагистраль Минск — Москва, которая очень сильно охранялась.
Из группы я один бывал здесь раньше, поэтому план, как преодолеть неожиданные препятствия, оказался чрезмерно сложным. А, как известно, где сложность, там новые трудности. Я сгорал от нетерпения.
Но наконец с приключениями мы добрались до Руднянского леса, где находился подпольный Логойский райком, и переночевали в землянках. Утром, оставив рюкзак, плащ-палатку, я с проводником — есть же всему конец! — уже торопился в Буды, где, как сказали в райкоме, стояла спецгруппа, присланная штабом партизанского движения, и можно было встретить Матусевича, а возможно, и Гришу Страшко.
В калитке, на которую мне показали, стоял пожилой мужчина в косоворотке, с непослушными, зачесанными назад волосами. Заложив ногу за ногу и прислонившись к верее, он читал газету. Что-то сердитое сквозило в его бледном лице. На мой вопрос о Матусевиче он равнодушно смерил меня взглядом и, не сказав ни слова, дал пройти во двор.
В чистой половине избы, где все, что можно, было покрашено и побелено, я нашел одну живую душу — женщину, которая страдалицей стояла у окна, упершись лбом в переплет рамы.
На мой стук она не ответила. Не шевельнулась и когда я без разрешения переступил порог.
Я назвал себя. Не знаю, заметила ли она мое замешательство, или кое-что слышала обо мне, но ресницы у нее дрогнули.
— А-а-а! Проходите, — запоздало предложила она через силу. — Но Алеся нет. Пошел с группой под Минск… Проходите! — повторила уже с большей готовностью объяснить, как и что. — Сегодня, наверное, вернется.
Хотя недавно проезжали и тут из «Штормовой»… Пугали, что наши, кажется, попали в беду.
— Они что, видели? — начал я, догадываясь — передо мной жена Матусевича.
— Нет. Но слышали стрельбу и разрывы гранат в той стороне.
— Ну и что?
— Это верно… — согласилась она, поправляя прическу. — Алесь не теряет присутствия духа, как другие!
В ее голосе слышались сердитые нотки — она, видимо, принадлежала к числу людей, которые сердятся и даже злятся, когда что-нибудь угрожает их близким. Но ей самой хотелось верить — с мужем ничего плохого не случилось, — и, глуша тревогу, она принялась хвалить его рассудительность, смекалку и опыт его товарищей, отправившихся с ним.
— А это кто? — спросил я о мужчине в косоворотке, который стоял в калитке.
— Не узнали? Мурашка. Это же Рыгор Мурашка! Вы читали его, конечно… — И снова заговорила об Алесе, называя его то ребенком, то хитрущим-хитрущим. — Из огня вышел цел и невредим, — тяжко вздохнула она, смахнув пальцем со щеки слезы и снова чуть сердясь. — Алесек ты мой, Алесек!.. Да разве мог он вообще примириться с чужаками, если так дорожил своим? Нет, понятно. Не мог и замкнуться в себе. Слишком знал много. Он же ведь энциклопедия у меня ходячая.
И вы не удивляйтесь, что я про это заговорила. Верьте или нет, а это правда… Есть люди, которые знают природу, историю своего края. Встречаются, конечно, знатоки фольклора, этнографии. А он ведь все знает, он всего знаток. А там, где знания, там и любовь…
Вспомните при нем, когда вернется, ну хотя бы опытное поле на Комаровском болоте. Увидите — сразу как подменят его. Слова уже не даст вставить. Зачастит скороговоркой: и что это самая старая болотная станция в старой России, «в Европе даже», и что перед войной на ней то-то и то-то открыли. Не случайно штаб РР — и тут же расшифрует: рейхслейтера Розенберга — вывез в Германию вместе с учеными две платформы земли ее осушенных угодий… И пошел, пошел…
Хоть в общем-то, нужно сказать, закваска у него мирная, и он — вы, должно быть, заметили сами — копун.
Приходит к решению исподволь, словно нехотя. Да и решившись на что-нибудь, не слишком торопится.
Я удивлялась даже сперва: отчего бы это? А потом поняла. За спиной у него лесная Тхорница, если слышали. Каменистые поля Логойщины… Правда, мало кто из нас не попробовал пастушьего хлеба. Это так. Пастушество у всех у нас начальная профессия. Но не всем пастушье, крестьянское в кровь проникло. В Алесе же оно укоренилось. Не вырвешь. Было в нем и когда учился, осталось и когда выбился в журналисты.
Он, если хотите знать, меня еще до женитьбы заставил машинисткой стать. Не нашлось государственных курсов, так на частные устроил. «Пускай в руках что-нибудь будет…» А почитайте его передовые «Огни на болоте», «Петр Брагинец»… Они ведь все про скупую землю, Про то, что ее необходимо заставить быть щедрее. И прежде всего нашу, обделенную природой…
А науку прямо грыз. Сначала в высшей начальной. Читали про такую? Учителя там в гражданскую и зарплаты не получали. Разве родительский совет подкинет что-нибудь иногда из самообложения. И учеба, конечно, зависела более от тех, кто учился, а не учил. Но вот пожалуйста — поступил в семилетку. И не куда-нибудь — в Минск! Сработало, значит, свое, тхорницкое упорство… Ну, а там с таким же рвением писать начал. За старорежимщиков в лесничествах, в земельных органах взялся… Однако первый очерк, который напечатал, назывался «Диво на болоте». Вот так!.. Ну, а после — «Звязда», учеба на вечернем геофаке. На географическом все-таки! Война, если хотите, и та застала его в командировке. Секретарь Октябрьского райкома показал тогда ему кусок соли, добытой буром. Решили отметить, конечно. Но смех — не оказалось рюмок. Довелось сперва выпить сырые яйца и наливать водку в скорлупку. И послушали бы вы, как позже он рассказывал про эту последнюю мирную радость!
Она умолкла, чтобы тихо поплакать. Но от гордости долго молчать не смогла, да и боялась мыслей, которые гнала от себя.
— Знал он много и про разных Акинчицев, что вынырнули откуда-то, — сдвинула она темные брови, видимо спохватившись, что допустила перед этим нечто легкомысленное. — Как миленьких знал! Со всей их подноготной! Знал и то, что захватчикам, чтобы говорить с людьми, необходимы отступники. Как ты обойдешься без них? Хочешь не хочешь — выковыривай из щелей, привози в обозах.
Ну, и привезли, выковыряли. Стали выходить газеты, журналы. Появились листовки с плакатами… И, ничего не скажешь, своим ложным словом у некоторых доверчивых отбирали волю. Поэтому, если хотите, у Алеся и родилась идея…
Было тут, возможно, и желание пощупать все самому, стать свидетелем. Знаете, какой он?.. Перед тем, как идти в управу, в издательский отдел, съездил в свою Тхорницу и в Мочаны к тетке. Чтобы застраховаться от неожиданностей, подыскал квартиру на Пушкинском поселке, где нас не знали. И тоже не торопясь, по-деловому…
Приняли его охотно. Им было на руку окружить себя людьми. Дали Алесю, как он говорил, ровар, это значит велосипед, прикрепили наборщиков с верстальщиками. Обязали возить оттиски цензору в редакцию. А как же? Технический редактор! Садись на этот самый ровар и кати через весь город. Сперва на площадь Свободы, где апартаменты герра Шретера, а потом на Революционную, или, как по-ихнему, улицу Рогнеды, где «Беларуская газета» и квартира редактора Козловского.
Так что вся их кухня открылась перед моим Алесем. Вози да смотри. А там от одного этого самого Козловского стошнить могло.
Поглядели бы, с каким высокомерием этот шляхтич отстаивал строчки, снятые при верстке из его писаний! Как торговался за место на полосе. «Мою статью поднимешь. Вот сюда! Кто я тебе? А эту пачкотню вниз! Ты брось мне уравнивать, что не уравнивается. Мы еще не знаем, что он за белорус. Может, вообще придержать нужно…» А поглядели бы, как распределяли там гонорар, премии! Как наперегонки подхалимничали перед Шретером, улыбались даже стоя у него за спиной. Хихикали, хохотали, когда знак подавал. А потом каждое кинутое им слово склоняли. А как же, установка!.. А что предпринимал Козловский, чтобы боялись его самого! Для письменного стола выкопал где-то мраморный прибор, кипы справочников, книг. Благорасположение свое, а значит и милость, дарил одним прислужникам. Пускай будет известно, что он тоже властелин и воинский начальник. Элита! А головка как у кота. Что там поместится? И, что бы укрепить себя в глазах других, нарочно при сотрудниках звонил в СД и рассусоливал с разными намеками: «Вот с кем имею дело, с самим Шлегелем!» С помощью Акинчица даже Сенкевича спихнул с редакторского кресла и сел в него!..
А тот вскипел, разумеется, стал в оппозицию. Но не к хозяевам. Где там! Хотя, мстя за немилость, будто бы и играл в либерализм. Лез в душу каждому — искал помощников и жертв для абвера. «Самоуправление! — хлопал по ляжкам. — Что им, разве оно заботит их?» Это значит — таких, как Козловский и иже с ним. «Дорвались до кормушки — и сытые!» Даже грозился некиим Томплой, который, только прикажи, все сделает. «Не перевелись еще люди. Действовать надо, действовать!..» Алесь его сорокопутом — жуланом — называл. Есть хищник такой. Умеет петь у разоренного им же гнезда. Засвищет, как зяблик или черноголовая мухоловка, и ждет глупых.
И так все. Как клубок змеиный…
У нас пишущая машинка была. Ундервуд. Купили мы ее давно, еще молодыми. Помню, тогда их поступило в Минск всего двенадцать. И стоили они неимоверно дорого. Пришлось влезть в долги.
Ну, так… Вернулся Алесь после одной из своих поездок бледный как полотно… Глянула я на него и ахнула — неужели не замечала прежде? — седина на висках! Начал сереть золотистый мой. Да и бледность при седине, если хотите, ой, какая страшная! Ну конечно, я бросилась к нему с расспросами, чтобы заслонить от опасностей. А он и говорить не может. Только когда пришел в себя немного, выпроводил Нату с Адочкой: «Поиграйте там, около дома». И лишь головой все крутил.
«Не могу, Рая!.. Они хуже чужаков. Садись! Это выше моих сил!..»
Когда я выходила за него, обыватели пугали: «Гляди — деревня. Нравится или не нравится, придется уступать». А я тогда смеялась: «Разве я командовать замуж иду или воевать с мужем?» И когда он горячо брался за что-либо, слушалась его безоговорочно. Да и верила ему. А если веришь, сразу полюбишь или возненавидишь все, что он любит или ненавидит.
Замирая, когда из коридора долетали шаги или шорох, села я за машинку и с горем пополам напечатала листовку… Что поделаешь! И признаюсь, тужила украдкой по ночам — догадывалась, куда все клонится, в мыслях подсказывала кое-что, остерегала.
Сами судите. Зачастил Гриша Страшко. Тоже журналист. Подкупал меня какой-нибудь выдумкой. Девочек доводил до визга. Лохматил чуприну, спорил с Алесем. Однажды на рассвете наведался… Но где те наивные, которые поверили бы, что ему приспичило лететь чуть свет просто так? Когда еще комендантский час!.. Приезжали из Логойщины. Бросали взгляды на окна, шушукались. Бывало, и ночевали. Или… Рассказы про Мурашку. Чуть что — Мурашка да Мурашка. С какой это стати? Сухой, надутый. И вообще будто застывший на одной какой-то мысли. Неужели только потому, что у него имя? Что планы были созвать некий писательский съезд?..
И действительно… Через некоторое время Алесь принес в кармане шрифт.
Брал сперва из довоенного набора, что пылился в запасных реалах. А затем и из касс начал прихватывать. И не думайте, что только то, что под руку попадалось. Ого! Не будь он Алесем! Он и в последний день жизни от расписания не отступит.
Ей снова не понравились собственные слова. Но она не нахмурилась, как в тот раз, а усмехнулась — хитровато, с легким презрением к себе.
— Но, известно, слушалась не только я одна, — словно потеряв мысль, через минуту призналась она. — Слушался и он меня. А молчали мы в таких случаях потому, что понимали друг друга без слов. Я раньше немного прибеднялась. Когда несчастье на пороге, тянет прибедняться…
Но, как и надо было ожидать, за шрифтами последовали верстатки, валики, пластмасса на обливку валиков… У меня стала одна забота — он, мой Алесь. Пришили ему потайные карманы в пальто. Охраняя его, как ни возражал, навязала Адочку. Пускай берет с собой в такие дни. Она у нас беленькая, милая — настоящий талисман. Взяла на себя и обязанность прятать принесенное из типографии.
Дом, где мы поселились, был деревянным, хотя и двухэтажным. Чтобы утеплить его, когда-то насыпали на чердак песку. Так в нем я зарывала все. Пожарной инспекции, разумеется, не было, жители держали на чердаке разный хлам, сушили белье. Возьмешь таз, положишь добытое Алесем, прикроешь сверху бельем и лезешь, будто по хозяйственным делам.
И похвалиться могу — ой, какими дружными чувствовали мы себя тогда! Как хорошо разговаривали, смеялись! Посмотрим друг на друга и смеемся. Не смущало даже, не впустую ли все! Не слишком ли далекая цель поставлена? Война ведь! Да и дети!.. А когда отправили собранное богатство в Маныловский лес, тешились, будто сами детьми были… Ох!..
И все-таки, как оказалось, до сих пор она бодрилась — стесняясь показать слабость. Но, видя, как я слушаю ее, все более становилась собой.
— Где же тут справедливость? Где? — выкрикнула она вдруг с надрывом. — Разве теперь моему золотому погибать? От слепого случая… Вернется — не отстану, хочет или нет, пускай берет следующий раз с собой.
Ее чисто женская логика убедила меня сильнее, чем что другое. Я решил ожидать Алеся. Правду иной раз принимаешь душой. Да и просто я не имел права поступить иначе.
Постель мне, когда стало смеркаться, постлали в гумне, на душистом, скользком сене. Положив сбоку автомат, слушая ласковый писк ласточек, я настроился на сон. Хорошо думалось о Раисе Семеновне, которую любовь заставила примкнуть к борьбе, представлялось, как завтра встречусь с Алесем. Удивляло — почему немцы не трогают Буд?.. К слову, подобное недоумение охватывало меня и в самолете. Когда мы пересекли линию фронта, во тьме, под ногами, напоминая журавлиные клины, засветились костры партизанских аэродромов. Почему немцы дают им гореть? Руки не доходяг? Ага!..
Я уже засыпал, когда услышал, что кто-то силится влезть ко мне на сено.
— Кто там? — спросил я нарочито по-немецки.
— Свои, — как показалось, недоброжелательно отозвался мужской голос. — Захотелось пожупить[4], как говорят у нас на Случчине.
Раньше я не слышал его голоса, но узнал — Мурашка.
— Дайте руку!
Он влез, дыша с присвистом, и сел в ногах. Собрался было закурить, но одумался.
— Неужто они в самом деле напоролись на засаду? — спросил, точно я скрываю от него что-то. — Алесь сейчас самый близкий мне человек. Хотя дружба у нас не такая давняя…
Чувствовалось: хмурый, ершистый до этого Мурашка, как бы вспомнив — ему надо быть добрее, — постепенно смягчился и сам уже напрашивался на исповедь. Я приготовился слушать.
— Звездовцы всегда были на виду, — помолчав с минуту, заговорил он. — А Алесь — понятно. По корреспонденциям, по работе в сельском отделе. Машинисток же знали по машинному бюро. Бывало, Раиса Семеновна слушает, что ей диктуешь, перебрасывается с другими словами, а стоит только замешкаться самому, сразу подгоняет: «Давайте! Дальше!» Замечали даже их маленькую Адочку. Чистенькую, с глазками-незабудками, с косичками шелковистее льна.
Нельзя сказать, чтобы Алесь легко шел на сближение. Наоборот, как бы охранял в себе что-то заветное, к которому подпускают не всех. Но ко мне тянулся…
Он, видите, втайне от жены все республиканские газеты выписывал. Боготворил печатное слово. И свое уважение к нему, понятно, переносил на нашего брата писателя. Читал моего «Сына», «Соловьев святого Поликара», знал биографию. Да и у людей есть чутье, которое подсказывает, как им относиться к себе подобным. Психологическая совместимость и несовместимость, так сказать. Они действуют.
В то время я отважился и стал печатать в газете повесть «Наперекор судьбе». В основу ее сюжета положил деятельность известного анархиста на Гомельщине — Савицкого, — слышали, верно? Пряча между слов задуманное, расписывал его экспроприации и выдающийся талант конспиратора. Понимаете, конспиратора… И, встречаясь с Алесем в редакции, мы частенько беседовали об изворотливости моего героя и его умении заметать следы.
«Наперекор судьбе», — ухмыляясь и щуря глаза, кивал головой Алесь, — многим, по-моему, пригодится…»
«Я писатель-профессионал, у меня одна песня, — подкупленный тем, что меня понимали и намекали об этом, признался я. — Задумал еще одну вещь — «Товарищи».
«Тоже не вредно напомнить кое-кому, — снова одобрил он. — Хорошее название…»
Однажды мы вместе вышли на улицу. С поднятыми воротниками подались к площади Свободы. Я — держа под мышкой папку с рукописями, которую боялся оставить дома, он — ведя неразлучный велосипед.
По небу неслись тучи. Над обезглавленной башней ратуши со скелетом часов кружились галки. Прохожих не было. Дорогу перебежала только желтая шелудивая собака, — как бешеная, опустив морду и хвост. Но мы все равно свернули в сквер и сели на скамейку.
Я привык к Минску, любил его. Разрушенный город угнетал меня. Делалось горько, тревожно. Я сказал об этом Алесю.
— Бесспорно, — согласился он. — Но зато есть где прятаться… Как нравятся вам последние опусы Козловского? Сознательно спекулирует на самых низких чувствах. Где у него совесть?
— А зачем она ему? — спросил я, приняв его искренность. — В кармане пистолет, книжечка, куда записывает услышанные анекдоты, сведения о политически ненадежных. Приехал в костюме, перешитом из польской военной формы, а теперь небось в доме как в камере хранения на вокзале.
Алесь, наверно, ожидал от меня таких слов. Да они и убеждали его в чем-то. Крутнув педаль велосипеда, который приставил к скамейке за спиной, задумался.
— Он ведь сам себя ставит вне всякого закона… А скоро из Берлина прибудет еще пополнение. Его вожак привезет новую партию своих воспитанников, чтобы поставить на ключевых позициях.
Не было сомнений — Алесь собирался что-то делать или уже делал: откуда такая осведомленность? Но одновременно и подумалось: действует он скорее всего в одиночку. И это, видимо, из-за недоверия к людям. Из-за стремления быть самостоятельным, отвечать за одного себя. Ибо видел, как и я, провалы. А возможно, так проявлялась осторожность, — как у паровоза, что должен тянуть тяжеловесный состав.
Святая наивность!.. Мне захотелось помочь ему, предостеречь от скороспелых решений. Сколько людей гибнет, бросаясь на врага сломя голову. Все жертвы из-за этого. А у меня кое-какой опыт с гражданской. И, отбросив недомолвки, я сказал:
— Этот Акинчиц выдавал наших людей, еще когда был юрисконсультом Громады. Правда, пилсудчики судили его после ее разгрома. Дали восемь лет, но сразу выпустили. Значит, понадобился опять…
— Знаю, — усмехнулся Алесь.
— А после боев на Халхин-Голе в Вильно вербовать себе сторонников приезжали японцы из консульства. Так он и с ними установил контакт! А потом с Козловским у нашей границы свил осиное гнездо, чтобы переправлять к нам гитлеровских паскудников. Это тоже знаете?.. Буду жив — напишу.
И все-таки, говоря все это, я вдруг почувствовал… У меня появилось ощущение, что я бегу за чем-то и отстаю. Бегу и отстаю…
Через неделю действительно приехал Акинчиц.
Мы с Алесем как раз сидели в редакторском кабинете — как и было заведено — у письменного стола, напротив Козловского, который с серьезно-важным лицом выдвигал и задвигал ящики в столе.
Не замечая его сердитых взглядов, я рисовал ветряные мельницы на полях газеты, лежавшей под руками. Алесь, как после я догадался, хитро ожидал, что из этого получится.
И дождался. Не перенеся моей вольности, Козловский возмущенно фыркнул и выхватил из среднего ящика лист чистой бумаги.
— На, рисуй, если не терпится!..
И тут же порозовел. Вскочив, хотел было выйти из-за стола. Но раздумал и оперся на него растопыренными пальцами.
Я видел портрет Акинчица в «Чырвоным сейбіце». Еще в двадцать шестом. И, нужно сказать, он мало изменился. То же понурое, узковатое лицо с трагично приподнятыми бровями, те же коротко подстриженные усы, острый подбородок. Новыми разве были вера в себя да скрытое презрение, что тускло светилось в глазах. Высокий, еще крепкий, он выслушал приветствие, стоя в дверях, и только затем, глядя на одного Козловского, двинулся к столу-трибуне и пожал протянутую ему руку.
Держась на взятом парадном уровне, Козловский поклонился и назвал наши фамилии.
— Матусевич? — сморщил рот Акинчиц, глянув искоса на потолок. — Мурашка? Не так давно читал… Однако не понимаю, кому понадобилось обучать бандитов и любопытных раззяв правилам конспирации. Зачем вообще сейчас толкать мысли в этом направлении?
На лице у него, под туго натянутой кожей, шевельнулись желваки — он взвинчивал сам себя.
— Хочется дать рецепты от провалов? Потому что освободители применяют крайние меры? Так? — изрек он. — Интеллигентщина, слизь, гнилье! Ни более, ни менее. Ибо как ты не будешь стрелять в тех, кто не может очистить себя сам? Что прикажете делать с народами, которые дали одурачить себя и отказываются сотрудничать с теми, кто несет им свободу?
Алесь сидел, положив узловатые, как у крестьянина, руки на колени, и только шевелил пальцами. Буквально за несколько минут до этого, страдая, он рассказал мне о трагедии, постигшей деревню Понижевщину, соседнюю с его родной Тхорницей. Эсэсовцы перебили там всех мужчин в семьях, из которых кто-либо пошел в партизаны. Имели, безусловно, списки, подготовленные прислужниками, но выстроили понижевцев на улице и устроили спектакль. Ходили вдоль рядов, заглядывали в глаза и показывали пальцами. Вот какие, мол, бдительные и всезнающие — видим виноватых насквозь.
Мне за сорок, я тоже мужицкий сын, за спиной не одна эта война, но мне стало страшно за Алеся. Однако ни один мускул не дрогнул на его лице. Вот как!
А спустя день Шретер учинил ему разнос. Кривя полные губы, злясь, что сам замечает, как безбожно коверкает язык, перечеркнул все заголовки на первой странице. — Сдесь! — застучал карандашом по полосе, глотая слова, чтобы как-то скрыть свое бессилие. — Сдесь говорится о земле, которую мы… гм, намерены вернуть бауэру… Так? А вы… гм… скупитесь. Черт!.. Где большие буквы? Растаскали?.. И передайте там, чтобы с этой «Наперекор судьбе»… как тут говорят по-вашему… закруглялись… Чтобы в следующий номер печатали конец… Ферштейн?..
Когда-то я спрашивал у Алеся: какое прежде всего чувство он выносит из войны? Он тогда ответил: «Жажду». Если бы спросили у меня, я ответил бы иначе — выдержку и голод. Жили мы с женой тяжело. Спустили на толкучке все, что было можно. Я, конечно, понимал: Шретерово запрещение печатать повесть — это подозрения и новые испытания — беды. Но я, даю слово, засел за «Товарищей». И хотя довелось лавировать, работал с трепетной радостью. «Ага, разгадали, дошло! Значит, доходило и до других — кому адресовалось!» И пусть когда-нибудь скажут: «Печатался бог знает где», — все равно писать! В этом одна опора, единственный выход. И пусть «Товарищей» тоже прикроют, мне, возможно, удастся хоть словом переброситься с теми, для кого живу. Я забыл, что такое свежий воздух.
Встретились мы с Алесем через несколько месяцев. На Комаровских виллах, неподалеку от танка, стоявшего там с начала войны. Большой, трехбашенный, он пробился почти через весь захваченный уже немцами город. Многое раздавил своими гусеницами, многих немцев расстрелял из пулеметов и пушек, но здесь, подбитый, остановился и окаменел. И немецкие солдаты, проезжавшие позже мимо, не пропускали случая, чтобы не сфотографироваться на его фоне.
Я стоял и наблюдал как раз за одним таким случаем. Из подъехавшего бронетранспортера соскакивали солдаты. Залихватски поправляли пилотки, ремни на шинелях — готовились увековечить себя у некогда грозной машины. Алесь и верткий чубатый парень подошли ко мне неслышно, и я вздрогнул, когда Алесь дотронулся до моего плеча.
— Вчера тут происходило еще более страшное, — дыша мне в ухо, сказал он сипло. — Вешали, а потом снимались. Любят они гипнотизировать себя.
Он очень похудел. Глаза виновато и сердито поблескивали. Знакомые мне австрийская шапка и демисезонное пальто сидели на нем как чужие.
— А знаете, что осужденный кричал людям, когда его тянули к виселице? «Чего вы глядите? Возмущайтесь! Почему вы не возмущаетесь?»
— Всех не перевешают! — злобно сказал парень и кулаком, словно у него вместо руки была культяпка, вскосматил чуприну.
— Спокойно, Гриша, — попросил его Алесь.
— А что тут такого?
— А то, что в подобных местах всюду глаза и уши, — не выдержал я, сердясь на его разухабистость и представляя переживания человека, которого волокли на смерть.
— А как тогда быть со словами повешенного?
— Это правда, всему есть предел, — потупился Алесь. — Я тоже предупредил редакцию, что бросаю работу и еду учительствовать в деревню. Я почувствовал головокружение.
— Понятно…
Но по-настоящему я понял свое и Алесево положение позже — когда морозным февральским днем он, бледный, прибежал ко мне домой.
Дело в том, что «элита» решила отметить чем-нибудь торжественный выход сотого номера «Беларускай газеты». Подвернулись и деньги — большим тиражом выпустили «Календарь». Ну, а раз так, само собой напрашивалась бесплатная «идейная» выпивка с закуской, которая, кроме всего, по мысли ее инициаторов, должна была консолидировать силы, подать кое-кому надежду самому выбиться в «элиту». Что же касается моей особы, то мне вообще не было возможности отказаться — это окончательно демаскировало бы меня. К тому же в Минск с новой партией выкормышей и идеей создать Центральную раду опять приехал Акинчиц.
Поэтому, естественно, слова, которыми Алесь начал разговор, вызвали у меня досаду.
Отказавшись сесть, он приложил палец к губам. Спросил жестом, одни ли мы, и бросил внезапно, как приказ:
— Сегодня ты, Рыгор, никуда не пойдешь.
— Почему? — не очень вежливо поинтересовался я.
— Разреши не объяснять…
Я пожал плечами, отвернулся от него и отошел к окну.
Как сейчас помню, увидел желтую собаку, которая с опущенным хвостом и мордой пересекала улицу. «Неужто та самая?» — с суеверным страхом подумал и разозлился.
Алесь обнял меня за плечи.
— Ну, хорошо. Слушай!.. В самом начале и мне думалось, что они люди, ослепшие от самовлюбленности и с мозгами набекрень. А потом увидел и убедился: маразм. Полный. И, чтобы защищать живое, нужны не одни разоблачающие их слова!
Когда мы сели, как заговорщики, сблизив головы, он, понимая, что значит для меня сейчас доверие, стал еще более покладистым. Глуховато от пережитого волнения заговорил о Сталинграде. О необходимости отдать столько энергии, сколько ее отдают на фронте, о том, что верховоды собираются создать корпус «самоохраны», — иначе говоря, развязать междоусобицу.
— Понимаешь, — чуть слышно шептал он, — я встретился с человеком с Большой земли, и все как-то стало на свое место…
Признался, что жены со старшей дочерью в городе уже нет. И, если повезет, через несколько часов он сам, Адочка и еще один товарищ — «Помнишь, у танка?» — направятся вслед…
А я слушал его и мучился — уничтожал себя и завидовал ему. «Отдать столько энергии, сколько отдают ее там! — лихорадочно думал. — Пора, Рыгор, пора!.. И написанное отправляй как можно быстрей на святую землю. Пусть знают, с кем ты… Хотя, безусловно, учить людей, как сохранить себя в борьбе, мало… Но ведь и конец еще далеко!..»
И вот что получалось! Алесь будто бы и не сплачивал вокруг себя людей, но те, кому доводилось быть рядом с ним, невольно втягивались в борьбу… — вздохнул Мурашка. — Ну ладно, спите. А это вам газета. Просмотрите завтра. Он ее в Манылах основал… Никто, понятно, и думать не думал, что эта «кольчужка» тоже будет ему мала, что его потянет сюда, в спецгруппу, и он отрастит бороду, приобретет желтую колонку…
Зажмурившись, я с наслаждением крякнул и открыл глаза. Тут и там соломенная крыша просвечивала, и в гумне царил синеватый мрак. Неподалеку надо мной, на решетине, щебетала ласточка. На нее падал свет, и было видно, как трепещет белая шейка. Густо, прерывисто ныл «фокке-вульф». Но вовсе не верилось, что рядом война.
Раиса Семеновна принесла воды, полотенце. Поливала молча, прислушиваясь к гудению «фокке-вульфа». За ночь она, видимо, не сомкнула глаз, осунулась, почернела. Становилось даже не по себе — как горе может изводить, съедать человека.
— Собираются идти искать моего дорогого, ненаглядного, — сообщила она, принимая от меня полотенце и теребя его концы. — Говорят, что, если убили, кинут на месте. Разве заминируют только. Ох!..
— Не надо. Никто ведь не видел даже, что его ранили.
— Вот и по-моему… Хоть я и попросилась… Мурашка тоже собирается…
Присутствие мое становилось лишним. Было не до меня. В словах Раисы Семеновны чувствовались отчужденность, укор. «Чего тебе еще? — как бы спрашивала она. — Ты живой, а он попал в засаду и, может быть, мертвый. Чего ты ждешь от мертвого?»
Поцеловав ей руку, которую она не давала подносить к губам, я отказался от завтрака и ушел из Буд.
Но за околицей меня догнал Гриша Страшко. Тяжело дыша, обнял, прислонил голову к моему плечу.
— Лучше бы меня… если это обязательно!..
— Подожди, что вы как сговорились? Алесь не из таких, кого можно хоронить заранее, — остановил его я. — Мне нужно выяснить некоторые обстоятельства, а ты помоги мне. Возможно, захочется и перейти к нам.
— Я понимаю, понимаю, — заспешил Гриша, — тебя интересует банкет? Известно… Алесь метался, как в клетке. А тут беда за бедой — сожгли Тхорницу, уничтожили семью его тети в Мочанах, через которую когда-то переправляли типографское оборудование… И ко всему задание… не выполнено!..
Я взял его под руку и повел к недалекой куче дикого камня, собранного перед войной с придорожного поля. Посадил, примостился сам.
— Не ясно говорю? — виновато догадался он. — Ну я буду спокойнее. Видишь… Когда все подготовили, Алесь вдруг обнаружил непредвиденное: оказалось, чтобы придать банкету демократичность, на него пригласили многих. Ясно? Алесь, само собой, ужаснулся… Надеясь, что не все еще пропало, побежал предупредить некоторых…
Я, правда, не разделял ни его мук, ни мер. У войны свои законы. Огонь вызывают и на себя. Но он слушать не хотел.
— На себя — допускаю и принимаю, — бубнил. — В крайнем случае на детей своих, как моя Рая. Но не на тех, кто ни в чем не виноват и, значит, ничего не знает. Для кого же мы воюем тогда?
И когда увидел за банкетным столом знакомую девушку-уборщицу, увял. Бесповоротно, как сам потом признался.
Я, конечно, понимаю — с его характером нелегко приходилось… А тут еще пировать с ничтожествами, пить под антисоветские тосты, улыбаться и знать, что упускаешь удобный случай, который вряд ли подвернется еще.
Да и все как бы повернулось ему назло. Захмелевший Козловский неожиданно воспылал к нему симпатией. Подсел, полез с поцелуями. Уговаривал никуда не уезжать. А когда расходились, забыл о своем опекуне Акинчице и вышел вместе с Алесем. Шел и хохотал от собственных предательских планов.
Представляю, что было с Алесем, когда они поравнялись с «опель-капитаном», который прислали твои ребята!
Я моложе Алеся. До войны звал его дядей. Еще зеленым газетчиком, после КИЖа, встречался с ним в гостиницах, на объектах. Но и тогда с ним хорошо чувствовал себя. Хотелось большего, лучшего… А в войну и говорить нечего.
Сам я разбросанный немножко, есть грех. Даже вступив в борьбу, брался то за одно, то за другое. Да и это казалось каким-то ненастоящим. Будто есть, и будто нет. Работая в магазине, отпускал подпольщикам хлеб на поддельные карточки. Обеспечивал партизан солью. Раздобыв «Звязду», пускал по рукам. Но и это делал играя, потому что не мог не делать.
Не знаю, что это и было. Ограниченность? Наваждение?.. Алесь будто разбудил меня, потянул за собой. У меня, как говорят спортсмены, появилось второе дыхание. И, возможно, потому я… и разошелся!..
«Вот тебе суд! Вот тебе наказание!» — подумал я. Он ведь, в сущности, перечеркнул все прежнее. Нарушил свое слово! Отказался от возможности, которую обязан был использовать! И из-за чего? Из-за мягкотелости. Будто те, что вызывают огонь на себя, всегда одни? Будто не бомбят захваченные врагом города? Не взрывают свои электростанции? Не посылают солдат на верную смерть?.. Не проще ли тут все? Сдрейфил и выдумал причину!
Понимая, чем это может кончиться, я, однако, нашел минуту и выпалил ему все в глаза, хотя из леса за нами и прибыл посланец.
Ожидал, конечно, скандала, разрыва. Но Алесь только страдальчески сморщился.
— Ладно! Помогай вот, неугомонный, и погоди немного…
Что оставалось делать? Мы погрузили на сани кое-какие вещи, закутали в одеяло Адочку… Раису Семеновну нашли в маленькой деревушке Полетки. Но тут события закружились еще быстрее. Через час прискакал к нам командир отряда «За отчизну». Потом со свитой комбриг «Штурмовой». А на рассвете мы уже мастерили кассы, сортировали шрифты. Нашелся умелец резчик, взявшийся за заголовок.
Однако… Ты слушаешь? К моей радости, Алесь и на этот раз остался самим собой. Здорово получилось. Как по писаному. Из Минска примчалась его племянница и, захлебываясь, отрапортовала, что в городе арестовывают учителей. Нет, ты слушай, слушай! И вот, чтобы задавать в этом тон, Акинчиц отложил свой отъезд. Даже, чтобы было удобнее и все было под руками, перебрался из гостиницы к Козловскому. Уму непостижимо!.. Пристыженный, я улучил момент и попросил Алеся взять меня с собой. Он, конечно, видел, какими глазами глядел я на него при этом, как ожидал его слов. Догадывался, безусловно, и о том, что думал о нем минуту назад. Слышишь? Замечал, догадывался, но… Меня даже обдало жаром, когда он сказал:
— Ладно, поедем. Ты мне нужен… как и Мурашка. Но имей в виду: подозрения у них сейчас могут быть подкреплены фактами. Усекаешь?
Я бросился обнимать его, но он не дался:
— Хорошо, после. Поправь чуприну. Не такое это, Гриша, приятное дело, — прибавил стоически. — Да и убедим ли еще комбрига? У него тоже есть планы, что и как делать…
Выехали мы в воскресенье — «на базар». И знаешь, что запомнилось? Небо и снег, который под солнечными лучами уже немножко осел. Зимой, видишь, снег отражает их. А вот в марте уже вбирает в себя.
И, возможно, с того и начинается все.
Приметы весны растрогали Алеся. Сидя спиной к партизану-вознице и женщине, которых нам все-таки дали для маскировки, он не отрывал взгляда от снега, от неба на горизонте.
Мне очень хотелось стать вровень с ним! Но я чувствовал, что мне недостает какой-то силы. Не той ли, какую дают испытания и пережитые муки? Моя же биография пока ведь помещалась на листке тетради… Скрипел снег под полозьями, фыркая, довольно резво трусила наша кобылка, а мне и это казалось, пожалуй, не совсем настоящим, будто подстроенным, как в детских забавах. Знаешь?.. Нет, я в какие-то минуты вспоминал, куда и зачем мы едем, но быстро забывал об этом и охотнее думал о себе, о том, как сложится позже моя жизнь.
Что-то от забавы виделось и в самом нашем плане. Машину мы раздобудем по паролю, который ты некогда дал Алесю. На следующее утро подъедем к дому, где живет господин Козловский. Зайдем к нему в квартиру, разбросаем подготовленные листовки с обвинениями и, если не сдастся подобру-поздорову, будем стрелять… И совершенно игнорировалось, что напротив дома городская полиция. Что рядом с квартирой Козловского редакция газеты, а на нижних этажах кино «Новости», солдатские казармы с караульной службой. Выстрелы могут всполошить и сторожей, и солдат, и полицаев… Да и нам просто могут не открыть дверь, ибо в ней давно просверлен глазок. И если они в самом деле собрали факты, им достаточно узнать Алеся…
Минск открылся нам сразу, лишь только мы поднялись на пригорок. Я смотрел на знакомые здания Академии наук, Дома правительства, и от умиления у меня щемило сердце. Я и не думал, что они так дороги мне!
Переговоры насчет машины Алесь вел с заведующим гаражом Дома печати — сухощавым, старательно выбритым человеком с пустым рукавом, засунутым в карман поношенного пальто. Говорил тот как бы нехотя, слова произносил с нажимом, и о том, что он прибалт, можно было догадаться по напряженным движениям губ.
Его спокойная дисциплинированность — он даже не спросил, зачем нам автомашина, — вовсе окрылила меня. Какие тут сомнения, конечно, все пойдет как задумано, как должно идти! Ибо как же иначе? За нас ведь все — и люди, и справедливость! И хотя Алесь оставался насупленным, будто решал тяжелую задачу, в груди у меня зазвучал озорной мотив: «Фить! Фи-ить!..» И это почти беззаботное, приподнятое настроение, когда кажется, что тебе море по колено, не оставляло меня весь остаток дня и потом позже, во сне.
Когда мы подъехали к злосчастному зданию, меня уже ничто не смущало — ни мотоциклы с пулеметами на противоположной стороне улицы, ни часовые-бобики в подъезде.
Оставив машину у входа, мы по деревянной заслеженной лестнице поднялись на третий этаж. Прислушались. Дом спал. Только на улице пыхкал мотор нашей машины — шофер не выключил его.
С этого момента я жил как во сне, хотя все замечал на удивление остро. Появилась способность наблюдать за собой как бы со стороны, распоряжаться собой, как распоряжаются другим человеком.
Двери в редакцию оказались незапертыми. Страхуя друг друга, мы пошли по комнатам. Нигде никого не оказалось. Но в редакторском кабинете натолкнулись на бабусю. Выпятив живот, она несла пишущую машинку к невысокой тумбочке.
Возможно, я ошибаюсь и это пришло позже, но… мне показалось, что стены, вещи в комнате, бабуся с перевязанной щекой, — верно, болели зубы — залиты светом, а сам я шагаю по мягкому ковру.
«Ну-ну!» — подогнал я себя и скомандовал:
— В кресло, бабуся! Ша! — И, ища, как бы сильней огорошить ее, отметил, какая она неожиданная в этом казенном, заставленном массивной мебелью кабинете.
Алесь, который, словно зная обо всем, прихватил из квартиры, где мы ночевали, нож, перерезал телефонный шнур, положил на письменный стол листовки.
— Теперь идем, — решительно сказал мне.
Узким коридором мы направились к двери с глазком. Поправив шапку, Алесь нажал кнопку, и за дверью, как показалось — далеко-далеко, раздался звонок.
— Кто-о та-ам? — врастяжку, видимо зевая, спросил заспанный голос.
Пока что все шло почти по плану.
— Это я, Матусевич, — отозвался Алесь. — Привел, господин редактор, человека вместо себя.
— Минутку…
В двери сразу защелкали замки. Один, второй. Звякнула цепочка — дверь, наверно, открывал кто-то другой.
Мы ввалились в заставленную шкафами прихожую. Перед нами в темно-серой пижаме, делавшей его очень высоким, с кислым со сна лицом стоял Акинчиц.
— Какой дурак приходит в такую рань? — сморщился он, возможно специально ради этого наставления открыв дверь. — Тяжело привыкать к порядку? Так?
Он, по всему было видно, ожидал, что мы, теребя шапки, остановимся у порога и попросим извинения. Да Алесь, будто слова были адресованы не ему, глубже надвинул шапку и прошел в комнату.
Мне и раньше бросалось в глаза Алесево упорство. Оно приумножало его силы, было какой-то пружиной, что ли. Теперь же это упорство будто окостенело в нем, выпрямило его, сделало здесь хозяином.
Это почувствовал и Акинчиц.
— Назад! — закричал он, бросаясь вслед. — Где вы находитесь? Владик, сюда! А я позвоню…
— Выполняй приговор, Гриша! С такими не договоришься! — точно пожалел Алесь.
Выхватив пистолет, я выстрелил. Акинчиц икнул, отступил на шаг, но, сделав усилие, стал падать не ко мне, куда клонило, а к Алесю — понял, что дело тут в нем. Подтянувшись на локтях, схватил его за ноги. Алесь выстрелил тоже.
В этот момент я заметил Козловского. Держась за ручку двери, он выглянул из соседней комнаты. В руке у него вздрагивал «вальтер». Я снова вскинул пистолет и не целясь нажал спуск. Однако выстрела не произошло. Оказывается, при подаче перекосило патрон. Козловский часто заморгал, и словно кто-то, не давая ему переступить порог, рванул его назад, захлопнул дверь с французским замком…
Делать здесь больше было нечего. Разбросав остаток листовок, Алесь потянул меня из квартиры. И вовремя. Пробивая дверь, за которой исчез Козловский, в нас полетели пули. Но, честное слово, мне уже казалось, что опасность миновала. Я даже предложил захватить с собой из редакции машинку, веря, что все обойдется…
Гриша уже не сидел на камнях, а топтался передо мной, жестикулируя и гримасничая. Ему не хватало слов.
— А что Алесь? — поддался и я азарту.
— Алесь?.. А-а!.. Вытер пот со лба и стал спускаться по ступенькам. Только на втором этаже, по-моему, сказал: «Напрасно Козловский думает, что спасся от нас. А машинку и вправду стоило бы прихватить…» К нему аппетит тоже приходил во время еды.
— Подожди. А как же солдаты?
— Не слышали, наверно.
— А полицейские?
— Думаю, Козловский не решился стрелять в окна. Рамы двойные, разобьешь стекла, а, на дворе март. А возможно, просто не сообразил. Да и вообще не больно пулял — боялся, наверно, вещи испортить… Как по-твоему, повезет нашим в этот раз?
Алесь вернулся через день. Им в самом деле повезло, если можно так сказать: попав в засаду, группа потеряла всего одного разведчика, который первым заметил опасность, и по его сигналу остальные скатились в кювет и, отстреливаясь, отползли прочь от гиблого места…
На этом мне и нужно было бы окончить рассказ — круг событий замкнулся. Но я — прости, читатель! — не могу: кроме логики фактов есть логика чувств. Алесь вышел из испытаний победителем — живым, целым. Это так. А вот те, что переживали за Алеся, что охраняли его, погибли. И разведчик, предупредивший товарищей, и Раиса Семеновна, и Мурашка, и Гриша…
Раиса Семеновна встретила свою смерть во время последней блокады. В медностволом бору, среди тонких сосен, при шоссе Логойск — Плещиницы. Я тогда с товарищами также рвал блокадное кольцо, И даю слово, если бы встретился с ней, остался бы верным партизанским законам. «Пригнитесь! Не смотрите, что ночь! — крикнул бы Раисе Семеновне. — Зачем идти во весь рост? И стреляйте! Стреляйте! Вы этим защищаете себя…» А если бы пуля все-таки нашла ее, взвалил бы на спину и, чего бы это ни стоило, спрятал бы в чаще, под вывороченной елью или еще где-нибудь. Не дал бы и Мурашке идти, куда он заковылял, — на хутор. Разве можно?! Хутор ведь на ладони! И каждый догадается: некоторых, кто не пробился сквозь блокаду, потянет именно сюда. Остановив кровь, я перевязал бы ему рану и тоже помог бы найти укрытие. А Грише? Грише бы просто запретил быть беззаботным, приказал бы щадить себя…
Но дороги наши не скрестились.
За криками «ура», в горячке боя, происходившего при свете редких костров, зажженных немцами, никто не заметил, как упала Раиса Семеновна. А вот каратели, которые начали прочесывать бор, когда рассвело, заметили. Обессиленная женщина лежала среди вереска на прогарине, и немец-автоматчик, что-то крикнув, дал по ней очередь…
Раненому Мурашке сначала посчастливилось. Он выполз па опушку и увидел избу, где накануне дневал. Однако ему здесь и приказали встать, поднять руки. Одни говорят, что он не выполнил приказа и был расстрелян да месте, как и Раиса Семеновна. Другие же свидетельствуют иное: будто бы видели, как эсэсовцы тянули его в бессознательном состоянии по тюремной лестнице и за день до освобождения Минска расстреляли на острожном дворе.
Гриша же Страшко погиб после освобождения Минска, уже будучи сотрудником «Звязды». Ехал на грузовике в командировку, и лихой случай подстерег его. На крутом повороте Гришу выбросило из кузова, он ударился о землю головой…
Как видно, их конец не связан с Алесем. Но что за диво! Если теперь я вспоминаю и это, в моем воображении встает Березина, которую мы тоже, не прорвав тогда блокаду, форсировали, отходя в болота Палика. Медленно, но мощно текла она в своих низких зеленых берегах, и я, как мне кажется, душой чувствовал упругий ее стержень, который, чуть выпрямляя течение, нес ее неутомимые воды. Да, да! Даже ощутил ее живое сечение, про которое вспоминают люди, когда говорят о напоре и мощи реки.
ГОРЬКИЙ ВЕНОК
рассказ
Я не хочу!.. Мне страшно, Захарик! Ей-богу. И, пожалуйста, не хмурься. Ты же сам видишь… Покупаю все на вырост, а пройдет полгода — и опять все мало и коротко. Погляди на рукава. Вон какие… Недавно еще челку носил. А сейчас уже волосы зачесываешь назад. Мальчик ты мой! Сыночек дорогой!.. Руки мои к щеке прижимал, льнул ко мне. А теперь если и поцелуешь, уходя, то в лоб, в плечо. Как покойницу.
Зачем ты так?
Обидно ведь!.. Забываешь и то, что было. Будто ничего и не было вовсе. Будто бы и не я тебя вырастила.
Я еще в родильном доме лежала, а отец твой уже хвостом накрылся. Ищи красавца, как ветра в поле. Выписываться пора, а вас перепеленать нечем. Ни пеленок, ни распашонок. Да и куда круглой сироте идти? К чужим наниматься? А какой дурак возьмет тебя с двумя детьми? Хорошо хоть, месяц в комнате матери и ребенка разрешили перебыть. Докторка один комплект выписала. А второй права не имеет. Законница такая была… Но остальным стыдно стало, — сложились и купили.
А что дальше было делать? В сиротский приют вас сбагрить? Да я скорей бы пластом легла. Разорвать себя на куски дала бы. Вы ведь единственное, что я имела. Живое, тепленькое, свое…
Правда, Женечку вскоре бог взял. Но ты ведь живой! Один, но остался. Значит, есть на этом свете родное…
Устроилась уборщицей в доме грудных детей. Туда со всего города подкидышей собирали… Кругом разруха, город после белополяков в развалинах. Хотела или не хотела, начала работать.
Под лестницей себе каморку отгородила. Ты с подкидышами, а я с ведрами да с тряпкой. По лестнице кто идет — будто по голове шагает.
Да разве ты уживешься с людьми, если нужда кругом. И то им не так, и это не так. Со своим, обвиняют, только и возишься, а пол грязный. На своего не надышишься, а чужие нехай околеют…
Плюнула, перепеленала тебя и ушла. В ночь, в слякоть. Не дождутся, чтобы оправдывалась да просила!..
Кем только не была после! И кормилицей, и кухаркой у нэпманов, и судомойкой в харчевнях. Всем была… А ты рос, и все при мне. На глазах. Не болел даже. И хотя ношеное надевал, но — чистенькое. На тебя прохожие оглядывались, думали — девочка. А я, как по-твоему, всегда сытая и причесанная была?
Раз хозяйка тебя тапочкой ударила. Так я у нее, гадины, пук волос с головы вырвала. Атласный халат пополам располосовала. Визжала она, как свинья осатанелая, в заборе застрявшая.
Выгнали, конечно. Что им? Ночевала с тобой на скамейке в городском сквере. Закутала в тряпье, прижала к груди и легла. Ноги зябнут, листья падают, шелестит вокруг, а мы лежим. Одного боялась — чтобы дождь не ливнул.
Смилостивился господь бог — подобрал нас прохожий, к себе привел. Но тоже хорошим жлобом оказался. Половина дома собственная, квартиранты в трех комнатах, а сам на Комаровском базаре милостыню просит… Но через год умер. Простудился. Диво ли — на голой земле часто сидел. Ну, соседи и подучили, отсудила я эти полдома. Хоть своя крыша над головой. Все крутиться легче.
А там ты в школу пошел. В нулевку. Услужливый, кроткий… Учительница не нахвалится. Смеялась все — ты ее «моя тетенька Оля» называл. Ладони ей гладил.
Не скажу, смирным ты был, смирным и остался. Когда даже пионером стал, все больше с младшими дружил. Игрушки им мастерил, разные спектакли, забавы устраивал. Откуда что бралось только. Меня учить взялся. Отметки начал ставить, выговаривал, если что-нибудь не так делала. Другие стеснялись, а ты на школьные собрания меня за руку водил. Тешусь я не натешусь. Слава богу, в люди выходишь, и я с тобой!.. Как уснешь, гляжу не нагляжусь. Хоть от предчувствия сердце и замирает…
Лампа погаснет — керосина нет, — печурку разожжешь. И читаешь, читаешь. Куда идешь, тоже в книгу глядишь. За стишки принялся. Про весну, про лето писал. Только про зиму не любил. Дал знать себя холод… Слова появились: «Но пасаран», «Комсомольск-на-Амуре»…
Святые образа, которые я, как сокровище, прятала, стали мешать тебе… А с отцом как? Знать не хочешь, что я все равно из сердца выбросить его не могу, хоть и обидел он меня. Родитель все-таки твой. Да и я других ни до него, ни после не имела. А вспомни, когда его фотокарточку увеличила и повесила на стену? Ты ведь на него похож. Сам гордился, что происходишь из рабочих… А помнишь? Отвернулся и вышел из комнаты, ровно обидели тебя. А потом про какой-то долг, высокие мотивы рассуждал, руками размахивал. Тебе справедливость подай, а мне как? Думал ты про это? Как мне без девы Марии да светлых воспоминаний жить?
Да и вообще, что ни день — хуже, как и у всех. Пока уборщицей в центральной поликлинике работала, мириться еще можно было. Встречал, когда поздно дежурила. А как бросила поликлинику? Когда белье чужое стала мыть да лекарственные травы собирать?
Сам про справедливость твердишь, а это справедливо? Стыдно, сынок. Разве я не знаю, что ты, чтоб свое мне доказать и о своей самостоятельности напомнить, летом пионервожатым в лагерь поехал? А зачем мне твой заработок, если тебя рядом нет? Зачем вообще все? Спроси у соседки. Данута и та подтвердит. Кажется, она понимает мои страдания.
Я ведь тебя даже вижу редко. Не нужна, значит, уже! То собрания комсомольские. То сходки разные. Девчата, поди, завелись. Много их, охотниц на готовенькое. Вон какая голова! Голос какой! Сам штопать и гладить можешь, сам и обед приготовишь… А мне как? Скажи!
А мне как? Скажи, пресвятая Мария? Видишь, что творится кругом? Сброда этого ведь тьма-тьмущая… В город от Болотной станции входили как на шабаш какой. В барабаны били. В горны трубили. Даже каски с рогами. Приказы понаклеили, и все одним кончаются — смерть, смертонька. А мой ведь совсем еще мальчик.
Когда бомбили и завод Кирова загорелся, на крышу взобрался, чтоб свидетелем быть. Захарик… свидетель! К своей «тетечке Оле» слетал. В ее квартале, вишь, тоже горело. Мать от страха заходится, не знает, что спрятать куда, а его вон на какие штуки подмывает.
Говорить начнет — сам не знает что. Пойдет куда — ровно опять-таки что-то потерял и ищет. А тюрьма полная. Лагеря концентрационные. Такого и слова… тьфу… не было раньше. А он будто ненормальный, сам не свой. Глядеть, пресвятая Мария, не могу! Сердце переворачивается. Что будет? Защити!
Когда ребенком был, знала, как спасать. Закутаю во что есть — и прочь от опасности. Обижает кто-нибудь — собой заслоню. Продолжают делать свое — нехай на себя потом пеняют… А тут? Что ты сделаешь с этой напастью? Изуверы ведь! До четырех часов дня ходить только разрешают… На Октябрьские праздники, пресвятая дева, в Театральном сквере и других местах женщин вешали. Подростка одного повесили. В кепочке, худенького…
Значит, один выход — смириться. Сказала ему — промолчал. Да каким-то чужим сделался. Есть он дома, пет — все едино тихо. И вдруг:
— Хорошо, мама…
«Матерь божья, слава тебе! — думаю. — Услышала!»
Поступил курьером в управу. Правда, сперва в типографию собирался… Да разве не все равно? С его умом-то, с его старательностью. Он ведь по-немецки говорит — как семечки грызет. А главное — придираться никто не посмеет. В Германию не погонят. Паек дадут. Работает все-таки, на глазах…
И в самом деле. Не прошло и двух месяцев, его, прилежного, аккуратного, перевели в специальное бюро ответственное. В отдельной комнате стал сидеть.
Сам бургомистр Ивановский обратил внимание. Важный такой, с титулами. Задачник по арифметике поручил ему с немецкого языка переводить. К нам несколько раз заезжал. Мелким маком рассыпался, хвалил Захарика. Усыновить даже предложил. Позже даже собирался в Германию послать — знакомиться, как работают там с молодыми…
Да человеку всегда мало. Ох!.. По-прежнему тянуло моего к товарищам. Соберутся — поют, как раньше, танцуют, стихи рассказывают. А какие тут сборища, если патрули в подкованных сапогах под окнами вышагивают. Если один на другого может наговорить всякую всячину. Причина для зависти всегда найдется.
Захарик, правда, и там, по-моему, аккуратно себя вел. Загулялись было один раз… Хозяйка, известно, предложила остаться, чтоб ночью не шли. А может, и на уме что свое имела. Кто их, людей, поймет-то. Захарику с дочкой кровать подготовила. И, думаешь, он лег, бедняга? Постелил себе половичок на полу рядом и проспал до утра.
А вот, когда я вынула из тайника иконки свои, повесила в красном углу — зайдет кто-нибудь, пусть смотрят, — опять запротестовал. Да еще с большим упорством. Молчком молчал, пока, прости, пречистая дева Мария, не сняла я их снова.
А разве такое приведет к добру? Закадычные дружки-товарищи стали и к нам заходить. Особенно один. Ох, не нравился он мне — плечистый, с чуприной. По-моему, и женатый уже. На товарной станции работал. Захарик его Чубчиком звал. И за чуб, и за песню, которую пел частенько…
Того, кто сам себя оберегает, и господь бог бережет… Гляжу однажды — по огороду шляются. Вдвоем. В погреб спустились. Туда с каким-то свертком, а оттуда без него. Матерь божья! Вот-вот, начинается! Я тогда там все обшарила, огород при луне перекопала. Думала, ума лишусь.
А там и пошло, пошло… В самые морозы, перед крещением, вечером заскрипели в дровянике двери. Я без платка, в одном платье да жилетке, как была, — на двор. Подкралась к сараю — и туда. Сначала будто ослепла. Темно там у нас. А потом привыкла. Вижу — поленница разобрана, дрова в кучу сбоку сложены. А Зорик с приятелем, сидя на колодке, тряпками винтовки обматывают. Чуть с ума не спятила.
Что за напасть? За какие такие грехи? Неужели тебя, пресвятая дева, разгневала? За забором полицай живет. На улице разные машины гудят. А они тут с винтовками, заговорщики! Пулеметы, пушки ничегошеньки в свое время не сделали, а они что-то винтовками сделают! Самоубийцы несчастные! Рехнулись, что ли?.. Приказала, чтоб и духу этих железяк тут не было и чтобы больше их я никогда вместе не видела.
А когда после стала Захарику говорить — разве я несчастья ему хочу или не люблю его? — он просто ошеломил меня.
— Не всякая, мама, любовь, — говорит, — есть любовь!
И, думаешь, образумились? Наоборот! Подговорили «тетю Олю» расспросить меня, что еще про них знаю. А убедившись — ничего больше, решили на всякий случай припугнуть. Чтоб не следила, отцепилась, побаивалась.
Слышу как-то ночью — Захарик заворочался на кровати. А затем половицы заскрипели, дверь. Она у нас скрипучая зимой… Ну, известно, я за халат. Но когда приоткрыла дверь в сени, что-то белое цап меня за полу и потянуло к себе. Вырвалась я. Колени дрожат, трясусь вся. Не знаю, как дожила до рассвета. А подошла к Захарнку — спит он. Ни жалости, ни сочувствия у праведника. Вот когда поголосила и поплакала перед ним, скалою…
А тут весной опять вешать стали… Материнское сердце не себе служит. Сомкну веки — Захарик перед глазами повешенный. То на суку, то просто на телефонном столбе. Неужто, думаю, я его для этого растила? Неужто даром через такое продралась?
Прости, пресвятая Мария, решила я стеной встать.
Когда он было заикнулся, что не худо бы мне на время в деревню переехать, осатанела я. Не могу! Неблагодарность черная! Дурь! Сам в петлю лезет и меня в грош не ставит!
— Хватит! — завопила я. — Не будешь слушаться — заставлю! Выбегу вот сейчас на улицу и закричу: «Немцы, где вы? Тут комсомолец!..»
О матерь божья, что с ним стало!
Что с ним стало? Данутка! Арестовали ведь моего мальчика. Прямо на работе. Когда вели в СД, на улице Островского вырвался и побежал. Но догнали. Ох, избили, говорят, в кровь. В одном ботинке повели дальше.
Что делать, Данутка? Как и где тут выход найти? Бегала к учительнице, искала Чубчика. Хотела спросить, кто мог продать моего мальчика. А если не знают, то нехай хоть помогут в чем-нибудь. Да выяснилось — забрали и их.
Кинулась в управу, к Ивановскому. Все-таки профессор, доктор, инженер, усыновить Захарика собирался. Когда заезжал к нам, меня по плечу хлопал. Быть не может, упрошу!
Прошмыгнула в кабинет. Упала на колени у стола. Он по ту сторону, а я по эту. Просить начала, хотя одни его ноги и вижу.
Скрестил он их сначала. Ну думаю, выслушает. Но скоро прямо поставил, задрыгал одной. Топнул. А я молю, ноги его молю. Неужели не человек, не поможет? Захарику не поможет?!
Что он потом кричал, до меня не доходило. Помню только, что когда отодвинул ногами кресло и склонился через стол, все слюной брызгал… Кричал: «Карьерист!.. Каленым железом!..» Поняла, что тяжко доведется моему сыночку…
Домой как выжатая приволоклась. Стала вспоминать. Батюшки! Мой же Захарик, оказывается, давно руководил чем-то. Он, вишь, подпольщиков документами снабжал. Образцы подписей и печатей пересылал. Про всякие намерения и секретные изменения информировал. А также — слышишь, Данутка? ты слушай, слушай! — он несколько подвод с оружием куда-то переправил. Первый пpo каких-то «тигров» в лес сообщил. И про то, что на издевательство и смерть детей хотят вывезти в Германию. А когда Чубчика сцапали, возглавил подрывы на железной дороге. Несколькими группами командовал… Мальчик ты мой! Зорик ты мой, как тебя товарищи называют! А хуже всего, Данутка, — связную арестовали и письмо его с заявлением перехватили. Просил лесных товарищей в партию принять. Хотел Октябрьские праздники коммунистом встретить… Вот, оказывается, какой он карьерист! А разве простят такое, если заваруха не на жизнь, а на смерть пошла? Конечно, нет. Как не простят и им…
Намедни к тюремным воротам с передачей ходила. Напекла пирожков, яблок раздобыла. Нехай угостится, сердешный. Но где там, разве примут. «Иди, иди отсюда!» Морды свои от злости отворачивают. Будто бы эти пирожки да яблоки сама у них просишь или насильно отнять собираешься. Будто бы твое присутствие тут оскорбление им. Ты им солнце застишь и дышать не даешь. Будто это ты их детей убить собираешься.
Упала я на землю, запричитала. А когда пинков надавали, встала и поплелась. Хватаю воздух, как рыба, которую из воды выбросило. Одна на всем белом свете!.. Ни я никому не нужна, ни мне кто!..
Очнулась потом, гляжу — на Немиге я. Удивилась, ахнула. Солнце светит, люди по тротуарам идут. Диво! У пивного ларька солдаты толпятся. Лопочут, в руках кружки с пивом, на пену дуют. А по мостовой с цокотом бежит запряженный в пролетку конь. Узнала… бургомистров. К нам на нем приезжал. Увидела и самого— за спиной у кучера. Развалился, держит бородку в пригоршне.
Расходилось все во мне. Под горло аж подступило. Как так? Моего мальчика допрашивают, пытают за тюремными стенами, а этот, кто его не пожалел и, может, на измывательство отправил, важничает и бог знает кого строит из себя. Сплавил, поди, очередную партию дрожжей, положил деньги в карман и доволен. А может, и того хуже — болтал про любовь свою к людям и новые списки, кого арестовать, кого в Германию отправить, готовил…
Да есть, видно, все-таки справедливость.
Не успела я прибавить шагу, чтоб крикнуть ему, что про него думаю, как в пролетку вскочил третий. Про что они там говорили, не знаю. Но когда бургомистр завопил благим матом, парень схватил его за шиворот и рванул с сиденья. Как из-под земли вырос еще один и выстрелил господину в грудь. Дважды. Не выпуская воротника, выстрелил и парень, который стянул его с пролетки. А после дернул изо всей силы и швырнул на мостовую — валяйся, падла!
И это днем, при солнце. На глазах у всех!.. Вот тебе, возьми!..
Люди, известно, кто куда — подальше от греха. Кому улыбается без всякой причины встревать в свалку… Солдаты и те от пивного ларька бросились врассыпную. Вместе с другими побежала и я. Бегу, а душа ликует. На, съешь… Как, хорошо? Это тебе за моего Захарика отплата. За слезы мои.
Назавтра опять с передачей к тюрьме пошла. Пусть бьют, пусть издеваются. Мне не привыкать. У меня своя задача… Да и что оставалось делать? Сидеть дома сложа руки? Одной-одинешеньке?
Возле тюремных ворот толпа. И опять те самые мурлатые. Однако не трогают пока никого. Только морды по-прежнему воротят.
Слышу, кто-то за рукав меня дергает. Оглянулась — девчонка лет шестнадцати. Кудерки золотистые. Голову поднять не смеет.
— Привет от Зорика, — шепчет и хлебные карточки в руки сует. — Он, говорит, просит вас держаться… — И захлебнулась: — Ему, тетенька, на допросе руку переломили…
Как я добралась домой, не помню. Мы с тобой соседями, почитай, лет двадцать живем. Хорошо ли, плохо — неважно. Но никогда я тебе не брехала. Могла промолчать, буркнуть что-нибудь не так. Но врать — не-эт! Так вот поверь — не ела, не пила трое суток. Как все равно угорела.
Что же это такое? Где бог, если он есть? Где? Разве можно столько на одного человека валить? Убьют они Захарика. И могилы после не найдешь. Не будешь знать, куда и цветы принести… Не хочу я этого! Хватит!.. Не хочу!..
О, ЭТА ИСКРЕННОСТЬ!
рассказ
Привезли их к нам на Широкую в душегубке. Вылезли они, помню, как теперь, последними. Сначала профессор. Потом Галина Николаевна, которой он помог сойти. Поцеловав в лоб, похлопал по щеке и взял под руку. Заметив — издалека наблюдаем мы, — снял измятую шляпу и, седой, остроплечий, помахал ею нам.
Почему его направили сюда? Известного хирурга, ученого? И почему в концентрационный лагерь, а не в Тростенец или Германию, как бывало чаще всего?
Лагерь пробуждает в людях подозрительность. Обостряет чувство справедливости: рядом опасность, и легко может случиться, что завтра-послезавтра жить уже придется не тебе. Потому чрезвычайно хочется, чтобы тот, кому повезет, заслуженно пользовался благами жизни. А тут еще холод и голод… Вокруг заговорили.
— Слышали — «гер»? Гер-гер… Чего это, интересно, цацкаются с ним, как с гостем? Потому что подпольщик? А может, что кличка звучная? Самарин?
— Эге, не вяжется.
— Не бойся, вяжется. Аресты вон как шли, так и идут.
— А может, надеются, что время научит пироги есть?
— Знаем мы их надежды. Когда Зязина взяли, враз ровно в воду канул. А врач что хуже? Ого-го!
— Это верно. С кем он связан? Перед кем отчитывался? А самодеятельность — она всегда того…
Не совсем верилось в эти скептические и злые наветы, но, признаюсь, хотелось, чтобы было именно так.
Меня сильно били в СД. Били, как бьют обреченных на смерть, когда надо одно — вырвать нужное слово. Поэтому все на белом свете казалось мне гадким. Не было и завтрашнего дня. Недоставало сил начать все сызнова, не было готовности опять пройти через ужасы в застенках. Да и не верила я в Клумова до конца. Его открытость, по-моему, деконспирировала нас, а доброта была бесхребетной, показной. Мы знали, о чем говорить вслух, о чем шептаться. Он, пожалуй, не знал и этого. Не следил за собой, не контролировал себя. А ляпнув что-нибудь, и думать не думал поправиться, ну, или хотя б упрекнуть себя в мыслях. Правда, к нему тянулись. Студенты-практиканты прежде так начинали говорить, как он, — растягивая слова и чуть заикаясь. И это тоже возмущало, злило меня — слепота какая-то!..
Родился он в Москве. Как свидетельствовали поклонники, перенял от матери любовь к музыке, от либерального адвоката-папаши — еще что-то. Гимназистом вызубрил латынь, греческий, немецкий, французский. Увлекся Лермонтовым, Достоевским. Если верить, принимал участие в студенческих волнениях… Адвокат, музыка, Достоевский, студенческое вольнодумство… ха-ха!
И дальше не больно ортодоксально было. Московский университет, практика в качестве внештатного ординатора в Белокаменной. Потом царская армия, Новокиевский военный госпиталь, звания. Не многим такое выпадало на долю… Хотя после демобилизации, как говорят, задурил — отказался от работы в матушке Москве и поехал в Белоруссию. Служил в земских больницах Лоевщины, колесил по деревням. Побывав в крестьянских избах, загорелся желанием класть заплатки на тогдашнюю бедность. Завел породистых свиней — слышите? — и одаривал бедняков поросятами.
Меня все это раздражало, настораживало. Все, все! И его идеализм, и его стремление быть самим собой, и его культуртрегерство. Даже то, что он, москвич, полюбил Белоруссию и считал ее второй родиной.
Я знаю, как далеко можно зайти в своем отрешении. Но все-таки… В первую мировую войну Клумов вновь очутился в армейских лазаретах. А за годы советской власти поднялся высоко, прославился. Ну, и, разумеется, начались вопросы: откуда такая преданность? что конкретно питает ее? пришло ли бы все это, если б не расчет?
Или еще!.. Убегая с другими из охваченного огнем Минска, Клумовы дальше Березины не пошли. Почему? Пристанище облюбовали под Пуховичами, в прилесной избушке, которую, кстати, еще весной сняли на лето. Вот совпадение! Жили там, пока не получили коллективное письмо. В нем писалось, что уцелевшие городские больницы немцы заняли под госпитали и отвели минчанам одну Первую Советскую, где вповалку лежат больные, роженицы и раненые.
Упрекнуть Клумова, что он с палкой, в опорках на распухших ногах приковылял в Минск, не упрекнешь. Люди болели, рожали — жизнь шла своими дорогами. Да и сама я вынуждена была работать. Но…
Нет, если крепко хочешь найти что-нибудь, всегда найдешь. Особенно такое, что бросит тень на неприятного тебе человека. Важно захотеть. Важно начать… Но в данном случае, считайте, и этого не нужно было делать — вместе с прежними сотрудниками письмо подписала и «стерва Станислава»! Фифа из «обиженных», которые брызгали слюной. Значит, Клумова пригласили не одни друзья. Значит, его возвращение было на руку не только им. Он ведь персона! Нашлись и любопытные. Докопались — к возвращению Клумова в Минск приложил также руку какой-то немецкий сановник, у которого заболела жена. Иначе говоря, хочешь во что бы то ни стало доказать свое — ха-ха! — подмочи репутацию своего дружка-благодетеля. Или долби, как прежде, уже заученное. Правда тогда у тебя в кармане…
Лагерь наш был обычным — высокий забор, сторожевые вышки, колючая проволока. Стандартный набор зданий — вещевой склад, баня-санпропускник, барак, кухня, караульная. Тот же «габерзуп» из неочищенной картошки, те же блохи. Все как везде. Разве что под барак отведена длиннющая бывшая конюшня. На дворе желоба, из которых некогда кавалеристы «самарцы» поили лошадей. Да еще разве проклятый гиблый флигель с тифозными, которого все боялись, как чумы, и откуда санитары-евреи чуть ли не ежедневно выносили трупы.
Перед тем, как душегубка привезла Клумовых, из конюшни, где в одной половине содержались старожилы, которых возили на работу в город, а в другой — старухи с малолетками, кажется, из-под Полоцка, последних вывезли. Были — и не стало. В памяти осталось только, что они все кашляли. Надрывно, забрасывая назад голову, чтобы втянуть воздух. И еще одно. Из-за этого кашля комендант часто врывался к ним и стрелял в потолок… Так вот, когда привезенные приняли в бане душ, освобожденную половину еще дезинфицировали, и новичкам пришлось слоняться по двору. Помнится, платки у женщин примерзли к волосам… Но это я так. Вспомнилось, как ринулись они занимать нары.
Правда, Клумовым уступили «лучшее место» — где меньше дуло. Однако лагерный врач, как только услышал, что они здесь, сразу взял их и перевел к себе. В малюсенькую каморку в отдельном домике — в так называемый медицинский пункт.
Клумовы выглядели до предела изможденными. Особенно Галина Николаевна. После допросов и пыток в тюрьме она, как передавали те, что успели перекинуться с ней словом, заговаривалась и мало кого узнавала. Да и ее трудно было узнать. От истощения у Галины Николаевны даже тоньше стали волосы и вылезали целыми пучками. Это мучило ее, и она без конца поправляла рваный пуховый платок.
Прежде я издевалась над слабостями профессорши. Насмехалась над тем, что она старалась быть молодой, что боялась старости, морщин. Насмехалась потому, что, догадываясь — тревоги жены связаны с ним, — желая подбодрить ее, Клумов — ха-ха! — подчеркнуто восхищался ею: «Ка-к-кая ты молода-ая, Галя! Мне просто неловко за себя. Не-эт, серьезно, скажи, кто из твоих рове-есниц выглядит, как ты? Ну-у? Тебе же со-орок пять, не больше!» Но теперь я — я! — позавидовала ей. Честное слово! Ведя жену в медпункт, видя, как она дышит на замерзшие руки и торопливо заправляет редкие волосы под одеревеневший платок, Клумов гладил ее спину и говорил:
— Ничего, голубушка, ниче-его! Не волнуйся. Еще не все потеряно. Только не отчаивайся, молю. Помнишь, как ты исп-пугалась обыска?.. А тог-гда, в лесу?..
«Что это? — думала я, провожая Клумовых взгляд дом. — Игра? Самогипноз? Обычная глупость? Особенный дар? Неужели действительно есть такая способность? И если ее беречь, не транжирить, ее, как видно, хватит на всю жизнь. Сколько ему? Много. А он, будто слепой, и знать не хочет о переменах в жене. Любит свою Галю сильней, чем прежде!»
Хотя мне было под тридцать, я не имела семьи. Да, если говорить правду, не пережила и любви. Не очень верила в нее раньше, не очень верила и тогда. Смотрела как врач — все проще. Нужно — она приходит, не нужно… Мужчины вызывали у меня недоверие. Вероломство, фатоватое тщеславие… Я тоже не очень нравилась им — недоставало, видно, женственности. А возможно, слишком много было непримиримости к их слабостям, слишком много настырного желания навязать свое. Не помогали ни косы, ни плечи, ни стать.
Отец мой юрист. В тридцать девятом бросил больную мать. И это законник!.. Я, комсомолка тогда, стояла на пороге самостоятельной жизни и, конечно, в возмущении — как он мог? — отреклась от него. Он сделался ненавистным мне… А вскоре была потеряна и мать. При первой немецкой бомбежке. Я даже не смогла откопать ее труп из-под развалин.
Не скажу почему, но эти два события слились в моем сознании в одно, пробудили беспощадность ко всем и к себе. Будто все во мне выжгли. Видели старую, узловатую иву, в дупле которой мальчишки раскладывали костер?.. Вот такой и вошла я в войну.
Вокруг горело, рвалось, а я перевязывала, оперировала. Штатских клала в палаты. Военных отправляла с попутными машинами на восток. Последний раз знаете как отправила? Распласталась в белом халате поперек мостовой и не встала, пока не взяли… И тех, что остались, не бросила. Понимала: они одни теперь связывают меня с жизнью.
Я, наверное, начала свой рассказ не с того. Пропускаю главное. Но поверьте — я клянусь! — старомодные клумовские сентиментальные страсти-мордасти смутили многих. Именно многих!.. Хотя я снова, отгоняя слабость, старалась принизить и это — и в своих, и в чужих глазах.
Лицом к лицу мы встретились несколько дней спустя — в очереди за обедом. Это, по-моему, была одна из наипозорнейших процедур в лагерном житье — когда мы, заключенные, под надзором полицейских (не дай бог, чтобы кто стал в очередь дважды!), получали консервную банку баланды.
— Ду-ушечка, вы? Значит, помогло-о все-таки! — радостно удивился Клумов, дотрагиваясь усами и губами до моей руки. — Галя, посмотри, она жива-а! Как и мы… Когда вывели нас на т-тюремный двор и начали за-загонять в душегубку, ду-умали — все! Хорошо, что кто-то предупредил: закро-оют плотно дверь — коне-ец, a возьмут на цепо-очку — не все еще к-кончено. Взяли на цепо-очку!
Галина Николаевна кинула на меня жалкий взгляд, виновато сморщилась и принялась поправлять волосы.
Нет, до моей капитуляции было еще далеко. Подумаешь!.. Потом я даже укоряла себя, что стала тогда улыбаться, трясти профессорскую руку, сочувственно ахать. Перед кем? Зачем? Разве не все равно? Но слова «помогло все-таки» не пролетели мимо. Клумов, как обнаруживалось, был в курсе моей подпольной деятельности и кое-что предпринял, чтобы спасти меня от смерти…
— Заходите к нам! — говорил, пропуская меня вперед и печальным взглядом приглашая полюбоваться на дневального, важно орудовавшего черпаком у бочки. — Это уже не повредит. Мо-ой уважаемый доктор, я, по-онимаете, раздобыл сахари-инчику. Поговорим про лес, про новости.
Однако было видно — сам Клумов тоже живет на нервах. И хоть старается не показывать виду, хоть уже на второй день ринулся работать в тифозный барак, силы у него на пределе — сдает сердце, мучает застарелый диабет. Угловатое лицо его страшно осунулось, отчего уши, казалось, оттопырились, выросли.
Еще по дороге сюда, в лагерь, кое-кто из нас ухитрился выбросить на мостовую писульку — с просьбой передать близким, где кого искать. И, как ни тяжело доводилось нашим на свободе, мы иногда через старожилов, расчищавших улицы, получали посылки-кульки.
И вот тут опять неожиданно обнаружилось — среди разношерстных людей, которые по самым различным причинам попали в лагерь, почти не было таких, кому бы Евгений Владимирович не сделал добра… Для санитарки Гели, такой славной, искренней женщины, с которой мне выпало валяться рядом на нарах, он снял в своей комнате занавески — на штанишки сыну. За операции немцы ввели плату — и Клумов частенько вносил деньги за тех, кого оперировал. Когда родственники благодарных больных приносили ему кое-что из продуктов, Галина Николаевна сейчас же готовила «всеобщий» обед. А теперь вот тифозный барак!
Правда, доброта и искренность бывают старческими. Кто-кто, а наш брат медик это знает. Они от слабости. От сознания, что дни твои идут к концу, тебя скоро не будет, а другие останутся. Они от боязни быть забытым, от желания — пусть потом хоть кто-нибудь вспомнит добрым словом. Но здесь, среди лохмотьев, жестокости и страданий, яснее стало видно — нет, Клумов вообще не мог иначе жить. И в медпункт к Клумовым, у которых в городе не было родных, стали заглядывать не только больные…
Не прячась, как обычно, от ветра за стеной какого-нибудь строения, я села одна на заснеженный желоб и принялась хлебать баланду точно сама не своя. Не среагировала даже на то, что два санитара на носилках пронесли труп тифозного. Память, как бы назло мне, подсунула случай — Клумов делал операцию… Как всегда в такие минуты, отчужденный от окружающего, с насупленными бровями, чрезвычайно густыми, придававшими ему сердито-недовольный вид… Хирургическая сестра подавала инструменты, тампоны, а он колдовал.
Неожиданно в операционную ворвалась Галина Николаевна. Ломая руки, бросилась к нему:
— Женя, там пришли с обыском!..
— Ну и что? Не мешай, — попросил он.
— Женечка, гестапо…
— Эсде, — поправил он. — Кто пустил сюда посторонних лиц? — И только когда ассистентка обняла растерянную женщину за плечи и повела к двери, добавил: — Успо-окойся, пожалуйста, я ожидал этого. И ты знала…
Геля как-то рассказывала — ее арестовали позже, — что, когда Евгений Владимирович сидел уже в тюрьме, партизаны расправились с минским бургомистром. Прямо на улице, стащив с пролетки, расстреляли в упор и бросили на камни мостовой. Гестаповцы привезли его в больницу окровавленного, с треснутым черепом. В стремлении спасти вызвали Клумова для консультации.
Был, возможно, и иезуитский прицел. Зная профессорскую честность, надеялись: Клумов постарается показать себя. Это ведь не то что выдавать тайны своих единомышленников. Ну, а если так случится, можно будет надеяться и на большее. Пробовали же они заставить его делать стерилизации… Однако Клумов прошелся по палате, задал несколько вопросов бледной «стерве Станиславе», которая, молитвенно сложив ладони, стояла около беспамятного бургомистра, и спрятал руки за спину.
— После пережитого я зд-десь, господа, не сове-етчик. К тому же он ведь не женщина…
Одна я к Клумовым все-таки вряд ли бы пошла. Но потянула Геля. Оказывается, не испугавшись, она перед этим выбралась из лагеря со старожилами, которых гнали на работу, расстаралась в городе инсулину и вернулась назад… Со свободы, от сына!..
Заметив, что я колеблюсь, Геля даже прослезилась:
— Какая вы, в самом деле! Вам молиться на него нужно. Если бы не подкупили следователя, разве вы были бы здесь?
Укрытая тряпьем, Галина Николаевна лежала на топчане, а Евгений Владимирович, как посетитель в больнице, сидел у ее изголовья. Когда скрипнула дверь, встрепенулся, предложил мне свою табуретку.
— Второй нет, това-арищи. Садись, Гелечка, к Гале. Ей нездоровится…
Склонившись, он подержал ладонь на лбу Галины Николаевны, потрепал ее по щеке.
О чем он думал? Что переживал? Во всяком случае, маловероятно, чтобы мысли его были радостными. Но заговорил он довольно бодро, с прежним достоинством:
— Сегодня ночью си-идел у окна и слушал, как пролетали наши бомбардировщики. Чуде-есная, скажу вам, музыка. Даже звенели стекла… А небо, неб-бо!..
— Это «ИЛ-4», — обрадовалась Геля, обдавая его ласковым светом васильковых глаз. — Я тоже слышала.
— Достоевский, во-озможно, острее, чем кто другой, чувствовал обреченность всех и всяческих претендентов на миссию юберменшей. И доказал: не-ет, дудки, природа человека сильнее самого человека! Помните? Темные инстинкты и поползновения бессильны против живого потока жизни, хотя и способны взбаламутить его. Убивая и зверствуя, они убивают себя. Сами же до отвращения жить хотят… — И, помолчав, без определенной связи добавил — Доктор узна-ал, что готовится оч-чередная разгрузка лагеря. Придется заполнять анкеты. И, как сообщают, с очень интересными пунктами: «Чем болел?», «Когда?», «Чем бо-олен?», «Давно ли?» Так что делайте выводы. А у меня сего-одня один умер…
Его рассуждения, тон опять показались мне наивно-странными. Интеллигентщина! Совет же его оскорбил — на него нужно было иметь особое моральное право.
— А вы? Уже сделали этот вывод? — поинтересовалась я, отвернувшись к окну.
Он развел руками:
— Мы-ы? Искренне?.. Но лучше не бу-удем о нас… Еще раз благодарю, Гелечка, за инсулин. После укола вроде бы наново ро-одился. Вот чему уже до-оводится радоваться. Не слишком ли мало для человека?..
— Вы намекаете на побег? — спросила я с упорным желанием говорить о прежнем и на чем-нибудь поймать Клумова. — Но почему вы сами раньше не использовали удобных возможностей? Были причины?
— В определенном смысле да-а… И первая — совесть требовала остаться на по-осту. Хотя, возможно, и заставляла действовать не всегда рассудительно. Да как ты вообще будешь рассудительным, если где-то близко умирают, истекают кровью? Ну, а п-потом поздно стало. Убежал бы один — арестовали бы десятки… Скажите мне лу-учше, неужели где-то есть ле-ес, лохматые ели?.. Свобода?..
Чего я хотела от него? Что еще старалась доказать себе и ему? Я видела, как мрачнеет Геля, как, не поворачивая головы, удивленно косится на меня Галина Николаевна, но сделать с собой ничего не могла. Меня душила злоба, душили слезы. От стыда, от обиды, от протеста.
У меня, разумеется, не было сомнений, на какой стороне баррикады Клумов. Чувствовала, что и в моем упреке — делает, ибо не может не делать — мало справедливости. Допускала, что никто, кроме Клумова с его репутацией правдолюба и оригинала, не способен был добиться такой автономии, которая развязала бы нам руки. Больница стала какой-то сплошной явочной квартирой. Призывным пунктом. Паспортным столом. Базой. Из нашей «персоветской», как, с легкой руки маленькой Танечки, называли мы свою больницу, исчезали даже измученные пытками жертвы, привезенные эсдековцами к нам, чтобы мы подлечили их для новых допросов и мук.
Разве могло все это быть, если бы к кому-то не сходились все нити? Если бы кто-то не прибавлял боли одним, не сдерживал других, не обязывал третьих?.. Если бы не было этой искренности? Искренности как высшего проявления человеческого достоинства!.. «Куда делся больной бандит, которого мы доставили вам?» — подступали с кулаками к Клумову в СД. «У меня в больнице, по-моему, иные функции, — с вызовом отвечал он. — Я не вахман». — «Тогда где доктор Свистуненко? В лесу? Кто переправил его?» — «Спросите у своих сотрудников. Они должны знать лучше меня, это их обязанность и специальность». Ай-яй-яй!..
Он заточил себя в больничных стенах. Обходы, операции, назначения, очные и заочные консультации… Трудно было сказать, с кем, одержимый, он ведет борьбу более пылко — с гитлеровцами или человеческой болью… А я? В некой своей предвзятости даже это ставила ему в вину! Не доверяла, обвиняла и в том, что его дважды арестовывали и выпускали. Не думала, как ему после этого было браться за прежнее. Что-то важное притупилось во мне, не давало по-человечески мыслить.
Наперекор логике, в лагере мы много пели. Пусть тихо, едва слышно, но пели. Чтобы была разрядка, впадали в детство, чудили. Это, как и общее несчастье, сближало нас. Щедролюбивая Геля привязалась ко мне, как маленькая… Но вышли мы вместе от Клумовых лишь па крыльцо. Заплакав навзрыд, Геля бросилась со ступенек и побежала от меня, как от чудовища. Потом, правда, поборов себя, вернулась и, заикаясь совсем как прежде, выдохнула мне в лицо:
— Вы-ы!.. А знаете вы… что он был связан еще с первым подпольным горкомом?.. Хотя… какое вам дело? Вы врач, а не представляете, что значит, например, для бойца сознание — если ранят, рану перевяжут! Шелк в спирту — и стерильный материал, и надежда. А кто их давал и переправлял в лес? Эх, вы!
— Ты глядишь сквозь розовые очки, Геля. В его откровенной добросердечности гордыня, самолюбование!
— А у вас хуже — у вас шоры… Злая жестокость, нежелание быть самой собою… Может, и первые неудачи в войне были потому, что некоторые забыли, кто они…
Я не сомкнула глаз целую ночь. Чувствовала, что не спит и Геля. Уснула лишь на рассвете, когда наши «ИЛ-4» возвращались с задания на свои аэродромы.
Униженная, пристыженная, я мучилась и страдала.
Вспоминалось то одно, то другое. Когда не хватало сил, стонала. В бараке было холодно. Вокруг кашляли, ворочались, бормотали спросонок, и мне казалось: это копошится какое-то бесформенное, лохматое, больное астмой существо.
Назойливо вспоминалась наша Танечка… Эсдековцы привезли из тюрьмы ее мать. Не спускали с нее глаз, пока не родила, и через день увезли назад. А ребенка, Танечку, — Клумов настоял — оставили. И вот то и дело, словно я бредила, мне представлялась эта девочка. И на койке, когда Евгений Владимирович выслушивал ее, делал ей гимнастические упражнения, гудя, как она. И позже, когда Танечка подросла, когда на просьбу показать, как она любит профессора, сжимала кулачки, сжималась вся и аж краснела от напряжения. Представлялся сам Клумов, только уже в вонючем тифозном бараке, между нар, худой, измученный, как и больные, которых лечил. «Персоветская», — звучало в ушах.
Не было сомнения, и в мою жизнь входил Клумов. Входил как нечто необходимое, которое хоть и не согласуется с привычным, но без чего не обойдешься. И когда я поутру увидела Евгения Владимировича — он направлялся в барак к тифозным, напевая себе в усы арию Радомеса, — мне захотелось догнать его, пойти рядом, извиниться.
В тот день, когда собирались разгружать лагерь, нас разбудили затемно. Отделив от мужчин, погнали в баню. Обдаваясь там водой, Геля неожиданно вдруг дернулась ко мне и разревелась. Не знаю как, но я почувствовала, что это непосредственно касается меня. Зная отходчивый, добрый характер Гели, я не удивилась, но встревожилась— теперь все могло быть.
— С Клумовым что-нибудь? Да? — схватила я ее за руку. — Ну? Да говори толком!
Губы не слушались Гелю. Из васильковых ее глаз, сразу растекаясь по мокрым щекам, потекли слезы. Но когда она заговорила, я не поверила ей. По ее словам выходило, что Евгений Владимирович, заполняя анкету, записал все свои болезни и даже прибавил мнимые.
— Что он, с ума сошел? — сжала она кулаки, подняв руки к груди. — Не знает, чем это кончится? Или в самом деле поверил, что нездоровых повезут лечить в Боровляны? Перед тем разом тоже верили. Шофер, который отвозил первую партию, от поехавших даже письмо привез… Но когда погрузили остальных и вкинули к ним труп тифозного, убедились… Объясните хоть вы ему!
Мы наспех оделись и, когда стало можно, побежали искать Евгения Владимировича. Однако роли наши поменялись — Геля обвиняла Клумова во всех смертных грехах, а я просила ее не торопиться с выводами.
Сбегав в медпункт, к тифозному пеклу, мы нашли профессора около бани — он еще не мылся. Позвав, отвели его подальше от электрического фонаря.
Шел снег. В тусклом свете он кружился и, казалось, не падал. Худой, сгорбленный Клумов в этом кружении был похож на привидение. На нечто такое, о чем я читала лишь у Эдгара По, Конан Дойля или видела в кошмарных снах.
Он, пожалуй, догадался, зачем мы прибежали, чего ждем от него, и опередил наши вопросы.
— Вче-ера я позволил двум больным п-походить, — усмехнулся он, оббивая перчаткой с плеч и отворотов пальто снег. — Вот было радости! Тешились, как когда-то Танечка…
— Евгений Владимирович! — замотав головой и всхлипывая, не дала ему говорить дальше Геля. — Что вы наделали! Как вам не стыдно! Неужто верите провокаторам? Это же позор!
Клумов, словно на него замахнулись, отступил и покачнулся.
Геля рванулась к нему, поддержала, припала щекой к его плечу.
— Вы поймите нас!..
— Стара-аюсь, — отстранил он ее со знакомой гордой откровенностью. — Но поймите и вы… Ехать работать в Германию мне предлагали давно. Графа Монте-Кристо из меня и Гали не получится — старые уже. Повоюем хоть так. Мертвые иногда тоже помогают живым… И не бойтесь… Пожалей я Галю — и та, бедная, обиделась бы на меня. Кровно обиделась бы… И потому прошу — больше ни слова! Я приказываю, наконец!..
На что-то еще надеясь, взявшись за руки, мы побежали искать лагерного врача. Светало.
А когда хорошо рассвело, прикатила душегубка. Охрана направилась в барак собирать заключенных, которые значились в списках. Вывели из медпункта и Клумовых. Постояв на крыльце, они, как и в тот раз, взялись под руки и медленно спустились по ступенькам. Первым в душегубку полез профессор. Потом, протянув руку, помог взобраться Галине Николаевне.
— Прощайте, товарищи! — сняв шляпу, крикнул он нам — мы снова наблюдали издали.
Подвели еще заключенных, и через несколько минут дверь душегубки закрылась. В этот раз плотно. Выстрелив из выхлопной трубы, страшная машина забуксовала и тронулась, выбрасывая из-под колес пластинки спрессованного желтого снега.
Сердце мое зашлось. Не сдержавшись, я ударила кулаками себя в грудь и рванулась. Однако чьи-то руки схватили меня и остановили. Но теперь я уже знала — убегу! По дороге в Тучинку, там, когда будут загонять в вагоны, на первом перегоне, но убегу. И если это только принесет пользу другим, ничего не буду скрывать!
ТРИ ПОЦЕЛУЯ
страницы биографии
В семье Галя долго была единственной. Отец среди окружающих пользовался уважением. И естественно, что ее баловали. Но семья была рабочей, и это сказывалось на Гале. Кто больше всех влиял на нее? Скорей всего отец. Хотя в доме хозяйкой считалась хлопотунья мать, уклад жизни в семье подстраивался под отца — сдержанного, неразговорчивого, в вечном плену своих мыслей. Правда, дома он находился мало — то был на работе, то на собраниях, то на рыбалке. Но зато когда оставался дома, во всем сразу становилось больше порядка. Отцовская воля давала себя знать — и, возможно, еще сильнее — после его смерти: заведенное им поддерживалось и сохранялось свято. А его слова «мозоли уважать надо» — в особенности. И не потому ли Галя сердилась и стеснялась, когда ее ласкали. Даже немного брезговала этим. Бросая исподлобья недовольные взгляды на несдержанного доброжелателя, украдкой вытирала целованное место ладонью.
Сказывалось и то, что мать была чистюлькой. Она чуть ли не ежедневно купала дочку, по нескольку раз в день расчесывала, заплетала и переплетала ее рыжие кудерки, придирчиво следила за платьицами. Галина постелька, веселенькие, в цветочках, наволочки на подушках были всегда чистыми-чистыми, усердно выглаженными. Правда, то, что ты имеешь в избытке, не очень ценится. Подросши, Галя возвращалась со двора растрепанной замарашкой, но мать немедленно, сразу с порога, тянула ее в кухню, к ванночке, и, старательно вымыв, переодевала в чистое.
И это само собой входило в натуру.
Такой вот своенравной, избалованной вниманием забиякой, которая, правда, успела полюбить Купалу, начала вести дневник, мечтала учиться дальше, на равных дружила с хлопцами, и вошла Галя в войну.
Ага, видимо, стоит напомнить и еще одно. Галя никуда, кроме пионерских лагерей, не ездила, и родной город в ее глазах был почти единственным обетованным уголком на свете, где все казалось отменным и дорогим — и грохотливая, в тополях, мостовая улицы, где она жила, и зеленое раздолье аэродрома под боком, и всегда забитая составами товарная станция, и таинственное в сумерках железнодорожное депо, куда Галя девчонкой бегала к отцу, нося обед. И кто знает, возможно, могучие «ФД», «СУ», полные силы перед дорогой, да серебристые крылатые самолеты первыми и пробудили в Гале чувство — родина и там, за небосклоном, куда бегут рельсы и где исчезают серебристые птицы. Тем более что, глядя на них, хорошо думалось про завтрашнее — заманчивое, светлое, что ожидает тебя.
Если не считать, что Галя пережила бомбежки — как раз бомбили ее заветные места — да видела охваченные огнем ангары и составы на станции, она столкнулась с немцами лишь на второй день, как те вошли в город.
Не спросившись у матери, подгоняемая злым любопытством, ибо то, что происходило вокруг, казалось невероятным, Галя, чтобы убедиться в случившемся и кое-что разведать, побежала за водой к колонке. Девушка склонилась уже над полными ведрами — хотела взять их и нести домой, — как кто-то обхватил ее сзади за талию и, навалившись грудью, смачно, с оттяжкой, чмокнул в шею. Передернув плечами от возмущения и неожиданности, Галя отступила. Перевернув ведро — то, что стояло под краном, — в страхе оглянулась.
Перед нею, обутые в сапоги, но голые, в одних трусиках, стояли двое — белобрысые, с крупными, атлетическими плечами парни. Что они немцы, можно было судить по их аккуратной короткой стрижке «под бокс» и холодным, белесым глазам. А главное — по незнакомо широким голенищам и бесстыдному нахальству — они усмехались и нагло щерили зубы.
— Ком… цу мир! — увидев, что Галя испепеляет их взглядом, поманил ее пальцем один из немцев и, чтобы было понятно — с неба, заглушая все, как раз низринулся гул: на посадку шел «Ю-89», — сделал непристойный жест.
Охваченная отвращением, гневом, Галя плюнула, хотела было крикнуть: «Как вам не стыдно!» — но пронзительный, с присвистом, гул самолета словно навалился на нее, сжал виски, и она, всхлипнув, кинулась прочь.
Первым ее желанием было пожаловаться матери — пусть заступится, защитит и как-то отомстит за неслыханное издевательство. Однако тут же ей стало ясно: это бессмысленно, — что сделает та, ежели право оскорблять, измываться эти типы завоевали и ты теперь в сравнении с ними ничто? Наоборот, чтобы не втягивать мать в опасные затеи, надо утаить от нее происшедшее — пусть не мучается, не накликает на себя беду. Хватит с нее забот и о меньшой сестре.
Не зная, что же все-таки делать, — а делать что-то было необходимо, — Галя промучилась с полчаса, боясь — мать заметит ее возбуждение и спросит, что с ней. Но затем, подхваченная порывом, — последнее слово должно было остаться за ней! — она хлопнула калиткой и побежала к злосчастной колонке.
Полные по края ведра стояли на месте! Что это было? Новое издевательство? Ловушка? Подозревая — неподалеку засада, жаждая стычки с обидчиками, Галя с вызовом взяла ведра и, вскинув голову, понесла их, нарочито идя по мостовой.
Ночью она не спала. Роились, донимали мысли — о себе, о матери, о немцах, о кое-где еще горевшем городе. В предгрозовой духоте, как бы совсем рядом, слышался рокот самолетов. От товарной станции долетали свистки маневровой «кукушки» и грохот транзитных эшелонов.
Поезда шли по военному графику — часто и, как представлялось, в одном направлении — на восток. И тревожные Галины думы устремлялись вслед за ними — в ночную темень, туда, где фронт, где вольные родные просторы. И, возможно, впервые, ворочаясь в горячей постели, страдая от собственного бессилия, Галя так ясно ощутила, как растет, крепнет, дает знать о себе чувство, с которым только и живет вера в завтрашний день и которым душа проникается сама собой… И когда за окном вслед за вспышкой молнии раскатились удары грома, а на железную крышу сыпанули гулкие, как дробь, капли, Галя, отдавшись этому чувству, расплакалась. Чтобы не выдать себя, уткнулась лицом в подушку. Захотелось, чтобы скорей настал рассвет и можно было бы бежать к друзьям, излить душу, — есть же ведь у нее Любаша, Андрей, Нелли? Они непременно помогут ей…
Откуда Гале было знать, что когда она на следующее утро свернет на соседнюю — Брилевскую — улицу, то переживет еще более страшное: увидит, как чем-то взбешенный, в расстегнутом кителе, без шлема мотоциклист будет гоняться за босоногим мальчишкой, покуда не прижмет его передним колесом к забору. А затем, шалея, погонится за Галей. И понадобятся месяцы, чтобы вернулось здоровье, чтобы Галя могла переговорить с друзьями, которые сами придут к ней, надеясь — она по-прежнему будет задавать тон.
Настал и прошел Купала. В огороде снова закраснелись маки. Зацвела под окнами липа. Правда, не пышно, не по-золотому, а так, что скоро цвет опал. Установились жара, пыль. И, может быть, потому Гале стало вспоминаться прежнее, не виданное уже год — лес, поле, освещенные самым ярким — июльским — солнцем.
Покачиваясь, спеют ржаные колосья. И помнится, если взять их, усатые, в такую пору на ладонь и потереть, вылущатся теплые восковые зерна. В синеве звенит жаворонок, трепещет крылышками, исходит песней. И тут же, рядом, в тихой заводи красуются белые лилии. Ища поживы, мутят воду резвые утята. Ага — да, да! — второй раз пополнились семьи зайцев, белок… И эта неистребимая жизнь, ее прелесть, что была, есть, а значит, будет вечно, приобретала для Гали необычную цену, требовала: заслони родное, возьми под свое крыло, ближе к сердцу.
Еще тогда, когда она была прикована к постели, Галя втайне от матери, привыкающей во всем видеть беду, перечитала многие книги, с которыми росла. Ища и жаждая чего-то, удивлялась: все имело более глубокий смысл, чем представлялось раньше. И люди, о которых рассказывалось в этих книгах, тоже казались ближе, роднее, Галя как бы продолжала их жизнь.
Вспомнив — недавно был Купала, — Галя захватила с собой на сходку «Сон на кургане». И, когда вволю наговорились, притомились, прочитала вслух страницы о вырванном из груди горящем сердце. Помните? «З грудзей вырві сваё сэрца!» Волнуясь, заметила: все, кто до этого спорил, насвистывал, танцевал, притихли. В маленькую комнату с фикусами, с кружевными салфетками, патефоном вошло нечто большее — со своими надеждами и горением. Слова поэта, который сам стал дороже, заставили углубиться в себя. Его грусть о желанном стала грустью об утерянном. Она подсказывала: долг требует тебя всего!
И когда Сергей, в чьем доме происходили сходки, пошел проводить Галю, разговор у них велся только вокруг этого. Пробираясь по тропке между развалин, часто идя гуськом, они никак не могли высказать всего, что хотелось. Над ними, снижаясь для посадки, угрожающе сигналили вспышками и ревели самолеты, а они говорили и говорили.
— Ты подумай, прикинь-ка! — горячился Сергей, глядя сзади на рыжие, как солнце, Галины волосы и ее угловатые плечи, к которым тянуло дотронуться. — Собирать оружие и вести агитацию — уже мало! Я сконструировал, Галка, мину…
Этого его признания Галя ожидала, но все равно остановилась, будто наткнувшись на препятствие. Но, словно отводя дерзкий и в то же время преданный взгляд товарища, сморщила губы.
— Тогда скажи, но откровенно: почему ты молчал до сих пор? — упрекнула она недовольно. — Не смел, что ли?
Сергей был не из робких ребят, да и война делала их отношения более простыми. Однако перед Галей он все же чувствовал себя зеленым — одноклассницы взрослели раньше, и это надо было преодолевать.
— Конечно, не смел. Боялся, что не получится… — сказал он послушно и как-то несвойственно для себя, виновато и робко, посмотрел на нее, не совсем еще здоровую, в легком платьице, чуточку коротком для нее.
Она поспешно навертела локон на палец. Стесняясь чего-то женского, что сама заметила в себе, насупилась, обтянула платье.
— Ладно. Завтра я согласую с остальными ребятами, и пойдем вместе, если ты не против.
— Скажешь!.. Но как твое, Галка, здоровье? И куда мы пойдем? Ты уже наметила и имеешь что-то в виду?
— Ага…
Они выбрали глухую, темную пору — перед рассветом. Установив, когда меняются часовые, условились: проведут операцию под конец ночной вахты, тогда бдительность караульных притупляется.
Трудно сказать, как бы Галя вела себя, если бы напарником был не Сергей. Правда, на товарной станции каждый уголок и тропка были знакомы. Жила уверенность: известное с детства не подводит и, если что случится непредвиденное, поможет. Но это было началом необычного, после чего все должно стать иным. Даже отношение к родному с детства. Даже отношения с матерью, чьи слезы и отчаяние придется пережить, и отношения с Сергеем, который, безусловно, после сделается смелее — совсем! И сознание этого холодило сердце. В то же время присутствие готового идти с ней на плаху Сергея делало все это чуточку… похожим на игру. Сергееве послушание поднимало Галю в собственных глазах, подбивало — командуй.
Не встретив живой души, они пробрались на территорию станции. После сильной майской бомбежки лампочки на фонарях здесь сменили на синие, но все равно было светло. И, чтобы пересечь пути, довелось ползти под товарными составами, прислушиваться, снова ползти — и так до крайнего тупика, где впритык стояли запасные вагонные скаты.
До сих пор о присутствии охраны и тех, кто формировал и расформировывал составы, Галя с Сергеем догадывались только по лязгу буферов да неясным мимолетным теням. Отсюда же, из-под скатов, под которые они легли на животах, ощущая, как щекочет ноздри запах мазута, ржавчины и гравия, Галя и Сергей увидели часового, — согнувшись, он стоял у громадных деповских ворот и кашлял в кулак. Однако близость друг к другу не позволила им заколебаться и отступить. Воспользовавшись новым приступом кашля, они, держась за руки, бросились к стене депо, где над ремонтными ямами, поблескивая, чернели махины паровозов.
Взрыв догнал их, когда Сергей и Галя нырнули назад в руины. Ожидали — увидят огонь, — но его не было. Только в небе, в той стороне, где находилось депо, падая, угасала хвостатая искра.
Как было условлено, здесь они были обязаны сразу разойтись — каждый своей дорогой. Но чувство окрыленного возбуждения, любви ко всему, что видели глаза, задержало их.
— Ты пропахла мазутом, славянка! — засмеялся Сергей, не способный сдержать нахлынувшую на него радость. — Честное комсомольское! Одежду, наверно, придется сжечь, ха-ха! Вот взбунтуются дома! Трудно с нами… А когда отойдут и подобреют, станут жалеть, что похудели…
Галя ответила ему согласной улыбкой. И хотя лицо ее Сергей видел неясно, он мог поклясться — на щеках у нее появились ямочки. Это растрогало и умилило его окончательно.
Остановились они около провала в полуразрушенной стене, что и ночью выглядела очень высокой, островерхой и держалась лишь чудом. Пахло истлевшим кирпичом, чем-то кислым, терпким, чем пахнут заброшенные старые развалины. Но Галю охватило какое-то новое чувство, заставило прислушаться к себе. И когда Сергей внезапно протянул к ней руки, она не отступила от него, а замерла в ожидании, не то удивляясь его желанию и смелости, не то похваляясь собой: «Ну-ну, попробуй!..»
Это передалось Сергею. С трудом подняв руки, он сжал Галины виски ладонями, осторожно привлек ее к себе и поцеловал в губы, как целуют икону или ребенка, которого боятся разбудить. А Гале показалось: на нее обрушился пенящий вал, обжег, закружил, понес на своем гребне.
Разве могли они тогда допустить, что день спустя, свалив под откос поезд за семафором, раненый Сергей умрет в лапах эсэсманов, а Галя в отчаянии и горе, мстя за него, — натяжной миной, днем, на пассажирском вокзале! — взорвет вагон-столовую, когда горластая солдатня из подошедших эшелонов выстроится получать обед…
В конце сорок второго года подал голос подпольный горком комсомола. Разместился он в лесной деревушке, недалеко от Лысой Горы, в одном переходе от Минска. Установив связь с группой «Вырви сердце!», прислал газеты, взрывчатку, инструкцию, как поддерживать конспирацию. А когда понадобились подпольщики, которые вели бы работу в частях противника, вызвал Галю к себе, — неся потери на фронте, немцы вынуждены были подчищать свои тылы и охрану аэродрома собирались поручить словакам.
Выслушав задание, Галя убежденно ответила: «Ну и отлично! По-моему, мы справимся. Они ведь славяне…» — она вспомнила Сергея. Да и сработала привитая отцом и жизнью вера в людей труда. Искренне недоумевая, как могло случиться, что немецкие рабочие пассивны, подчиняются гитлеровцам, Галя, однако, была убеждена: это аномалия, и она скоро кончится. Так что уж было говорить о словаках — братьях по крови! Но когда Галя направилась назад, в город, когда поднялась на Лысую Гору, с которой открывался широкий простор — покрытые лесом холмы, извилина дороги у ближайшего из них, деревня с гумнами и пряслами на его склоне, — остановилась. «Не так ли у них там, в Карпатах?» — подумалось ей, и живописный вид, деревни, которые могли быть похожими на словацкие, словно вернули девушку на землю. Подумалось: то, как только что рассуждала она, в принципе, конечно, верно. Верно и вообще… Но как будет с теми словаками, что поселились в казарме на Аэропортовской и, строго соблюдая предписанный порядок дня, держатся обособленно? Кто они и по чьей воле тут?
Однако нужно отдать Гале должное: она все-таки начала с того, с чего скорее всего начали бы и отец с Сергеем, — ей захотелось сделать словакам добро. Устроившись официанткой в аэропортовскую столовую, чувствуя на себе их внимание — еда почему-то пробуждала в них игривость, — Галя даже начала жалеть этих смуглых, как оказалось, веселых хлопцев, готовых приударить за ней. Она даже более охотно, чем других, стала обслуживать их, согласилась стирать им белье.
Особенно ей понравился Ярак Халупка, начальник словаков, — русоволосый, подтянутый, с внимательными, спокойными глазами. Моложе своих подчиненных, он, не в пример им, сидя каждый раз за одним и тем же столиком, старался разговаривать с Галей без желания добиться ее благосклонности.
Да и спрашивал он обычно о мелочах. Как называются по-белорусски хлеб, земля? Понимает ли Галя слово «небо»? Имеет ли представление о словацких песнях? Галя насмотрелась на лихо-беду, что принесли с собой оккупанты. Ее удивляли живучесть зла в них, их жестокость. Откуда такое? Но и Халупка казался странным, — слишком открыто, часто улыбаясь, коверкая белорусский язык, он был не в силах передать Гале свои мысли. Однако сомнений не было — он честный и добрый.
Это стало совсем очевидным, когда однажды его прорвало.
— Вот здорово, Галю, выходит! — расплачиваясь за вымытые подворотнички и сорочки, сказал он так, как говорят о выношенном. — Наше прошлое тоже ведь сплошная борьба. За что только мы не воевали! И чтобы освободиться из неволи. И чтобы быть самими собой. Чтобы говорить и молиться, как хочется.
— Молиться? — не усмехнулась Галя, понимая — он обязательно отметит это. — Где молятся, там не воюют.
— А тебе ничего не приходилось читать про таборитов и братиков? Хотя, в конце концов, кого я экзаменую, чудак?! Прости, Галю…
И хоть оказывалось — он знает многое, чего не знала она, — с того раза Халупка уже ждал Галиных слов почти как откровения, считал их справедливыми и дальновидными.
Наступила осень с поздними рассветами и ранними сумерками. Природа жила по своим извечным законам. Но Гале уже казалось: в этом году все происходит как-то необычно, во всяком случае так, как давно, а возможно, и вовсе никогда не бывало.
По ночам сон не шел к ней. Глухо рокотало небо, и этот рокот, как и всякая помеха или боль, тревожил сильнее, чем днем. Будоражили предположения — она для словаков уже не просто Галя, а некто, за кем огромная великая страна и кому благодаря этому ясны пути-дороги, скрытые от других. Это одно отнимало покой, заставляло тянуться из последних сил.
В октябре Галя организовала первый побег первых словаков. Захватив оружие, погрузив боеприпасы на «татры», они словно провалились — были, и не стало. Но минула неделя, и горком прислал связную с неожиданной новостью — за Галей следят, и ей придется покинуть город.
Проститься с домом? С тем, что она делала и может сделать? Со всем, что стало так дорого ей?.. С кровоточащим сердцем Галя подыскала другую квартиру для матери и сестры, предупредила об опасности друзей и вызвала на явку Халупку.
Он пришел, как всегда, минута в минуту. Прикрыв за собой дверь, расправил под ремнем гимнастерку — шинель он повесил в передней — и, подойдя к Гале, стоявшей у старомодного платяного шкафа, молча, со склоненной головой, пожал ей руку.
— Беда, товарищ Халупка, — без подготовки, наблюдая, однако, как воспримет он новость, сообщила Галя. — Мне предлагают немедленно выйти в партизанскую зону…
Она не сомневалась в его решимости вести борьбу до конца. Нет. Но ей вдруг захотелось что-то выяснить. Возможно, поэтому она и слова «мне» и «немедленно» произнесла с силой.
— Окомжитэ?[5] — сдвинул он брови. — Нам угрожает провал? Или я неверно понял, Галю?..
Халупка не отделил ее от себя и своих солдат!
Что в этом было? Сознание — несчастье с Галей может привести к общему несчастью? Что Галина судьба — это и его собственная судьба, судьба его солдат? А может быть даже, он вообще свою борьбу уже не мыслит без Гали?
Она с благодарностью пристально поглядела на него и словно выросла от гордого чувства — веки у Халупки дрогнули, он опустил глаза.
— Слушаю тебя, Галю, и загодя согласен с тобой. Во всем… Мой отец мирный учитель, но и тот говорил: «Ни сил, ни способностей не оставляй для того света». Разумный он был, Галю…
С вечера погода испортилась, и аэродром закрыли. На заре туман сгустился так, что смешался с тучами. Волглая мгла окутала все вокруг — и землю, и небо. Чтобы отвести вину от солдат, которых выводить было поздно, Халупка снял некоторые посты и перед концом комендантского часа двинулся с Галей на летное поле.
Почему Галя настояла и пошла с ним? Прежде всего — для уверенности, что дело будет сделано. Да и как было не использовать последнюю возможность? Самой! Да и возложить все на Ярака Халупку значило пожертвовать им. Заранее, сознательно. К тому же товарищи передали: в Галином доме все уже перевернуто, найден и тайник на огороде, где было спрятано оружие с маркой шкодовских заводов. Значит, в СД знают очень много…
«Юнкерсы» стояли развернутым фронтом. В тумане выглядели призрачно, — у них будто обвисли крылья, и сами они отступили в туман, как только Галя с Халупкой; приблизились.
Он взял на себя дальние машины, и когда Галя, выхватив из кармана термитный шар, чиркнула им о спичечную коробку, он еще шагал — неторопливо, решительно.
Однако к автомашине они прибежали вместе.
— Рихле!.. Скорей, Галю! Ради бога! — попросил он, задыхаясь от сочувствия и нежности.
Туман за спиной засветился, сделался сиреневым, и стало странно, почему вокруг еще тихо. Но когда машина, подпрыгнув, рванулась вперед, сзади раздался взрыв, и Галя невольно зажмурилась, словно вспышка, где-то разорвавшая туман в клочья, вспыхнула перед ее глазами.
Навстречу понеслась знакомая, родная улица, по-прежнему пустая и серенькая. Халупка уставился в ветровое стекло. Но Галя все равно чувствовала: вторым своим зрением он следит за ней, и его мысли — все! — только о ней одной.
Миновали Галин домик с голой черной липой в палисаднике. Халупка грустно усмехнулся:
— Не жалко?
Занятая своим, считая взрывы, гремевшие за спиной, она промолчала и лишь отрицательно встряхнула кудерками. Однако он, как и прежде, не отрывая взгляда от улицы, увидел и это. Прищурился.
— А мне, Галю, жалко. Как и своих смерек и буков под Левочкой… Нам только бы проскочить Бетонный мост…
И такая печаль звучала в его словах, что Галино сердце оборвалось. Пришла догадка: Халупка и до этого, когда говорил о своей родине, когда признавался в преданности ей, видимо, имел в виду и ее, Галю.
Теплое чувство ударило Галю в сердце. Ей захотелось ехать и ехать с Халупкой, чем-то отблагодарить его, расстроенного и неистового. Подхваченная порывом, она положила ладонь на его руку, которой он цепко держал баранку руля, и погладила ее. Снова с небывалой радостью увидела, как на скулах у него напряглись желваки и глаза совсем сузились. При скупом свете загорелые лица серые. А тут еще ко всему Халупка побледнел. Но и это принесло радость — бледность делала его проще, своим. Опасность же, висевшая над ними, после успеха только обостряла момент.
Впереди в тумане показался Бетонный мост — горбатый, словно полысевший. А потом будто заштрихованные туманом фигуры, которые перегородили проезжую часть моста. Халупка откинулся на спинку сиденья, нажал на тормоза и с ходу развернул машину. Она завизжала и, чуть не въехав на дощатый тротуар, остановилась. И в это же мгновение туман прошили очереди. Некоторые из нуль были бронебойно-зажигательными, и показалось — бусинки-светлячки неслись прямо в глаза. Машина дернулась, осела набок.
— Все! — выдохнул Халупка и, ища Галин взгляд, требовательно постучал себя пальцами по тугой, старательно побритой щеке. — Hex ca бачи. Пощалуйста, Галю!..
Она не поняла его. Но когда смысл его жеста дошел до нее, решительно закрутила головой.
— Нет, Ярак! Нет! Одна я никуда не пойду!
Ему все-таки удалось повернуть машину багажником к мосту.
— Тебе еще нужно позаботиться об остальных! — крикнул он и опять подставил щеку.
Если бы не эта его настойчивая — наивная и отчаянная — просьба, Галя вряд ли послушалась бы. Но тут что-то затрепетало в ее груди. Она всхлипнула, обвила его шею и припала губами к тугой щеке.
Замерев, он все же через мгновение отстранил ее. Выскочил из машины. Выхватив из кобуры пистолет, начал отстреливаться.
— Сюда! — приказал, кивком головы показывая на ближайшую калитку.
СЕСТРЫ
рассказ
Не скажешь, когда к Гале пришло это решение. Но оно пришло, не могло не прийти…
Галя мне не просто сестра. Когда умерла мама, Галя взяла меня из деревни к себе. Приютила, устроила в ФЗУ. Заботилась и когда я стала работать наборщицей в Доме печати. И так до самого замужества… Да я и любила ее не просто как старшую. Мы очень дружили с ней. По-настоящему. Хоть я и слушалась ее не во всем… Мы, женщины, тоньше, чем мужчины, чувствуем красоту друг друга. Я была влюблена в Галю. Меня восхищали ее фигура, гордая голова, глаза. Вы присмотритесь к ним — они ведь живут, переливаются. Я даже замирала, когда, бывало, льнула щекой к ее щеке.
Война застала меня в Ляховичах. Это в Западной. Я работала в райкоме, а муж в совете Осоавиахима. Но приют я нашла у свекрови, опять-таки под Минском. У меня уже тогда был сын, и носила под сердцем Лилечку. А у свекрови как-никак своя изба, приусадебный участок, корова. Да и выхода не было. Я знала, что Галину квартиру разбомбили, а сама она отправилась на восток.
И вот чудо! В войну, наверно, всегда так…
Вначале я носа на улицу не показывала. Пугали разные слухи. Говорили, в Минске немцы прокололи насквозь штыком беременную женщину… А тут вдруг встала и пошла. В самую пасть, так сказать. В Дрозды!.. Оттуда по утрам к нам в Масюковщину — это километров пять будет — гул доносился. Рассказывали, что там заключенных по радио на расстрел вызывали… И вот пришла. Вижу: в концлагере у колючей проволоки, где кишмя кишат почерневшие призраки, — Галя. В полосатом сарафанчике с накидкой, в самодельных брезентовых тапочках. Настоящая беженка… Оказывается, она, как и я, тоже пришла сюда искать мужа.
Никогда — ни раньше, ни позже — не плакали мы так с ней. «Живые!»
Самым трудным тогда было остаться самим собой. Вы сами посудите: разве кто из нас представлял такими события, которые обрушились на нашу голову? Или врага, с которым нам пришлось иметь дело?
Да и личные беды на какое-то время заслонили все остальное. Склонная к фантазии Галя почему-то вообразила, что муж ее попал в плен. Она плакала, бегала на вокзал, на товарную станцию. Когда останавливался состав с военнопленными, прорывалась на перрон, кричала: «Саша! Я здесь, Саша!.. Нет ли среди вас шофера Саши?» Поднималась на виадук и, когда состав проходил под ним, снова кричала, бросала печеную картошку — пленных часто перевозили на открытых платформах с высокими бортами. Чуть ли не ежедневно бегала она и к развалинам прежнего своего дома, на ступеньках крыльца мелом писала письма, новый адрес. Уходя тогда из Минска, она прихватила с собой мужнину нижнюю рубашку. Так теперь прятала и перепрятывала ее, как невесть какое сокровище. А идя куда-нибудь, надевала ее под платье.
Вернувшись в Минск, Галя нашла себе каморку в деревянном домике на улице Энгельса. Устроилась уборщицей в казино. Работа, конечно, грязная, тяжелая. Подумать только — дрова носить, печки топить, мыть полы, настывшие лестницы… Казино помещалось в бывшем Доме профсоюзов, где и генеральный комиссариат. Лестничные ступеньки там, как известно, широкие, сколько их, не пересчитаешь. А тут еще холода, ночные дежурства.
Офицеры-посетители, вызвав в коридор, суют свертки с грязным бельем — выстирай. Не спрашивая, хочет ли его кто стирать или нет. Бери, дескать, делай — и все. Ведь ты существуешь сейчас уже, чтобы кормить их и прислуживать им. Это твоя участь. А они — завоеватели. Их дело — распоряжаться и помыкать. Некоторые и не платили даже. А на улице встретишься, сойди с тротуара… И это нужно было переносить впечатлительной, ранимой Гале, которая иногда видела обиду там, где ею и не пахло…
И все-таки как была она аккуратисткой, чистюлей, так и осталась. Едва на ногах стоит от усталости, а работает. Сохранилось еще это достоинство… Да и остерегаться приходилось — выгонят. А кто ты без аусвайса? Поймают на улице, пригонят на сборный пункт — и ты в Германии или в лагере вроде Дроздовского… Как в заколдованном кругу…
Удачные операции по так называемому «умиротворению» офицеры отмечали банкетами. В казино приходил сам гаулейтер — он жил этажом выше. Всегда бравый, довольный собой, в своей светло-горчичной форме. Открывал банкет, чокался с теми, кто наиболее отличился, хлопал по плечу. Правда, при нем не особенно напивались. Не очень шумели и потом, когда гаулейтер, взглянув под обшлаг, на часы, уходил домой, — дальновидный, он оставлял наблюдать за порядком помощника или адъютанта. Но зато все вволю хохотали, курили и бахвалились.
Из их хвастливых, самонадеянных разговоров вставала страшная картина, но в то же время было видно и другое — идет упорная борьба, и где-то недалеко.
Говорили и о собственных потерях. Правда, уже с оглядкой: когда, подвыпив, один лейтенантик, у которого убили брата, раскис было, гаулейтер тут же его разругал и отхлестал по щекам.
Но чем сильнее офицеры бахвалились и кляли «саботажников» и «бандитов», тем больше те вырастали в наших глазах. Возмущенный, разгневанный гаулейтер, бесспорно, избил лейтенанта для науки присутствующим — не смейте, мол, распускать нюни, вы немцы. А нам казалось — наказал он жалостливого беднягу за то, что тот своим видом выдал секрет. И, значит, важный, если за него так беспощадно карают своих. Только это немножко и радовало…
Галя передавала, что после скандала с незадачливым лейтенантом она, возвращаясь утром домой, присматривалась к каждому встречному — не подпольщик ли? — и полнилась умилением…
В августе нежданно-негаданно приковылял мой Вася. Попал в окружение под Смоленском, но его отпустили — ни обмундироваться, ни остричься еще не успел. Был он худым, обросшим. Из прежнего, своего на нем остались одни порыжевшие сапоги.
Однако долго пожить с нами Васе не довелось. В январе его вместе с бывшим сотрудником сельсовета и еще двумя коммунистами арестовали.
Я не говорю о себе. Тут ясно. Но и Галя не могла с собой сладить. Узнав о Васиной судьбе, вспомнила, наверно, своего мужа и маялась, томилась, строила невероятные планы. Узнала я, что один из завсегдатаев казино, бывший белогвардеец, — прокурор. Нашла подступы. Стала умолять его, обещала отблагодарить. Много из последнего, что имели, перетаскали мы ему. Но, известно, впустую. Когда поняли это, Галя кинулась к хозяйке казино. Та — к генеральше. Гаулейтер помедлил с неделю, но все-таки дал разрешение на встречу с Васей. Даже послал провожатого с Галей в тюрьму. Однако когда сестра переступила порог тамошней канцелярии, ее встретили с удивлением: заключенного из девяносто второй камеры Луцкого Василия сегодня ночью расстреляли за связь с партизанами и хранение оружия.
Зачем гаулейтер сделал свой жест? Что это было? Издевательство? Желание еще больше запугать? Показать — вот какая она беспощадная штука, оккупационная машина? Представить не могу… Но это, пожалуй, оскорбило Галю сильней всего. Гаулейтер и мысли не допускал, что она способна затаить обиду, взбунтоваться, припомнить. Он просто презирал ее, всех нас! Любил ошарашить, чтобы его боялись…
Само собой, высокий начальник имел свою прислугу. Пищу ему на кухне в казино готовила специальная кухарка. Но когда ждали гостей, гнедке фрау, как называли генеральшу, брала служанок и из казино. Сервировать стол, быть на побегушках. К гаулейтеру нанимали обычно только молодых служанок — семнадцати-восемнадцатилетних. Более взрослая, трудолюбивая, Галя выделялась среди них своей опытностью и генеральше пришлась по вкусу… Подождите, о чем это я? Все опять представилось… Ага! Так вот, даже после расстрела Васи ничего не переменилось.
Но Галя едва не сошла с ума. Видела — я окаменела, застыла от горя, от ненависти. Потому и слушать не захотела, чтобы я с детьми оставалась в Масюковщине. «Погибнешь! И сама, и Женечку с Лилей погубишь. Что им, нелюдям, стоит! Там же знают все, что ты комсомолка!..»
Пришлось перебираться в Минск.
Притащили с пепелища кровать, разгородили комодом на две половины комнатушку и стали жить. Десять месяцев просидели мы на Галиной шее. Правда, помогала свекровь. Галя выхлопотала продуктовые карточки на детей, я стирала чужое белье. Получала за это натурой — солью, махоркой. Ходила менять их на крупу. Но чем особенно могла помочь нам старая женщина? Что значили четыреста граммов эрзац-хлеба на месяц. И много ли ты заработаешь на этом белье?
У Жени начался рахит, на мальчика было больно смотреть. И, проклиная все на свете, довелось в декабре, перед Новым годом, отнести детей назад к свекрови — там хоть молоко есть, — а самой поступить судомойкой в столовую суда. Чего только не пережила я там!
Некоторые говорят: если бы немцы так не зверствовали, не разгорелась бы и такая борьба. Я тоже временами спрашивала себя: а что и вправду, если бы они не так свирепствовали, как бы все было? И каждый раз склонялась к мысли: так не могло быть, ибо они фашисты. А во-вторых, если бы были и не фашисты, а кто-нибудь иной, все равно оставались бы захватчиками. А значит — чужаками, врагами советской власти. Иначе говоря, борьба все едино была б не менее беспощадной. Людям только нужно было осмотреться, возненавидеть, освободиться от власти неожиданных событий, выбрать место в борьбе.
Мы с Галей стали искать связи с подпольем. Не только чтобы отплатить за то, что вытворяли немцы. Нет. А чтобы вообще быть со своими. Правда, пугало несоответствие. Мы — и целая вооруженная до зубов свора… Да и нужно было думать о детях, спасать их… Но какое это было спасение?..
К тому же у Гали не выходил из головы муж. Только раньше она предполагала, что он попал в плен, а теперь фанатически верила — на фронте и беззаветно воюет. Так что выходило: если она хочет быть достойной его, то обязательно должна делать что-то сама. Может же случиться, что после победы найдутся охотники, которые с усмешечкой намекнут: «Известно, казино… Как ты убережешься? Грязь — она липу-у-чая!» Остановила ведь раз незнакомая горбунья, била себя в горб: «Служишь, гадина? Такие у нас вот где сидят…» Так пускай тогда за нее, Галю, говорят дела. Чтобы Саша, если встретятся, смотрел бы блестящими глазами, гордился ею: «Вон какая она у меня!» А тем, кто подначивает, наговаривает, мог бы отрезать: «Минутку, минутку! Вы сами сначала сделайте, что сделала она, а потом уж и оценки давайте».
В конце весны генеральный комиссариат перевели в новое здание. Рядом с ним подготовили квартиру гаулейтеру, и генеральша предложила Гале перейти к ней горничной. Горничной к гаулейтеру! К человеку, желавшему, чтобы одно его имя наводило на людей трепет!
Так внезапно открылись вон какие возможности!
Я до этого трижды видела его. Первый раз — на пороге кухни в судейской столовой. В открытых дверях. Мы как раз чистили картошку, а кухарка, которая только что вымыла голову, сушила над плитой волосы. Я даже не представляла себе, что так может кричать человек, из которого просто выпирает важность. Хорошо, что адъютант, оказавшийся за его спиной, подал нам знак встать, а кухарке исчезнуть. Второй раз — когда гаулейтер выступал перед полицаями в парке Горького, а после тут же, у трибуны, раздавал им награды. Он поставил для удобства ногу на какой-то табуретик и, не смотря на бобиков, которые по очереди вытягивались перед ним, совал подаваемые адъютантом ботинки с железными шипами на подошвах. И, наконец, видела его в Театральном сквере в кошмарный майский день, когда прямо на деревьях вешали наших. Я знала — надежда моя напрасна. И все-таки, не желая примириться с Васиной смертью, пошла искать его среди осужденных. «А что, если?..» Гаулейтер, окруженный свитой, красовался неподалеку от входа в сквер и с хозяйственной строгостью наблюдал за тем, что происходило вокруг…
Так или иначе, но этот спесивый, с тяжелыми скулами немец, который каждую минуту мог дать волю своему гневу и решить судьбу любого из нас, сделался в моих глазах воплощением той ненавистной силы, что заслоняла собою весь свет и приносила беды.
Верно, нечто похожее, хотя, конечно, по-своему, чувствовала и Галя. Ибо когда я сказала ей об этом, она метнула на меня взгляд и начала кусать уголок косынки.
— Он терпеть не может, — судорожно дернулась она, — когда кто-нибудь в его присутствии говорит громко. А сам? Когда дома, гремит один его голос. Кричит на адъютантов, на прислугу. Дерет горло в телефонную трубку. Рычит на собак. Исключение разве рыжий Бербал. С ним лишь и ходит прогуливаться по двору. Остальные, поверишь, просто безголосыми при нем делаются или стараются на глаза не попадаться. Даже гнедике фрау в своем белоснежном халате. Даже дети. За столом сидят — не шевельнутся. Муштрует, занимается с ними шагистикой. Показывает, куда бить, чтобы сильней болело. А недавно присутствовал при расстреле им же осужденных детдомовцев. И перед тем, как эсэсманы стали стрелять в них, бросал детям конфетки… А вечером засел какую-то пьеску писать. Фу!.. И во всех двенадцати комнатах Гитлер, Гитлер…
Случай столкнул Галю с одной девушкой, пришедшей сюда якобы по заданию из леса, а меня с Николаем Похлебаевым, работником кино…
Привела девушку Галина приятельница, с которой сестра делилась своими мыслями и планами. Молоденькая, быстрая, в кудряшках, она с порога, помахав сумкой и цветами, предложила сестре выполнить задание — покарать выродка.
Подруге Галя верила, но многое тут выглядело подозрительным. Девушка не имела конкретного плана. Отказалась организовать встречу с командованием партизанского отряда, от имени которого будто бы действовала.
Галя встревожилась. Тем более что та, уловив ее колебания, вдруг вынула из сумки пачку денег. И когда хлопнула дверью, Галя накинула уже платок, чтобы бежать в СД — доносить на подосланного агента. Пришлось остужать, уговаривать: «А если она наша? Тогда что? Лучше уж собой рисковать!»
Это было во вторник. А в среду, остановив Галю в коридоре, гаулейтер, вперив в нее холодные зенки, спросил: а что бы она делала, если бы ей предложили убить его? «Если бы деньги давали? А? Много-много?»
Мужество у человека, как, скажем, и доброта, от природы. Но, в отличие от доброты, оно, верно, больше зависит от обстоятельств. Ему необходима какая-то атмосфера, что ли.
В СД понимали, что, посылая провокаторов, они не только выявляют своих врагов, а лишают мужества. Гаулейтер, безусловно, не знал о посещении девушки. Иначе бы сестру выгнали и посадили — почему не выдала подстрекательницу? Но и он своими вопросами предупреждал возможный Галин поступок. Показывал, что он все и всех видит насквозь и любые принятые меры обречены на провал.
Однако ни СД, ни гаулейтер не учитывали, что они этим самым будоражат мысли, направляют их на то, от чего стараются отвести. Разговор с гаулейтером испугал Галю, это так. Но он же помог убедиться: «Боюсь не я одна. Боится и он! Значит, чувствует опасность… А следовательно, несмотря на все меры, принятые охраной, опасность для него остается… И нанести ему удар мне, наверно, легче, чем кому другому».
Вот почему, когда я привела Похлебаева, Галя держала себя спокойней. Что-то как бы утверждалось в ней.
Интересно сложилась судьба и этого человека. В боях под Минском Похлебаева ранило, и он попал в Клинический городок. А когда Минск заняли немцы, его, как и еще нескольких других раненых армейцев, спасла медсестра — раздобыла гражданскую одежду и долечила дома.
Он принес нам подарок — кусок сала. Сказал, что партизанское. И когда мы рассказали ему про девушку, убежденно заявил, что гаулейтер все равно обречен, и предложил встретиться с Марией Черной. «О-о!» — протянул, называя ее фамилию, и все как-то стало на деловую ногу.
С этого момента, не знаю, как у Гали, у меня появилось чувство — я должна подниматься на крутую, скалистую гору. Мне тяжело, я спотыкаюсь, ноги скользят, но остановиться, чтобы перевести дух, уже нельзя, как нельзя и вернуться назад — не позволяет что-то, что сильнее меня. Да и за спиной одна чернота.
Во мне и до этого жило чувство усталости. Даже люди часто казались на одно лицо. Театр от нас был всего за полтора квартала, но я, поверите ли, не помню, что в нем шло и шло ли. Хорошо не помню даже, ходил ли по Советской улице трамвай или нет. Это была не жизнь, а прозябание. День не отличался от вечера. Поэтому чувство тяжелого подъема не угнетало меня. Напротив. Впереди засветился спасительный огонек. Он мерцал, обещал что-то.
Но ускорять события еще не хотелось, хотя задуманное становилось неотвратимым. Меня словно подпирало упорство: «Ага! Ну-ну!»
Местом явки Мария Черная назначила подножие «Потемкинской лестницы», как мы называли спуск по улице Карла Маркса до набережной.
Сестра попросила проводить ее, и мы, одевшись в лучшее, направились туда вместе. Шли, по-моему, держась под руку. Знали, что нужно разговаривать и вести себя как всегда, а еще лучше — идти одна за другой, не теряя сестру из виду. Так хоть, если что, кто-нибудь да спасется — под боком развалины. Однако шагали молча, то и дело сжимая друг другу пальцы.
По набережной промаршировал взвод солдат. Промчался мотоциклист с автоматом, в каске и защитных очках. Около входа в парк вихрастый мальчишка суконкой чистил сапоги какому-то ферту. Из них опасным мог оказаться один только ферт. Но сердце билось учащенно. Немного успокоились только, когда увидели Похлебаева. Перекинув дождевик через плечо, в расстегнутой косоворотке, в берете, он бросал камешки в речку и любезничал с женщиной в простом, строгом темном костюме. «Черная!» — подумалось почему-то с ревностью, будто та становилась между мной и Галей.
— Обещаете? Значит, билет, можно считать, в кармане? — долетел до меня грудной голос женщины. — Тогда давайте сверим часы…
Галя вернулась домой позже. Застала меня у окна. Догадалась, что я ожидала ее ни жива ни мертва… Кинулась на шею.
— Это, кажется, что надо! Сказала: иначе нельзя, если хочу остаться честной… Пойдешь завтра с ней в лес… Смотри во все глаза, Валечка!
Наперекор всему стало как-то легче — решающее приближалось.
Сославшись в столовой на болезнь дочери, я отпросилась с работы. Как всегда заботливый и деликатный, Николай проводил меня до Татарских огородов.
Галя была права, Черной в самом деле хотелось верить — сдержанная, спокойная. «Если попадем под проверку, ты молчи, — посоветовала, когда двинулись в дорогу. — Я постараюсь сама выкрутиться». Однако слишком многое было поставлено на карту, и я, чтобы застраховаться, все-таки решила: увижу, что предает, скажу — сама проверяла ее. Это, конечно, было наивно, но подавало кое-какую надежду — я ведь рисковала Галей, детьми!..
Словно разгадав мои мысли, Мария заулыбалась.
— Вернешься, сходи к своим. Пускай пустят слух, что гаулейтер дает Гале квартиру и та берет всех к себе. На днях мы вывезем твоих.
Она знала про Масюковщину! А главное — уже имела план!.. Сказала об этом, когда перешли речку Вяча. В Беларучах же устало улыбнулась; «Ну вот и поздравляю — дома!» И мне стало так хорошо и тепло, как бывало только с Галей, когда сестра, отчитав за что-нибудь, внезапно добрела и забывала о моей провинности. Галю я застала взволнованной.
— Ну как? — не дала она мне раздеться, снять платок.
— Кажется, все в порядке…
— Вчера у гаулейтера собралась вся верхушка — Готберг, доктор Кайзер, Янецкий. Сидели в кабинете, за столиком у камина. Я подкладывала дрова, мешала в камине… Готовится какая-то «грандиозная» акция. Самая массовая. Гаулейтер после кружил по ковру и напевал свое «гайлю-гайлю»… Позвал меня из коридора, сунул, как тем детям, «бон-бон», показал зубы… Значит, снова тысячи жертв! Малыши, старики… Боюсь, понимаешь, погибнуть первой. Ты погибнешь, а он останется!
— Подожди, выслушай меня сначала…
Я знала, что Галя сердится и возмущается, если ей не дают излить душу. Но в последнее время лишь так, переключая разговор на другое, мне удавалось успокоить ее.
— Черная придет как бы купить что-то у нас. Будем торговаться и договариваться…
Было видно, решение у Гали созрело, она полна душевных сил, хотя и мучится. Опасность подстерегала ее в одном — она могла перегореть. Я вряд ли выдержала бы такое напряжение, но понимала ее лучше, чем она себя. Обняв Галю, я прижала ее голову к своему плечу, стала гладить ей волосы.
Сестру охватила какая-то святая наивность. Я же, наоборот, держалась как бдительный сторожевой пес.
Когда опять заглянул Николай, Галя вдруг взялась уговаривать его, чтобы вместе с нами бежал в лес.
— Что вы дружите с Валей, известно не только честным людям, — убеждала она.
Тот скорбно, будто соглашаясь, качал головой, но усмехался.
— Вам хорошо, но мне как с пустыми руками? Взорву кино с фрицами, тогда и айда. А пока командировку в Лиду возьму.
— Правильно! — жестко поддержала я, хотя на глазах закипели слезы. — И вообще, Николай, тебе здесь нечего больше делать. Иди…
Когда же в дверях появилась Мария Черная и, поздоровавшись, начала торговаться, мне показалось, что на Галином лице проступила и блуждает улыбка. Чуть ироническая и нетерпеливая.
Химический взрыватель к мине был рассчитан на сутки. Черная объяснила это, показала, что делать для того, чтобы привести мину в боевую готовность. Стены в нашей каморке тонкие. Я напевала песенки, которые могла вспомнить, а они разговаривали, намечали план, как и что заминировать в спальне гаулейтера. Затем Галя засунула мину под пружины своего матраца, и мы втроем, сев на кровать, стали качаться на нем. За стеной у соседа-полицейского отмечали какое-то радостное событие — стоял пьяный галдеж, — а мы качались как девчонки, проверяя, не почувствуем ли мину… Получалось — извлекать из взрывателя чеку и вставлять ее в мину нужно приблизительно во втором часу ночи, — когда пунктуальный гаулейтер обычно спит. Условившись об этом, Черная поцеловала Галю в лоб и ушла.
Мина была полукруглая, точно лакированная. Взрыватель поблескивал медью. Все казалось добротным, хорошо пригнанным. Однако когда сестра — я держала мину — вставила взрыватель в гнездо, он вошел не до конца. А нам почему-то засело в голову, что он обязательно должен спрятаться весь… Мы принялись ковыряться в мине, загонять взрыватель силой. Окна в комнатушке были старательно завешены, горела коптилка, и это, наверно, вскоре помогло нам сообразить, чем могут кончиться наши старания.
Заряженная мина сразу стала грозной. И все-таки мы жили на такой волне, что Галя, прикинув, куда спрятать ее до утра, предложила сунуть под подушку. Но я категорически запротестовала, и мы, завернув мину в тряпку, положили в ведро и вынесли в туалет.
Легли на Галиной кровати. Обнялись. Долго лежали молча, слушая, как стучат наши сердца, и только иногда сжимали друг друга в объятьях.
— Ты не спишь? — дохнула в самое ухо Галя, когда я наконец утихла. — Мы совсем забыли о других… Немцы, бесспорно, ответят на кровь кровью. Правда?
— Большей крови, чем есть, не будет. Ты ведь сама говорила про акцию. Спи. А во-вторых, как тогда быть с войной? Они будут тебя бить, а ты, чтобы их не разгневать, только глазами хлопай? Тогда ведь и партизанскую борьбу нужно прикрыть, и их право на беззаконие признать. А думаешь, таким смирением и всепрощением кого-нибудь спасешь?
В шесть часов утра мы были на ногах.
Галя подхватилась первой. Торопливо, но старательно стала одеваться. Она, видимо, все обдумала заранее. Достала из комода мужнину рубашку, примерила по ширине плеч, надела. Выбрала любимое платье, осмотрела себя в зеркале, умылась, начала причесываться. Я следила за ней, жалела ее и восхищалась ею. И когда, взяв сумочку с миной, она у порога, еще раз прощаясь, подняла руку, мне нестерпимо захотелось крикнуть: «Какая ты красивая, Галя! Мне страшно за тебя… Смотри, чтобы все было хорошо!» Но я задушила этот крик и пожелала:
— Ни пуха ни пера!
— К черту, — ответила она со знакомым нетерпением. — В одиннадцать в Театральном сквере…
О том, что довелось ей пережить, я узнала позже. Но даю слово, — многое угадывала. Потрясенная и ожидающая душа прозорлива. Николай рассказывал, что перед боем, в котором его ранило, он видел во сне госпиталь и палату. А когда действительно попал туда, ужаснулся — они были тютелька в тютельку такие, как видел накануне во сне.
Я знала, что за калиткой у крыльца сестру дважды должны обыскать часовые, но она непременно проведет обоих. Первого заговорит, второго обманет. Возьмет метелку и станет подметать двор, пока немец зазевается или отойдет на несколько шагов и можно будет прошмыгнуть в дом. Потом в раздевалке для прислуги она повесит пальто, подвяжет мину под грудью и наденет фартук. Так с миной и будет ходить по дому, встречаться с гаулейтером, дежурными офицерами, гнедике фрау. Боже мой!.. Затем, улучив момент, она получит разрешение пойти, когда управится с уборкой, к зубному врачу. А главное… главное — проникнет в спальню гаулейтера и, возможно, под настороженным собачьим взглядом того же Бербола подложит мину под матрац.
Говорят, самое страшное — идти в атаку без оружия. Беззащитному, открытому всякому лиху, занятому одним ожиданием чего-то неизвестного. На работе я не находила себе места, вздрагивала, чуть только скрипнет дверь: не за мной ли? Но как только вспоминала Галю, успокаивалась… Славная ты моя! Сколько счастливых случаев должно у тебя быть! И это зная, что достаточно одного злого случая, чтобы он все перечеркнул. С миной у сердца! В логове, где все против тебя… Дорогая ты моя! Откуда у тебя такая сила, что укрепляет и меня?..
Я до крови прикусила губу, чтобы не броситься бежать, когда увидела сестру около фонтана. Грустно склонив на плечо голову, она рассматривала бронзового мальчика с лебедем. Заметив меня, пошла навстречу.
— Кажется, все… Мужество, Валя, — это счастливое сочетание… Идем скорей! — выдохнула. — Мария с машиной ожидает нас на Троицкой горе… Говорила, что детей со свекровью вывезли вчера. Правда, оторвалась и сбежала Красуня… Идем, идем… — А сама дергает и дергает рукав Сашиной рубашки, что вылез из-под манжета платья.
О, если бы я могла помочь ей и в этом! В личном…
КОГДА СТЕНАЕТ ДУША
рассказ
Мы вошли в лес. Враз стало заметно — вечереет. И не так оттого, что свет, когда умирает день, идет от небосклона, а в лесу его закрывают деревья, как потому, что все вокруг становится недвижимым и замирает в ожидании ночи.
В придорожных кустах заливисто пел дрозд. Но когда я обратил на это внимание, стало слышно: поет не один он — лес полнится птичьими голосами, от которых, как показалось, даже хорошеют осины с их льняными сережками и заметнее делаются покрытые пушистыми котиками золотистые вербы, остатки снега под ними.
Соловьиная пора еще должна была наступить. И, наверно, потому пение дроздов, что первым оповещало о весне, казалось несказанно дорогим. Остро ощущалась собственная сила. Верилось — все будет хорошо. Да я вообще люблю, когда поют дрозды. Люблю за их открытую радость, за то, что они всем своим существом славят жизнь.
Шли мы вдвоем с попутчицей, которую я недавно догнал. В вязаном платке с бахромой, в поношенном плюшевом жакете и мужских башмаках, — как обычно одевались горожанки, идя менять тряпье в деревню, — она тоже направлялась в партизанский отряд. Когда-то мы уже встречались с ней, и я, отобрав на правах знакомого ее мешки, взвалил их на своего мышастого коника. Разговор у нас был не о веселом, но я вбирал в себя заливистые трели дроздов и радовался, что они передавали нас как эстафету.
Утром в небольшой деревеньке Ольховка, где воля завоевателей проявлялась по-своему — когда ольховцы, скажем, не выходили работать на шоссе или не сдавали молоко, из ближайшего гарнизона выпускали по деревушке два-три снаряда, — мне довелось беседовать с одним беглецом из Минска.
Его печальная история и сам он поразили меня…
Беглец оказался майором-окруженцем. С запавшей грудью, с коричневыми пятнами на лбу и лысине, он кашлял и, закрывая при этом рот ладонью, озирался вокруг себя. Серое, шероховатое, как самотканое пальто, лицо у майора синело, и весь он сжимался.
Полк его попал в окружение на второй день войны и с боями отходил на восток, пока при переправе через Щару под Слонимом не был разгромлен. Майора в этом бою ранило. Правда, не тяжело. Но в сумятице он угодил под грузовик и только потому, что песок на лесной дороге измесили колеса и гусеницы, остался живым. Поставил его на ноги лесник из недалекой лесной избушки — ухаживал, кормил. А перед весной, переодев в крестьянское, снова отправил в дорогу. Через неделю, идя ночами, днюя на хуторах, в стогах сена, майор после злоключений приволокся в Минск, где жила его сестра. Спрятался сперва на чердаке, а потом в подполье небольшого сестриного домика. Погреб, куда раньше ссыпали картошку, расширили, отгородили уголок, замаскировали, поставили кровать. Майор прожил до новой весны там, потом сестра раздобыла ему документы и вывела сюда, в Ольховку.
Поглядывал он на меня как-то странно — боялся и радовался одновременно. Боялся, что его не поймут, и втайне радовался, что сможет посмеяться над любым. Он не сдался в плен, не имел дела с врагами, потерял здоровье. И это как бы давало ему основание гордиться собой.
Но платил он за все муками. Потерял зрение, заболел туберкулезом и, естественно, не мог не жалеть себя. Где-то там, на воле, весну сменяло лето, лето — осень… Светило солнце, шли дожди, зеленела трава. Люди там, правда, имели свои заботы, но зато видели это диво, дышали свежим воздухом, а он задыхался, гнил в сырой темени, ожидая справедливого избавления, которое, верил, непременно придет…
Когда я сказал, что могу взять его в спецгруппу, он расцвел:
— Ну, конечно… Благодарю вас, благодарю! Однако когда я добавил: это будет возможно лишь, если он пообещает отдать за считанные дни столько сил, сколько потратил бы, воюя все время, — он сразу поник, и мы разошлись.
— Да-а, — протянула моя попутчица, которая неожиданно встрепенулась, когда я заговорил о странной майоровой слабости, — значит, тут его предел…
Цокали подковы. Мой конь, избалованный тем, что я обычно носил в кармане хлеб, толкал меня в бок и, когда я, отмахиваясь, попадал ему по морде, фыркал, звякал удилами. Но это не пугало дроздов. Лес аж звенел от их голосов, и создавалась иллюзия, что поет и ликует он сам.
— В подполье я работала с Жаном… — неожиданно призналась моя попутчица: я для нее был оттуда — с Большой земли.
Я стал внимательно слушать, ибо кое-что знал об исключительной смелости этого человека и однажды видел его, статного, в бригадном лагере Старика — Пыжикова. К тому же Жана арестовали за несколько дней до моего прихода в Минск, и мне хорошо помнилось, как горевали, тужили его друзья.
— С Жаном? — переспросил я, стараясь понять внезапную откровенность женщины, в чьей молчаливости все-таки чувствовал скрытое стремление остаться чужой. Да и, признаюсь, мне были антипатичны замкнутые люди. И, видимо, потому, что многие из них под напускной сдержанностью прятали пустоту. Чтобы отважиться на слово, им надо было послушать других, и, понятно, они всегда неизбежно опаздывали со своим мнением. А кому нужна даже истина, если она запоздалая? Тем паче если бывало и так, что из-за этого самому приходилось попадать в неловкое положение. Ляпнешь что-нибудь и дашь им право покровительственно улыбаться. Встречал я и таких молчунов, которые, как только возникал острый разговор, дабы не сказать свое слово или не стать свидетелем, просто смывались…
Женщина словно не услышала моего вопроса, но, чтобы не обидеть меня окончательно, продолжала:
— Вы знаете, как его схватили? Нет? Встал утром, сделал зарядку, увидел, что хозяйка готовит какую-то постнятину, и засмеялся: «Подождите, тетя Маша, я сейчас! Моя связная, наверно, из леса вернулась. Может, чего принесла с собой». Накинул пальто и побежал…
Взвешивая, что и как сказать еще, она замолчала. Да то, что всколыхнулось в ней, оказалось сильней ее предосторожности и недоверия.
— Я тогда жила на Революционной, — решила она объяснить кое-что. — С Подлесной нас выселили, потому что понаезжали протуренные из Смоленска эсдековцы — еще более заядлые, чем минские. Однако новая квартира оказалась даже удобней в некотором отношении: чердак связан с другим домом, из темной кухни соседки можно пройти в чужой подъезд… Да и соседка, неуравновешенная, с сумасшедшинкой женщина, тайно любила Жана. И он сам в тревожные дни, после сентябрьского провала, иногда искал у нас пристанища. Когда расправился с зондерфюрером, прятался тоже здесь…
Вы слышали, как это ему удалось? В центре города, на улице, холодным оружием!.. Прибежал запорошенный снегом, с побелевшими ушами. «Ух, холодюга! — смеется. — Пусть знают, что борьба продолжается. Так, так, только так!»
Я ночевала как раз у соседки. Чтобы было теплей, легли мы с ней на одну кровать. А его и это обрадовало: «Вот благодать!.. Пистолет зондерфюреру, оказывается, сам Гитлер подарил… Пустите погреться!» И, не обращая внимания на протесты, визг соседки, улегся между нами. А когда улегся, через минуту уснул сном праведника. Только на лице страшноватое упорство… Ну, а наутро опять за свое — шуточки, зарядка, обливание ледяной водой. Вечно так!
Мечтал подполье восстановить. Но какое-то время выводил людей из города. Организовал побег раненому при аресте Бате. Слышали о таком? Следователь СД положил его подлечиться в больницу… Каким-то образом без типографии, которая тоже была разгромлена, выпустил листовку: жив, дескать! Ни усталости, ни передышки, ни преград… И вот вышел, одетый на скорую руку, из квартиры и исчез…
Ожидание беды делает людей суеверными. Вы, наверно, тоже встречали такие случаи. Соседке приснился сон — видела Жана на белой лошади, в красной папахе. Ужаснулась. «Белая лошадь! Это же опасность, Шурочка! — зашептала, рассматривая свое испуганное лицо в зеркале. — А красная папаха… ай-яй… смерть! Неужто нельзя помочь?..» В отчаянии, не зная, что делать, сбегала я к Жану на квартиру. Потом решила проследить за теми, кого из гетто водят работать в СД — в смоленскую, в минскую. При их содействии, если только Жан там, тоже можно установить, как и что… И не поверите! Напала на сестер, которые убирали в подвалах одного из этих кровавых учреждений.
Через третьего человека передала приметы.
А когда получила ответ, что Жан действительно там, не знаю, чего было больше — радости, что живой еще, или отчаяния.
Она говорила, а перед моим умственным взором вставал корпус мединститута, где помещалась минская СД, его подвалы, разгороженные досками на конуры, служившие камерами для заключенных и гауптвахтой для собственных штрафников. Сыро, холодно. Голые нары, набитая соломой подушка — и больше ничего. Лампочки и те горят лишь в коридоре. За столом с телефоном и бумагами надзиратель. Толстый, флегматичный. С такой тупой привычкой — без конца копошиться в бумагах, листать гроссбух… Беда!..
— Правда, — рассказывала тем временем чуть живее попутчица, — первые дни на допросах Жана не били, а склоняли на предательство. Следователь Фройлик перечислял его преступления, псевдонимы, фамилии сообщников: показывал — знает все — и, презрительно гримасничая, говорил, что грозит Жану… Из этого следовало: пока остались силы, во что бы то ни стало надо что-то придумать. Выход должен быть найден как можно скорее.
И вот тут он получил мою писульку. Ее сунула в руку симпатичная, кроткая уборщица, как сразу подумалось — из тех, кто всегда и во всем за слабых и обиженных.
Неловко в такую минуту говорить о второстепенном. Но вы поймите меня. Жан часто загорался, как порох. Действовал с убеждением, что нет невозможного. Все у него было достижимо… Батя, которого он уважал, начал было как-то выговаривать ему, что слишком рискует. И как, по-вашему, он отреагировал на это? Не стал ни оправдываться, ни обещать что-нибудь, а только покровительственно проворковал: «Ну, Батя, хватит, ну хватит!» — да хитренько прищурился, себе на уме. Вы вот послушайте внимательно!..
Что записка — провокация, безусловно, мелькнуло у него в голове. Но чем он рисковал? Важно было правильно вести себя. И он осторожно, чтобы не испугать девушку, положил ей руку на плечо. Та сжалась, покосилась на стену, за которой переговаривались штрафники-литовцы, взяла ведро и вышла. Но в глазах, когда взглянула на Жана, были слезы.
Щелкнул замок, и Жан, как писал позже, ринулся к двери. В щель между досками пробивался свет. Он узнал мой почерк…
Соседкина мать когда-то работала в зубопротезной, и в их семье водилось золотишко. Я знала, что соседка понатыкала его за шпалеры, прятала в тайниках. Переговорив с ней, мы написали Жану, что есть возможность нанять адвоката и подкупить следователя. Однако… Он ответил сразу и решительно — нет, ни в каком случае! Даже словно прикрикнул на нас. Никакой дипломатии! В отношении его такое не поможет, и мы лишь накличем на себя беду.
Я снова представил, как кипели-бурлили у Жана мысли!.. Но пошли они, как мне казалось, в необычном направлении. И это, видимо, потому, что просвет, который забрезжил перед ним, был тоже необычным. Убежденный — распыляться нельзя, — он ухватился за то, что подвернулось. Да и практика подпольной борьбы подсказывала: идя нехожеными стежками, иногда скорей добьешься успеха, чем трезво все взвешивая или оставаясь прямым, как палка.
Допрос — это поединок, и на нем можно победить, держась не только принципа «да», «нет». Тем более если ты остаешься лицом к лицу с таким типом, как Фройлик. Перед кем ты будешь демонстрировать себя? Перед садистом? Иезуитом? Разве нельзя, если надобно выиграть время, сбить такого с толку? Пусть даже думает, что нащупал у тебя слабинку, что несмотря на свою неприступность, ты можешь поддаться.
— Я не трусиха, — уже не в силах сдержаться, говорила моя попутчица. — Однажды, когда несла в сумочке пистолет, ко мне на мосту через Свислочь полицай привязался. Обыскивать полез. Так я ему эту сумочку: «На, смотри, пожалуйста!» — и раскрыла перед самыми зенками… С документами сестры, на которую ни капельки не похожа, семь патрулей прошла… А тут мне стало страшно. Нет, я верила в Жана, в его удачу. Не впервой ему было идти на риск и невредимым выходить из огня. Совсем недавно, прослышав, что отступник, из-за которого ширился провал, будет выступать на мясокомбинате, Жан знаете что надумал? Стал готовиться к публичной его казни! И хоть дорого это нам стоило, пришлось запереть дверь и выбросить ключ в окно. Со второго этажа.
Ей сделалось жарко, и она сняла платок. Уложенные «корзиночкой» темные волосы ее растрепались и упали на плечи. Почему-то стесняясь этого, она торопливо подхватила их и закрутила в узел.
— Передавать ему почту взялась старшая сестра — Неся, которая мыла в камерах пол, — преодолев смущение, опять начала она. — Когда назавтра Неся зашла в его конуру как признанный друг, Жана вывели за порог и разрешили стоять у двери.
Я представил: прислонившись плечом к косяку, Жан рассматривает ее, русоволосую, чернобровую, с большими ласково-виноватыми глазами. За стеной шумят, ругаются штрафники. Через перекрытия и потолок проникают приглушенные крики — там камера пыток и Фройликов кабинет. А Неся, сжав плечи, торопливо кладет под подушку принесенное.
— Жана, как он писал, тронуло, что девушка растерялась, когда пришлось прятать его письмо под кофточку на груди. Да и вообще… Приязнь у Жана часто вырастала из жалости… Короче, с этого времени он начал писать письма и Несе…
А о нас, оставшихся на свободе, Жан стал заботиться еще сильнее, чем прежде. Даже казалось, что пишет он не из страшного застенка, а из конспиративной квартиры, откуда все видней. Он предостерегал нас от ошибок. Подсказывал, как и что делать, кому доверять, кого слушаться. Наказывал, чтобы писали ему, как там, на фронте. И, что совсем в его натуре, правда, намеками, просил черкнуть, цел ли трофейный пистолет — тот, который отнял у зондерфюрера. Ибо пистолет этот, видите ли, был именной, подаренный!..
Ну, а следствие, над которым, понятно, крутил мозгами не один Фройлик, шло своим порядком. Некто более высокий, чем Фройлик, который, наверно, смотрел на Жана как на подопытного, начинал терять терпение и предоставил следователю больше свободы. Да и всякая веревочка вьется до поры…
Мне до боли жаль было Жана, хоть и не верилось в плохой конец. Не верилось — и все! Представилось, как берут его на очередной допрос, как, выходя из камеры, заспанный, ослепленный светом, он цепляется ногой за порог и спотыкается. А когда поднимает глаза, видит сразу двоих — часового-эсэсмана, который вскинул автомат, чтобы стрелять, и за его плечами белое лицо Неси. Чтобы девушка овладела собой, Жан хмурится, закладывает, как и положено заключенному, руки за спину и спокойно идет уже знакомой дорогой… И, пока идет, поднимается по лестнице, проходит мимо часовых, думает о Несе.
Фройлик сидит за столом, широко расставив локти. Круглая голова его тонет в плечах. Шишковатый лоб с рыжими бровями как бы нависает над щелочками глаз.
«Ну? — спрашивает он, когда Жан останавливается перед ним, и, не дождавшись ответа, стучит карандашом по столу. — Хватит крутить, Дедушкин! Ты ведь на казенных хлебах, и отрабатывать их одними дуриками не совсем честно».
«Я слушаю вас…» — говорит Жан. И смекает: а главного они так и не установили — ни его настоящей фамилии, ни его родной деревни под Барановичами, где живет мать.
Не становясь покладистее, Фройлик грузно поднимается. Закинув правую руку за спину, с озабоченной важностью дефилирует по кабинету. Жан умеет примечать смешное в людях. И когда Фройлик отходит от него, замечает лысое, прикрытое реденькими волосами темя следователя, и Фройликова важность враз становится комичной.
Фройлик чувствует это. Остановившись, пытливо смотрит на Жана, темнеет лицом.
«Садись! — бросает. — И благодари бога, что не к смолянам угодил! Хотя и мы не лыком шиты. Доходит?»
Он не терпит, если кто-нибудь не отводит своих глаз от его взгляда. Вернувшись за стол, сердито садится. Подтянув живот, достает из среднего ящика бумажку. Не передает, а пускает по столу к Жану.
«Подпиши вот… Между прочим, и называется так, как ваша последняя».
Жан пожимает плечами:
«Я не политик, господин следователь».
Фройлик скорее всего ожидал таких слов. Выпятив нижнюю губу, он кивает головой. Потом с брезгливой гримасой перегибается через стол и делает наконец то, к чему тянуло давно, — берет Жана за воротник. Перекрутив, тянет к себе, и ворот душит Жана.
«Не хочешь? Тогда, возможно, хочешь, чтобы дал подумать? Но помни все-таки, что время работает не на смертников, Дедушкин. Да и много вас, как и нас, кстати. Правда, вас — в тюрьмах, а нас — на свободе. И каждый хочет быть первым…»
Ума не приложу, как Жан не гвозданул его в переносицу, — покачала головой моя попутчица. — Но могу побожиться, что сдержала Жана не боязнь пыток или побоев. Он просто дал себе слово и не имел права сорваться, проиграть в навязанной следователю игре. Помните его: «Так и только так!» Смирил свою гордость — все смирил. И это когда раньше, попав в переплет, даже царапину прятал от нас, чтобы мы, не дай бог, не пожалели его…
Ну, как было, видимо, и задумано, Жан перестал существовать для Фройлика. И когда в обед в камеру не принесли баланды, не дали пить, хотя и сводили в уборную, стало ясно, что уготовано ему…
У женщины перехватило горло, и она замолчала, стараясь скрыть нахлынувшую слабость. Будто откашлявшись, глубоко вздохнула. Однако это тоже получилось у нее как всхлип.
— Чудак! — все же взяла она себа в руки. — Поверите, в первые минуты ему даже сделалось легче. Его оставили в покое, и можно было целиком отдаться своим заботам…
Ее волнение, возбужденность передались мне. Захотелось вмешаться в события, в чем-то предостеречь Жана, отклонить беду, надвигающуюся, судя по всему, на него.
Жан в первый же день ареста постарался оценить обстановку. Убедился: дверные петли держатся непрочно, замок стандартный, запирается сам. Надзиратель симпатизирует Несе и не ухаживает за ней открыто только потому, что опасается штрафников, за что в свою очередь не дает им спуску. Однако он не такой уж службист — нередко отлучается из коридора, ходит принимать душ, разрешает Несе самой отпирать и запирать камеры… Но оставалось неизвестным, как попадают в подвал и выходят оттуда сестры, как и когда работников из гетто гонят назад. Есть ли часовые на недавно построенной железнодорожной ветке, проложенной через развалины к Дому правительства… Ожидая вчера, пока Неся вымоет пол, он ухитрился подержать в руке ключ от замка, — плоский, простой. Но нужно было нарисовать его и в очередном письме попросить товарищей, чтобы те как можно скорей сделали дубликат…
Бурлит энергия у Жана. Игнорируя соседей-штрафников, он не таясь меряет камеру — четыре шага сюда, четыре назад — и даже хмыкает, вслух подтверждая или отбрасывая ту или иную мысль. Однако под вечер вдруг ощущает: воздух, которым он дышит, горячий и сушит губы. Тогда, подавив тревогу, чтобы сэкономить силы, он заставляет себя лечь на нары и уснуть.
Чем сильнее тело жаждет воды, тем чаще его голову обдает жар, она начинает болеть, раскалываться. На вторые или третьи сутки Жан уже начал бредить во сне. Он слышал, что в минуты мук и терзаний люди невольно вспоминают о самом дорогом, и гитлеровцы используют это обстоятельство — приставляют к обессиленному от страданий человеку «слухача». И, надо сказать, они редко обманывались в своих ожиданиях — заключенные проговаривались о сокровенном, звали верных товарищей… Потому Жан, стараясь следить за собой даже в забытьи, заставлял себя то и дело просыпаться. И это обессиливало его вовсе.
Однако утром он снова берется за письма. Торопит товарищей. Пусть присылают комбинезон или другую одежину с нашитыми «латами». Пусть раздобудут пакли, машинного масла, бритву, нитки. Просит подготовить приличный костюм, денег, ботинки. Указывает даже номер — сорок третий. Советует подбодрить Несю, готовить и ее побег. Благодарит за ключ…
Но назавтра кое-что усложняется. Правда, принесенную с воли одежду Неся прячет в надежном месте. Однако моет она камеру, когда Жана уводят в уборную, и перекинуться с ней словом не удается. Да и наблюдая после в щель, Жан замечает в ней самой перемены: девушка внезапно останавливается, забывает об осторожности, нервно теребит повязанную на шею новую, в розах, косынку.
Мучит и жажда. Не дает думать, жжет нутро, отнимает силы. И нельзя в сухом рту пошевелить распухшим языком, облизать им потрескавшиеся губы.
Во сне навалились кошмары. Жан без конца натягивает и сбрасывает комбинезон, мажет лицо машинным маслом и что-то старается додумать. А додумать необходимо, ибо живет убеждение — если додумает, все сразу изменится к лучшему. Но додумать не удается, и это разжигает досаду, злость.
На заре его словно подбрасывает. Довольный, что проснулся, он сползает с нар на пол и начинает ощупывать его. Ползает и шарит, щупает рукой. Жажда сжигает его, но в углу у дверей Жан вдруг вздрагивает от радости — в ямке сыро. Преодолев отвращение, припадает колючим подбородком к холодному, шершавому цементу и лижет его.
Он понимает: пока Неся выполнит его просьбу и ливнет в этот угол воды, пройдут чуть ли не сутки. Но улыбается, не спеша возвращается к нарам, ложится на них и закрывает глаза.
Лучше думается и о Несе — милая, славная девушка! Пока что фактически рискует одна она да еще разве Шура — это, значит, моя собеседница… И мне кажется: он уже любит свою неожиданную помощницу. Во всяком случае, когда потом тянет трепетными губами первый глоток воды, Неся явно вырастает для него в избавительницу, заслоняет других, становится главной надеждой, А разве можно с его душой не любить свою надежду?
Но ведь кроме надежды была и смертельная опасность? Наплывали и предчувствия… Тоска, скорбь…
— А я, я в самом деле на ниточке висела, — признавалась тем временем моя попутчица. — И если бы эсдековцы ухватились за кончик, как пить дать, оборвали бы ниточку… Однако еще раз прошу — поймите меня! О себе я не думала не потому… Мы понимали, что значит он для подполья. Его энергия, вера брали в плен. Его хотелось слушать и слушаться…
Мне не раз доводилось слышать подобные признания женщин. И всегда, стараясь объяснить мотивы своего поведения, они проникались воспоминаниями и плакали. Но моя собеседница сдержалась. Мне показалось даже — глаза у нее стали суше. «Ого!» — подумал я.
— Через какое-то время им повезло, — сказала она сдержанно, — надзиратель пошел принимать душ.
Вот Неся отпирает камеру, берет ведро и переступает порог. Но, сомнения нет, штрафники навострили слух — гомон, возня у них стихают, — и необходимо, чтобы все повторилось, как всегда.
Однако за то короткое мгновение, когда Неся входит в камеру, она успевает одарить Жана нежным и преданным взглядом… Он же, когда поднимается с нар, взмахнув руками, обнимает ее за плечи и привлекает к себе. Держит всего миг, но чувствует ее трепет. Да и она сама, прильнув к груди Жана, прикасается губами к его руке и тут же ставит ведро, которое звякает ручкой.
Стараясь дышать ровно, берется мыть пол, а он получает возможность глядеть на нее, сколько хочет. Глядит и думает, что придется написать, чтобы была приветливее с надзирателем и огрызалась, кричала бы на заключенных, — такая грубость понравится тому… И воды, как можно больше лила воды! А потом, потом пусть сделает только одно, остальное же он берет на себя.
Не привыкать!
Он, ликуя, видит, как Неся кладет под подушку письма, ломоть хлеба и, быстренько взяв нацарапанные им бумажки, сует их в вырез, под кофточку. Затем, помедлив, чтобы унялось возбуждение, склоняет покорно голову и выходит из камеры, поблескивая на него краешком глаза. «До-ро-гая!..»
Видимо, в эту минуту, когда между их сердцами устанавливалось единение и они ныли от угрозы, висящей над ними, окончательно и созрел его план. Отчаянный, дерзкий, но вероятно, единственно возможный — выбраться на свободу вместе с геттовскими работниками, когда те будут возвращаться назад. «Так, только так!»
Под подушкой он находит не одни письма и хлеб — там оказывается резиновая трубочка и плитка шоколада. О воде и еде думать теперь уже не приходится…
Наконец настает назначенный день.
Начинается он, как всегда. Приходят сестры. Вешают пальто на гвоздь недалеко от стола надзирателя. Грохоча сапогами, унылый эсэсман ведет на допрос заключенного из дальней камеры, а надзиратель, сев за стол, начинает листать свой гроссбух. Младшая сестра исчезает — уходит по своим делам. Неся берется мыть коридор. Штрафникам удалось достать шпанса, и они гогочут, потешаясь перед угощением.
И все-таки Жан ощущает что-то необычное. Оно идет от Неси. Девушка избегает смотреть на дверь камеры Жана и часто бросает взгляд туда, где шумят штрафники, прислушивается к глухим стенаниям, что, кажется, просачиваются сквозь стены и потолок. Она осунулась за ночь, сгорбилась. Даже то, как Неся, выпрямившись у ведра, заправляет мокрыми руками под платок непослушные пряди, выглядит как нечто тяжелое для нее.
Нет сомнения — она со страхом ожидает и боится минуты, что начнет приближаться, как только кто-нибудь из эсэсманов отдаст дань немецкой педантичности и до Жана никому уже сутки не будет дела. Она, безусловно, нагородила для себя целый частокол препятствий, одно страшней другого. Но самое страшное из них, разумеется, штрафники. Они обязательно услышат, как она будет отпирать замок и открывать дверь. Каждый считает, что имеет право на бесправную, и они следят за нею, ловят момент, когда можно видеть ее голые ноги. Они, возможно, в душе даже ревнуют ее друг к другу… А разве не может быть, что они просто в сговоре с надзирателем и тот нарочно уходит из коридора, чтобы проверить и разоблачить ее?
В догадки не хочется верить. Жан гонит их. Но, как назло, они получают все новые и новые подтверждения. Когда надзиратель отлучился, Неся осторожно приблизилась к двери, и вместо того чтобы отпереть замок, сует в щель… плитку шоколада, которую, видимо, не успела положить под подушку, когда убирала в камере…
Трудно было Жану переносить издевательства Фройлика. Еще труднее — заставить себя лизать грязный пол. Но откуда взял он силы стерпеть этот злостный шоколад?.. Да вот стерпел. Мало того — сразу засел за письмо, в котором просил Несю быть мужественной, не забывать, что и она, как он, осуждена на смерть, и ей, как и ему, нечего терять. «Так как же тут, дорогая, не использовать единственный выход?» — спрашивал он. Правда, он видел, как она, сунув шоколад в щель, схватилась руками за шею, словно ее душил воротник, и вертела головой.
Вероятно, это были самые тяжелые для Жана минуты. Он не понимал Несю. Она ведь до сих пор находила в себе силы носить передачи. Ее и до этого могли поймать с поличным… Да и вообще дни ее были сочтены. Ее ведь все равно ожидала пуля или душегубка. Так что же отняло у нее решимость? Неужели то, что в коридоре светло? Что чуть-чуть увеличился риск? Было видно, как она мучается, как хочет и никак не может сделать то, чего от нее ожидают.
Еще раньше Неся принесла ему что-то вроде долота. Как только штрафники захрапели, он принялся за работу — ночи за две-три петли на двери можно ослабить и в нужный момент выдрать их. Пусть Неся только бы подошла к двери штрафников и начала болтать с ними, поддразнивать их. Можно сделать уступку и Несиной слабости: если на худой конец штрафники заметят, как он будет выдирать петли, а потом ставить дверь на место, и поднимут шум, пусть кричит, зовет охрану и она сама. Возмущаясь Несиным малодушием, ища ему оправдание: «Нет, она все-таки молодчина! Она совершила такое, чего бы никогда не сделала другая…» — он пытается еще сохранить надежду на побег, спасти чувство, рождающееся у них здесь, в зловонной конуре! Под угрозой смерти! На краю пропасти, у самого обрыва!.. И, как всегда, берет всю тяжесть на себя — кому нужна жизнь без мужества! Да так он делал и прежде. Ибо понимал: если самое тяжелое берешь на себя, единомышленники тоже подставят плечо… Не может быть исключением и Неся…
Потрясенный, взволнованный этими мыслями, я пристальнее присмотрелся к своей попутчице. Соратница Жана!.. Нет, нет, какой она молчун? Она просто остерегалась — да, да! — полагая, что я по-своему пойму дорогого ей человека и то, что произошло с ним. А возможно, просто боялась потерять частицу самой себя, не хотела отдавать его на чужой суд. Пусть остается независимым, удачливым — таким, каким знали его люди. Будто бы не было ни Неси, ни оскорбительных несправедливостей жизни… А заговорила потому, что ничего не могла поделать с собой, боль и слова сами рвались наружу.
Ибо сама, видимо, была готова отдать жизнь за минуту такой вот любви. А может быть, тут вообще совсем не приязнь, а нечто значительно большее.
— Вот так… — опять вздохнула она, прищурившись, однако, чтобы проверить, какое впечатление производят ее слова. — Когда с петлями было покончено, утром Жан увидел за столом с гроссбухом совсем незнакомого человека — прилизанного, усмешливого, с фельдфебельскими лычками. Штрафники, оказывается, донесли, что бывший начальник оставлял свой пост и слишком доверял уборщице.
Ну, а новая метла?.. Шарфюрер начал с того, что с ухмылкой обыскал пальтишки, которые сестры, придя, вешали вблизи стола. Затем, не забывая рассматривать себя в заркальце, которое носил, как записную книжку, в нагрудном кармане, стал наблюдать за Несей, пока та убирала в камерах и разносила обед.
Правда, на другой день девушке все-таки удалось передать Жану почту. Но в ее письме не было ни слова о его предложении. Наоборот, как бы между прочим сообщалось, что в стене конуры должно быть забитое шалевками окно, выходящее на улицу… Ну, а еще через день, насмешливо тыча пистолетом Жана в лопатки, фельдфебель перевел его в другую камеру…
— Мне страшно и подумать, что тогда привелось ему пережить! К чертям собачьим полетело все. Он ведь теперь, если и уцелеет, по ночам стонать будет! Ни любви, ни мужества! Лучше и не начинала бы…
Она не успела докончить — нас окликнули. Голос мне показался знакомым. И хотя до лагеря оставалось далеко, я ответил паролем.
Из придорожных кустов вылезли двое. Но что удивило меня — карабин был наставлен не на нас, а на сутулого.
— В чем дело? — узнал я обоих.
— Да вот задержал дезертира в Ольховке, — сердито буркнул низкорослый. — Хвалится кишкой своей тонкой. Тринадцать месяцев, говорит, в погребе просидел!..
Лесные гущи звенели от птичьих голосов. Недалеко бежал ручей, и его благозвучный плеск согласно вплетался в пение дроздов. Но вдруг самый ближний из них защелкал хоть и заливисто, да не так добро. Тенькнул раз, второй и стих. И в тот же миг, как по заказу, дрозды умолкли все. На лес навалилась тишина, сквозь которую пробивалось лишь журчание воды.
Потом где-то далеко рыкнула пушка, и край неба в той стороне стал розоветь.
AVE, MARIA!
история одного подвига
Весной сорок третьего, перед тем, как снова лететь в тыл противника, я получил возможность побывать на Урале. Партизаны там были еще дивом, и меня без конца приглашали на встречи — и в самом Иргинске, где жила моя семья, и в окрестных деревнях, куда я ходил с тщедушной сероглазой библиотекаршей-ленинградкой.
Моими слушателями были преимущественно женщины — старушки, солдатки, часто вдовы. Слушали они меня, как слушают посланцев-вестников усталые, участливые труженицы, — внимательно, вздыхая. Спрашивали, не встречал ли на партизанских тропах уральцев и как это вообще можно жить рядом с врагами: «До них же рукой подать…»
— Говорите, и уральцы? — переспрашивали чуть ли не хором, и все замирали в ожидании.
— А фамилий не помните?
— Значит, и те, кто без вести пропал, могут еще живыми быть?
— Ай-ёй! Молодцы!
— А как там женщины? Чай, бедным, тяжелей, чем всем, достается?
— Тут важно не упасть духом только.
— И командирши есть?
Под конец встречи наиболее душевные добрели до слез. На минуту исчезали и возвращались с яичком, с рюмкой меду, с теплой шаньгой. И эти мгновения для меня были чрезвычайно мучительными. Как ты откажешься от этих даров? Но как и примешь их из худых, потрескавшихся рук?! Выручала библиотекарша-ленинградка. У нее на руках была больная, немощная мать.
В избе или в красном уголке, где происходили сходки, пахло нагретой, принесенной с улицы сыростью. За метр от стола с коптилкой ютился мрак. В скупом, мигающем свете лица женщин казались ликами на древних, пожухлых иконах, и хотелось отдать им, терпеливицам, теперешней нашей опоре, силе, душу… И позже, спустя несколько месяцев, встретившись в партизанской деревне на Логойщиие с Марией, я глядел на нее, вспоминал уралок и думал: «Вот судьба!..»
Родилась она в многодетной семье. Но, как только начала помнить себя, зачастили беды, и семья стала убывать. Погиб под Двинском, на поле боя старший брат. Потом умер второй — раненный при ликвидации эсеровского мятежа в Кронштадте… Набожная мать притихла, замкнулась, перестала молиться. Сняла в красном углу все иконы, кроме богородицы: «Верю, заступница, ты делала свое, хоть и не дошли твои слова!» И этот своеобразный материнский бунт, поразив Марию, был воспринят ею тоже как приближение очередной беды.
Толочинский район богат лесами. Стеклозавод окружал бор. Охотясь, отец находил там передышку от работы. Детвора бегала туда за грибами и ягодами. В бору было теплее даже зимой. Потому Саковцы и на своем огороде посадили деревца. Поливали, ухаживали за ними: «Пускай растут, живые ведь… Может, и порадуют кого-нибудь…»
Училась Мария лишь от рождества до пасхи: «Знаю, дочушка, молчи… Да тебе в солдаты не идти, помоги маленько!» И Мария помогала — подростком пошла на стеклозавод. Правда, его вскоре закрыли. Рабочие начали разъезжаться. Мария с братом также нашла новое пристанище — на стеклозаводе «Труды» под Полоцком, где и доросла до съемщицы оконных листов.
Великая тайна, как формируется человек. От природы, наверно, ему достается только закваска. Остальное же зависит от времени, от выбранного или предопределенного места… Влияют ли при этом жизненные события? Конечно. Они могут усложнять судьбу человека, ему может просто не повезти. Перед ним могут вырасти глухие стены, и это ранит его. Или, напротив, перед ним могут открыться скрытые дали, и это окрыляет его. Но суть человека все-таки определяет иное — более постоянное. Такое, что ты вбираешь в себя с детства, что с тобой, пока ты взрослеешь, что жило до тебя, живет с тобой и, уже несешь сквозь годы.
Так или иначе, все это происходило с Марией в семье стеклодува, в лесном рабочем поселке, а затем на заводе «Труд». Маленькая Манька бегала среди зеленой благодати, дружила с такой же босоногой детворой, кормила в стужу синиц, помогала по дому матери. А главное — там она начала догадываться, кто ее друг и что противостоит ей. В шестнадцать лет она уже стала сельским женоргом. Ей жаль было женщин, жаль горемыку мать с ее вечным страхом и бесконечными усилиями свести концы с концами, и Мария начала ходить и говорить об этом по окрестным деревням в босоножках на деревянной подошве. В староверческом Новом Соколине на нее спустили собак. Но она отбилась от них, нашла единомышленниц и намеченную там делегатскую сходку провела.
И все-таки быть бы Мане-Марии простой работницей, но вмешалось время, комсомолия — ее выбрали сначала народным заседателем от молодежи: «Любишь справедливость — пожалуйста!» — а после и председателем райдетбюро ЮП[6]: «Как раз по тебе, действуй. А там и учиться поедешь…» Ну, и пошло, закружилось!
Уже имея детей, Мария поступила — свершилось же наконец! — в юридический институт. Увлеклась криминалистикой. И хоть после окончания института появилась возможность работать в Верховном суде, где проходила практику, добилась — оставили в институте, дали возможность готовиться в аспирантуру.
К этому времени умерла мать. Подоила корову, поставила подойник на лавку в сенях, но процедить молоко не успела — сдало сердце. Несчастный случай отнял жизнь у отца. Братьев, оставшихся в живых, разбросало по стране. Старшая сестра, обзаведясь семьей, поселилась тоже не близко — при стеклозаводе «Октябрь». Так что Отечественную войну Мария встретила одна-одинешенька. Даже дочка уехала на каникулы к тете. Сын же Юра… Когда Мария на второй или третий день войны, выбрав момент, прибежала в Красное Урочище, где находился детский садик, дети сидели уже в автобусе.
Как раз недалеко разорвалась бомба. Ребята закричали, автобус тронулся…
Этот плач-крик как бы застрял в ушах Марии. Он лишь иногда притихал, чтобы опять и опять леденить сердце. Особенно когда она, видя новые ужасы, закрывала глаза и замирала от недоброго предчувствия.
Мария терзалась, была сама не своя. Выходила за город: «Поедут — здесь скорей увижу!» Приставала к беженцам, бредущим с узлами по Могилевскому шоссе. Но страх разойтись с сыном: «А что, если вернутся другой дорогой?» — гнал назад.
На ее глазах горел, рушился город, гибли люди… От дум раскалывалась голова, однако вскоре надо всем взяло верх одно: «Надо что-то делать! Защитить себя и спасти, что можно…»
Почерневшая, измученная, добралась она до «Октября». По дороге, пока были силы, подносила чужих детей, помогала изнеможенным женщинам, несмотря ни на что плетущимся на восток.
Сестра сидела за столом. В окно она видела, как шла в дом Мария, однако не встретила ее у порога, не встала. В черном платье, гладко причесанная, со старательно вымытым бескровным лицом, она смежила веки и, как немая, со стоном пошевелила губами.
— Несчастье? С Томочкой?
Из уст сестры снова вырвался стон.
В комнате было светло. От солнца все отливало золотистым. Знакомые вещи — круглый стол, застеленный клеенкой, венские стулья, сервант, вазоны, которые так любила сестра, — стояли на прежнем месте. Глядя на сестрин лоб, белый и, верно, холодный, как у покойницы, Мария рванулась к ней.
— Ну, Татя, говори же! — попросила, чувствуя, как немеют, отнимаются ноги.
В комнату вбежало рыжее создание с косичками, что торчали в разные стороны. Девочку, видимо, предупредили, так как она, не особенно удивляясь, подбежала к Марии и крепко обняла ее.
— Ма-амочка! — зажмурилась от счастья.
— Что у вас тут такое? — настойчиво повторила Мария, радуясь и в то же время тревожась.
Это дошло до сестры, вернуло дар речи. Из глаз ее покатились слезы.
— Немцы наших мужчин постреляли. Всех, кого схватили и кто за Березину не успел переправиться. Даже похоронить не разрешили. За что такое наказание, Маня! Неужто все это даром выродкам пройдет?..
И долго, после того как легли спать — Марии с дочерью постелили на полу, — прижимая к себе трепетное тело дочери, она слыхала стоны сестры:
— Твоей защите отдаемся, святая божья мать! Тебе вручаем заботы наши. Избавляй нас от злой напасти, дева Мария!..
Сестра была склонна к экзальтации. Но теперь Марии, которая страдала вместе с ней и жалела шурина не меньше чем она, сквозь дрему тоже показалось: сестра обращается и к ней. Марию затрясло…
С надеждой — в Минске непременно оставлено антифашистское подполье — она не мешкая стала собираться назад: «Буду хоть помогать!» Да, но зачем она брала с собой дочь? Прежде всего, видимо, чтобы заслонить собой, быть вместе. Чтобы чувствовать себя… смелее и не накликать новой беды на сестру. Она даже разыграла перед соседями комедию: «Все! Ноги моей здесь больше не будет!»
Минск немного отрезвил ее. На улицах встречались почти одни немцы — солдатня, увешанные оружием полевые жандармы в касках, офицеры в легких мышастых шинелях и фуражках с высокими тульями. По мостовой, грохоча, катились грузовики-фургоны; колыхались на выбоинах непривычно низкие камуфлированные легковушки; подскакивая на сиденьях, проносились мотоциклисты в пятнистых плащ-палатках.
Стоял солнечно-ветреный день. Пожарища, развалины пылили. Рыжим, выцветшим казалось само небо.
Чтобы приглушить скорбь, мать с дочерью посидели в нервом попавшемся скверике, пригоршнями напились из водоразборной колонки. Но перед Бетонным мостом неожиданно столкнулись со знакомой, бывшей сотрудницей юридического института, и, расспросив, чуточку успокоились: квартиру, как оказалось, никто еще не занял, и Марией никто не интересовался.
Соседка Лида, простоволосая, в заношенной расстегнутой кофточке, встретила радостно: «Манечка! Целые?» Поцеловав в обе щеки, как гостей, повела в пустую комнату. Застегивая кофточку, заплакала, стала перечислять, кто какие стянул вещи,
— Как в том лесу. Ни закона, ни права, — говорила она сквозь слезы. — Газеты пишут, что сам наместник Гитлера приезжает распоряжаться… Да как-нибудь сойдет. Я тебе подушку и одеяло дам. Генка, где ты?.. Вот хорошо, что вернулись!
В дверях показался карапуз, полненький, мурлатый. Порога не переступил, а, сев, переполз через него. Потом, поднявшись, с протянутыми ручками потопал к матери.
— Смотри, Геночка, кто вернулся! — радовалась Лида, гладя его по головке и обдавая Марию с Томой светом своих растерянных, ласковых глаз. — Все смелей будет.
Ее прежняя, мирная, домашняя неопрятность была какой-то запущенной, но Мария, жадно слушая Лиду, замирала от умиления.
На следующий день она была уже на тихой Заславской улице — в общежитии юридического. Слушая рассказы знакомых студентов, прослезилась.
— Вот здорово, что пришли! — воскликнули они. — А то, кроме идолов, и не видишь никого!
— Спасибо, Мария Борисовна!.. За что? Как вам сказать? Хотя бы за то, что заглянули к нам.
— За то, что больше нас стало!..
А Мария слушала их, и ей хотелось обнять каждого — таким привычным, близким дохнуло на нее.
У борьбы своя логика. Тут важно начать. При следующей встрече бывшая сотрудница по институту сообщила: в лесу близ ее деревни в шалашах обосновались окруженцы. Делают вылазки — сожгли волостную управу, сепараторный пункт. Но многие из них ранены… Пришлось срочно искать подступы к аптекам и больницам. Когда же удалось найти дорогу к больнице в гетто, пришлось переодеваться — натягивать в развалинах заношенную кофточку с нашитой «латой» и незаметно прибиваться к колонне, возвращающейся с работы в гетто, или ночью пробираться туда под колючей оградой из проволоки. И хотя обязанность связной с окруженцами осталась за бывшей сотрудницей, пришлось самой выбирать наиболее безопасные маршруты, по которым можно было бы переправлять в лес добытое сокровище… Студенты, те, из общежития, раздобыли бумагу, копирку. Появилась возможность помогать другим людям разбираться в событиях, а вместе с этим появились и новые заботы — как распространить написанные листовки, кому и когда расклеивать их, кому и как пронести на товарную станцию, на вагоноремонтный завод… Один из третьекурсников — смуглый кудрявый парень — был еврей. Значит, нужно было раздобыть и заполнить на него липовый паспорт, где бы он значился цыганом. Да и вообще, будучи подпольщиком, как ты обойдешься без аусвайсов, больничных листов, которые помогли бы тебе «выплыть на поверхность»? А тут, как на беду, провалилась сотрудница института, и позарез нужны золото и связь с тюрьмой. Так одна за другой набегала необходимость — то иметь своих людей в учреждениях врага, то иметь свои явочные квартиры, где можно было бы встречаться с товарищами, прятать собранное оружие…
Особенно донимали заботы ночью. Когда время клонилось к вечеру, комендантский час гнал домой. В четырех стенах, после пережитого днем, время словно останавливалось, и ночь вместе с вечерними сумерками тянулась бесконечно долго. Работать — слепить глаза при коптилке — и то было опасно: не хотелось, чтобы это тоже привлекало чужое внимание. К тому же настойчиво напоминало о себе недоедание. Потому, протопив голландку — каменный уголь, который нарочно сбрасывали с тендера машинисты, можно было набрать у железнодорожного полотна, — ложились спать. Тома в тепле засыпала быстро, вздрагивая во сне. Но от этого еще острее чувствовалась ответственность за нее, вспоминались дневные треволнения, и сон отлетал.
Борьба завязывалась не на жизнь, а на смерть. В минуты душевных мук рождались планы… И если бы можно было остановить смертоносную машину, перегородив ей дорогу, Мария вряд ли пощадила бы себя — пусть только забуксует. С этим она выросла. Но разве машина забуксует? Значит, нужны были особые меры!..
Как-то она увидела гаулейтера. Он шагал по тротуару Ленинской улицы. Впереди и сзади него шла охрана, а по мостовой, чуть приотстав, двигался блестящий серый лимузин. Среднего роста, коренастый гаулейтер ступал тяжело, будто топтал асфальт тротуара, и совсем не махал руками. И что тогда бросилось в глаза — затылок и короткая шея у него были на одной линии. Вокруг лежали желтые развалины, и зловеще желтой выглядела на их фоне каменная фигура этого кряжистого, властного человека. «Такой не остановится ни перед чем. Наступит ногой на горло, — подумала Мария. — Не худо бы взять и напомнить ему, что у палки-то два конца. Может, помягчел бы тогда…»
В уши Марии бил тот истошный детский крик, и она засыпала лишь на заре.
Проснувшись первой, Тома с любопытством рассматривала побледневшее во сне лицо матери и, видимо, потому, что взрослела сама, каждый раз открывала, что мать, вопреки всему, хорошеет — немного расплывчатое лицо четко очерчивается, и что-то как бы подсвечивает его изнутри.
— Ма-моч-ка, ты у меня самая, самая!.. — призналась она, когда озадаченная Мария начинала тереть глаза и моргать.
Наивная Томина похвала пробуждала желание поглядеть на себя в оконное стекло — зеркало тоже утащили, — и, хотя было неловко, слова дочки запоминались, прибавляли сил.
— Когда ты, Маня, рядом, — подхватывала Лида, — ей-богу, веселей. Ровно заступиться можешь, в обиду не дашь. Вишь какая!..
Но однажды, когда Мария, держа на коленях Генку, перебирала пальцами его редкие длинные волосики, Лида внезапно проявила самостоятельность.
— Примелькалась ты уже с Томой, — наставительно заметила она. — И нынче я тебя с ней не пущу. На каждом шагу полицаи с жандармами. Говорят, это рейхскомиссар свои порядки заводит. Пропуска разные, облавы. Генку возьмешь! И лучше огородами возвращайся…
Мария сначала даже испугалась — что с нею? Да, увидев, как темнеет полное, хотя уже поблекшее от недоедания, Лидино лицо, поняла, что игнорировать ее нельзя: так она высказывает свое новое отношение и к ней, Марии, и к окружающему. Отказ кровно обидит женщину, оскорбит ее. Да и имеет ли Мария право не принять ее жертвы?
— Ты ведь не знаешь, куда я сейчас пойду, — все-таки, чувствуя, что Лидино решение накладывает на нее особую и, возможно, самую высокую ответственность, предупредила она.
— Знаю! Не на базар!..
С Геной идти было куда вольготнее. И, неся его на плечах, раз за разом целуя его ножки, Мария чуть ли не торжествовала. Однако когда горкомовский связной передал ей подпольную «Звязду» и Мария, засунув ее под резинку Генкиных шароварчиков-ползунков, пошла назад, все переменилось. Мальчик, как и раньше, кивал головой, пальчиками лез Марии в нос, а у нее болело сердце, и хотелось молить, как молила сестра: «Матерь божья, только бы не сейчас, только бы не сейчас!»
На Бетонном мосту их задержали. Поставили в очередь, чтобы проверить документы и обыскать.
Кружил колючий снежок. У депо зычно перекликались паровозы. В стороне, около парапета, застыла группа мужчин под конвоем.
— Геночка, родной, заплачь, — попросила Мария. Но тот, думая, что с ним шутят, причмокнул языком и засмеялся.
Тогда объятая отчаянием Мария ущипнула его. Мальчик сжался и залился плачем. А когда она, почти глухая и слепая, боясь поскользнуться, двинулась к постовым, вцепился в ее волосы и забил ножками в грудь.
— Уйми своего щенка, обмочится! — крикнул бровастый жандарм с бляхой-полумесяцем на груди. — Где документы? — И толкнул кулаком ей в бок.
Трудно сказать, кто кого вел дальше — Мария Генку или он ее. В свою комнату она вошла без сил. Постояв у кровати, бухнулась на нее и зарыдала. Пряча газеты под подушку, почувствовала, как кто-то обнял ее, задышал в голову. Перед глазами замаячил бровастый жандарм, потом — сановный немец на Ленинской улице, и Мария, содрогнувшись от ненависти, понемногу стала успокаиваться — около нее была Лида, да и впереди ожидало более страшное, которому нужно будет идти навстречу.
Нет, не меньшая тайна и то, как вырастает среди людей старший! Правда, природа в этом случае дает ему, видимо, чуть больше, чем закваску. И прежде всего — умение выбирать себе и другим место в событиях. Но признанным вожаком он становится лишь тогда, когда, идя за ним, единомышленники сочувствуют ему и охраняют его. «Ты — нам, мы — тебе», — как говорила Лида. Во всяком случае, так было в подполье.
И опять-таки набраться бы тут ума-разума Марии, протрезветь: рядом же дочка, Гена… Сдержать бы немного рвение. А заодно отбросить и свои переживания — слезы, сострадание: без них легче. Ан нет!..
Еще в первые дни поклялась быть с Марией семья Марчуков. Так вот… Дождливой осенней непогодью, когда Марчуки садились ужинать, кто-то постучал к ним в окно. Не постучал, поскреб — неуверенно, просительно. Ему открыли. В сени ступил обросший, кожа да кости, призрак в солдатской, точно изжеванной шинели. За это грозила смерть, но незнакомца без слов провели в дом, посадили за стол. Мало того — оставили у себя, пока, оправившись, человек не смог уйти, как и пришел, в темную, хоть глаз выколи, ночь.
Однако через месяц до Марчуков докатилась молва: их военнопленный опять за колючей проволокой.
Тогда старшая дочь Марчуков, не думая, что решается на крайне опасное: «Может, и мой где-то вот так же доходит!» — подалась с приятельницей в лагерь.
Ворота в гиблом месте охраняли эсэсманы и овчарки — зверье, что кидалось на каждого, кто не был одет в немецкую форму. Собак подобрали рослых, грудастых, с желтыми подпалинами, чтобы пугали одним видом.
Когда женщины подошли к воротам, эсэсманов поблизости не оказалось — на страже сидели только две овчарки. Понимая, что овчарки могут их разорвать, женщины, однако, не повернули обратно. Приближаясь к собакам шаг за шагом, стали уговаривать их — спокойно, ласково, как людей. И когда появились около сторожевого помещения, у начальника караула полезли на лоб глаза. Возмущенный неслыханным, он накинулся на женщин с кулаками. Но те не отступились и, переждав, когда приступ ярости у начальника схлынул, всучили ему припасенный самогон и золотую пятерку. Добились и разрешения поискать своих среди заключенных. Но, неся через час на спине полуживых мужчин, они еще не знали, что ожидает их при выходе из лагеря. Не потешаются ли над ними? Ведь бывает же — собаки заявляют о себе не тогда, когда чужой человек входит в дом или во двор, а когда выходит оттуда. Однако овчарок у ворот уже не было, — расстрелянные, они валялись в кювете…
Так как же могла быть иной Мария?
Ранней весной, рискуя жизнью, она сама организовала побег пленных. Правда, по-своему — с распропагандированной охраной, сопровождавшей пленных на работу, с партизанским проводником, который нес на плечах мешок с белой заплатой, чтобы и в сумерках можно было его видеть. Потом еще и еще. Несколько раз по протоптанной дорожке Мария отправляла также вооруженных минчан и солдат из словацкого батальона — сперва в отряд капитана Никитина, а потом «Дяди Коли», «Димы»..»
В таких случаях говорят: помогает Фортуна. Это верно — за Марию были и люди, и обстоятельства. Но вне поля зрения тех, кто так говорит, остается очень важное: эти обстоятельства она угадывала заранее или создавала сама, как сама подбирала и людей.
Связи Марии расширялись — успехи тоже приносят друзей. И чего только не делали ее люди. Собирали оружие и деньги. На беженском пункте, где гитлеровцы тайно вербовали будущих шпионов, вели учет тех, кто проходил специальный медицинский осмотр. Они даже ухитрялись путать прогнозы погоды, которые давала метеорологическая станция летным частям…
Но тут все же был допущен просчет. А возможно, кого-то насторожило хождение Марии по городу — слишком универсальной становилась ее деятельность.
Вскоре после того, когда была закопана ценнейшая аппаратура физической лаборатории университета, Лида встретила Марию в коридоре укоризненным взглядом.
— Погоди, не больно спеши к себе, — предупредила многозначительно. И Марии бросилось в глаза: она причесалась и принарядилась.
— Не понимаю, — произнесла Мария, пристальнее разглядывая соседку.
— Приходили, Маня, за тобой. Может быть, и сейчас за твоими окнами притаились. Приводил тот, из жилуправления. Знаешь, остроносый такой, как курящая баба, что не уважает себя. Грозил: если еще раз не застанет, возьмет Тому заложницей. Так что я раздобыла картофельной кожуры, муки немного и лепешек напекла. Одежду тоже подготовила. Сама ты, конечно, не отступишься… Да и не лишне, чтобы тебе свободней было…
И Марию осенило — Лида привела себя в порядок, чтобы проститься и быть решительной. Поняла: медлить действительно нельзя. И через каких-нибудь полчаса уже наблюдала в окно, как дочка в полинявшем платке, в больших, не по ней, курточке и сапогах пробиралась огородами, чтобы отправиться ночью к далекой тетке. А еще через полчаса эсдековцы снова перетряхивали комнату Марии, поставив Лиду лицом к стене.
С этого времени Мария уже не имела постоянного пристанища. Да и жизнь изменилась в корне — для нее потеряло значение, что она ест, где спит. И следила за собой больше по привычке, чтобы быть как все. Теперь ее существо жаждало испытаний, жило одним. Ему Мария отдавала свои силы, в нем и черпала их.
Когда командование отряда «Димы», предложив покончить с другими делами, поручило искать способ, как покарать гаулейтера, по чьей вине чинится насилие и льется кровь, Мария, понимая, чего это будет стоить ей и другим, приняла задание как награду. Ей давно в снах мерещилось — пролитая по приказу гаулейтера кровь дымится, и все вокруг окутывает мгла-дым. Так как же было не заявить людоедам: хотите войны — она вам будет! Как не попробовать заслонить близких от маньяка….
Но с чего тут начинать? Как подступиться к сановному палачу, когда подходы к дому, где он живет, перекрыты секретами и патрулями, а его самого охраняет целая орава телохранителей?
Марийны хлопцы взялись собрать данные. Выяснили: гаулейтер уже не ходит по городу пешком. Ездит в сопровождении двух-трех, как и его машина, лимузинов. Номера на них ежедневно новые; в колонне его лимузин меняет место — то едет посредине, то впереди. Даже еду гаулейтеру из кухни, которая находится в цокольном этаже, подают в столовую лифтом, и прежде чем она попадает на стол, ее апробирует доктор.
Тогда взяли ставку на засады. Стали разъезжать по городу на грузовике, надеясь на счастливый случай. Одну из наиболее проворных подпольщиц Мария послала работать в радиостудию — искать людей и возможностей. К сотрудничеству была привлечена уборщица генерального комиссариата. Однако разъезжавшие на грузовике так и не встретили кортеж и не смогли расстрелять или раздавить гаулейтеровский лимузин. Главный директор, на которого в радиокомитете была взята ставка, оказался трусом. Уборщица же клялась: если и удастся внести мину в кабинет гаулейтера, ее все равно найдут адъютанты, которые по утрам осматривают там каждый уголок.
Стало известно, проваливаются планы и у других. В Театральном сквере, невдалеке от дома, где жил гаулейтер, арестовали десантников. В офицерской форме, русоволосые, молодые, они независимо прогуливались по аллеям вдоль улицы, но автоматы у них висели на правом плече, дулами вниз, как немцы не носят. Жану, возглавлявшему в подпольном горкоме отдел по борьбе с агентами СД и оккупационными чиновниками, удалось заминировать построенную для выступления гаулейтера трибуну, в Смолевичах, но митинг сорвался — фон Кубе по каким-то причинам не приехал. В драматическом же театре, напротив, подложенная мина взорвалась раньше, чем там появился гаулейтер…
И все-таки капля долбит камень: Марии удалось наткнуться на работника кинотеатра «Новости» Николая Похлебаева.
Встреча с ним произошла в кинозале, на дневном сеансе. Зрителей было мало. Похлебаев, которому показали Марию, пробрался к ней и сел через одно свободное место. Потом, как было и условлено, оборвалась лента, и это дало им возможность выйти из зала вместе.
Сидя за кривым скрипучим столом в заваленной рекламным хламом каморке, Мария рассмотрела Похлебаева, хорошо одетого, уже без следов когда-то пережитых в госпитале страданий.
— Мне говорили, что вы знакомы с горничной Кубе, — все же доверилась она какому-то острому, как натянутая струна, чувству. — Это правда?
— Я дружу с ее сестрой, — приподнял тот бровь, и у Марии отлегло от сердца: он догадывался, зачем она здесь, и сам прощупывал ее, иначе ответил бы проще — не отделил бы себя от горничной, а просто кивнул бы или сказал: «Да, знаком. А что?» И действительно, прищурившись, чтобы пригасить блеск быстрых глаз, он добавил — Я просил бы, если можно, представить меня вашему командованию…
Под Вишневкой, где размещался самый опасный в этих местах гарнизон, их остановил патруль. Но помог вид Похлебаева — берет, коверкотовый костюм, немецкий плащ, перекинутый через руку, — их пропустили. И вот когда шли дальше по полевой малоезженой дороге среди ржи, Похлебаев вдруг растрогался:
— Я очень благодарен вам, Мария! Вы дали мне возможность вырваться на прямую, как говорят спортсмены. И мне хочется сказать вам: «Благословенна ты, и благословен плод жизни твоей». Откуда берутся у вас силы?
— От вас, видимо… — не пожелала говорить об этом Мария.
Она ожидала — Похлебаев засмеется, но он помрачнел, понурился. А затем вдруг побледнел ото лба и висков, как бледнеют люди, которые в чем-то клянутся.
— Самое обидное — умереть за здорово живешь, — сказал он с нажимом, — Особенно если тебе еще надо кое-что доказать. Но, действуя на свой страх и риск, я готовил себя и к этому самому плохому…
Он остановился, но поглядел не на Марию, а вдаль, где на золотистое ржаное раздолье опускалась синева.
— Словом, я отдаю себя в ваше распоряжение. В полное, Мария, распоряжение и рад этому! — И все-таки не сдержался: — Но не лучше ли мне самому взорвать кинозал при каком-нибудь торжественном просмотре? Я ведь все-таки мужчина!
Мария поправила густые волосы, выбивавшиеся из-под платка, задумалась. Прочертила носком туфли дорожку на пыльной земле.
— Спасибо. Вы сообразительный… Но мину замедленного действия у вас не используешь. А значит, придется жертвовать вами. Да много ли «за», что повезет? Пускай это останется на крайний случай. А сейчас Мазаник…
Минуло несколько дней напрасного ожидания. Но когда начало уже казаться — нужны какие-то срочные меры, — Похлебаев через связную, кассиршу частной часовой мастерской, передал: приказ выполнен, в девять утра Марию будут ждать у входа в парк Горького.
От Елены Мазаник у Марии осталось двойственное впечатление. Кокетливое платье, чужая прическа со старательно уложенными буклями, золотой медальон на шее. Вместе с этим еще молодое, приятное, грустное лицо, усталые, неспокойные руки. Чувствовалось: она обдумала свою тактику — решила вести себя неопределенно, так, чтобы потом выйти сухой из воды.
— Вы имеете ко мне конкретное предложение? — спросила она, когда Похлебаев с сестрой ушли.
— Да. Я предлагаю вам уничтожить рейхскомиссара, — просто сказала Мария. — Покарать его за кровь людей и преступления против человечности.
— Вы серьезно?
— Совершенно. Правда, это в случае, если вы имеете намерение остаться честной.
— Ну, моя честь пусть вас не беспокоит, — надулась собеседница. — Вас кто-нибудь уполномочил говорить со мной?
Она перепроверяла Похлебаева! И это тогда, когда сама, как передавали, стремилась искать подпольщиков. С чего бы это? Понимает: она может ошибиться только раз? А возможно, привередничает, выбирает, присматривается — мне, мол, никогда не поздно? Пришла к заключению: действовать будет лишь наверняка? Или вообще из тех натур, которые принимают решения в самый последний момент и накануне стараются не думать, куда повернут события завтра, ибо так легче?
— Его, Галя, все равно покарают, — более мягко сказала Мария. — Есть высшая справедливость, которой нельзя пренебрегать. Он преступник. Да и самой тебе это нужно не меньше, чем нам.
Тон, терпеливость Марии и то, что она назвала ее Галей, как звали ее в семье, понравились Мазаник, не дали обостриться разговору.
— Ко мне уже обращались с подобными предложениями, — призналась она. — Пугали, предлагали деньги… Я даже намеревалась сообщить об этом гаулейтеру…
— Чтобы вас и ваш дом взяли под особый надзор?
— Нет. Чтобы меня не проверяли так глупо…
— Похлебаев, Галя, говорил мне, что до войны ЦСУ выдало инструкцию, согласно которой автомобили без шин считаются исправными. А вот когда у них нет аккумуляторов, неисправными…
На этот раз Мария направилась в отряд с сестрой Мазаник, решительной женщиной, которая старалась молчать и то и дело хмурилась.
Мария знала: она вдова, работает посудомойкою в столовой, имеет детей, которые живут в пригородной деревне. Видя, как та морщится и хватается за борта, когда кузов грузовика, на котором посчастливилось подъехать до Паперни, подбрасывает на ухабах, жалея ее, Мария, как только соскочили на землю и отряхнули с одежды пыль, положила ей руку на плечо.
— Все будет хорошо, Валя. Не переживай. Свекровь и детей твоих вывезли… Да и вообще, если хочешь быть смелой, будь смелой до конца. Так лучше.
…В город они возвращались поодиночке — сперва Валентина, а назавтра, другим маршрутом, Мария.
Мария шла одна по пыльной дороге, глядела на небо, на усталое августовское поле и опять, опять перебирала, оценивала все в голове. Решительность делала ее прозорливой. И как ни прикидывала, наиболее надежным казался план с миной, о котором она раньше намекнула Похлебаеву и который детально обсудили в отряде.
Лишь бы Мазаник поверила в успех, лишь бы доверилась, дала слово себе и ей…
На контрольно-пропускном пункте эсэсман, пожилой понурый дядя со щеками, похожими на галифе, проверив документы, вдруг ни с того ни с сего рассердился на Марию. Позвенев в кармане монетами, хотел было еще что-то потребовать, но поперхнулся, сорвал с шеи автомат и стукнул Марию прикладом по затылку. Удар был сильным, и она, потеряв сознание, с полчаса лежала в кювете, куда ногами спихнули ее эсэсманы.
Голова разваливалась, болела и потом. Головокружение же, ощущение тошноты давали о себе знать даже день спустя. Так что когда Мария, согласовав с Мазаник план, вновь подалась в отряд, она посчитала за благо взять с собой связную.
Мины в отряде нашлись сразу. А вот взрыватели оказались все трехсуточными. Поэтому с меньшим замедлением довелось искать в соседних спецгруппах.
«Хотя бы эти были суточными! — волновалась Мария, выслушивая наказы-объяснения. — Люди ведь рискуют! И если не удастся, накличем беду больше прежней…»
Взрыватели ей посоветовали спрятать в прическе, мины (на всякий случай две) положить в корзину с брусникой. Дали яичек, круп, сала.
Назад Мария со связной пошла притихшая — тяготила ответственность. У «пограничной» речки Вяча не сговариваясь стали на колени, поклонились, поцеловали землю.
— Тяжко, Мария, на душе. Дома дети, а возвращаться не хочется, — разоткровенничалась с затуманенными глазами связная.
Это была жалоба, исповедь. Мария взглянула на женщину, на высокое, еще с теплыми облачками, небо, где парили, распластав крылья, аисты.
— Им, конечно, легче, — согласилась. — Но ничего. Дальше, тезка, пойдешь одна. Мне уже легче.
— Что вы? — ужаснулась та. — Вы неправильно поняли меня!
— Ступай, ступай, а я подожду. Мы с тобой незнакомы притом…
Не успела связная сделать несколько десятков шагов, как из придорожного лозняка, за которым снова скрывалась дорога, вышли полицаи. Мария видела, как самый высокий из них пальцем поманил связную и стал тщательно обыскивать ее. Но иного выхода, как идти к ним, у Марии не было — она не знала, заметили ее полицаи или нет. От нервного напряжения потянуло рассмеяться, и она, подходя к ним, дала волю этому своему желанию.
— Чего ржешь? Что очереди нет? — довольно благосклонно спросил полицейский, обыскивающий связную. — Вытряхивай свои шмутки!
Присев, Мария медленно начала вынимать из корзинки яички, крупы. Мысли работали лихорадочно. Когда связную отпустили и все окружили Марию, она, все еще смеясь, сама ринулась в атаку:
— У меня, хлопцы, осталось несколько марок. Возьмите лучше их. У вас ведь тоже, поди, сестры есть…
Высокий словоохотливый полицай состроил дурашливую физиономию и воткнул тесак в бруснику. Сердце у Марии оборвалось.
— Гы-гы-гы, страшно? — захохотал он. — С этого и начинала бы, родственница! — И, сняв с головы пилотку, подставил ее как пригоршню.
Стараясь, чтобы не дрожали руки, — пусть трус умирает тысячу раз! — Мария положила в пилотку пяток яичек и под непристойные шутки повернулась к полицаям спиной. Услышав улюлюканье — плюнула. Ее пугали, полагали — она побежит. С какой-то злой тоской подумала: эта встреча не последняя. Обязательно задержат и будут проверять около водонапорной башни в Паперне и, разумеется, на контрольно-пропускном пункте при входе в город. Причем не исключено, что снова придется иметь дело с пожилым эсэсманом, у которого щеки как галифе. Но… она, Мария, все равно пройдет и там…
Теперь осталось передать принесенное Елене Мазаник. Но та, вопреки договоренности, на явку не пришла. Не показалась и на другой день. Что за причина? Арестовали? Колеблется? Раздумала? В довершение всего передали от Лиды: снова приходили эсдековцы, теперь грозились забрать Генку. И опять истошный Юрин крик стоял в ушах, рвал душу.
Мария сменила квартиру, документы, прическу. Послала Лиде маршрут, по которому легче всего попасть в партизанскую зону. Приказала срочно вывезти из Масюковщины старуху с детьми — пусть и там будут сожжены мосты к отступлению. Вызвала на явочную квартиру Похлебаева — пускай тоже действует и принимает меры, чтобы отвести опасность от себя… Верила: тут дело не в Мазаник, а в чем-то непредвиденном.
Действительно, вскоре та передала: гаулейтер выезжал из города, и она, не желая лишний раз рисковать, ждала, когда он вернется. А завтра под вечер Мария может прийти к ней домой.
Готовая к самому плохому, Мария направилась по указанному адресу. С порога, предупрежденная — за стеной живет полицай, — поздоровалась:
— День добрый, хозяюшка. Мне говорили, вы туфли продаете?
— Продаю, проходите, — пригласила Елена, положив рядом на диван шитье, над которым, видимо, корпела до сих пор, но не встала.
Это было неожиданным и после передуманного насторожило. Однако Мария не остановилась и шагнула к дивану — старомодному, с высокой спинкой, с полочками на ней. Перевела дух.
— Здесь все, — протянула сверток. — Как зарядить, я покажу. Завтра приговор должен быть приведен в исполнение.
Она понимала: не стоит называть вещи своими именами, но, чтобы подчеркнуть, что назад никому дороги нет, пошла на это сознательно.
— Откладывать больше нельзя, — добавила. — Палач должен быть уничтожен.
Елена усмехнулась.
— А я разве против? — прошептала и кивнула на стену: — У них там пьянка. Удалось где-то хапнуть куш. Но давайте все-таки разговаривать тише…
Они, прищурившись, внимательно посмотрели друг на друга. Не скажешь, как из неуверенности рождается уверенность, ибо виноват в этом не только разум. Но им вдруг открылось: Марии — что эта красивая, пытливоосторожная женщина прониклась задачей и пойдет сейчас на смерть; Елене же — что непреклонная гостья имеет право требовать от нее архитяжелого, ибо, если бы имела возможность, сама бы пошла на это архитяжелое или послала бы свою дочь. Открылось и еще одно: нужна вот такая счастливая встреча, чтобы они могли проявить себя. Чувствуя друг к другу благодарность, они обнялись. Потом Мария отстранила Елену и, тряся за плечи, чтобы та не отводила взгляда, поцеловала в лоб. И Валентине, которая было принялась искать туфли старом шкафчике, показалось: они исполняют некий обряд — одна в чем-то присягает, а вторая благословляет ее.
— Торгуйтесь, торгуйтесь, — подсказала она ей, вытирая ладонью со щек слезы. — А я спою.
— В самом деле! — опомнилась первой Мария. — Сбор в Театральном сквере. Галине, подложив мину, лучше всего попроситься к зубному врачу. Валины дети и старуха уже вне опасности…
— «Соловейка-колосо-ок, — затянула Валентина, — соловейка-колосо-ок!»
За стеной грохнул хохот…
Ночью Мария не спала. Взвешивая, перебирала то одно, то другое. Вспоминались дочка с сестрой: «Кто знает, какие сведения есть в картотеке СД»? Невесело думалось о Лиде с Генкой, о Похлебаеве, отказавшемся уйти в лес: «Сделаю, сколько вы, — тогда пожалуйста». Добывая алиби, он организовал себе командировку в Западную, но спасет ли это, когда начнутся поиски соучастников и следствие? Тревожили промахи. Валина свекровь пожадничала, напаковала слишком много всякой всячины, и пришлось нанимать еще одну подводу в самой Масюковщине. Вещи свекрови отвезли в Минск, и нанятому подводчику известно, где их сложили. Таким образом, если только эсдековцы доберутся до него и поднажмут, кое-кто также окажется под ударом…
О себе Мария не думала — само ее место среди людей требовало риска. Она, Мария, уже не принадлежала себе. Чувство своей зависимости от того, что нужно было сделать, господствовало над остальным. Да и разве может человек решать, дышать ему или нет?
Утром Мария отдала последние распоряжения и не медля направилась в сквер. Постелив недалеко от фонтана на скамейке бумагу, разложила товар — купленные по пути в частной кондитерской пирожные. И только тогда подумала о себе — мысли ее коснулись самой себя, — очень захотелось увидеть, как победит справедливость, и хоть чуточку после отдохнуть.
— Почему так долго?! — воскликнула она, когда к ней подбежала Елена. — Обошлось без свидетелей?
— Была одна собака…
Вскоре они тряслись в грузовике — Мария в кабине, Елена и Валентина в кузове. Но цепкая рука гаулейтера как бы тянулась за ними. За грузовиком неожиданно увязались мотоциклист и легковушка. Даже простившись с шофером, женщины наткнулись на немцев. И лишь под Беларучами, увидев группу партизан во главе с приметным и потому знакомым Марии бородачом в желтой кожанке, дали волю слезам…
Вот тогда-то на второй или третий день после их прихода, я и увиделся с Марией в Янушкавичах — деревне, теперь известной многим. В палисаднике, при домике, который мне описали в отряде, кустилась сирень, цвели махровые астры. На зеленом от спорыша дворе мирно бродили куры и горланил огненный, будто разрисованный петух. Однако на выскобленном и чисто вымытом крыльце сидели партизаны с карабинами и стоял «максим».
Я знал, Мария все это время страшно волновалась, по ее настоянию провели в погребе на огороде эксперимент с аналогичной миной. А когда взрыв вновь произошел с опозданием, и слушать не стала, что виновата холодная погода. Знал я и то, что около дома гаулейтера после полуночи недавно ревели пожарные машины. Редакции газет в Минске получили приказ готовить аршинные, в траурных рамках, портреты Гаулейтера. Отменены все пропуска, город блокирован. Ходит слух: «Главных преступников СД схватила…»
Мария только что вымыла голову. У печи на табуретке стоял эмалированный таз с водой. Склонив голову на плечо, Мария стояла рядом и протирала полотенцем волосы — густые, чуть ли не до колен.
До этого я не встречался с ней, но угадал, что это она, — ясное лицо, умные, с поволокой глаза, черные как смоль, длинные волосы. Она искоса глянула на меня, положила на табуретку полотенце, вздохнула.
В чистой половине, из которой в темноватую кухню через открытые двери лился свет, слышались оживленные голоса.
— Вы ко мне? — спросила Мария, видя, что я молча рассматриваю ее. — Наверно, расспрашивать будете?
— Ты, Маруся, расскажи о сообщении шведского радио, — подсказал кто-то из чистой половины.
— В Минске еще остались наши, — не услышала она и стала перечислять подпольщиков, над которыми по-прежнему висит опасность. — Дала уговорить себя, дурочка… Похлебаеву, видите ли, все мало. Шоферу Фурцу вздумалось быть с ним: «Где он, там и я…» А что, если сам он на цугундере? А могли и засечь, когда подвозили нас. И если побежит на вокзал, чтобы встретить и проинформировать, пиши — пропало. Оба попадутся…
Веки у Марии дрогнули, и на глазах закружились слезы.
Я встречал много мужественных людей. Но должен признаться: такое натуральное, глубокое мужество я видел впервые. В ней как бы жила душа народа, его горе и вера. Казалось, Мария знала все, и даже то, о чем думали, чего ждали женщины там, на Урале. Ибо она вобрала в себя их боль, их терпение и доброту.
ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ
рассказ
Чьи следы привели их к дому? Когда это случилось? После диверсии или после поездки в Жуковку? Диверсию проводили вдвоем с Борисом. В горком же ездили только с Надюшкой…
Заставил себя привычно вспомнить.
Шел дождь. Спички в кармане намокли, термитный шар не загорался. Он чиркал-чиркал им о коробок, а щелчка и знакомого шипения, что зарождалось бы в глубине шара, не было. Но потом, когда вот-вот должны были пройти часовые, у Бориса шар загорелся. Темень затрепетала от искристых, шипучих огней. В сверкающем свете, который не давал теней, под дождем, что, кажется, гнался вслед, Борис бежал и радовался: все-таки удалось, и никакие овчарки не возьмут след!.. Что же касается Жуковки, неприятные происшествия подстерегали только, когда ехали туда, — когда укрытый дерюжкой трясся на телеге, поджав длинные ноги. Опасность тогда в самом деле надвинулась близко, и Надюшке дважды — в Паперне и Вишневке — пришлось отбрехиваться от бобиков на заставе: возила, мол, в город, к врачам, «тубика» брата…
Злясь — стук в наружную дверь разносился по всему дому, — полагая — это очередная облава или проверка, — Андрей вскочил с кровати.
В дверном проеме испуганно метнулась фигура в белом, еле видная, но по движениям Андрей узнал — мать.
— Что делать, Андрюша? — обессиленно спросила она.
— Зажгите коптилку, — недовольно отозвался он, — и постарайтесь поговорить с ними сами…
Он нарочно не стал одеваться, а как был — в трусиках и майке — вышел из боковушки в большую комнату, где уже слышались чужие голоса. Внимание привлек средних лет, лобастый, с узким подбородком эсдековец в гражданском, который, держа левую руку за спиной, махал правой перед Надюшкиным носом, вынуждая ее моргать и прищуривать глаза. Остальные — мать, бабушка, дед, Василек и Лизавета — кучкой столпились около буфета. Только Аннушка, наспех укрытая материнским халатом, беззаботно, раскинув ручки, спала на диване за обеденным столом. Два эсэсмана — один на пороге и другой возле столпившихся у буфета, — положив руки на автоматы, висящие у них на шеях, ждали распоряжений.
Увидев Андрея, лобастый бросил взгляд на солдата, стоявшего у дверей в сени. Тот подтянулся. Андрею пришло в голову: следовательно, у них есть уже договоренность насчет него, и, значит, они пришли с арестом… В Жуковке тоже были сигналы, и первый потребовал, чтобы Андрей переходил на нелегальное положение, и с неделю после совещания не разрешал возвращаться в Минск. Следовательно, нужно было вести себя иначе, чем надумал, — возможно, даже задраться. Да и сердце будто окунулось в кипяток, и застучало в висках. Грозя Надюшке пальцем, эсдековец нет-нет и прикасался им к ее лицу — к переносице, к уголку рта, — предупреждая: пока что сдерживается, но может ткнуть и в глаз.
— Чего вам нужно от нее? — крикнул Андрей, решительно, всей пятерней, зачесывая назад русые прямые волосы. — Спрашивайте у матери. Она здесь хозяйка.
Эсдековец скосил на него сузившиеся глаза, выпятив грудь, подошел и, взяв за подбородок, повернул ему голову, словно желая посмотреть в профиль.
Андрей отступил, но, видя, что рука вновь тянется к его подбородку, с силой оттолкнул ее — эсдековец скорей всего был из тех, что, верные профессиональному опыту, показывают себя позже.
— Л-ла-адно. Иди одевайся, законник! — как бы действительно примирившись с его протестом, погладил руку эсдековец и шевельнул кустистыми бровями.
Переступив порог боковушки, подхваченный порывом, Андрей кинулся к кровати, вытащил из-под матраца пистолет, фонарик, схватил одежду, ботинки и, зная — створки окна по привычке лишь прикрыл вчера, — сиганул в сад. Удивленный — выстрелы не гремят, — перескочил через ограду на усадьбу соседей. В развалинах дотла разрушенного квартала натянул одежду, обулся. Со злой радостью отметил: ботинки дедовы, и если пустят овчарку, это собьет ее с толку.
Решил: будет прятаться у себя на хлебозаводе. Но, тревожась за остальных членов штаба, забежал — три камешка в крышу голубятни — к Борису. И все-таки, когда, подсвечивая фонариком, присел на охапку соломы в заводской трубе, где раз уже ночевал после того, как хлебозавод вывели из строя, когда увидел высоко над собой круглое пятно синего неба, сердце сжалось, неприкаянное, от одиночества.
Память услужливо вытянула из тайников и поставила перед глазами — на, смотри! — неожиданное. Вспомнилось почему-то, как Надюшка-третьеклассница в наивном желании одеваться красиво однажды отпорола в школьной раздевалке от чужого пальто меховой воротник и назавтра пришила к своему поношенному, латаному пальтишку. Как после, когда подросла, он однажды шел с ней по Советской улице и один из встречных парней, оторопев, начал дергать товарища за рукав: «Посмотри-ка! Вон! — И рассердился: — Да смотри же, дурак, больше, может, и не увидишь такую!..» Вот и Борис души не чает, боится глянуть ей в глаза.
А мать? На ее плечах, пока не окончил ремесленное училище, держалась вся многоротая семья. Сколько помнит ее, вечно в работе. Да и теперь все в доме на ней. Вот, скажем, Василек, совсем еще ребенок, не умеет защищаться, и когда ругаешь его, лишь молчит: «Ну, Андрюша, ну!» — хотя с такими же огольцами мастерит «жучки» и разбрасывает их по мостовым. А Лизавета? Ей совсем недавно нравилось, что от него, Андрея, после работы пахло хлебом. Она только-только начинает видеть девичьи сны. Всего позавчера рассказывала; упустила свое копеечное колечко в ручей; вода быстрая, светлая, подхватила и покатила с собой. «И сердце мое будто покатилось, — сошла на шепот. — Бегу по берегу и смотрю, как оно виляет между камешков. А тут откуда ни возьмись щука. Хайло разинула. Но я тык руку в воду — колечко и нанизалось на палец. Само!..»
В полдень на хлебозавод пришел Борис. Принес печеной картошки и голубя, чтобы проверить, не сослужит ли при крайней надобности службу. Но когда его пустили, он ударился о закоптелую стену, выбил крыло, и его, дрожащего, в саже, Борис сунул назад за пазуху. И как ни храбрился, разговор не клеился.
— С товарной станции сообщают, что немцы начали подвозить хлеб из Польши, — чтобы повеселить себя и товарища, наконец встряхнул головой Борис и попробовал усмехнуться. — А ты ешь! Видно, проголодался. Я раньше не мог прийти.
— Какая тут еда! — с досадой отмахнулся Андрей. — Ты как моя мать.
— Что мать? Что мать? — неожиданно разошелся тот. — Забрали твою мать! И Надюшку забрали! И Лизавету, и Василька! Их спасать нужно!
До сих пор о своих не очень думалось — живут как все. Полный забот и замыслов, все внимание отдавал тем, кто рисковал, — боевикам. Да, если признаться, и о них не больно думал, больше боялся за операции — для этого ведь и вступили в борьбу! Немало значило и то, что опасность у самого пробуждала силы, даже влекла. К тому же везло. И если видел — другие погибают, само собой возникало подозрение — в чем-то, видимо, виноваты сами.
И вот Борисовы слова отняли прежнюю ясность. Оказалось, вместе с ним, Андреем, все время рисковали мать с Лизаветой и Васильком, дед с бабушкой… И потому, что они рисковали, ему удобнее было действовать. Они как бы заслоняли его. Эсдековец не послал с ним солдата, ибо подозревал: они готовы к худшему — дед насупился, бабушка взяла за руку Лизавету, мать ищет вокруг себя что-то взглядом… Они и он были как деревья в лесу, где каждое помогает чем-то другому. И неизвестно, кому тяжелее или легче. Во всяком случае, он вот сбежал, спасся. А они? У матери, бабушки, Надюшки явно было намерение заступиться за него. А у него самого было?.. Его побег сделает их вину конкретнее и может дорого обойтись им. Надюшка — так та определенно уже в эсдековском застенке, и лобастый допрашивает ее. После его допросов, говорят, волосы вылезают прядями… И все-таки Андрей спросил, щелкая фонариком:
— Вот так и спасать? Да?
Борис растерялся, видимо страдая и от новости, которую принес, и оттого, как реагирует на нее Андрей, угрюмый, с выпуклыми надбровными дугами в скупых вспышках фонарика.
— Что-о? — протянул он бессмысленно.
— А то, Боря… — сердито ответил Андрей. — Должно быть, не сбросишь со счетов и такое… Чем люди беспощадней к себе, тем, как правило, для дела лучше. Да и связей с тюрьмой покуда нет.
— Тогда хоть давай переправим в лес остальных. Их, ей-богу, тоже заберут! Честное комсомольское. Ни Надюшка, ни мать твоя, если что, не простят ведь нам.
— В СД, наверное, и рассчитывают как раз, что мы рыпаться станем. Недаром выбрали для приманки малую со старыми.
— Все равно! Если бы они не были родными, ты иначе рассуждал бы, — упрекнул он, подумав, однако: ежели бы не эта Андреева прямолинейность, возможно, так и не слушались бы его все. — Не забывай также о взрывчатке, с шариками. — Добавил: — Термитные шары уже завтра необходимы. А твои, если хочешь, могут сами прийти, куда — скажем.
Понимая — Борис сказал о термитных шарах и взрывчатке, спрятанных на чердаке дома, чтобы придать операции немного иной характер, — Андрей тяжело вздохнул. «Неужто так можно было подумать о нем?»
Не обманывал ли себя в чем-то Андрей, когда в конце концов отважился — верно, нужно застраховаться? Очевидно, все-таки чуть обманывал. Ибо зачем он брался за все сам? Не потому ли, чтобы не ставить под удар товарищей? И если сначала колебался, то лишь потому, что точили сомнения: есть ли у него вообще право заниматься сугубо личным, когда ожидает другое, третье, пятое? И кто знает, возможно, так до конца и не решил бы этого вопроса… Так как, поселившись на конспиративной квартире около Болотной станции, словно забыл о доме, о собственной беде.
Однако, когда сырой ночью очутился в своем саду и почувствовал под ногами по-осеннему мягкую траву, даже перехватило дыхание, будто бы он не был здесь долгие годы. Захотелось, как мальчишке, постоять под яблонькой, приникнуть к ее шершавому стволу. Мокрая сентябрьская земля, кора яблонек, яблоки на них пахли. Где-то близко, здесь же, была грядка помидоров, картошка, и, долетая вместе с порывами дождя, их запахи щекотали ноздри.
Андрей пробрался к окну. За ним в теплой темени спит Аннушка со сжатыми в кулачки руками. Она, кажется, не дышит и когда-то даже пугала этим бабусю. Спит дед, у которого всегда что-то клокочет в горле. Как всегда, заботясь о других, когда клокотание у него переходит во всхлипывание, бабушка, наверно, чмокает языком или начинает тормошить деда за плечи… И, конечно, сама она не спит, вечная хлопотунья, сидит, как на посту, чутко прислушиваясь, не шевелясь и не вздыхая.
Выждав с минуту, Андрей осторожно поскребся в окно. Действительно, почти мгновенно за окном качнулась занавеска. Но когда створки раскрылись, бабушкины руки перегородили ему дорогу.
— Что это вы? Пора бы, кажется привыкнуть, — рассердился он, отстраняя ее руки и притягивая ее голову к себе. — Я за вами. В лес хочу отправить…
Как умудренный жизнью мужчина, похлопав ее по старым плечам, долговязый, растрепанный, влез в окно. Осторожно, отдаваясь неожиданному, вовсе не взрослому желанию, отодвинул обеденный стол и, хмыкнув, склонился над диваном. Аннушка сквозь сон ощутила его дыхание. Не зная — кого, обняла его, но не проснулась.
— Оденьте ее, — попросил Андрей. — И разбудите деда.
Бабушка в отчаянии застонала:
— Зверье ведь они, Андрюшенька! Не прошло и двух дней, как сидели и спали тут… — запричитала она. — Ну ладно, ладно, не буду! Но ты хоть поешь. Я же чувствовала, что ты придешь. Поешь вот, а потом забирай Аннушку и деда… А я… Как я брошу все? Как ты без меня, один, в городе будешь? Дотронулась вот, и сердце зашлось — как на огне сгораешь…
Он не дослушал ее. И в самом деле почувствовал голод, сердясь на себя за это, заторопился в сени, откуда можно было взобраться на чердак.
В первые дни войны старый домик сгорел. Работая на стройках, Андрей решил тогда поставить новый, кирпичный, и, когда в городе уже хозяйничали немцы, с помощью друзей-товарищей построил, не забыв о тайниках, хитрых, с выдумкой, в лежаке — дымовой трубе на чердаке в двойной крыше.
Он ловко напаковал толом рюкзак, снова замаскировал тайник и собрался было возвратиться назад, как на улице забахали выстрелы. Когда строили дом, учли и такое, Андрей открыл слуховое окно, по доске с набитыми планками спустился к водостоку и прыгнул в сад. Путаясь в сухом чернобыльнике, который, кажется, и не рос в саду, добежал до забора.
В развалинах мертвого квартала опять сел на кирпичный бугорок. Обхватил голову. Так или иначе, он принес в дом очередную и, возможно, непоправимую беду. И кому? Тем единственным, что остались у него и становились ему особенно дорогими. Правда, сейчас он вряд ли признался бы, что любовь его росла вместе с тем, как сгущались тучи над родными. В этом, как казалось ему, была какая-то неполноценность. Даже слабость. А он, утверждая, что нельзя сейчас жить для себя, все мог простить — себе, людям, — только не слабость! Да еще — если борешься с выродками. Когда твои беды и несчастья ничто в сравнении с людскими… И все-таки душа у него рвалась, ныла.
А тут еще выяснилось: первое — стрельбу близ дома подняли Борис с ребятами, которые все же, чтобы подстраховать его, тайно пришли сюда следом за ним и заметили засаду, и второе — после допросов и пыток деда с бабушкой отправили в Тростенец, на гибель, а Аннушку в приют для детей, родители которых были под следствием или казнены.
Через день Борис прибежал на квартиру около Болотной станции с предложением — «расчихвостить» школу, где некогда учились. Немцы превратили ее в оружейный склад, чинили, перекраивали и чистили там обмундирование, поступавшее с фронта. Грузчиками и чернорабочими в школе работали прежние однокашники. Охраняли же ее пока двое часовых, которые стояли у подъезда и лишь раз в полчаса по очереди обходили здание.
— Ребята оставят какое-нибудь окно незапертым, подберут ключи к классам — и, считай, дело в шляпе! — убеждал он, но скоро не выдержал: — Ты знаешь, что в приюте, где Аннушка, детей не только голодом морят? У Надюшки же, передают, волосы выпадают!
— Знаю, — отвел Андрей потемневшие глаза, бледнея от желания ткнуться головой в плечо друга.
— Они детей донорами сделали!
— Знаю! Но давай поговорим об этом, когда можно будет не только эмоциями обмениваться… Горком сейчас просит срочно подкинуть одежды, гранат. Так что действуйте.
— Зачем ты так? Ты ведь сам мучаешься. Я тогда без тебя возьмусь. Честное комсомольское! Хотя обижать тебя и грех…
Детский приют поразил их убогой чистотой. Нет, не убогой — казенной. До ужаса. Стены и потолок побелены, но наспех — полосами, сквозь которые проступают застарелые подтеки. Вымытый пол лущится, как от чесотки. Кривоногие койки застелены серыми больничными одеялами. Воняет хлоркой, застоялым, тяжелым духом.
Детей видно не было. Опасаясь — ух куда-то повели, — дымя коротенькой сигаретой, Андрей приказал Борису, тоже одетому в немецкую форму, позвать заведующую приютом. В темноватый коридор вышла дородная, в годах женщина. Поправив на ходу прическу с буклями, обтянула кофточку. Поглядывая на оберштурмфюрерский погон Андрея, приготовилась слушать.
Аннушка лежала одна в большой, сплошь заставленной койками комнате. Без кровинки в лице, с неподвижно уставленными в потолок глазами… Только бы она, узнав, не крикнула, не рванулась к нему.
— Подготовьте ее, — сглотнув слюну, чтобы снять спазм, сказал Андрей с акцентом, но не так, чтобы сестра оторвала взгляд от потолка.
Боже мой, как он любил ее сейчас — худенькую, равнодушную, постриженную, с большими, как у взрослой, глазами. Как охотно сказал бы ей об этом!.. Боясь пробудить в ней внимание, он даже старался не смотреть на сестру, хоть невольно и посматривал. Однако, к счастью, она оставалась безучастной, — видимо, брали ее отсюда не раз, и Аннушка отлично знала: тут ничего не изменишь.
— Вставай, пойдешь, — распорядилась заведующая, не подходя к ее койке.
Аннушка поднялась и, как загипнотизированная, начала натягивать на себя застиранные обноски. Бедняжка похудела до того, что лопатки у нее напоминали крылья птенца и ей стоило усилий поднимать руки, застегивать пуговицы. Особенно не давалась последняя на воротничке — выскальзывала и никак не лезла в петлю. Пытали девочку, очевидно, с оглядкой, полагая — не исключено, что придется ее кому-нибудь показывать, — и потому следов побоев не оставляли. Но как зато они вымотали ее! Как вконец обессилили!
Когда с одеванием было покончено, заведующая цепко схватила Аннушку за руку и, подведя к Борису, передала ему.
— Она из озлобленных. — Сморщила нос, под которым топырились приглаженные усики. — Безнаказанность развратила гадину. Даже научилась кусаться.
Теперь самым важным стало вывести Аннушку из этого убогого пекла, посадить в машину и, петляя, домчать до ближайших от Болотной станции развалин. Даже возмущение, вызванное холодными, злобными словами усатой, тронуло лишь краешек сердца: оно откликалось на одну заботу — важнейшую.
— Веди, — приказал он Бориcy по-немецки. Развалины здесь были рыжими, истлевшими, будто из кирпича-сырца. Шло время, но они не падали, а оседали. На них выросли чертополох, деревца. Дождей в последние дни не было, дул ветер, и руины курились. Как только за ними не стало видно улицы, случилось удивительное — Аннушка вдруг обессилела и, опустившись на колени, обвила Андреевы ноги.
— Андрюшенька, дорогой! — И разразилась плачем. Чувствуя, как повело в сторону, — значит, сестра узнала его еще там, в приюте, — пораженный — она так по-детски выказала радость, — Андрей растерялся. От умиления, от замешательства стало жутко. Маленькая Аннушка прикидывалась, пересиливая себя, и никто из взрослых не подозревал этого — не мог ни разоблачить, ни сбить с толку. Откуда брала она силы? Что поддерживало их? И что должна была пережить, чтобы столькому научиться и столько потерять?!
Он знал, чего ожидает от него товарищ. Да и самому хотелось стать на колени и поцеловать ее в стриженую головку. Но что-то мешало сделать это.
— Ты молодчина, Аннушка, — сказал он с виноватой улыбкой. — Прямо молодчина!
— Не-ет, — отрицательно покачала головой девочка, — это мама молодчина! Бабуля говорила, когда немцы кинулись за тобой в боковушку, она им под ноги упала. Ты, конечно, не знал про это.
— Золотой мой агадашик-карандашик! — захлебнулся от нежности Андрей. — Какие вы у меня все…
Он осекся. Глаза его посуровели, он перевел их на Бориса. Но тот, играя бровями, понимающе улыбался.
— Ничего, командир, жалей, хвали, — отозвался, приглаживая волосы. — Как только можешь, хвали и жалей! И не думай, что это кого-то унизит или испортит. Портит бездушие. Если видишь, что ты один, в пустоте…
Понимая — это открытый укор, — Андрей, однако, не нашелся, что ответить, — в воображении мелькнули терпеливые материнские глаза, Надюшка, Василек… «Неужели Борис сознательно стремился разбередить раны? — подумал он. — Что ему нужно еще?»
Как вырастает твоя любовь? Видимо, для этого необходимо, чтобы семена ее прорастали на животворной почве. Чтобы сердце человека было открыто ей. Но ведь случается, что чувство заявляет о себе наперекор его воле. Может настигнуть как несчастье. Как же тогда?..
Гитлеровцы обрушили на город новые репрессии.
Тихим сентябрьским утром они обложили город, словно собирались брать его вторично. На дорогах, у мостов, на опушках леса окопались целые подразделения. Сам же город был разбит на квадраты. И обыскивали, перетрясая все в них, дом за домом. Несколько улиц тогда обезлюдели совсем. В синеве и золоте над городом проплывало бабье лето, а он стонал, задыхался от горя.
Личное горе сливалось с людским, и, страдая, Андрей собрал членов штаба — как всегда, в далеком домике за Червеньским рынком, на другом конце города. В ответ на страшное, неслыханное насилие было принято решение организовать группы истребителей-охотников — завтра же.
Что он думал, чувствовал, когда с другими ребятами пошел «открывать счет»?
Паутина по ночам не летает. Не видно было и сверкающих красок. Но небо густо усыпали мерцающие, приветливые звезды, ядрено пахло согретой за день землей, и, когда пробирались к месту засады, милая сердцу пора, которая расслабляет и бодрит одновременно, напоминала о себе каждое мгновение. И Андрей, ощутив эту благодать, жадно впитывал ее в себя.
Место облюбовали за обсерваторией — на Московском шоссе. В кювете. Рядом возвышался толстущий шишковатый тополь, его крона заслоняла половину неба. Кювет покрывали опавшие листья, и приятно было ощущать их руками, грудью, вдыхать их запах. Пришли сюда запыхавшиеся, возбужденные, но пахучий воздух, темная громадина тополя, усеянное звездами небо — все знакомое и дорогое — сделали свое: Андрей и ребята стали спокойнее.
Однако со спокойствием в Андреевой душе проснулось — нет, снова поднялось и то щемящее, теплое и страстное чувство, которое теперь жило в нем. Надюшка, мать, бабушка!.. Сгорбленной чередой в воображении прошли мученики с безлюдной сейчас Беломорской улицы. И как никогда хотелось взять их муки на себя.
По шоссе, щупая темноту желтыми лучами фар, проходили колонны грузовиков, бронетранспортеры. Когда они приближались, поначалу светлело небо, потом далекие взгорки, через которые переваливало шоссе, и только тогда аспидная асфальтная лента, что начинала звенеть, как натянутая струна, — то басовито, то тоненько. И, ожидая машин-одиночек, вспоминая своих родных, находя какую-то связь в собственной позиции тогда и теперь, Андрей изнемогал от нетерпения.
Где-то к полуночи из-за перевала выблеснула пара колючих огней и, вытянувшись, вмиг набрала слепящую силу. Подумалось: вот если бы в этом «опеле» или «мерседесе» ехал лобастый, который тыкал пальцем в Надюшкино лицо! Что бы он запел, когда б они поменялись местами?
Как только легковушка поравнялась с засадой, Андрей, пересиливая почти обморочный холод, швырнул гранату. Наткнувшись на вспышку огня, машина крутнулась, стала поперек шоссе и легла на бок. Кто-то сыпанул по ней бронебойно-зажигательными, и там и тут, как при ветре, по днищу запрыгали огоньки.
— Вот так! Пока что так! — выкрикнул Андрей, Но сердце у него, как он ожидал, не выросло. Напротив, заныло. Пропал интерес и к тому, кто ехал в машине…
В конце октября круто похолодало. Из земли стал проступать серый иней, и оттаивало только к полудню. Казалось, развалины и те сереют и лишь исподволь, под солнцем, приобретают обычный — рыжий с подпалинами — цвет. Действовали подпольщики, разумеется, ночью. У Андрея не было ни пальто, ни шарфа, ни шапки, и холод давал о себе знать. Хорошо, что Борис поделился кое-чем и кое-что раздобыл. И все это по-своему напоминало о родных — такие заботы прежде целиком брала на себя мать. А главное — как-то очень остро чувствовались их значение, цена. И опять-таки потерянное через напоминания о себе — пусть и мелкие — помогало осознавать значение того несравнимого, что все сильнее теперь освещало Андрееву жизнь.
Образы матери, Надюшки, бабушки, в которые Андрей теперь как бы всматривался и в которых каждый раз открывал новое, оставаясь конкретными, вырастали в его глазах, связывались с окружающим, начинали мучить, излучать особенную — родную — теплоту. Если до этого заботы о нем казались ему их долгом, то сейчас вдруг открылось: так проявлялась их натура. Ибо не жизнь заставляла их так поступать, а они сами делали все так, что их заботы становились законом жизни и определяли ее течение, — они заботились о жизни. Да и враги признали их опасными, осудили на муки и этим приравняли к непосредственным участникам народной войны. Участникам, которых гибнет не меньше, чем самых отчаянных боевиков.
На очередное заседание штаба пошли втроем — Андрей, похожий ухватками на Василька, только более взрослый, большеголовый Митя Вырвич, которого недавно кооптировали, в штаб, и Борис. Нужно было перед праздником подытожить, что сделано, наметить последующие задачи. Но, шагая с товарищами, Андрей снова и снова возвращался в мыслях к матери, к своим. Они как бы тоже были с ним.
— Чем отметим праздник? — пряча волнение, спросил он, когда миновали Червеньский рынок, за побеленным забором которого слышался людской гомон и пиликанье губных гармоник.
— Делами, конечно! — безапелляционно ответил Борис. — Делами, дорогой мой командир…
Домик, служивший пристанищем для штаба, ничем не выделялся среди других, — как и они, деревянный вросший в землю, с запущенным палисадником и вытоптанным двором, посреди которого вскинулась старая груша-дичок. Обычно Андрей заходил сюда, переживая душевный подъем, — здесь принимались наиболее важные решения, тут в тайниках прятали пишущие машинки, бумагу для листовок… Но сегодня этот подъем был особенным, словно Андрей шел сюда решать нечто связанное с судьбой его близких, их сегодняшним и завтрашним днем.
Перегнувшись через низкую калитку, слушая, что говорили ему товарищи, Андрей отодвинул засов и вбежал на крыльцо. Однако когда в сенях, звякнув три раза щеколдой, он распахнул входные двери, оттуда, дырявя пол и стены, резанула очередь. Подумав — стреляли для острастки, иначе бы очередь перерезала его, — Андрей отскочил за косяк и выхватил из кармана, пистолет и «эфку». Увидел на залитом солнцем крыльце посеревших Вырвича с Борисом. И странно — почувствовал: он будто ждал этого испытания, и оно необходимо ему, чтобы нечто засвидетельствовать, утвердить.
Подав товарищам знак: «Назад! Я прикрываю!», не высовываясь из-за косяка, Андрей зубами вырвал чеку из гранаты и швырнул ее в дом. Однако когда он выбежал на крыльцо, поразился второй раз: из руки у него выпал пистолет. Не совсем веря — ранен, — здоровой рукой подобрал его и, предупрежденный мыслью — опасность теперь угрожает из окон, — пульнул в одно и во второе окно. Из дома все не стреляли, и ему удалось добежать до груши. Но лишь Андрей скрылся за ней, в комель, у самых ног, ударили пули. Сообразив, как лучше ему стать, он приник плечом к шершавой коре. Преодолев боль, что потекла к сердцу от раненой руки, выстрелил из левой опять — в этот раз в окно, где не было уже стекол. И тут же заметил: к калитке, подняв от резкого торможения пыль, подлетел грузовик.
«Ну вот, Андрей, держись… — подбодрил он себя, чувствуя, однако, как слабость и дурнота туманят его мысли. — Ничего… Правда, жалко вас, мама… Кому-кому, а самое большое горе снова вам с Надюшкой…»
ВОТ КОНЧИТСЯ ВОЙНА
рассказ
Станционная платформа и пол в вагоне-«телятнике» были на одном уровне, но Анатолий замешкался — вагон был набит битком. Конвоир рявкнул и ткнул ему автоматом в спину. Те, что стояли в дверях, отстранились, и Анатолий, едва не упустив брусочек полученного эрзац-хлеба, ступил в вонючую тесноту.
В нем кипело раздражение. Уже с той минуты, как остроплечий седой профессор, которого в лагере знали все, взял под руку безучастную к окружающему жену и направился к душегубке. Когда же колонна, в которую попал и Анатолий, потянулась по улицам города, тоска и раздражение просто давили его.
Чувство — их также гонят на уничтожение — исчезло: слишком велика была колонна и невелик конвой. Да и прежде, чем построить их и гнать по улицам, им велели сдать белье в «вошебойку» и обдаться водой в бане. Но мысли все равно роились, как перед большой бедой: мысли про дом и мать — беспомощную, виноватую, какой она выглядела, когда, вернувшись ночью из-под Острошицкого городка, он переступил порог дома и вынужден был поднять вверх окоченелые руки, про побои в кабинете следователя и жирных острожных клопов, что падали откуда-то сверху, про товарищей, которые где-то тут же, в колонне, еле-еле передвигают ноги, — и нельзя было остановиться на чем-либо одном.
Раздражали и встречные на тротуарах: «Остаются! Придут скоро домой, к своим… Начнут делать что заблагорассудится. Одкако небось и не подумают помочь!.. А профессор? Показуха! Старый позер. Как и все! После того, когда смерть перестала висеть над головой, профессор особенно возмущал. Шевелилась зависть к воронам, водившим в небе хороводы, и память, что стала вдруг щепетильной, снова подсовывала картины, как часами мерз в толпе, на заснеженном дворе, а после команды: «По своим местам — марш!» — мчался в «свай» барак, где по обе стороны двери с палками поджидали охранники. И если что-нибудь немножко бодрило, так это гудки, которые долетали от железной дороги, напоминая о чем-то мирном, связанном с хорошим. Да разве еще светленький, будто бы вымытый, денек, какие обычно бывают в канун весны.
Когда, зло поднатужившись, конвоиры задвинули дверь, вагон охватила тьма. Она словно придавила людей и держала так какое-то время, не давая пошевельнуться, заговорить. Потом чуть поредело, будто стало немного светлей, потянуло хлоркой, и люди, придя в себя, стали искать, как бы сесть. Многие, вытащив из-за пазухи полученную пайку, принялись отщипывать крошки. Невольно подчиняясь им, зачавкал и Анатолий — хлеб из опилок казался сладким и гнал обильную слюну.
До сих пор он не замечал холода — все было точно не своим. А тут вдруг ощутил озноб. Заметил: согреваясь от чужой теплоты, оттого, что поел, он все же дрожит. Чтобы приглушить соблазн съесть все, закрыл глаза. Согнувшись в три погибели, спрятав лицо в ладони, попробовал уснуть.
Как он спал? Сколько? Казалось, вечность. Так как небытие было тягучим и прерывистым в одно и то же время, оно не приносило облегчения, и когда Анатолий на миг просыпался, ему делалось еще хуже. От перестука колес, оттого, что рядом надрывно кашляли, сопели и стонали. И напрасными были усилия определить, куда идет поезд, — вперед, в черноту, или назад, где, несмотря ни на что, тихие рассветы. Где остались дом, Нина, мать!
— Толик! — послышалось в одно из таких мгновений.
— Он здесь, командир, — насмешливо откликнулся кто-то из угла и зашелся сухим кашлем.
Анатолий узнал оба голоса и кашель. Значит, опять все вместе. Но слушать Бориса или Вырвича тоже не хотелось, хотя сознание и подсказывало: «А что ты поделаешь? Все равно ведь жить с ними приведется… Жить!»
Где-то рядом с этим шевельнулась ирония» адресованная уже тем, что держали его в холоде и голоде: «Ладно, ладно… Однако же угнали тогда грузовики и передали боеприпасы под Острошицким городком, кому нужно было. Нате, выкусите теперь! Борис хоть и «обструганный», умеет иногда отчубучить и подметить. Вам пришлось бегать за нами, а не нам догонять вас…» Но, представив, как под полом в снежной круговерти бегут, шалеют колеса, снова отдался тоске и одиночеству.
На четвертые сутки на тихом, пустынном полустанке дверь в вагоне дернулась. Завизжала. Вынырнув по грудь точно из-под земли, в ней показался укутанный, в очках конвоир.
— Gidbt's tote? — спросил. И, чтобы его поняли, сложил на груди крест-накрест руки, сделал постную физиономию. — Schmeiβe, Jan! Sofort alle Leichen raus![7]
Молочные клубы, вкатившиеся в вагон, вынудили Анатолия оглянуться. И пока снова закрывалась дверь, он увидел товарищей — они стояли обнявшись, положив подбородки друг другу на плечи.
— Почему ты молчишь? — не освобождаясь из объятий, издали протянул ему руку Борис, стоявший к Анатолию лицом.
Его, как и всех, постригли. И потому, что из-под папахи не кудрявились волосы, а лицо заросло, в бледном свете Борис выглядел похожим на гололобого, синеглазого абрека. У Мити же Вырвича тонкая грязная шея, казалось, едва держала большую, приплюснутую на темени голову. И по спине было видно: мешковатый, в помятом тряпье, он недавно был полным и вот катастрофически, враз, похудел.
«Неужто и я такой?» — ужаснулся Анатолий…
Стало немного свободнее. Переступая на карачках через других, Борис пробрался к нему. Осмотревшись, позвал Вырвича и попросил ближних подвинуться.
— Будем, андреевцы, шевелить мозгами, — усмешливо сказал он. — Послужим себе. Сначала Митя на наших ногах полежит, а потом ты, Толя… Ей-богу, честное комсомольское, будет теплей…
— Попить бы! — не дослушал его Вырвич, но сразу начал, сопя, укладываться на ногах товарищей. — Осточертело все. Уж лучше бы сдохнуть!
Но Борис не дал ему задремать.
— На железном каркасе, должно, иней осел, — высказал он предположение. — Надышали, конечно, уже. Вот котелок, Митя, наскреби-ка давай.
— Я? — по-мальчишечьи удивился Вырвич и вдруг, дернувшись, — ему предлагают что-то делать, — обиделся: — Ай, идите вы все! И не стыдно? Вон от меня что осталось. Ногами, верно, кости мои чувствуете!
Борис закрыл ему рот ладонью.
— Тихо ты, не рви себе и другим сердце. К чему?
— А мне зачем рвут? — входя в раж, откинул его руку Вырвич. — Скажешь, не рвут? Вон, когда грузились, каждый норовил другому на ноги наступить. Дай волю — и перегрызут друг другу глотки. Скажешь, нет? Знаем!.. А немцы? Почему они мучают нас? Ну, скажи, командир!
— Кто и что? — заражаясь его въедливостью и злясь на него за это, неожиданно для себя самого вмешался в разговор Анатолий. — Простая выгода, вот что! Хотят, чтобы действовал естественный отбор. Не бойтесь, им сильная скотина нужна…
— О-о, нет! — перебил и его Борис. — Нет, нет! Это слова, Толя. И причина иная: они — фашисты и не успевают сделать всего, что задумали. Да и аппарата у них больше, чем силы.
— Начало-ось! Давайте, давайте, если не надоело еще! — затрясся в кашле Вырвич.
Родная земля и Польша остались позади. Под колесами и рядом побежала земля немецкая. Догадались об этом по барабанным ударам в стены. Еще там, в Минске, обратили внимание — на вагонах нацарапано: «Russische Banditen!» И вот находятся верноподданные, которые показывают свое усердие — швыряют камнями в состав. Но зато поезд пошел быстрее. Конвоиры откинули железную дверцу от переплетенного проволокой люка-окошка. И ночью Анатолий неожиданно увидел луну, почти что полную. Луна ныряла в узорчатые, перистые облака и неслась за поездом. Чудилось: это оставшиеся там, на родной земле, выслали за ним гонца, чтобы напомнил о себе и был ему попутчиком.
«Ну что ж… — думал Анатолий, нащупывая на левой руке вену и считая пульс. — Ну что ж… там Нина… Может, и вспоминает…»
На седьмые сутки дверь открылась второй раз. Спустив на землю окоченевших мертвецов, сложили их, как дрова, у вагона. Остальным разрешили выйти с котелками.
Ходить за это время все разучились и к забрызганным, грязным грузовикам с термосами потянулись, сжимая руками лбы и покачиваясь. Митю Вырвича пришлось поддерживать под руки — он шагал как спутанный.
Когда очередь получать баланду подошла к нему, он вдруг задрожал и в отчаянии закатил глаза. Но потом оттолкнул от себя товарищей и сорвал с головы облоухую шапку. Потешаясь и гогоча, веселый, в белых нарукавниках и фартуке немец зачерпнул полный черпак желтоватой, вонючей жижи и плюхнул ее в Митину шапку.
Выпучив глаза на немца, а затем на Вырвича, который затравленно присел неподалеку на шпалы и начал хлебать жижу, Анатолий брезгливо отошел в сторону. И вовремя — знакомый конвоир в очках, который, чтобы не дать кому-нибудь оправиться, спешил и подгонял всех, носком сапога ударил Вырвича под зад, и тот, поперхнувшись, ткнулся лицом в промазученный гравий.
Подняться Вырвич уже не смог, и назад его поволок на себе Борис. Стараясь не смотреть на Анатолия, он донес товарища до вагона, приподнялся на цыпочки и опрокинул на пол. Но не полез за ним, а отступил от дверей и, понурившись, уперся лбом в стену вагона.
«И тут не может угомониться, — неприязненно подумал о нем Анатолий. — Зачем это ему? Да и Мите, наверное, ничем уже не поможешь…
И вправду, через день, отводя колючие, голодные глаза от склоненных над ним товарищей, Вырвич стал отходить. Икнул, потянулся и начал каменеть — сперва лицом, потом грудь, руки, ноги. И, умирая, казалось, все больше делался для всех обузой — чужим, ненужным, пугал, мешал жить. И Анатолию уже не верилось, что не так давно он сидел с ним в школе за одной партой, вместе волновался на подпольных сходках, принимал участие в операциях. «Хорошо, что всего этого не видит Нина, — уныло думал он. — Заботливая и непримиримая ты моя1 Чем черт не шутит, может, и встретимся еще… До Мити мне еще далеко…»
Когда Анатолий на животе спустился из вагона на полотно дороги — перрона здесь тоже не было, — сыпанул веселый дождик. И потому, что сыпался он из прозрачных, подсвеченных солнцем тучек, и так же неожиданно, как начался, перестал, он показался незнакомо ласковым. Такими же показались и чистенькая, под черепичной крышей, утопающая в зелени станция вдали, кирпичные строения при ней. За кюветом, в прошлогодней, но обмытой уже траве, сияющие лужи. А над головой шелковистое, чуточку синее родного, небо и более теплое, — видимо, потому, что его Анатолий давно не видел, — солнце.
Последние дни вообще чувствовалось, как теплеет. По словам, что долетали из-за стен на остановках, можно было догадаться — это Франция. Борис даже рискнул, — раздвинув проволоку на люке-окошке, спустил на ремне котелок. И когда вытянул его назад, он оказался полным воды…
Многие вагоны уже были пустыми: женщин — это подсмотрел в люк все тот же Борис — выгрузили первыми и, не медля, куда-то погнали. А вот о мертвых даже не спросили, сколько их, а лишь распорядились оставить в вагонах. И самым страшным тут было: в темном, загаженном углу оставался лежать окоченевший в неудобной позе Митя Вырвич. И, зная это, гадко было дотронуться до самого себя.
Так же не по себе делалось и оттого, как, вылезши из вагонов, по команде конвоиров строились вдоль полотна мужчины. В лохмотьях, в опорках, зеленые, как мертвецы, они неуклюже топтались на месте, чтобы сохранить равновесие, опасливо хватались друг за друга. От всеобщей беспомощности конвоиры шалели, подозревали подвохи, нежелание делать, как было намечено ими, — видимо, и выродкам нужно иногда убеждать себя в чем-то. А возможно, и вправду чувствовали затаенную ненависть и сопротивление…
Упрямясь, но и боясь отчужденности, выраставшей между ним и Борисом, Анатолий постарался пристроиться к нему в ряд — он никогда не был один, ни в школе, ни после. Да и Борис больше, чем кто другой, нес в себе такое, что осталось там, на краю света, за горами и лесами, и напоминало: а война все-таки когда-то кончится! К тому же все свидетельствовало: в жизни начиналась новая полоса, которая позже непременно будет предметом разговоров.
На шоссе колонну встретили монашки — неожиданные в черно-белом одеянии и потому таинственные. Стоя, как призраки, на обочине, замахали руками, как крыльями, и в колонну полетели краюхи хлеба, сушеная рыба.
— Sest p'our vons, les Russes! Prenez — be! — подбадривали они, отвлекая внимание конвоиров на себя — пусть злятся на них. — Le Deiu est aux martyrs, les Russes![8]
Под вечер колонну впервые кормили под навесами, за столами. На ночлег загнали в похожие на ангары бараки из гофрированной жести. Анатолия лихорадило, но на полу лежала солома, и он, бухнувшись на нее, провалился в черноту, из которой раз за разом выступали таинственные фигуры монахинь, а затем стало чудиться страшное — как некогда угоняли из города грузовики. Карбюратор, наверное, переливал, и в кабине разило бензином. Привычно сжимая баранку руля, Борис знал лишь одно — дорогу да машину, что катила вперед, а он, Анатолий, с пустыми руками и потому как бы беззащитный, то смотрел по сторонам, то на шоферское зеркальце, где косо убегала дорога, пока не свернули в лес, то открывал дверцу и наблюдал за беловатым небом, откуда могла тоже угрожать не меньшая — опасность — «костыль-разведчик»… Анатолию снилось это, и, переживая, как часто бывало и наяву, он старался разгадать, по какой причине мысли с монахинь перескочили на случай, который хотя и завершился благополучно, но стал последним в подпольной жизни Анатолия… Сон вспоминался и на другой день, когда тащились до следующего лагеря — большего, огороженного в два ряда колючей проволокой, со сторожевыми вышками и дощатыми бараками, где у дверей стояли бочки с водой, а по обе стороны прохода возвышались двухэтажные нары. «То же самое, то же самое! — жалел себя Анатолий. — Кто же следующий?..»
Наутро подняли затемно. Дали выпить суррогатного чая с серым хлебом, построили на дворе. Лагерь, как выявилось, ютился между однообразных, унылых холмов. Петляя между ними, желтела песчаная дорога, начинающаяся от лагерных ворот. Анатолий проследил за ней — она бежала к самому высокому холму и, вильнув у его подножья, поднималась на вершину.
Когда дотащились туда, увидели перед собой расчищенную площадку, узкоколейку с непривычно маленькими платформами и вагонами, зеленоватыми, будто заплесневелыми от цементной пыли, складскими помещениями. Близ круглого котлована в опалубках громоздилась бетономешалка, от которой к котловану шли дощатые тачечные ходы. А вдали поблескивала неоглядная водная гладь — пустынный, без судов, Ла-Манш.
Ворочаясь ночью на нарах — бессонница бывает и от бессилия, — слыша, как-то и дело кряхтит и кутается в тряпье Борис, Анатолий старался убедить себя: теперь это его жизнь. И хоть здесь все чужое, мучает усталость, дергают, болят раздавленные кулями цемента фурункулы на шее, нужно спать. Чем он может помочь себе? А когда пришло забытье, снова, как и там, на работе, он взялся за совковую лопату. Но она была широченная, не по силам, и каждый раз, как Анатолий, размахнувшись, бросал гравий в тачку, лопата увлекала его за собой, валила на землю, словно пьяного. И было досадно, ибо откуда-то, как утреннее облачко, вот только что поднявшееся из-за горизонта, на него глядела Нина.
Изнеможение, истома и наяву поднимали муть в душе. В голове складывались въедливые фразы, которыми можно было при определенных обстоятельствах оправдать себя и поразить зазнавшегося Бориса.
Как-то, делая вид, что набирает лопатой гравий, тот поинтересовался:
— Ты еще не забыл Минск? Помнишь, как профессор, чтобы не попасть сюда, пошел на смерть?
Арматурщиками и плотниками на строительстве этого дота были в большинстве французы — приходили из ближайших ферм отбывать трудовую повинность. Оставаясь верным себе, Борис, который обычно ко всему прислушивался и все как-то старался по-своему использовать, свел с ними дружбу. Приносил от них сигареты, сухари, новости. На переносице у него пролегли морщины, это старило Бориса, но неистребимое упорство его росло. И, догадываясь, куда тот гнет, Анатолий отпарировал.
— Пошел ли? — переспросил въедливо. — Твой профессор просто позировал и надеялся, что его как знаменитость повезут не в Тростенец, а в дом отдыха. Поправляйся-де, пожалуйста, сударь!
По лицу у Бориса пошли нездоровые, сероватые, пятна.
Над Ла-Маншем, в сизоватой голубизне, стеной стоявшей вблизи берега, показался самолет. Рокоча моторами, нацелился на дот. Но, приблизившись, неожиданно лег на крыло и, сыпнув пулеметной очередью, боком подался вдоль побережья. И это помогло Борису взять себя в руки.
— Ты изуверился, Толя, хуже, чем Вырвич перед смертью, — сказал он сдержанно. — Честное комсомольское. Поверь…
Однако Анатолия уже тянуло в пропасть.
— Твой Вырвич тоже не изуверился, а оскотинел! — огрызнулся он, вставая с земли и не спуская взгляда с улетающего самолета. — И вообще… я жрать хочу! Мне пока об одном этом дум хватает!
— Разве можно так о покойнике и о себе? — взорвался Борис.
— Иди ты!
— Ну, тогда ответь хотя бы… Неужто, когда война кончится, ты этим же отговариваться будешь? «Что делал?» — «Жрать хотел!»
Поругались они перед воскресеньем, а в понедельник у немцев нашлась неотложная прореха — лагерников подняли по тревоге, спешно посадили в грузовики и повезли в ночную тьму.
Новое строительство, видно по всему, имело более важное значение — работы на нем были механизированы. Железнодорожная ветка входила в самую гору — в туннель, где были высечены отсеки и просторный, высокий зал с наклонными выходными люками. Бетон подавался сюда по металлическим коленчатым трубам. Правда, иногда он застревал в них, и приходилось бить по ним кувалдами, развинчивать колена. На потолке и стенах туннеля горели электрические лампочки, и работа шла круглые сутки.
По ночам над горой, в сторону Ла-Манша, выбрасывая огненные струи, сотрясавшие воздух, проносились беспилотные самолеты. Говорили: туннель для фаустпатронов, что скоро заменят и это издалека управляемое диво. Лагерь здесь размещался совсем недалеко от горы, в рощице. В такие минуты в нем тоже светлело, и стекла в барачных окнах поблескивали, как от близких пожаров.
Ходили также слухи о небывалом грозном оружии, которое немцы изобрели и собирались скоро применить. Однако все, в том числе и Анатолий, начали чувствовать: немцев захлестывают набегающие события. Даже самолеты-снаряды и те все реже стали пролетать по своим огненным трассам — англичане открыли способ перехватывать их над проливом.
А вот в первую же майскую ночь оттуда, где скрылось рыжее солнце и догорела заря, накатился тяжелый, плотный гул. Приблизившись, как неизбежность, он охватил гору и, обрушившись на нее, порвал в клочья окрестную темноту.
Захлопали зенитки. Правда, с опозданием. Но волны гула по-прежнему в том же ритме накатывались одна за одной на гору, и взрывы эхом разносились по туннелю. Затем, мигнув, в туннеле погас свет. В одном и другом его конце стали видны просветы — там что-то горело, и сияли ракеты-фонари. А через какое-то время содрогнулся и сам туннель. Недалекий отсек с наклонным выходом точно раздался от вспышки и осел. Тугой пыльный воздух ударил Анатолию в рот, в нос, глаза, уши и, приподняв, швырнул его на стену.
Когда утром он вместе с другими выбрался наружу, его поразило увиденное, особенно ржавые каркасы сгоревших вагонов, которые стояли на покореженных рельсах, и ленты фольги. Фольга блестела всюду: на железнодорожном полотне, на склонах горы, на посеченных осколками кустах, росших на склонах, — немцы снова отставали!.. Нет, поразило и еще одно — среди рабочих не оказалось ни Бориса, ни его друзей.
Куда они исчезли? Вокруг простиралось холмистое открытое пространство. Под боком шоссе с редкими березками на обочинах. Грозные щиты: «Achtung, Minen!», «Atlen tioni mines!» Понатыканные, как пики, заостренные колья. И только у горизонта разбросанные фермы с садиками. Чужбина! Куда ты здесь дашь стрекача? Где спрячешься? Да, казалось, никто втянутый в окружающую жизнь и не готовился к этому. Все мирно после работы раскладывали на отшибе от бараков костерчики — «коптили» завшивевшее белье, вырезали деревянные ложки, мастерили ведерца из консервных банок… Но вот же исчезли, и видимо, запаслись перед этим продуктами!.. И нужно было в мыслях, не желая ни жить, ни умирать, поносить Бориса, оправдываться перед Ниной, в чем-то присягать ей, божиться.
Когда Анатолия арестовали и бросили в карцер, он почувствовал даже облегчение — к жизни возвращался какой-то привычный смысл. Даже иронически подумал: смерть, пожалуй, более страшна тем, кто глядит на нее со стороны.
Правда, в коридоре было одно окошко, и виднелось в нем лишь небо. А этого для глаз было мало. Им нужны были земля, нечто предметное на ней, на чем мог бы остановиться взгляд, с чем непосредственно или косвенно связывалась бы жизнь, и час спустя рука Анатолия уже сама потянулась к вороту расстегнутой рубашки…
Это случилось уже в третьем лагере — громадном, интернациональном, с налаженным бытом. Бараки в нем регулярно дезинфицировались вонючими шашками, которые жгли в тигелях; день был рассчитан с точностью до минуты, еду выдавали в «пищевом блоке» из окошечек. Зато тех, кто опаздывал при подъеме или близко подходил к колючей ограде, заставляли бегать и прыгать до изнеможения; мертвецов здесь хоронила и обезвреживала после бомбежек бомбы замедленного действия специальная команда в неуклюжих деревянных колодках и полосатой арестантской одежде.
Работать приходилось под землей. Кроме надсмотрщиков и прорабов по шахте расхаживали эсэсманы — в резиновых плащах, касках, с автоматами. Но то и дело все равно перегорала проводка, сходили с рельс груженные стальными стопудовыми дверями и плитами вагонетки, прерывалось грудное воркованье бетономешалок. Диверсии стали такими частыми, что было не до разбора, — хватали тех, кто попадался под руку, и все усилия отдавали на то, чтобы ликвидировать аварию. Ну, и суд, расправа, естественно, были короткими — на них отпускали сутки-двое.
И вот на рассвете второго дня до Анатолия долетело глухое громыхание.
Поначалу он подумал — гром. Но долетавшие раскаты будто пульсировали — то набирали силу, то слабели. Такого при грозе быть не могло. Не могла это быть и бомбежка — громыхание не смолкало и словно клубилось.
Проникаясь уже знакомым чувством — смерть страшна не тому, кто умирает, — Анатолий стал ждать. И пока небо в окошке светлело, а потом синело, жил одним: «Вот кабы успели!..»
Когда в окошке опять потемнело, стекла его вдруг задрожали от рокота. Анатолий прислушивался к нему, жил только им. Правда, до момента, когда после страшного треска, очнувшись, он с пылью и удушливым смрадом вдохнул в себя свежесть. Она взбудоражила его, помогла сориентироваться, забыть о рокоте. Выбравшись из-под кирпичных глыб, Анатолий по-пластунски пополз к ограде. При очередном разрыве увидел — с ним ползут еще двое. Один — сосед по барачным нарам, который поражал его своей жгучей злобой, не дававшей ему даже широко раскрыть большие, как озера, глаза.
С таким ощущением, что колючую проволоку перекусывают зубами, а не плоскогубцами, они втроем выбрались из лагеря. Раня колени, руки, поползли по каменистой земле, а потом стерне, удивляясь — поля уже сжаты, убраны, и, значит, лето кончается. Запыхавшиеся, вконец измученные, достигли околицы какого-то селения. Кувыркнувшись через забор, угодили в сад и наткнулись на сарай, что вдруг, как по мановению, вырос из темноты.
Морила жажда, крайняя усталость. И это на минуту стало важнее всего. На ощупь ища, где бы сесть и отдышаться, Анатолий ударился коленкой о бочку. Пузатую, с краном! Принюхиваясь, вслепую нащупал над головой связку подвяленных яблок и, сорвав ее, стал взахлеб пить холодный, щекочущий сидр.
Уснули они все трое пьяными, на голой и твердой, как ток, земле. А когда разлепили веки, ужаснулись — в едва прикрытые ворота глядел залитый солнцем сад. Над сараем же, строча из скорострельных пушек, проносились штурмовики.
Когда хозяин сарая посоветовал бросить захваченные ими с собой палки и провел их на пыльную сельскую площадь, где под кленами возле танков толпились английские солдаты, у Андрея разбежались глаза: все показалось необычным, от танков до солдатской одежды — цвета хаки, чуть небрежной, но по-своему франтоватой, с уймой карманов на штанах, на куртках. И, хотя разваливалась голова, с похмелья все воспринималось как в праздник.
А тут еще, будто оправдывая его радужные надежды, долговязый, по-хорошему спокойный солдат принес мясного супа. С перцем, с лавровым листом. Показывая пальцем на миски, объяснил: суп можно есть. А когда они поели, провел Анатолия с его попутчиками к трехосевому грузовику-фургону со слюдяными окошечками в брезенте.
Однако вскоре кое-что как бы вернулось из прошлого. Ночью задержанных сдали в лагерь-загон с ненавистной колючей проволокой и тупою людской толкотней. Из тьмы над головой сыпался дождь, чувствовалось дыхание большой воды. Загон был в бомбовых воронках, и, чтобы не мокнуть, пришлось искать спасения в одной из воронок и натягивать полученные байковые одеяла как тент. Хотя нет. Позже снова дало знать о себе новое. В загон попали пленные немцы. И, когда их узнали по сгорбленным фигурам, поднялась драка. Кулачная, лютая, со стонами и матерщиной, — самолет не повесил над дерущимися ослепительные ракеты, и лагерная охрана, открыв пальбу, не кинулась в людской водоворот.
Чувство — родина где-то близко — и раньше являлось к Анатолию. Но теперь к этому прибавилось новое — она не только близко, а и подпирает тебя как сила. И пусть, погрузив его с товарищами в трюм десантной баржи, им не сказали, куда их повезут, пусть у люков поставили часовых, когда пришвартовывались к причалу на противоположном берегу пролива, им подали пассажирские вагоны. Пусть их, лагерных бедняг, снова ожидала колючая проволока, палатки и плац, который после трех-четырех построений станет как бубен, — накормили их рисовым супом с печенкой, провели медосмотр и обещали открыть парикмахерскую.
Правда, через неделю после очередной санобработки опять был выкинут фортель — у палаток с грузовиков скинули тюки странного обмундирования.
Попрыгав сперва на одной, потом на другой ноге, Анатолий уже натянул подаренные штаны, когда от соседней палатки вдруг долетел крик.
— Ты сюда посмотри, на правую штанину! И сюда, на робу! — надрывался возмущенный голос. — Видишь? За кого они нас принимают? За урок или каторжан?
Глянув на штаны, которые он застегивал, Анатолий понял, в чем дело, торопливо стащил их с себя и, на ходу облачаясь в старое тряпье, выскочил на двор.
К центру плаца, размахивая над головой полученной одеждой, сбегались люди — многие простоволосыми, в нижних рубашках.
— Га-а-а! — витало над ними.
Опять осененный догадкой, Анатолий быстро вернулся в палатку, подобрал брошенную в угол одежду и побежал вслед за всеми. Когда он с хмельной яростью швырнул ее в кучу, как в огонь, от комендатуры и казармы уже спешили солдаты — разгруппировываясь, словно на учении, брали плац в клещи.
— Forward, forward! — семеня впереди цепи, командовал грудастый офицер. — Dan't be mitineers! I demond the Order to be done!![9]
Толпа шарахнулась в сторону и начала отступать к куче одежды. Однако Анатолий, отбиваясь локтями, уперся и стал с упрямством человека, у которого осуществляются надежды, жившие в нем подспудно. Опять подумалось о Нине, о Борисе. Захотелось, чтобы они стали свидетелями его причастности к тому, что происходило здесь.
Встрепенулся он, когда рядом остановился жилистый бледный парень с большими, как озера, глазами.
— Без паники и перегибов, товарищи! — скривил он обветренные, потресканные до крови губы. — Бубновый туз не ошибка, а проба. Комбинаторы полагали, что удача с их наглой затеей даст им возможность потом вертеть нами, как заблагорассудится. Но черта с два! — И, схватив за руки Анатолия и пожилого, с отечным лицом и мешками под глазами, который подвернулся с другой стороны, запел: — «Встава-ай, прок-ля-атьем заклейме-онный, весь мир голо-одных и ра-бо-ов!..»
Толпа сбилась с ноги, смешалась и замерла. Однако через мгновение, придя в себя, словно вздохнула и подхватила «Интернационал»…
На следующее утро события развертывались еще стремительнее. Соблюдая принятый порядок при подъеме, после завтрака все, будто по команде, сыпанули к комендатуре. А как домчались до нее, мгновенно построились. Не мешкая из рядов отделились трое и нога в ногу зашагали к крыльцу. Вслед им взметнулись возгласы. Кричал каждый отдельно. Скандировали группами, поднимая над головами сжатые кулаки.
— На ро-одину!
— Мы тре-буем от-прав-ки нас на ро-ди-ну!
Не стесняясь — то позорное и тягостное, что налипло за страшные, проклятые месяцы, сгорает на нем на глазах у всех — забушевал и Анатолий…
Ливерпуль встретил лагерников застоялым туманом. Даже корабли у причалов очерчивались смутно. Небо над ними висело низко. Туман и рваные тучи мешались, и лишь свинцовая вода да корабли помогали определить, где что, — тучи все же куда-то двигались, а туман стоял плотный, промозглый.
За время погрузки одежда у Анатолия пропиталась сыростью, потяжелела. Но сырости и тяжести он не чувствовал, хотя новоиспеченных пассажиров мучительно долго разводили по каютам, а после показывали место на палубе, куда надлежало бежать при тревоге, объясняли, как пользоваться спасательными жилетами и как зажигать на них электрические лампочки, если очутишься в воде. Это теперь почти потеряло свое значение. Как и то, что впереди холодный морской простор, возможные встречи с самолетами и подводными лодками немцев. Ибо выявилось: кроме мучительного «жить или не жить», есть еще нечто, и, возможно, не менее важное. Особенно если не за горами дорогое, незаменимое, куда тебя тянет вступить снова.
В Баренцевом море навалился шторм. Корабль то и дело проваливался в бездну, а туман как был, так и оставался. Напротив, погустевший, он скрывал конвойные эсминцы, чьи силуэты со скошенными к корме трубами маячили до этого по борту. И только когда обогнули Норвегию, полуостров Рыбачий, начало яснеть. Ясность, внезапно проникнув оттуда, где должно было быть солнце, разлилась по небу и тут же по воде.
Вырастая на глазах, замелькали чайки. Замедлив лёт, подали голос. Их пронзительные крики, как и следовало ожидать, стали предвестием — в сверкающем мареве белым сказочным лебедем из воды поднялся берег. И пусть бы сразу за этой отрадной минутой Анатолия подстерегала очередная беда, она ничего не изменила бы — он уже постигал и такое, почему из-за тридесятых царств люди едут на родину даже умирать.
НОЧЬ СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА
этюд
Окрестность окутали сумерки. Светлым осталось лишь небо. Да и оно начинало уже густеть, и свет шел не так от него, как от разбросанных по нему облаков, купавшихся в прощальных лучах солнца. Но вот погасли и облака, и сразу потемнели и замерли ели, первыми принявшие на себя сумерки, словно поднявшиеся с земли.
Видимый мир уменьшился, стал таинственным. И нельзя было уже сказать, что остров обширный, лесной, с полянами, что на одной из них, расчищенной и удлиненной, — полуторакилометровая посадочная авиаполоса, а рядом, вот тут, под боком, — многолюдный штабной лагерь.
И потому, что дохнуло теплотой, а остров заботливо укрыл мрак, он показался Василию Ивановичу Козлову чрезвычайно дорогим, какими бывают только места, где прожито и пережито очень важное для тебя лично.
Чтобы сбить немцев с толку, в прошлом году за несколько километров отсюда соорудили еще один аэродром — ложный. Лагерь строили тоже с выдумкой. Землянки копали под кронами самых раскидистых деревьев, маскировали ветками, еловой корой, мхом. Для обкомовской землянки перевезли с хутора пятистенку, врыли ее в землю почти по крышу и, также замаскировав, посадили вокруг березки. Над выходами же мудрили еще больше, причем по одному из них, глубокому, прикрытому дерном, можно было выйти чуть ли не на берег острова. Теперь бы все это делали, пожалуй, немного проще, но тогда вкладывали в новое дело больше, чем мог подсказать опыт.
Василий Иванович вспомнил это, послушал с минуту наступившую тишину, кивнул отдавшему честь часовому и, усмехаясь сам себе, спустился в землянку. «Да, опыт…» — подумал он с иронической назидательностью
В землянке было темно, хоть глаз выколи. Он чиркнул спичкой и понес ее перед собой, боясь наткнуться на табуретку, подошел к столу, на котором на неокоренной березовой колодке стояла двенадцатилинейная лампа с бумажным абажуром, надетым прямо на стекло. Фитиль лампы обуглился, не хотел загораться, и довелось истратить еще одну спичку.
С наслаждением вдохнув запах тушеной фасоли Василий Иванович повесил на стену автомат и энергично потер руки.
— Толя! — весело окликнул он.
В дверях, откуда тянуло аппетитным запахом, появился одетый в военное мальчик, щуплый, тонкошеий. Настороженно вскинув голову, стал перед Василием Ивановичем. Тот никогда не ласкал его на людях — считался с его «адъютантским» положением, да и мальчик пережил такое, что даже ласковое прикосновение руки могло разбередить ему душу. Да сейчас Василий Иванович не удержался. Хотел погладить голову, но с командирской серьезностью просто взъерошил ему волосы.
— Есть что нового для меня, адъютант? — спросил, желая смутить и растормошить его.
Толик захлопал глазами, которые вдруг повлажнели от напряжения. Но тут же подбодрился, опомнился.
— Заходил поэт, Василий Иванович, — ответил слабо усмехаясь и крутя пальцами волосы на виске. — Читал дяде Вельскому свои стихи для газеты.
— Ну и как? — понимая: мальчику хочется рассказать что-то, — дал ему высказаться Василий Иванович. — Понравились они тебе?
— Ага. Хотя и чудно как-то получается. Болото он там партизанским асфальтом называет, а тропинки в лесу шоссейными дорогами… Даже парад в Минске собирается принимать.
— Парад? А что ты думаешь! Поэты все могут. Вельский дома?
— Нет. Посыльный прибегал за ним от начальника штаба.
— Ну? Тогда, как говорят, давай в честь будущего подкрепимся. Неси-ка сюда приготовленную вкуснятину. Кто ее заказывал?.. Ты? Спасибо. Люблю я, грешным делом, эту штуку. Давно люблю…
Появившись откуда-то из глубины души, его охватила теплота собственного детства.
Беды и бедность, если ты рос в них и они минули, тоже бывают дорогими. А многочисленное семейство Козловых, как Василий Иванович начал помнить себя, жило бедно, почти впроголодь. Спало на нарах вповалку, укрываясь тяжелой дерюжиной, из-под которой меньшой брат еле выбирался. Правда, с восьми лет сам он все-таки стал учиться в церковноприходской школе, но и это наверстывал тем, что летом пас чужих коров. Когда же малость подрос, грянула война «германская». Мимо деревни, по Варшавскому тракту, на запад потянулись воинские обозы, а им навстречу люди с узлами, с котомками. Неподалеку была и железная дорога, и выпало видеть такое количество солдат, мешочников, калек и разномастных лошадей, что кружилась голова — откуда они могли только браться?! А потом наступила и пора в лаптях и потертой на локтях свитке каждодневно на зорьке месить грязь до Жлобина, а там до вечера бить киркой, орудовать лопатой, таскать балласт, укладывать шпалы. Но зато! Зато, несмотря на свои шестнадцать лет, быть принятым в артель на равных правах со всеми!..
Поужинав и отправив Толика спать, Василий Иванович крякнул, поднялся из-за стола и, смутно чувствуя какое-то беспокойство, потянулся.
«Парад! — снова всплыло в голове. — Гм-м! Парад!..»
Вернулся Вельский. Старательно вытирая перед дверями ноги, шаркал ими о половичок, звенел шпорами.
— Несчастье, Василь! — сообщил с порога. — Сожжены Большие Городячичи. Погибла Феня Кононова. Есть сведения — готовятся крупные акции.
— Погоди, — как бы отмел его слова Василий Иванович. — Это проверено?
— Кроме последнего, все проверено.
— Не уберегли, значит?
— Как видишь… Сейчас сводку Информбюро принесут. Также нерадостная…
Действительно, постучав и получив разрешение войти, порог переступил радист — чубатый юноша с золотистым пушком на щеках и ясным, преданным взглядом. Как всегда в таких случаях, расправив плечи, обтянул пиджак, подпоясанный широким ремнем с кобурой, из которой свисал начищенный до блеска немецкий шомпол.
— Еще тепленькая, товарищ секретарь! — доложил он, протягивая листок бумаги. — То же, что и вчера. Но по тому, как зверствуют немцы, можно судить, их дела хуже. — И хотя видно было — радист хочет поговорить еще, стукнул каблуками.
Василий Иванович просмотрел сводку, подержал ее в руке, будто взвешивая, и передал Вельскому.
— Ты слышал, что он сказал, Юзик? — произнес задумчиво.
— Конечно! — с готовностью ответил Вельский. Однако, увидев глубокую складку на лбу у Василия Ивановича, понял, что тот занят раздумьями над чем-то сложным, сделал вид, что ищет что-то, и, использовав молчание Василия Ивановича, подался в свой угол.
Но Вельский ошибался, неосознанная забота проснулась в Василии Ивановиче гораздо раньше и безотносительно к нему. Несчастье же с городячинцами и Феней лишь сделали его беспокойство более явным. Феню, славного комсомольского вожака, и городячинцев было очень жалко. Однако сквозь сострадание к ним ясно пробивалась и тревога. Что с этим обстояло именно так, свидетельствовало еще одно: когда он прочитал сводку, это беспокойство и тревога усилились. Они чего-то требовали от него, о чем-то предупреждали.
О чем?
Обхватив рукой подбородок, Василий Иванович сердито нахмурился. Складки на его лбу обозначились еще резче.
«О чем? — нетерпеливо, сердясь на себя, подумал он. — Не о Минске ли?.. Конечно, о Минске!»
После прошлогоднего провала подпольный центр там не восстанавливался: гитлеровцы развязали страшный террор, да и их служба безопасности основательно изучила структуру подполья, тактику подпольщиков и подготовила провокаторов… Вместе с этим не так уж далеко от города, в партизанских зонах, действовали межрайонные партийные комитеты, боролись партизанские соединения и спецгруппы. Непосредственное руководство подпольем во многом перешло к ним. И стоит отметить: это оказалось неожиданным для гитлеровцев и вдохнуло свои силы в борьбу с ними.
Расстегнув ворот генеральского кителя, к которому он еще не привык, Козлов тяжело, словно тревожные думы легли ему на плечи, зашагал по землянке.
Он не имел привычки торопить естественный ход событий. Не особенно спешил и сам с решениями. Верил: самое важное — предугадать, куда они клонятся, и быть готовым к неожиданностям. Но вопреки этому, а может быть, в результате этого, тревога у Василия Ивановича нарастала и нарастала.
Приоткрыв дверь в соседнюю половину, он бросил в темноту, не скрывая своего волнения:
— Юзик, ты спишь?
— А что? — хрипло отозвался Вельский. — Надумал поговорить? Заходи.
— Зажги свет и прочитай, пожалуйста, последний абзац сводки о немецких зверствах. Давай обмозгуем вместе…
Он сел в ногах на постель Вельского и, понурившись, начал слушать, водя ладонью по голой шее и ключицам. Слушал и снова представлял иное: охваченный огнем Минск, каким покидал его два года назад.
— Мне вспоминается, Юзик, прошлое, — сказал он, как только тот кончил читать. — Вспоминался и Жлобин… В двадцать первом его блокировали легионеры Довбор-Мусницкого. Но взять не смогли. И когда откатились, мы с отцом, отпросившись у командования, двинули в свое Заградье, которое побывало в руках легионеров. Боялись да почти были уверены, что не увидим никого из своих. Отец ведь возглавлял комбед. Но не отгадали. Мать с малышами перебыла напасть в лесу… Уловил?
— Улавливаю, — взволнованно ответил Вельский, чему-то радуясь. — Правильно! Время подумать и об этом.
При отступлении гитлеровцы, безусловно, постараются…
— То-то, дипломат!..
Оставаться в землянке он уже не мог. Захотелось увидеть над головой небо, ощутить свежий воздух.
Ночь как бы обняла его. Свежесть коснулась рук, груди, лица. Он осмотрелся. На синем, будто зыбком небе мерцали звезды и отчетливо обозначался ковш Большой Медведицы. Но над кронами деревьев небо было неподвижным, без звезд. Казалось, звездный купол там обрывается, и нечто подсвечивает его.
— Жгут костры на обманном, — подсказал откуда-то из темноты часовой, видимо догадываясь, что могло заинтересовать Василия Ивановича. — Правильно это придумано, товарищ генерал.
— Стараемся, — не очень внятно ответил тот и отошел от землянки. — Ничего не попишешь, обязанность… — И снова стал думать о Минске: «И вправду, что ты там, когда понадобится, сделаешь разрозненными группами? Как будешь помогать людям и спасать уцелевшее?»
Он шагал по жизни, как по азимуту, не сбиваясь с ноги. Отслужив в армии, кончил комвуз, работал парторгом ЦК в колхозах, директором машинно-тракторной станции, первым секретарем райкома. И всегда всем существом чувствовал, что значит для дела единое в своем стремлении руководство.
В памяти всплыло, как незадолго до войны выводил район из отстающих, как наступали на хутора — эту злую беду, разъединяющую и коверкающую людей.
— Хутора! — словно убеждая себя, с отвращением повторил Василий Иванович. — Хутора…
С юго-запада долетел прерывистый рокот. Набирая силу, он клином разрезал перед собой темноту — въедливый, ноющий на острие клина.
— К нам, скорее всего, товарищ генерал, — снова предупредил издали часовой.
«Этого еще недоставало!» — подумал Василий Иванович и почувствовал — затылок и одеревеневшую спину обдает холодом.
А рокот тем временем надвигался как бедствие и, усиливаясь, даже колебал воздух. Самолеты явно летели гуськом, друг за другом, и потому вскоре стало похоже на то, что рокот повис над головой, а потом начал падать на землю.
Там, где светлел край неба, навстречу ему вскинулись огненные вспышки и бахнуло несколько раз подряд. Затем еще и еще. И каждый раз тьма, словно ринувшись на вспышки со всех сторон, гасила их.
Когда она в последний раз смыкалась над зловещими всплесками, из землянки показался Вельский. Тяжело дыша, подбежал к Василию Ивановичу.
— Что это? — поправляя полевую сумку, сбившуюся на живот, спросил он. — В землянке казалось — бомбят лагерь. Я боялся, у тебя лампа свалится с подставки. Пойду за новостями к начштаба…
— Погоди, — попросил его Козлов, но тут же задумался о чем-то. — Тебе не бросилось в глаза, что из Минска все чаще поступают жалобы? — спросил через минуту, беря Вельского за портупею и всматриваясь в его полное лицо. — Каждый связной приходит с новыми распоряжениями. Вновь участились провалы. Твои ведь тоже об этом пишут… А?
Вельский развел руками:
— Враг хитер и коварен, Василь…
Ни глаз, ни выражения лица Вельского видно не было. Василий Иванович отпустил портупею и легонько толкнул его.
— Ладно, подначивай… Но все равно прошу, слушай… По-моему, назрела необходимость в партийном комитете и печатном органе для Минска.
— Чтобы подставить их под обух и пожертвовать лучшими товарищами? — не изменил тона Вельский.
— А ты не пошел бы разве на все, ежели б от этого зависела жизнь людей? — уже вскипел он. — Только напрямик, без обиняков прошу!
— Однако обходились же до сего времени…
— Ежели признаться, мы и так опаздываем. В таком деле заранее отмобилизованными должны быть и мы, и люди. Без общей готовности тут ничего не получится. А ее при сегодняшнем положении никогда не достигнешь.
— А как тогда с борьбой?
— При едином центре все в своих руках. Можно взрывать одно и оберегать другое… Диверсии не помешают организовывать группы по охране уцелевших объектов и заботиться о маршрутах, проводниках и местах, куда выводить минчан…
— А-а, так у тебя уже целая программа?
— А ты как думал? Люди собираются парад проводить в Минске, — неожиданно подобрел Василий Иванович и тут же снова стал серьезным: — Видишь, Юзик, новый горком к тому же может дислоцироваться в лесу. Смекаешь? Пошевели мозгами еще раз, пожалуйста, и скажи после.
— Хорошо, — согласился Вельский. — Но, кажется, и так все ясно, вообще-то я «за», — прибавил, немного отойдя, и, должно быть, поднял руки, ибо слово «ясно» прозвучало как выдох.
— И пускай перепроверят там насчет этих самых акций. Слышишь? — Козлов подумал: трудно бы довелось ему без Вельского, готового при всей своей щепетильности вызывать огонь и на себя.
Потянуло к столу, к бумаге. Василий Иванович, как на часы, взглянул на звездное небо, что заметно поднялось выше, и, словно готовясь опуститься в воду, глубоко вдохнул в себя остывший воздух.
«Нет, что ни говори, а тут и вправду почти все «за», — решительно подвел он итог. — Да ежели было бы и не так, все равно довелось бы признать, что это необходимо…»
Кто-то — Вельский или Толя — привернул в лампе фитиль. В землянке воняло перегретым керосином. Василий Иванович прибавил свет и сжал ладонями виски. Оставалось еще подыскать отряд, где мог бы развернуть свою деятельность горком, прикинуть, будет ли удобно связным пробираться оттуда в город. Не лишним также было наметить состав горкома — пусть и это будет подготовлено к бюро.
Вынув из планшета карту, Василий Иванович разостлал ее на столе, бережно разгладил и склонился над ней.
По привычке Толик проснулся на рассвете. Прежде чем умыться, решил проверить, все ли в порядке у «его» генерала. Взяв фонарик, он лучик света направил под ноги, осторожно открыл дверь, удивился и заботливо помотал головой. Вообще Василий Иванович нередко засиживался допоздна, за полночь, — знакомился с донесениями, думал, читал Ленина. Но Толик ни разу не видел, чтобы сон так свалил его. Приблизившись на цыпочках к столу, мальчик потушил лампу и, не найдя, что при таких обстоятельствах сделать еще, жалея Василия Ивановича, вышел из землянки.
Небо хорошо яснело, становилось бирюзовым. Смотря на него, посветлел и Толик.
«Прямо как маленький», — думал он покровительственно о своем генерале.
Маленькому адъютанту, конечно, было невдомек, что сон одолел Василия Ивановича так внезапно потому, что он очень устал, что ему необходимо отдохнуть и он, сбросив с себя маетную тяжесть, заставил себя уснуть — в этом ему помог его большой жизненный опыт. И, само собой, не знал мальчик, — да и откуда ему было знать: сильный человек тверд в своих действиях, и это великий его дар.
ПОСЛЕДНИЙ ГОД
из воспоминаний
У меня, как, видимо, и у многих в то время, приключений-испытаний больше всего приходилось на дорогу. Не на выполнение самого задания, а на то, чтобы приблизиться к нему. А возможно, мне так просто кажется потому, что слишком много пройдено дорог, да и цену разведчика принято измерять количеством «выходов» в тыл противника.
В этот раз нам пришлось приземлиться на случайном аэродроме в Пуховичских лесах — далеко от намеченной базы в Логойском районе. Дело в том, что когда мы подлетели к расчищенной посадочной площадке, около нее неожиданно разгорелся бой, в котором участвовали и минометы. Я говорю о минометах потому, что со звездной высоты в темноте, которая царила на земле, их работа была видна особенно отчетливо: желтоватые, не очень сильные вспышки света — выстрелы, а потом на каком-то расстоянии ослепительные рваные огненные пятна — взрывы.
Однако дорога в Логойщину пешком имела и свое хорошее. В рюкзаках у нас был сахар. В лесах созрела малина. И я, кажется, никогда не ел ее так вдосталь и такую душистую, вкусную, как тогда. А окружающая красота?!
Нас, как говорят, передавали из рук в руки. В Первой минской бригаде я встретился со старым добрым знакомым — Володей Левшиным, с которым подружился еще в сентябре сорок второго, когда шел на Минщину впервые. Он отрастил бородку, посолиднел и возглавлял уже особый отдел бригады. Ночевали мы с ним под открытым небом, в орешнике, на телеге, полной душистого сена. Смотрели в звездное, шелковистое небо, вспоминали Двину, общих знакомых. Небо как бы колебалось, пульсировало, потом начало подсвечиваться с востока, а мы все говорили — делились новостями, перебирали знакомых. И помнится — открыли: у войны свои законы, и она по-своему растасовывает людей. Особенно в партизанских условиях, где легко проявляются способности и недостатки. У одного вдруг обнаруживается талант партизанского тактика, и он — смотришь! — возглавляет уже штаб бригады. А у другого, горячего, неуравновешенного, наоборот, начнет распухать самолюбие, тщеславие. И, попробовав подчинить себе соседние отряды и группы, он дает волю своим порокам и катится, как с горы. Но несмотря на то, что во всем этом таилось что-то грустное, нам с Левшиным было радостно — будто само небо вмешивалось в жизнь и восстанавливало справедливость…
Чтобы попасть на Логойщину, нужно было пересечь железную дорогу и автомагистраль Минск — Москва, с ее подвижными секретами и возможными засадами. Потому было решено сделать это, разделившись на группы. Первыми в дорогу отправились майор Хвесько, капитан Мельников, лейтенант Солдатенко и я. Разрабатывая план, «шли от обратного» — решили переходить железную дорогу и шоссе чуть ли не под самой станцией Жодино, где немцы, судя по всему, ожидали нарушений меньше всего.
Ночь стояла темная, глухая. Даже удивляло, как в такой темени проводник из местных крестьян не останавливается, чтобы оглядеться, не ищет по сторонам и впереди знакомых ориентиров. Его уверенность поддерживала нас, и, не обращая внимания на полную походную выкладку — на шее автомат, через плечо плащ-палатка, на ремне запасной диск, «эфочки», финка, за спиной рюкзак с энзе, — передышек мы почти не делали. Да и еще одно обстоятельство подгоняло нас: тучи могло развеять, и тогда будет как днем, потому что было полнолуние.
Приостановились мы только за защитной стеною елей, перед железнодорожным кюветом. Сели цепочкой, как шли, чтобы перевести дыхание, прислушаться к окружающим звукам и перемахнуть через железнодорожное полотно. Ничего подозрительного не услышали. Но показалось: опасность таится именно в тишине. Я сидел за проводником и чувствовал: заколебался и он — у каждого своя граница смелости. Пришлось немножко обождать. Но даже когда я положил проводнику на плечо руки и несколько раз нажал, он не среагировал на это. Чувствуя — заволновались и сзади, рассердившись уже, я легонько толкнул его в спину. Проводник сидел у самого края кювета, нервы у него были напряжены, и он поехал по склону на ягодицах. Я бросился следом за ним.
Да, к звукам прислушивались не одни мы. Когда, перескочив железнодорожный путь и не услышав за собой товарищей, я залег в противоположном кювете, между рельсов выросла темная фигура. Я сделал то, что и необходимо было сделать, — взял ее на мушку. Но здесь произошло неожиданное — послышался топот, треск веток: товарищи, зная, что впереди автомагистраль, решили отходить. Темная же фигура кинулась к станции, но все же подняла вверх руки и выстрелила. Указывая, куда отходят наши, в небо взвилась ракета. Забахали выстрелы.
Возвратиться к своим или чем-либо помочь им у меня возможности не было. Я выбрался из кювета и, прикрыв ладонью глаза, продрался через колючую ограду елей. А когда продрался, вдруг увидел человека, устремившегося ко мне. Я схватился за рукоятку финки.
— Свои! — успел прошептать человек, оказавшийся проводником.
Это было кстати. Правда, у меня укоренилась привычка, я перед походом засекал азимут — направление, куда следует идти. Но впереди лежала магистраль.
Перед нами простирался луг. Слева темнел кустарник.
— Он далеко тянется? — склонившись к уху проводника, спросил я.
— До самого шоссе и дальше, — как показалось мне, радостно ответил тот.
— Тогда пойдем лугом…
Вокруг посветлело. Луг — наверное, пала роса — засверкал. Словно более близким стал кустарник. Кое-где стало возможным распознать белые стволы березок.
Вскоре мы увидели автостраду — аспидную полосу, за которой начинался более густой мрак. По просветам в тучах стало видно: они не нависли над землей, а куда-то плывут, торопятся, и там, за ними, много света.
Беспорядочная стрельба сзади утихла, но мы шли пригибаясь, ложились и потому первыми заметили немцев. Двое, видимо, постовые, выйдя из кустарника, медленно двигались обочиной магистрали.
Дернув проводника за полу, я упал на землю.
Сколько мы лежали? Не много. Но за это время по магистрали прокатил броневик. Гремя гусеницами, прошла танкетка, а потом исчезли и постовые — растаяли в мглистой темени. От того, как мы перебегали шоссе, осталось только чувство — бежать приходилось по чему-то горячему.
На опушке проводник сдался совсем: начал проситься домой — там, мол, дети, жена. Хутор его недалеко от станции, наскочит железнодорожная охрана, как оправдается жена, где хозяин? Особенно после такой катавасии…
Иного выхода не было — вспомнились Урал, собственная жена, сын, с которыми не так давно виделся, — и я, расспросив о дороге до ближайшей лесной деревни, отпустил проводника.
Из-за туч выплыл месяц, ясный, будто начищенный медяк. Темнота с дороги отступила в придорожные кусты, в чащу, откуда тянуло грибным запахом.
Август — месяц зарниц, лесной тишины. Даже днем и то редко можно было услышать тревожное стрекотание дрозда или дятла. Ночью же лес замирает — сам как прислушивается к чему-то. И в этой тишине душой чувствуешь, как вызревает, множится и набирает силу жизнь. Поспели голубика, смородина, ежевика, брусника. Закраснелись гроздья рябины. С кустов и деревьев с парашютиками, парусами, цепкими колючками, с пушком и поплавками сеются семена. Третий приплод дает зайчиха. По росе — на рассвете и перед заходом солнца — жируют выводки диких кур, которые дневали в густых кустарниках, а в жару купались в разогретом песке. Следом за уткой гоголем из дупла на землю спустились ее птенцы, подросли на глади посветлевших вод кряквы. На обильных кормах набирают силы аисты, чибисы. И, как олицетворение августа, высоко поднял голову золотой подсолнух.
Я шел один средь бора, прислушиваясь к его тишине, и волновался за товарищей — не случилась ли беда? Что они думают там обо мне? И было не по себе, что все это совершается в благословенном августе и что там, куда показывает азимут, начинает багроветь небо, — значит, загорелась деревня или лес.
Урал, помнится, удивил меня своей суровой будничностью. Да еще разве тем, что в городах не было светомаскировки. Взять билет в Москве на Казань не удалось, и я поехал окружной дорогой: на Пермь — Свердловск. Война, конечно, чувствовалась и здесь — навстречу мчались эшелоны с танками. На станциях толчея, у каждого котелок в руке или привязанный к поясу. И всюду шинели, винтовки, рыжие пудовые ботинки — военная обувь солдат или горькие их обноски.
Правда, Свердловск встретил меня тюбетейками, пестрыми азиатскими халатами. Угрюмые, точно вырезанные из дерева, люди сидели и полулежали прямо на мостовой привокзальной площади, не стараясь пристроиться хотя бы к забору или стене строения. Кто они? Куда, зачем едут?.. А потом, если не считать пристанционной березовой рощицы в Красноуфимске, чистой, заветной, опять будничность — грязные, с глубокими колеями дороги. Ненужные пока косилки, веялки на усадьбах МТС, баки с горючим посреди грязищи, расквашенной колесами автомашин.
Я ехал сюда к любимым и хотел любить все в том уголке, который пригрел их. Хотел и не мог, пока не прислонился плечом к сизому валуну на буром, гористом берегу Иргинки, за которой, также на склоне горы, передо мной открылся поселок — каменные и деревянные дома, приземистые уже потому, что стоят на махине, глядя на которую не замечаешь неба. Это было утром. Над быстрой Иргинкой плыл туман. Нижние улицы окутывала дымка. Веяло холодком, свежестью. А вот выше гору и дома на ней заливало лучистое солнце. И было что-то могучее, извечное в этой картине — такое, что сердце мое встрепенулось и раскрылось, впитывая в себя виденное как дорогое, нужное.
Я спустился к Иргинке, ожидая обязательного чуда. В груди жило сложное чувство — нетерпеливая радость, тревога, беспредметная ревность. Иргинка под мостом журчала, плескалась. И это журчанье, плеск казались мне такими благозвучными, что захотелось послушать их. Но вдруг мое внимание привлекло иное — детские голоса, что слышались из недалекого каменного дома. Дом гудел, как улей.
Поправив шапку, лямки от рюкзака, уверенный — сын тоже здесь? — я свернул к высокому крыльцу и взбежал на него.
В передней зa столиком сидела кудрявая воспитательница в белом. Бросив писать, она вздрогнула и испуганно уставилась на меня округлившимися глазами.
Что ее могло испугать? Мои грязные сапоги, шинель, меховая шапка? А может, моя взволнованность? Что-то знакомое увидела она во мне? Чужая, редкая здесь радость? Своя беда, о которой я напомнил?
— У вас есть Вова Карпов? — торопливо спросил я, чтобы не мучить ее страхом.
— Вовочка? — выдохнула она. — Вова?.. Сейчас!.. Через некоторое время я уже нес сына на плече, а он, растерянный, присмиревший, не болтая даже ножками, показывал мне рукой, куда идти.
— Мы с мамкой на Башне живем! Вы-ысо-ко! — защебетал неожиданно, захлебываясь от наплыва чувств. — У бабушки Фотиньи! Вот! Она справедливая. Как увидела, когда нас привезли сюда, так сразу и взяла из канцелярии. Одну ночь только и переночевали там на полу!..
Когда мы почти поднялись на Башню, нас догнала жена. Бледная, тяжело дыша, обхватила обоих руками и бессильно обвисла. Я поддержал ее свободной рукой. Но поздороваться и сказать что-либо тоже сразу не смог. Так, в каком-то мучительном, сладком угаре, мы простояли, может, с минуту.
Жена пришла в себя первой. Как и всякая женщина-хлопотунья, окинула меня взглядом с ног до головы, провела ладонью по моей заросшей щеке.
— Я никогда не видела тебя с такой щетиной, — в отчаянии пожалела она и неожиданно потянулась к губе: — А это что? Ранило?
— Задело, когда возвращался из Минска…
По лицу у нее потекли слезы. Нет, она не сморщилась, лицо осталось просветленно-удивленным, но она заплакала.
— Ты, Володя, если что не так, не сердись на хозяйку. Она, видишь, из тех, кто говорит, что думает… Порядок у нее нерушимый. Курить нельзя. Пол весь половиками устлан. В горницу никто из посторонних не смеет ступать, как в алтарь…
— Может, и из кружек разных пьете? — усмехнулся я, хотя мне совсем было не до смеха.
Через дощатую калитку мы вошли во двор, застроенный сарайчиками, клетями, хлевушками. На высоком старательно выскобленном крыльце разулись, надели малолицы — старые опорки.
Фотинья — дородная, с чистым, строгим лицом — встретила нас с достоинством. Оглядев меня, потом растерянную, порозовевшую жену, счастливого сына, внезапно посветлела лицом, ступила к створчатой двери в заветную половину.
— Спать там будете. Для тебя не жалко, — ткнула она в меня пальцем и раскрыла дверь, как золотые ворота. — Снимай тряпье да умойся. А ты, Марья, тем временем самовар поставь. Что я давеча, погадавши, тебе говорила!..
Побежали суматошные, радостные дни, за которые не свершилось ничего значительного, но которые остались в памяти до сих пор и, значит, были очень важными для нас.
Продукты я получил в Подольске, под Москвой, сухим пайком и дорогой экономил их. Добрые люди помогли мне прикрепиться в Иргинске к столовой, получить продовольственные карточки. Накануне Первого мая из районного центра прислали подарок — баранины, водки, круп, сахару: партизан на Урале — диво… Так что бедным лакомством начали уже казаться вяленки и сушенки из прошлогоднего, не убранного колхозниками, прихваченного морозцем турнепса, который поздней осенью успела накопать жена в поле.
К радости Фотиньи, я добился разрешения на получение дров, и нам заклеймили на недалекой горе несколько сосен. Снег в лесу почти сошел, пахло пригретой землей, мокрой корой, хвоей. Гора оказалась крутою, и создавалось впечатление, что сосны наклонились и не стоят, а взбираются по ее откосу. Но, купаясь в солнце, в свежих дуновениях ветра, чувствуют себя хорошо — им не тяжело и так. Хорошо было за работой и нам.
В пойме Иргинки жене отвели огород. Вооружившись лопатами, мы взялись и за него. Земля была илистая, ссохшаяся, даже потрескалась, и ее комья приходилось разбивать ребром лопаты. Однако, как после писала жена, картошка и помидоры уродились на славу. Правда, возить это богатство на Башню пришлось на себе — тянуть двуколку, впрягаясь в нее, или толкать перед собой, сбивая, когда оступишься, колени о скальные камни.
Не совсем посчастливилось и с дровами. Когда выпал снег, выпросив в колхозе лошадь, жена с сыном после третьей школьной смены по первопутку поехали в лес. Смеялись, радовались морозцу, синеватой снежной белизне и когда ехали туда, и когда возвращались обратно, спускаясь с горы. Тощая лошаденка даже бежала рысцой. А вот когда стали подниматься на Башню, порвалась супонь. Темнело. На улице пусто, ни души. Жена сняла чулки и связала ими клещи хомута. Но лошаденка, напрягаясь из последних сил, начала бросаться из стороны в сторону и опрокинула воз. Окоченевшими, озябшими руками жена взялась приводить в порядок дрова. Но когда управилась, упорядочила воз, опять подвела обессилевшая лошаденка, — курчавая от пота, заиндевелая на морозе, она уже не смогла стронуть сани с места. Пришлось отнести сына домой и после, ночью, на себе таскать большие, метровые плашки на Башню, складывать в сарай. И можно представить, чего стоило это самоистязание вконец уставшей, голодной женщине, которая не помнила, когда отдыхала!..
Однако писала она мне обо всем с усмешкой, подтрунивая над собой, над своей «планидой»… Рассказала, как летом ходили они на свою лесосеку по ягоды и наткнулись там на полянку. «Вся красная от ягод, ступить было некуда. Так что за какой-нибудь час, поверишь, и наелись до отвала, и собрали большую жестяную банку из-под колбасы, которую прислало нам твое начальство фельдпочтой…» — писала она мне в Подольск, где я жил перед полетом в тыл врага.
Да все это было позже, а пока на безоблачном небе светило и пекло слепящее солнце. Оно катилось над горами и потому с поймы казалось очень высоким, недосягаемым, мало ласковым. Раскрасневшаяся от работы жена враз загорела, даже стала выделяться закрытая платком светлая полоса на лбу. Недалеко от нас играл сын, напевал:
— Коровка, лети, лети! — просил он,
Я смотрел на сына, на жену, и моим сердцем овладевало мирное счастье. Разве не радость, что человеку, которого ты любишь, не нужно будет уже слепить глаза вечерами, вышивая чужие кофточки и платья, чтобы получить за это картошку, с которой срезали для посадки глазки-ростки?.. Много и мало нужно человеку во время всенародных бедствий.
Вскоре повезло и остальным моим товарищам — они переехали железную дорогу я магистраль в возу сена. Днем. Вторая половина группы — наш командир подполковник Юрин, его заместитель майор Бобылев, старший лейтенант Амелькнн и разведчик Владимир Кононов — преодолели злосчастное препятствие под грохот боя, который завязали партизаны, чтобы отвлечь внимание железнодорожной охраны, под станцией Жодино. Радистки же Лена и Маруся, одетые под деревенских девушек, с серпами на плечах, перешли железную дорогу прямо по переезду, рукой подать от семафора. Вела их местная женщина, а подстраховывал Петро Деревянко, которого мы взяли в Первой Минской бригаде.
Украинец, бежавший из лагеря военнопленных, парень-душа, он пользовался всеобщим уважением. Его меткость просто восхищала нас: он на ходу мог попасть в воробья, в подброшенный камень. Без промаха стрелял на шум. Жило в нем приобретенное в лагере — какая-то угрюмая собранность, и, когда случалась свободная минута, Петро вытаскивал из рюкзака брусок и начинал точить тесак. Точил молча, старательно, то и дело проверяя, перережется ли приставленный к лезвию волосок, если на него подуть.
Собранность помогла ему и в этот раз. Рябой, кряжистый, в нижней рубахе, с вилком капусты под рукою, он вызвал подозрение у патрульных, стоявших тогда на переезде. Но когда его остановили, он, давая возможность радисткам отойти как можно дальше, с самым серьезным видом начал протестовать, показывать пальцем в направлении недалекого хутора, где, как говорил, проживал. А когда ему все же приказали идти по шпалам на станцию, Петро, убедившись — радистки приближаются к лесу, выхватил из-за пояса наган и уложил конвоиров. Но вот непримиримая ненависть и партизанская закваска! На станции началась стрельба. К переезду на выстрелы бросились солдаты. И все же стреканул он только тогда, когда снял с убитых патронташи, подпоясался ими и подобрал винтовки…
Встретились мы все в лагере партизанской бригады «Смерть фашизму», откуда уже и подались на Логойщину. Однако мы, видимо, попали в поле зрения абвера. И стоило нам обосноваться в небольшой лесной деревне Павленята, провести несколько радиосеансов с Москвой, как налетели «юнкерсы» и обрушили на тихую деревню громовые раскаты бомб.
Для моих товарищей и меня пришла пора каких-то не совсем военных хлопот. Искали подходящую деревню — Бобры, Радьковичи, Серпищино, — где бы можно было как следует обосноваться. Подбирали людей — в группу пришли мои товарищи по Минску: Гриша Страшко, Иван Луцкий, Яков Шиманович. Изучали пути и способы проникновения в Минск, подбирали девушек-связных, явочные квартиры в самом городе. Подпольный райком закрепил за нами деревню Слижино, и пришлось назначить туда своего коменданта, создать хозяйственный взвод.
Да и сами радости у нас были какие-то военно-мирные. В сентябре Москва поздравила радиограммою Амелькина и меня с правительственной наградой — орденом Красной Звезды. Некоторых из товарищей повысили в звании. Пришли письма от родных.
Деревня Радьковичи — типично Логойская: одна улица, близкий лес, каменистое поле вокруг, посредине кладбище на поросшем кустарником бугре. Поселились мы втроем — Володя Кононов, Солдатенко и я — в одной из лучших изб Радьковичей — на две половины, с вазонами на окнах.
Больше всего я сблизился и подружился с Владимиром Кононовым, тоже из Витебска. Правда, трудно сказать — почему? Он на десять лет моложе меня. К нему благоволил командир, который ко мне относился официально… Но в этом парне подкупали уравновешенность, чистота натуры — открытое, красивое лицо, серые глаза, которые молодо и насмешливо поблескивали, крутые, атлетические плечи, стройность, подтянутость. Движения у него были округлые, уверенные, за ними угадывались сила, ловкость. Он, как и Деревянко, отлично стрелял, знал приемы самбо, прикорнув на привале, мог сутками не спать. И еще. Есть такие молодые люди, на которых лежит отблеск материнской любви и забот. Тезка принадлежал к таким. Даже война, приостановившая его учебу и сама ставшая его школой, не погасила этот отблеск.
За ним уже был подвиг. Война, не в пример некоторым тянувшимся к известности, громким словам, научила Володю Кононова быть сдержанным, трезвым в решениях. Когда нынешний наш командир, а тогда начальник Витебской оперативной чекистской группы, разрешил ему выбирать себе соратников — кого и сколько угодно, — он назвал всего одного — Ивана Навдюноса. И не ошибся — с ним он дважды вышел из ада. Раз около Пудоти, когда немцы ликвидировали Витебские вopотa, и другой раз на нейтральной полосе, уходя от погони: они были так разъярены, что, поймав на мушку гитлеровца, думали: «Пальнуть бы в живот, пусть помучается». И это в двадцать лет!
Задание было категоричное — требовалось уничтожить Александра Бранта, шпиона с довоенным стажем, которого поставили возглавлять грязную газетку «Новый путь».
Хозяева охраняли его как своего и по крови, и по организации. Да и сам он знал, чье жрал сало. Так что подступиться к нему можно было разве только утром, на пустом Пролетарском бульваре, когда Брант в сопровождении полицаев, как бы прогуливаясь, направлялся на работу.
И вот опять!.. Необычным, героическим был не так скрупулезно по плану выполненный акт возмездия, как-то, что последовало за ним. Отстреливаясь и ища помощи, ребята не бежали, а летели на крыльях. Брали с ходу развалины, заборы, затянутую ледком Витьбу, Суражское шоссе с застывшими часовыми, припорошенный снежком лесок, Западную Двину… Не много ли для простых смертных, вооруженных одними пистолетами и гранатами? Правда, когда переправлялись на лодке через Двину, их прикрыли партизаны. Но это ведь случилось уже почти тогда, когда можно было сказать — ищи ветра в поле…
Наша группа называлась «Мститель», и хотя задачей ее была разведка и контрразведка, мы в тоже время должны были выискивать возможности уничтожения Вильгельма Кубе, по чьей вине лились реки крови. Однако, когда силы были расставлены, нас опередила спецгруппа «Димы», разведуправления Генерального штаба, чьи связные — Мария Осипова и Елена Мазаник — выполнили приговор над военным преступником. Перед нами возникла новая задача — повести работу против генерал-майора полиции, бригаденфюрера СС фон Готтберга, преемника Кубе, и против белорусских националистов, которые при определенных обстоятельствах могли облегчить исполнение основной задачи.
Тумашевых, Гадлевских, Ивановских, Ермаченков, Козловских гитлеровцы привезли в обозе. Некоторые из них, почувствовав добычу, явились в захваченный Минск сами — пожалуйста, нанимаемся. Опьяненные победами, гитлеровцы приняли, их не особенно гостеприимно, хотя услугами их пользовались. Создавайте пока что управы, втирайтесь в доверие оккупированного населения, помогайте одурманивать его, ссорить с прошлым. Но вместе с тем, как гитлеровские армады стали терпеть поражения на фронте, начала падать ценность добровольных холуев в глазах их хозяев. Да и яснее становилась ничтожность надежд террором и беспардонной ложью сделать советских людей послушными.
Чтобы отравить их ядом национализма, гитлеровцы образовали мертворожденные «Белорусскую народную самопомощь», «профсоюзы», «Раду доверия», «Союз белорусской молодежи», «Белорусское культурное товарищество», принялись издавать журналы, газеты.
До этого времени мне не приходилось сталкиваться с «живыми националистами». Мое отношение к ним определяло наше устное и печатное слово. Усвоенное, оно было противоядием от всякого зоологического чувства. Пребывание в оккупированном Минске, документы, с которыми я познакомился там, горячие свидетельства Алеся Матусевича, побывавшего в националистических кругах, как бы сызнова раскрыли мне политическую сущность националистов.
Пришла ясность: спекулянт — вообще создание отвратительное. Планы свои он строит на корыстных расчетах. Первым условием его успехов является чужое несчастье. Это меняла, игрок, паразит. Что же говорить тогда о спекулянтах святым, которые спекулируют преданностью Отечеству, любовью к родному, своему с детства. Высокие, святые чувства они используют на то, чтобы разжечь ненависть между людьми. Их цель — грызня, всеобщая враждебность, кровь. И уже потому они не могут оставаться искренними, чистыми, идейными.
Так они стали для меня живым олицетворением самого злого, бесчеловечного.
За небольшое время нам удалось организовать и провести против них две операции, которые взволновали меня деловой неуклонностью.
Нам была поручена спецгруппа «Соседи», дислоцировавшаяся в небогатой, разбросанной на известной Лысой Горе деревеньке, где, к слову, мы также принимали связных из Минска и откуда направляли своих посланцев в Минск.
Однажды, в пасмурный сентябрьский день на Лысую Гору связной из Минска привел двух военнопленных и высокого, стройного юношу в серой униформе, который помог военнопленным убежать из лагеря. Юношу звали Иван Шнигирь. Подтянутый, худощавый, с тонко очерченным, красивым лицом, он располагал к себе. Но форма эсэсовца, унтер-офицерское звание, полученное по окончании специальной школы, настораживали. Хотелось и не хотелось ему верить. Даже встал вопрос, как с ним быть — расстрелять или оставить в Лысой Горе и проверить заданием. Побороло последнее, потому что очень горячими, искренними были его слова. Так Шнигирь стал на некоторое время неприкаянным лысогорским батраком — колол сельчанам дрова, помогал по хозяйству, питался у наиболее отзывчивых.
Вот выбор майора Хвесько и пал на этого парня, бывшего студента, который с верой и терпеливой усмешкой, стоически переносил предначертанное ему.
Почему Хвесько? Дело в том, что в группе произошли изменения. Отозвали на Большую землю Юрина и Мельникова. Вместо них в разгар осени прислали капитана Гонцова со старшим лейтенантом Петуховым. Забирали и Бобылева, сопровождать которого на Бегомльский аэродром поехали Гонцов, я и радистка Лена. Старшим в группе остался Фома Хвесько. Опытный чекист, он почувствовал в Шнигире упорство, решительный характер и то горение, которое не позволяло ему унывать в тяжелых условиях. Заметил и его горячее стремление проявить себя — стремление, которое, как часто бывает, подпиралось сознанием своей вины.
Так что, когда было решено остановить предательскую деятельность ставленника СД — редактора «Беларусскай газэты», который как никто оплакивал гибель Кубе и расстилался перед фашистами, призывая к борьбе с большевиками и партизанами, все сошлись на мысли: лучше всех это сделает Иван Шнигирь. А чтобы было больше уверенности, «привязали» к нему потомственного минчанина — неприметного, но непоколебимого в убеждениях и поступках Костуся Немчика. Тем временем золотая осень притомилась, остановилась отдохнуть у воды. Утомленные рябины окутались сероватой вуалью, ниже нагнулась черемуха. Над порыжевшими пожнями и лугами поплыли косматые туманы. В середине октября, правда ненадолго, выпал даже снег. Деревья не успели сбросить свой наряд, листья с кленов слетали по одному, нехотя отрываясь от веточек. Черенки листьев перевешивали, и они, вонзаясь в снег, стояли в нем, как натыканные детьми. Потом снег, конечно, растаял, но все равно было холодно, слякотно. Сырым, ненастным утром и отправились Шнигирь с Немчиком в Минск. У каждого была своя легенда. Батальон, в котором служил Иван Шнигирь, на днях принял под Вилейкой бой с партизанами, и Ваня должен был передать в «Беларусскую газэту» траурную статью об одном из убитых командиров и пригласить спадара редактора на его похороны. Немчик же должен был зайти в редакцию по более прозаическому делу — о будто бы пропавшей корове.
Непредвиденные обстоятельства начались сразу — как только ребята назавтра поднялись на третий этаж, где помещалась редакция. Оставив товарища на лестничной площадке, Шнигирь вошел в коридор. Отыскал дверь с табличкой «Редактор» и заглянул в нее. Увидел большую комнату со столиком, за которым сидел прилизанный молодой худощавый парень, и вторую дверь. Она была открыта, и через нее доносились стук пишущей машинки и голос человека, который что-то диктовал.
«Он!» — подумал Шнигирь и хотел войти туда. Но дорогу ему преградил прилизанный парень. Выслушав со склоненной на плечо головой Ванины объяснения, он взял у него статью и, придя в замешательство, попросил зайти через час. Это явно значило: Козловский не принимает незнакомых посетителей без предварительной проверки, и смешно надеяться, что он поедет по каким-то приглашениям. Что оставалось делать?
Переждав час в сквере на площади Свободы, парни возвратились назад. Приняли новый план. Немчик входит в приемную первым, за ним появляется Шнигирь. Пробравшись во вторую комнату и встретив Козловского, пускает в ход финку. Немчик же, выхватив из кармана пистолет, заставляет тех, кто окажется при этом, поднять руки.
Потом они, страхуя один одного, попробуют смыться.
Однако не успел Шнигирь переступить порог коридора, как услышал крик. Из приемной вслед за Немчиком вывалилась толпа.
Вцепившись в него, как рак, вопя громче других, прилизанный старался его задержать. Увидев Шнигиря, бросился с просьбой помочь доставить подозрительного типа в полицию.
— Она здесь напротив, спадар унтер-офицер! — выкрикнул он, глотая слюну. — Наверно, заметили дежурные мотоциклы и постового…
У смелых людей решение в критические минуты приходит мгновенно. Шнигирь рванул из кобуры наган.
— Стой! — гаркнул он на Немчика. — Это еще что? Документы! Всех, кроме шефа, прошу разойтись по своим местам! Спокойно!..
Еще в Лысой Горе он изучал фотографию Козловского. И когда с ним остался низкорослый, с выпяченной грудью и потрепанным, как после выпивки, лицом человек, Шнигирь выстрелил в упор.
Форма эсэсовца спасла Ваню. Немчик также добрался до площади Свободы. Но тут постовой полицай, который погнался за ним, подставил ногу и, навалившись, вывернул ему руку. Дальше, как и следовало ожидать, совершилось страшное — в вонючем застенке СД Немчика долго пытали, а потом, облив бензином, подожгли…
Самобытной, колоритной фигурой был и Саша Каминский — плотный, атлетически сложенный крепыш с серыми навыкате глазами, что встречаются у дерзких, ухарских людей. Пришел он в группу «Соседи» также не очень давно, но по всему было видно — скучал, выполняя мелкие задания, и блуждал по деревне так, будто носил на плечах груз.
Лысую Гору не обошло поветрие сорок первого года — на перекрестке улиц стоял дубовый крест, обвитый вышитыми рушниками. Правда, рушники никто уже не менял, они заплесневели. На крест перестали обращать внимание. Только во время последней бомбежки Минска, огни которого виднелись ночью, старенькая бабушка Христина, став на колени, молилась еще на него — просила бога помочь побить гитлеровцев.
Однажды я встретился здесь с Сашей.
— Какой чудак ставил это позорище? — дернул Саша крутым плечом, пожимая мне руку, — он легко знакомился и сближался с людьми.
Я усмехнулся:
— Видимо, тот, кто искал поддержки.
— От кого? — возмутился Саша.
— Ну, скажем, от всевышнего… А может, просто хитрил. Хитренько желал умилостивить гитлеровцев. У них же на пряжках также написано: «Gott mit uns»[10].
— Все равно не понимаю! По-моему, пожив при советской власти, стыдно быть холуем и у самого пана бога!..
Фома Хвесько собрал о нем сведения. Выяснилось: родом Саша из Сморгонщины, комсомолец, бывший оперуполномоченный, депутат районного Совета. Был послан служить в минскую полицию, держал партизан в курсе полицейских новостей, передавал патроны, оружие, гранаты. Но попался — вечерком на квартиру, где он жил, наскочил начальник полиции, сделав обыск, нашел под половицей пистолет. На проволочном поводке, привязанном к правой Сашиной руке, повел в участок. Да не на того нарвался. Улучив по дороге момент, Саша оглушил начальника ударом литого кулака и удрал. Через несколько дней, идя со старой квартиры, куда ходил за своим не обнаруженным начальником полиции пистолетом, снова напоролся. Только уже на меньшее начальство — унтера, ехавшего на велосипеде по пустой улице. Унтер остановил Сашу, но тот обезоружил его и, поставив лицом к забору, приказал стоять и не оглядываться. Сам вскочил на велосипед и исчез. Но оставаться в Минске уже не было никакой возможности.
Однако и дороги в родную Налибокскую пущу были перекрыты — гитлеровцы как раз проводили там карательную экспедицию. Так Саша на трофейном велосипеде попал в Лысую Гору — приехал со связным, тоже велосипедистом.
Вторым парнем, которого выделяли тогда из окружающих, был Женя Кунцевич — смуглый, симпатичный, с гордой, как у шахматного коня, головой.
Он работал в Минске механиком в гараже и появился в группе «Соседи» в немецкой шоферской спецовке, на «мерседесе-бенце» с самодельным красным флажком на радиаторе. Мелкие задания, которые он выполнял здесь, его тоже не удовлетворяли, и в темно-карих глазах Кунцевича часто вспыхивало невысказанное, острое раздражение. У него распалась семья, и он мучился. Неразговорчивый, замкнутый, держался обособленно от товарищей. Но те льнули к нему, чувствуя в нем сильного, непреклонного человека, которому можно довериться в любых обстоятельствах.
К тому времени были найдены подходы и к бургомистру Минска Вацлаву Ивановскому — председателю Рады доверия, сформированной Кубе при генеральном комиссариате Белоруссии. Ивановский открыто сотрудничал с СД и носился с идеей укрепления так называемого корпуса самоохраны. Еще большей крови могли стоить разработанные им для комиссариата рекомендации по борьбе с партизанами и инакомыслящими.
На совещании, состоявшемся в той же Лысой Горе, Хвесько, Батя Мороз, который вел оперативную работу в группе «Соседи», и Дмитрий Петухов решили вывезти бургомистра из Минска живым. Для этого наметили несколько планов. Организовать вечеринку и взять Ивановского «тепленьким», когда наш связной, которому бургомистр доверяет, поведет его домой. Перенять Ивановского в руинах, когда будет возвращаться с работы на Ратомскую, где живет. Предложить Ивановскому встречу с командиром партизанского отряда, который будто бы борется на два фронта — с гитлеровцами и большевиками, и с конспиративной квартиры доставить уже в Лысую Гору.
Однако арест Захара Гало, который всем казался надежнейшим из надежных, убийство Акинчица, Кубе, Козловского напугали бургомистра. Во время приема посетителей он начал ставить за гардинами полицейских и, куда бы ни направлялся, старался ездить в пролетке. На предложение нашего связного принять участие в вечеринке он ответил удивленным, полным подозрительности взглядом, после чего навязывать ему встречу с мифическим командиром мифического партизанского отряда стало тоже неразумным.
Томясь и волнуясь, меняя квартиры, Каминский с Кунцевичем впустую пробыли в Минске несколько дней. Видя — иного выхода нет, пошли на крайность. Засев в пустой коробке дома напротив управы, выследили при помощи связной Ивановского и, когда тот сел в пролетку, побежали следом. Догнали только около Желтой церкви, у поворота с Немиги на улицу Островского. Выбежав на мостовую, Кунцевич схватил лошадь за уздечку и остановил ее. Каминский использовал это и вскочил в пролетку.
— Ни слова, спадар, слезайте! — бросил с угрозой. — Убивать мы вас не собираемся и гарантируем жизнь!
Но, увидев — бургомистр вытаскивает из кармана пистолет, вырвал его из дрожащих рук бургомистра и схватил того за ворот.
Все, что случилось, не укладывалось в голове. Светило солнце, по тротуарам шли люди, невдалеке обосновалось смоленское СД — и бургомистр закричал, взывая о помощи. Кучер гикнул, дернул вожжами, надеясь — лошадь подомнет Кунцевича. Что было делать? Каминский из всей силы рванул предателя к себе и вместе с ним вывалился на мостовую.
— Стреляй! — крикнул товарищу.
Потом они бросились бежать: Саша Каминский — в руины Нижнего базара, Кунцевич — за церковь, к Татарским огородам.
Вернулись мы с аэродрома по первопутку. Дорога была тяжелая — сначала слякоть, грязь, потом замерзшие кочки, снег. На ступицах и спицах колес намерзла земля, они вращались плохо. Неподкованные лошади ступали неуверенно, скользили.
Зато мы доставили оружие, боеприпасы, белые дубленые кожушки, шапки-ушанки, маскхалаты, даже теплые рукавицы с двумя пальцами. И нужно было видеть восторг партизан. Каждый радовался новому автомату, «ТТ», теплой одежде, тому, что и о них не забывает, беспокоится Большая земля, у которой столько хлопот.
Все собрались в просторной, чистой половине избы, которая служила нам столовой. Будто придя на пирушку, сели за стол лицом к середине комнаты. Задумчиво кивая головой, сутулился в ожидании Кунцевич. Вынул из кармана брусок и тесак из ножен Петро Деревянко. Положив сильные руки на колени, подался вперед от нетерпения Саша Каминский. Радистки, пристроившись на лавке у стены в углу, бросали оттуда взгляды и, как женщины, замечали все.
Не сел один Володя Кононов. Стоя в своей любимой позе — широко расставив ноги, он хитровато улыбался, играл глазами и хлопал себя рукой по бедру. Когда очередь дошла до него, ловко надел обновы, зная, что его с интересом изучают радистки, козырнул и прошелся строевым шагом по комнате.
— Вот и побогатели, — бросил весело: он любил делать обобщения. Потом подошел ко мне, наклонился к уху: — Когда я тот раз попал в Витебск, мама угощала меня картошкой и тушеной свиной кожицей. Перед войной смалить кабанчиков запрещалось, и недалеко от нас был склад этих кож. Так мама мне все картошку пододвигала, а я на свинину налегал… Весело было, как сейчас…
Саша Каминский, примеряя белый, немного узковатый ему кожушок, заволновался, как маленький. Вытащив откуда-то комсоставский ремень с портупеей, подпоясался поверх кожушка и гордо осмотрел себя, как мог, без зеркала.
— Здорово! — похвалил и похвалился. — Теперь бы майорские погоны — и порядок. Вот если бы мне его тогда, при встрече с бургомистром, разве я так бы с ним разговаривал?
— Тебе еще мало? — подковырнул Деревянко, не оставляя своего привычного занятия.
— А ты точи, точи, — туже подтянул ремень Саша. — Мне не стыдно, что мало. Я мститель!..
Рассматривая украдкой его плотную — косая сажень в плечах — фигуру, я представлял, как он укрощал бургомистра, как кричал Кунцевичу: «Стреляй!»
Я не был боязливым. Но смелость моя, как казалось, возникала из наивной веры в непременную удачу. Она была, пожалуй, непроизвольная, импульсивная. У Саши, видимо, дело обстояло иначе. Нет, он также, безусловно, верил в свою звезду. Но эта вера возникала от чувства собственной силы, из уверенности — его сила больше, чем у того, против кого выступает, и потому обязательно принесет ему победу. Сашино мужество, повторяю, было осознанное, деловое. Его поступки в критический момент были глубоко продуманными, целесообразными, он до конца оставался трезвым в своих решениях. Чтобы выйти, скажем, из города, ему нужно было перебраться через Свислочь, и Саша выбрал единственно правильное — риск, — попросился на телегу ломовика, который вез муку, и таким образом миновал постовых, стоявших на мосту. Женя Кунцевич, как и Петр Деревянко, прежде чем броситься убегать, подобрал портфель Ивановского, а пристрелив у Татарского моста эсэсовца, который пытался задержать его, не забыл сорвать офицерские погоны, нашивки, прихватить пистолет, документы…
Я думал о них, и мне хотелось взять их трезвую решительность себе.
Да радость во время войны редко не омрачается бедой.
Я уже говорил, в нашем районе возникло своеобразное равновесие сил — пролегла граница, установились свои особые порядки по одну и по другую ее стороны. Немцы не совались к нам, мы также только по ночам переходили новоявленную границу. Даже наше отношение к населению, которое жило за этой чертой, было иным, чем к тому, которое было рядом. Согласно неписаному закону там можно было реквизировать скот, упряжь, повозку, — считалось, они все равно достанутся черту лысому. Так пускай местные сельчане помогают хотя бы этим. Потому партизаны нередко выезжали за шоссе на хозяйственные операции.
Кормили нас Слижинцы. Но группа росла, продовольствия, особенно жиров, не хватало, и приходилось искать дополнительные источники. Где? Яша Шиманович, выполнявший обязанности председателя, бился как рыба об лед. Он и высказал мысль о подобной операции.
Поехали в тот раз на двоих санях — Кононов, Деревянко, Шиманович, Луцкий…
Снег уже наглухо укрыл землю. И хотя прижал ядреный морозик, дорога была ненаезженная, ребята хорошо чувствовали себя — к ночным вылазкам и походам привыкли. В сознании укоренялось: ночью ты везде хозяин, и тебе должно везти.
Возле Паперни, где стоял гарнизон, заглянули на хутор. Самого хуторянина-полицая не оказалось, но зато в сарае лежали корова и телка — без хозяина на ночь худобу в гарнизон не повели. Привязали к оглобле за рога телку и, покончив с главным, направились поискать еще чего-нибудь в клети. Да тут недосмотрели — дряхлый дедок, который до сих пор лежал на печи, куда-то исчез. Когда же спохватились, было поздно. Возмущенные, забрали и корову.
Подул ветер. Низом шало поземку. Ехать трусцой не приходилось, — упираясь, рядом с лошадьми ковыляли корова и телка. И хотя это было небезопасно, парни поудобнее легли на сани и, пряча от ветра лица, притихли, готовые к дальней дороге.
Неспокойным остался один Деревянко. Взяв напарника, пошел дозорным впереди подвод.
О чем он думал? Что переживал? Теперь можно только догадываться. Не дойдя до сосняка, в котором, вильнув, скрывалась дорога, он вдруг услышал, как залязгало железо. Шепнув напарнику, чтобы бежал к остальным и повернул подводы обратно, он, как бы ничего и не случилось, зашагал навстречу опасности.
Деревянко необходимо было время, он тянул его и потому не успел упасть, откатиться в кювет — очередь резанула его по ногам. Петро, который и так увязал по колено в снегу, уменьшился еще и будто провалился в него. На мгновение оглушая, наступила тишина и муть. Но потом стало видно, как из снега вырвался огонь и застрочил автомат — Петро опередил залп.
Те, кто был в засаде, допустили две ошибки — не загнали патронов в каналы стволов и засели по обе стороны дороги. Так что и убить Деревянко им удалось только тогда, когда, понеся потери, пустили в ход гранаты с длинными деревянными ручками.
Разъяренные неудачей, зная — если мертвого бросить здесь, за ним рано или поздно придут, — они оттащила тело Петра на обочину и заминировали: тронь — и взорвешься вместе с ним. Да разве удержит такое, когда спасаешь товарища?
Похоронили мы Деревянко на Слижинском кладбище. Произносили речи, клялись, салютовали. Но совсем не верилось, что под свежей грудой песка, среди заснеженных и потому еле приметных могил сельчан, лежит он, упорный, неугомонный душа-парень.
Ранней весной мне поручили искать подступы к новому генеральному комиссару Белоруссии. Это была не менее зловещая, чем Кубе, фигура. Фон Готтберг учинял кровавые побоища за побоищами. На его совести была одна из самых массовых и страшных акций — операция «Чарующая флейта», во время проведения которой Минск был осажден, как вражеская крепость. Были мобилизованы вся полиция безопасности и СД Белоруссии, второй полицейский полк СС, Особый батальон Дирливангера, усиленная штабная рота, части вермахта, размещенные в Минске 12-я танковая рота, охранные части железных дорог Белоруссии, аварийный отряд в Минске… Солдаты внешнего окружения стояли через каждые двадцать пять метров. Город был разбит на квадраты, обыскам подвергался каждый дом.
Пятьдесят две тысячи минчан были арестованы тогда. Минск вообще все время находился на осадном положении — обыски, облавы, аресты… Только в бараках Грушевского поселка было сожжено живыми полторы тысячи человек. А сколько схвачено и отправлено на каторжные работы в Германию! И все это с ведома и по распоряжениям Готтберга, чей мозг маньяка рождал самые ужасные планы репрессий.
Михаил Гонцов, который был теперь за командира и давал мне задание, волновался сам. Проводя ладонью по узкому, бледному лицу, он не старался, как обычно, смотреть на того, с кем разговаривал, а поглядывал в окно — на пустую, наезженную до блеска улицу, где стрекотали сороки.
— Это коварный тип… — почесывая бровь, подбирал он слова. — Засекретился так, что и информацию не соберешь. Пока известно только, что облюбовал бывшие правительственные дачи в Дроздах и довольно часто приезжает туда после работы.
— Значит, ставка на Дрозды? — спросил я, понимая: этот выбор сделан потому, чтобы в случае удачи избежать невинных жертв.
— На Дрозды! — уже твердо ответил Гонцов и уставил на меня серые трепетные глаза. — Но много тебе не дам. Назову только одного из Чучанов. Бывшего лейтенанта, из окруженцев. Живет во второй избе от конца. Полагаю, что сотрудничать согласится.
Смерть Деревянко подтянула нас. Перед походом каждый почистил оружие, для удобства пришил к рукавицам шнурок и пропустил его в рукава кожушка, забинтовал ложе автомата в белое. Когда затемно мы вышли из Радькович, сами удивились: в маскхалатах наши фигуры растворялись в сумерках,
Ночь выдалась мутная, темная, как бывает в оттепель. Перейдя Радашковичское шоссе, пошли извилистыми полевыми дорогами — на них немцы засады не ставили. Лес обходили окраинами. Он стоял черный, молчаливый, и, может, впервые казалось: опасность идет от него.
Когда до Чучанов было совсем близко, внезапно темноту разрезали лучи прожектора. Осветив дорогу, начали щупать ее. Мы попадали в снег, замерли на месте, ослепленные, почувствовали, как лучи впились в нас. И пока слепили, шевелилось, жило ощущение — вот сейчас шарахнет пулемет и тебя прошьют пули.
— Новость! — как после тяжелой работы, причмокнул Володя Кононов, когда лучи погасли. — Перешли к обороне и здесь..
Подкрались мы к избе Ивана Володько огородами. В наброшенном на плечи ватнике дверь открыла бабуля. Поверив нам как-то сразу, пропустила в чистую половину и, не зажигая огня, затараторила, приглашая садиться.
Шлепая босыми ногами, на середину избы вышел полуодетый детина. В окна еле цедился беловатый свет, но можно было заметить — он высок, широкой кости. Видно было и как, прикрыв обеими руками рот, он зевает — то ли от волнения, то ли оттого, что внезапно проснулся.
— Что это у вас за прожектора? — поинтересовался я, желая завязать с ним разговор.
Но старуха забежала с ответом вперед — хозяйкой здесь, видно по всему, считалась она:
— Это на вышках в Змиевке поставили. Чуть что — и включают их. А потом из миномета начинают бахать, нелюди. В прошлом году одни из охраны перешли на сторону партизан, так потом других пригнали, более верных. Живем как у самого фронта…
Как будто в подтверждение ее слов за окнами блеснуло, посветлело, и ухнул взрыв — один, второй.
Иван оказался тихим, усмешливым парнем с детскими глазами, в которых, правда изредка, мелькала хитринка. Нельзя сказать, чтобы мое предложение обрадовало его, но наше обмундирование напомнило ему армию. Да и Володя Кононов напомнил об армейском уставе, присяге, и это сделало хозяина сговорчивым. Из людей, которых он мог рекомендовать нам, Иван назвал соседа Лесницкого и рыбака из Заречья — Петрика»
Я прикинул. И Лесницкий, и Петрик были кстати: один давал нам возможность укорениться в Чучанах, другой — немного приблизиться к цели. Подставлять теперь Володько под лишнюю опасность не стоило — от него должна была потянуться тропинка дальше. Я посоветовался с Кононовым, и мы договорились дневать у Лесницкого — в каменном домике, в конце деревни. Правда, мимо нее проходила дорога в Семков Городок и Змиевку, но зато от нее было ближе к березнячку — месту неизменного, хотя и относительного, спасения.
Занималась заря. Измученные дорогой, мы отказались от пищи и, когда ловкий, преданный Лесницкий провел нас в узкую спаленку, попадали кто на кровати, кто на пол. Однако не прошло, казалось, и несколько минут, как меня уже растормошил хозяин.
— Немцы, товарищи! Вставайте! — будто прося извинения, прошептал он, бледнея от собственных слов.
В окно било яркое солнце. Я вскочил и глянул на улицу — к нашему дому подъезжало несколько облепленных солдатами саней. На передних с растопыренными ножками стоял нацеленный на дом пулемет. Я быстро поднял ребят. Вслед за хозяином мы прыгнули в сени.
— Теперь только туда! — показал Лесницкий на сеновал, что был под одной крышей с домом.
По лестнице мы взлетели на сеновал. Убрав за собой, как трап, лестницу, замерли с наставленными автоматами. «Неужели кто-то выследил и донес?»
О том, что происходило снаружи, сейчас можно было судить лишь по звукам. Правда, между крышей и стеной светилась незашалеванная полоса, но через нее виднелся только пожелтевший у стены снег. Мы прислушались…
Вот взвизгнули ворота. У дома зашаркало несколько пар ног. Вот кто-то сердито загерготал. Потом скрипнула дверь в сенях, в избе… Я вздрогнул и вдруг почувствовал — на меня глядят: подойдя к стене и задрав голову, под крышу всматривался рыжий, веснушчатый солдат. Он щурился, кривил губы и как бы что-то старался понять. Я не мог ни отклониться, ни отступить — это выдало бы нас. Надеясь — солнце, свет, которого так много на дворе, не дадут ему увидеть меня, — я только направил на него автомат. И в этот миг взгляды наши встретились. «Пальну, если встревожится, — все же удержался я. — Если встревожится, тогда…»
Я никогда так внимательно и близко не смотрел в глаза врагу. Я видел его суженные и потому злые зрачки. И сами глаза — золотистые, цвета спелого желудя… Кто он? Судя по простому худощавому лицу, по крепким, жилистым рукам, в которых он держал автомат, трудяга. Может, даже рабочий.
Так какая же тогда сила пригнала его сюда, заставила стать нелюдем, проявлять инициативу? Не страх ли — очень далеко зашел, и нет дороги назад…
Трудно сказать, как бы все повернулось, да тут послышался голос дочери хозяина:
— Пану солдату что-то нужно? Да? Так пусть пан скажет…
— Фуру… — буркнул тот, подбирая более понятные слова.
— Куру? — не дошло до девушки. — Подождите, я сама поймаю!
— Фуру, — упрямо повторил солдат и скосил на нее глаза, — в темноте, что господствовала на сеновале, он меня не заметил…
Когда, взяв Лесницкого с лошадью, они уехали, мы спустились на землю. Показалось: пробыли на сеновале долго, так долго, что проголодались — всем очень хотелось есть.
Обстоятельства, другие встречи помешали нам на следующий день пойти в Заречье, и мы попали туда только через неделю-полторы, побывав на своей базе. От Чучанов проводником взяли Ивана Володько, который за это время связался с Петриком и поговорил с ним. Взяли мы с собой Ивана не только потому, чтобы показал дорогу и был посредником. Ему, домоседу, человеку, не склонному проявлять инициативу, необходимо было возбуждение, полезно было побыть в компании наших ребят. Ибо в задуманной операции он мог понадобиться, и в первую очередь как старожил, который прекрасно знал окрестность.
Заречье приютилось на противоположном, более высоком берегу Свислочи и, как все приречные деревни, тянулось вдоль берега. Петриков дом — под жестяной крышей, со ставнями, срубленный, по-моему, на немецкий угол, — стоял у самой реки, на излучине. За теплые дни лед на краях подтаял, и нам пришлось класть от берега доску, которую хозяйственный Иван Володько прихватил по дороге. Под ногами прогибалось, потрескивало, и мы двигались по льду как на лыжах.
Петрик принял нас с суровым гостеприимством. Приземистый, коренастый, неторопливый в движениях, на крыльце поздоровался с каждым за руку и, войдя в дом, запущенный, будто нежилой, зажег керосинку.
— Ставни закрыты, — объяснил. — Окна эти на Свислочь. Так что не страшно. Да и в деревне, на том конце, осталась одна собака. Если что-либо, залает.
Кругловатое лицо его заросло щетиной, рыжеватые брови нависли над глазами, а весь он был нахохленный, угрюмый. Я знал — Петрик вдовец. Не так давно трагически погибли его жена, дочь, сын. Невестку отправили в Германию, и несчастный человек живет — прозябает один, нелюдимо, только с внуками-малолетками.
— Нам нужна от вас помощь, — мягко сказал я.
— Об этом потом, — исподлобья рассматривая наши маскхалаты и забинтованное оружие, бросил он. — Раньше подкрепитесь.
— А есть чем?
— В беде люди находчивы. А не хватит своего, одолжу.
— Ночью?
— Привыкли и к этому. Назло… Вот только дети связывают…
Дневали мы в лозняке, росшем на более низкой стороне Свислочи, против Заречья. Под утро вода пошла поверх льда и как бы отгородила нас от деревни. Но через кусты можно было наблюдать, что делается в деревне. С другой стороны в просветах между кустов виднелась и даль — каменистое, бугроватое поле, лес в конце его.
Володя Кононов лежал со мной рядом. В белом капюшоне лицо его выглядело совсем юным, глаза поблескивали. Суровая угрюмость Петрика поразила его. Он смотрел на высокое, посветлевшее небо, которое, когда лежишь на земле, всегда кажется недостижимым, пробуждает мысли, и не мог уснуть. Догадываясь — сон также не идет и ко мне, — зашевелился.
— Ты мог бы жить, как он?.. — спросил тихонько и, чтобы видеть меня лучше, повернулся на бок, положил под щеку руку в рукавице. — Говорят, сына его ошибочно расстреляли партизаны. Посчитали, что ходит в Ждановичи и Минск информировать немцев. Петрик как будто в этом лозняке его нашел. Пострадал и от врагов, и от своих… Сомнений у тебя нет?
— Нет, — ответил я, чувствуя, что заболело сердце. — Он иной породы. Да и внуки тянут не к предательству.
— Это правильно, я перед походом сюда крутил у радисток солдат-мотор, а потом слушал последние известия. Победа не за горами. А она подгоняет, подсказывает кое-что. Дороже стали и жизнь, и завтрашний день, и ордена…
— У Петрика, по-моему, это глубже, трагичнее. Он служит, несмотря ни на что…
Когда совсем рассвело, стало видно — за полем, у леса, маячат фигуры солдат. Деревня тоже проснулась, по ней начали сновать люди, с резгинами, корзинами, так просто — без всего.
— Ну ты! — долетел ломкий окрик подростка. — Мама, собирайся быстрее!
Кононов попросил у меня бинокль и навел на лес.
— Военнопленные, должно быть. Или согнали из деревень лесорубов и охраняют, — сказал пренебрежительно и, вернув бинокль, смежил глаза.
Это открытие будто успокоило его, и он через минуту засопел носом, уснул.
К вечеру все прозябли так, что еле дождались, пока затихла деревня. Довольные — можно размяться, побить себя руками, — несколько минут мы скакали на своем лежбище и, немного согревшись, подались опять к Петрику, который обещал отвести нас в Банцаревщину, к лесничему Ксеневичу.
Из Заречья вышли гуськом — далеко впереди Петрик, за ним, друг за дружкой, мы. Ночная дорога кажется более длинной. Зато не так чувствуется опасность — ты ничего не видишь вокруг, значит, не видят и тебя. Плелись мы долго, полем, с единственной заботой— держать принятый порядок. Не доходя до леса или, может, просто кучки деревьев, что неожиданно выросли впереди, Петрик остановил нас — там протекала речушка, и ее нужно было переходить по кладям.
— На них ждановичские вояки временами караулят, — хрипло проговорил он. — Я сам сначала проверю…
Это вернуло ощущение реального. В Ксеневичев дом, небольшой, но, если не ошибаюсь, под шатровой крышей (я никогда днем не видел его), мы вошли втроем — Петрик, Володя Кононов и я. Что мне бросилось в глаза? Скромный, давно забытый уют. Война будто не заглядывала сюда — половики, скатерки, чистота. Покой, вежливость шли и от самого хозяина — среднего возраста, с открытым, хорошо очерченным лицом.
Он не то чтобы обрадовался, а как бы почувствовал облегчение, будто ожидал нас, и мы пришли.
— Мать! — сказал лесник негромко, зная — за стенкой жена тоже не спит и прислушивается. — Поспеши, мать!..
Когда Петрик пошел к ребятам, я заговорил о его обходе.
Ксеневич заулыбался.
— Что обход! Сначала кое-кто бросился было сгоряча рубить. Но вскоре поостыли. В доме отдыха немцы, на правительственных дачах немцы, не слишком развернешься.
— И на дачах? — как бы удивился Володя Кононов.
— А вы думали! Туда вообще носа нельзя сунуть. Сигнализация, охрана, собаки. Даже по Свислочи на лодке не покатаешься. Пацаны попробовали там рыбу ловить, так десятому заказали.
Догадался ли Ксеневич о причине нашей заинтересованности его особой? Возможно. Но виду не подал, хотя долго еще говорил о дачах, о бывшем правительственном шоссе, которое ведет туда из города, о Крупцах — деревне, стоящей при шоссе. Намекал: имеет там знакомого — дорожного мастера.
Банцаревщина сделалась нашим опорным пунктом. Отсюда мы взяли под контроль окрестность, проложили еще одну тропу в Минск. Сюда из масюковского лагеря военнопленных, где как раз активничал уполномоченный РОА, потянулась надежная ниточка. Через домик Ксеневичей к нам пошло пополнение. Тут встретили нас удачи… Сначала подспудно, потом открыто трудилась весна. Почернели поле, лес. Расквасило дороги. На Свислочи отшумел ледоход. И теперь, чтобы переправиться через нее, нужно подавать хозяину знак, чтобы гнал лодку.
Шныряя однажды под Масюковщиной, мы набрели на жилье — хозяйственные строения и довольно большой дом, обсаженный деревьями. Отсюда было слышно, как лаяли сторожевые собаки в лагере военнопленных, и я приказал ребятам окружить дом.
— Кто там? — испуганно отозвался женский голос из-за двери, когда Володя Кононов постучал в нее.
— Советская власть, — ответил он серьезно.
Окна в комнате, куда нас пригласила издерганная, с обвязанной головой женщина в халате, были зашторены. Горела лампа. На покрытом клеенкой столе пустые бутылки, тарелки с недоеденной закуской. В душном, тяжелом воздухе запах водки, жареной свеженины, каких-то лекарств.
Хозяин вышел к нам заспанный, взлохмаченный, с красным пятном на помятой щеке. Застегивая на ходу пижаму, вдруг разозлился на женщину, которая, зажав в горсти борта махрового халата на груди, прислонилась к буфету.
— Иди, иди, богом прошу, — скривился он и виновато улыбнулся нам. — Простите, у каждого нервы. Вот даже выпил для разрядки.
— Выпили? А под боком в Масюковщине умирают! — указал ему на такое несоответствие Володя Кононов.
— Простите… Присаживайтесь…
Хмель еще бродил в нем и мешал как следует оценить положение, держать себя в руках.
Я ждал: он сейчас заговорит и будет говорить уже не по своей воле. Охваченный порывом самоунижения, возможно, начнет сетовать на себя, на обстоятельства, в которые попал. Но получилось не совсем по-моему. Новинченко — такой была его фамилия — начал изворачиваться, исподволь, с пьяной хитростью набивать себе цену. Он бухгалтер на торфяном предприятии: «Надо же как-то жить», с рабочими ладить: «Сам не проживешь, если другим не дашь», имеет товарищей и в Масюковщине, и в Минске: «Не выветрились еще прежние традиции!» Да, назвав среди других фамилию Рябушки, вдруг вспотел, подался было открывать форточку.
Это мог быть член Рады доверия, шеф «профсоюзов», которого не так давно за верную службу посылали на экскурсию в Германию.
Я насторожился:
— Рябушка?
Новинченко поперхнулся, кашлянул в кулак.
— Он иногда приезжает отдохнуть с двустволкой. Константин когда-то также работал бухгалтером.
Наступило молчание. Полные щеки Новинченко — и даже та, належанная, — как бы одеревенели и похудели.
— Он что, интересует вас? — глубоко вздохнул и, отдышавшись, выдохнул воздух.
— У него, видимо, есть о чем рассказать, — пожал я плечами. — Потому не мешало бы с ним познакомиться.
— Это каким образом?
— Ну, скажем, пригласить его на охоту.
— Охоту?.. Да! — опять вздохнул он и искоса посмотрел на листок бумаги, который пододвигал ему Володя Кононов, попросил ручку. — Живу как в гостинице. В чернильницах, поверите, все чернила высохли…
— Среди людей есть шлюхи. А может, чего доброго, и среди шлюх есть люди, — невесело пошутил Володя Кононов, когда мы вышли к ребятам.
— Потом сам будет благодарить, — согласился я с ним.
Идя обратно на дневку под Заречье, мы, как и было условлено с вечера, свернули к Ксеневичам. Они не спали. В знакомой уютной светлице сидел гость — пожилой мужчина с грустными, казалось погасшими, глазами. Увидев нас, не шевельнулся и только, когда хозяин подвел меня, протянул руку.
— Дорожный мастер Нестерович, — сказал глухо. Сведения о нем мы собирали осторожно, по крупице.
Дорожный мастер — золотые руки. Дом стоит особняком у края деревни, на пригорке. Живут Нестеровичи замкнуто, вдвоем — он и тяжело больная жена. Единственный сын, о котором старики часто вспоминают, в Красной Армии. Если взобраться на чердак их дома, в слуховое окно хорошо видно шоссе, до которого метров пятьдесят. Как раз напротив бетонная труба, пролегающая под шоссе, кучи камней, приготовленных для ремонтных нужд. Лучшее место вряд ли можно найти.
Видя — первым говорить он не собирается, я подсел к нему, развязав на шее плащ-палатку.
— Как чувствует себя жена, Иван Николаевич? — спросил я, щадя его самолюбие и жизненные беды, угнетавшие старого человека.
— Ничего, спасибо, — не захотел прибедняться он. — Камень и тот не вечный. Но в нашей крестьянской жизни свои законы — как бы там ни было, а жито сей.
— А как тогда с войной?
— Так и с войной. Я о ней и говорю. Задача врагов — уничтожить нас. Значит, наша задача — сопротивляться. Делать свое вопреки им. Ибо на то мы и люди.
Было ясно: он предлагает свои услуги. Неизвестной осталась только мера его решительности, и, чтобы подкрепить ее, отблагодарить старика за то, как мудро и просто решает он все, я спросил: не хочет ли он получить весточку от сына?
Нестерович вздрогнул.
— Так вы и о нем знаете? Молодцы. Только каким образом вы все это смастерите?
— Свяжемся по радио с Большой землей, попросим поискать, как и что с ним.
— Молодцы! И какую ношу вы на меня взвалите? Теперь же жена и та будет за вас…
Ксеневич пошел провожать Нестеровича, а мы, перекусив, двинулись под Заречье, чтобы передневать и податься к себе на базу, — нужно было отчитаться и принять окончательное решение.
Шагая за ребятами, я, возможно, впервые так по-хорошему волновался и был полон мыслями. Операция, дорого стоящая каждому из нас — тело одного из группы даже обсыпала крапивница, — приближалась к завершению. «Как бы там ни было, а жито сей», — вспоминалось мне, и сердце мое полнилось уважением к гордому старому человеку, для которого выполнение долга естественная жизненная функция. Уточнив некоторые аспекты, Гонцов одобрил план. Правда, чувствовалось, он чего-то недоговаривал, имел в мыслях свое. С поднятой по привычке головой прошелся по комнате, круто, по-военному, делая повороты. Поиграл планшетом.
— Добро! — резюмировал. — Будем рвать бетонную трубу. А Рябушку возьмем живым и приведем сюда…
В скором времени на аэродроме Вилейского межрайонного партийного центра мы принимали груз. Понятно, не обошлось без казусов. Вместо пяти сброшенных парашютных тюков в наши руки попало три, и понадобились довольно большие усилия, чтобы аэродромная охрана через день возвратила остальные — на вес золота ценилось такое богатство среди партизан.
Ставить в бетонную трубу мину натяжного действия и вести шнур на чердак Нестеровичева дома было нельзя — его не замаскируешь. Пришлось искать кабель, электровзрыватели, батарейки, проверять, как будет выглядеть и действовать подобная конструкция.
Тем временем после нескольких походов связной под Масюковщину направили Сашу Каминского и Алексея Дубеню — такого же, как Саша, смельчака. Они заставили Новинченко выполнить обещание — съездить в Минск и пригласить Рябушку. Дневали в соседней деревне Боровки или в Новинченковом сарае, на сене, наблюдая за двором и недалекими торфоразработками, где с лопатами копались пленные и похаживали часовые. Рябушку Новинченко завел в сарай, будто бы показать свое хозяйство. Ребята приказали профсоюзному шефу поднять руки, отняли у него пистолет, документы и, продержав до вечера, вместе с гостеприимным хозяином повели на нашу базу.
Увидел я Рябушку в домике, где размещался наш штаб и жили Гонцов с Хвесько и Петуховым. Меня удивили его угловатая фигура и грубое, побитое оспой лицо с развитыми надбровными дугами. Люди иногда напоминают животных. Рябушка чем-то был похож на староватого ардена. И только цепкие руки да нелюдимые, прищуренные глаза изобличали в нем жестокого, хитрого человека. «Жлоб! — подумалось тогда мне. — Жилистый кулак, которого вынесло наверх…»
Гонцов попросил меня переночевать с Рябушкой, поговорить, поинтересоваться, что тот уже написал, подсказать, что интересует нас. И опять-таки, беседуя с ним при свете керосиновой лампы, я почувствовал: он явно набивает себе цену, надевает маску борца за идею. Да и строчил он свои показания, пожалуй, охотно, смакуя детали — вот, мол, какие мы и какие секреты знаем!..
Через несколько дней, вечерком, когда на небосклоне стали расти, громоздиться грозовые тучи, мы вышли в очередной поход. Весна в тот год выдалась без гроз и была холодноватая. Правда, первая гроза разразилась в конце апреля, при голом лесе, и пробудила у суеверных людей тревогу, это была плохая примета. Но потом, как по расписанию, во второй половине дня, тучи закрывали небо и проливались на землю мелким, почти осенним дождем. Не было даже ливней. И вот над горизонтом поднялись темные, с подпалинами, тучи, на которых внезапно проступила извилистая огненная жилка. И, хотя раскаты грома еще не доносились до нас, стало теплее.
— Дождь в дорогу — к добру, — сказал кто-то весело, игнорируя, что придется тащиться по грязи, под дождем, без надежды где-либо просушить одежду.
В этот раз мы уже несли тол — тяжелые, килограммов по пятьдесят ящики. Потому, когда стемнело совсем и до Радашковичского шоссе осталось не много, пришлось выделить дозорных и боковую охрану. Пошли с остановками — группа выжидала, а дозорные шли дальше, и один из них возвращался за остальными.
Где-то далеко грохотало, сверкали молнии, а мы шли и шли, по очереди сгибаясь под пудовыми ящиками.
Я знал, за Чучанами, в лесу, погреб-тайник. Кто его выкопал? Скорее всего сельчане или на лихой случай партизаны-подрывники для дневок… Спрятав тол под стог сена, мы отыскали этот тайник, спустились в него и, прикрыв специальной крышкой лаз, улеглись на кем-то подготовленных еловых лапках. Ноги, руки просили отдыха. И хотя гроза не пощадила нас — мы промокли, — в погребе было душно, лежать приходилось на боку, через минуту всех сморил сон.
Выбор пал на Ивана Володько и Леню Богданова — минера, присланного нам осенью с Большой земли. Им предназначалось заминировать шоссе, забраться на чердак и, выждав, когда вывезут хозяев, взорвать кортеж машин. Взрыв должен быть сильным. Не могли не сделать своего и дикие камни, которыми ребята должны были завалить толовый заряд. Всего этого, как предполагали, хватит на Готтберга и на его охрану… Ивана и Леню основательно готовил Гонцов, но им хотелось сказать собственное слово. Они лежали по обе стороны меня. Я слышал их дыхание, но так и не успел ничего сказать, провалился в небытие, хотя это желание не оставляло меня некоторое время и во сне.
Как выяснилось; гроза бушевала все утро, а дождь лил чуть ли не до полудня и, пока мы спали, обмыл лес и вволю напоил землю. Но потом, как бы наверстывая упущенное, пригрело солнышко. Между деревьями повис туман, который к вечеру спустился на землю. В дорогу мы направились уже в серой мути.
Стало беспокоить одно — не нарваться бы на засаду. Пришлось усилить разведку. С приключениями добрались до Свислочи. Петрик перевез нас на лодке, показал, как лучше по загуменью обойти деревню. Не спрашивая, зачем и куда идем, пожелал счастливой дороги — большое единение чувствуют люди в такие минуты.
До Банцаревщины и дальше шли, больше надеясь на слух, чем на глаза. И только когда достигли Крупицкого кладбища, откуда до цели оставалось совсем близко, туман поредел, — видимо, пал росой.
Обнимая Володько, Леню Богданова, жалея их и восхищаясь ими, я не выдержал:
— Такое, ребята, случается раз в жизни… Один только раз!.. Но вам повезет, как и нашим тогда, в Минске! — Будем надеяться… Надо… Чтобы повезло, — согласился Володько.
Мы простились. Нужно было торопиться — ночи становились короткими. Прислушиваясь, выждали, пока Володько и Богданов, по нашим расчетам, добрались до дома Нестеровича и с чувством облегчения повернули обратно. Нам совершенно было невдомек, что мы опоздали. Почти на сутки раньше Готтберг переехал в Борисов, чтобы оттуда руководить еще неслыханной доселе по своим размерам акцией.
Не успели мы, вконец изможденные, вернуться на базу, как нас потрясла новость — блокада!
После бурного обсуждения — оставаться на месте и, пока блокада не перекатится через нас, отсидеться в недрах Руднянского леса или отступить в болота Палика, куда блокада вряд ли дойдет, — большинство склонилось к отступлению. Точнее, было принято компромиссное решение: ядро группы — Гонцов, Хвесько, Петухов, Омелькин, я, радистки и некоторые связные направлялись на Палик, остальные же должны были искать тайники в ближайшем лесу. Наспех взялись готовить энзэ — сушить сухари, насыщать их соленым салом. Чистили оружие, проверяли боеприпасы. Командование устанавливало соответствующие связи с окружающими, отрядами, подпольным райкомом. Ребята из хозяйственного взвода копали ямы — для зимней одежды, зерна, имущества, которое неизвестно когда и как насобиралось.
Логойщина — сторона лесная, живописная. Май, дожди, пролившиеся в последние дни, сделали травы, кусты, деревья изумрудными. Они ласкали глаз и даже светились. Ожили запахи — прелой земли, молодого, клейкого листа, смолы-живицы. Шагая по дороге, переплетенной жилистыми, набрякшими корнями, видя по сторонам высокие сосны, папоротник, вереск под ними, не верилось: где-то за спиной горят деревни, льется кровь, лютует смерть. И только ноющий гул самолетов, которых вдруг стало больше в сверкающем небе, напоминал — это так. Рябушка шагал унылый, молчаливый, неся ведро с жиром, которое дали ему, чтобы занять руки. Но в нем пробудились иллюзии, и он, судя по его напускному безразличию, внутренне злорадствовал над тем, что совершалось вокруг. Убедившись в мирных наших намерениях, он вообще постепенно набирался нахальства — на ночлегах старался занять более удобное место у огня, когда садились поесть, тянулся за лучшим куском. И все это с верой на привилегии, на особое внимание к себе.
Однажды, наверное, охваченный желанием не соглашаться и перечить во всем, он даже раскрылся передо мной. В просвете между деревьями занималось зарево. Оно брезжило, росло, наливалось багрянцем.
— Вот лицо ваших хозяев, — показал я в ту сторону,
Рябушка оскалился:
— А вы что, вели бы себя иначе на их месте?
— На их месте мы вообще не могли бы быть! — возмутился я.
— Ну, как сказать… Я, между прочим, попробовал Сибири, молодой человек…
В лесах между Логойском и Плещаницами нас собралось несколько тысяч. Прояснилась и тактика гитлеровцев — они окружили большую территорию и каждый день сужали кольцо. Вилейский межрайонный центр принял решение рвать блокаду.
Под вечер мы вместе с партизанами «Штурмовой» заняли исходный рубеж — залегли на недавней лесосеке, поросшей березнячком, над которым возвышались редкие сосны — семенники. День был теплый, солнечный, и лежать на согретом мху было приятно. Верилось: все обойдется. Не очень беспокоил и Рябушка — скорее всего будет как миленький, ибо понимает: в боевых условиях не до сентиментальностей. На смертный же риск не пойдет — нет у него завтрашнего дня. Да и не той он породы. Ну, а бой? Что бой — его не миновать, и с этим нужно мириться.
Однако вскоре выяснилось: события развиваются не так, как хотелось.
Гряду облаков на небе еще подсвечивало солнце, а мы уже увидели немцев. Прямо перед нами как из-под земли выросли радист-разведчик и два автоматчика, которых вел белокурый мальчик в посконной рубашке. За спиной радиста покачивалось удилище-антенна, в руке был микрофон, в который он негромко, но с задором что-то лопотал — наверное, передавал виденное.
Полоснула пулеметная очередь. Она срезала всех четырех наповал, как коса траву. И тут же, сразу за очередью, послышались крики:
— Выключите рацию!
— А-а-а! Сергей-ейка!
— Рацию выключите!
— А-а-а!
— Куда ты! С ума сошел?
Кто-то бросился к убитым. Двое или трое, схватив вырывающегося, без шапки партизана, стали отнимать у него автомат… Но все уже было приведено в движение, и, хотя фактор неожиданности отпал, в назначенную минуту цепи поднялись.
Смеркалось. И, может, после неожиданной досадной истории наиболее тревожным стало то, что приходилось идти в сумерках.
Натолкнулись мы на карателей также неожиданно. Правда, встретили они нас беглым огнем — обстреливали, видимо, отступая на заранее подготовленные позиции и как бы втягивая нас в невод. Но с каждым шагом огонь усиливался, делался плотнее. Стрелять, казалось, начинали с деревьев. Рядом всхлипнул, упал партизан в кубанке. Мы с Омелькиным подняли его, посадили на мою лошадь. Однако, оглянувшись через минуту, я все равно не увидел его.
Говорят, когда идешь в атаку, вокруг свищут пули. За близкими выстрелами я не слышал их. Не слышал, возможно, еще и потому, что внимание мое притягивали стремительные трассирующие пули.
Неожиданно в лесу посветлело — перед нами разгорались костры. Из темноты выступали медностволые сосны, люди. Отскочив за сосну, я огляделся. Увидел Гонцова, распластавшегося на земле немного впереди, сзади также на земле — Рябушку с Омелькикым, лошадь подле них. Потом заметил немецкого пулеметчика, засевшего метрах в двадцати в окопчике и прикипевшего к пулемету. Прицелившись, я дал очередь. Пулеметчик вскинул голову и как бы понурился.
На мгновение стало тихо, и в этой относительной тишине услышал — меня звал Омелькин. Пригнувшись, я бросился к нему. Увидел — обезноженная лошадь бьется на земле, стараясь подняться. Сам не зная зачем, я схватил повод и начал дергать, помогая ей встать.
— Что ты делаешь? — крикнул мне Омелькин со страшным лицом. — Смотри сюда!
Прислонившись спиной к комлю сосны, напрягши вытянутую шею, сидел Рябушка. По щеке у него текла кровь и стекала за ворот рубашки.
— Встаньте, — попросил я, желая убедиться, есть ли у него силы и стоит ли делать перевязку.
Рябушка повел глазами и уставился на меня.
— Ну что ж, стреляйте… — прохрипел, стараясь и не имея сил подняться. — Какая гадость, паскудство… будь оно все проклято! — клял он свет, нас и тех, кто послал в него пулю.
— Володя! — послышалось опять.
Работая локтями и ногами, я пополз к командиру.
— Что там? — спросил тог.
— Рябушку ранило. Скончался… Кроме Омелькина, никого из наших нет…
От шоссе, которое было за кострами, долетал скрежет гусениц. Ухнуло орудие, и недалеко полыхнула вспышка, от которой, как показалось, отшатнулись сосны.
Патронов осталось по диску, мы решили отходить
Засеченный азимут оказался у одного меня. Через сотню метров нас окружала уже целая толпа. Она росла и росла. Я построил людей в колонну, выделил охрану для Гонцова с Омелькиным, выслал вперед разведку.
Утро застало нас в деревне, название которой забылось, а может, я не поинтересовался им и тогда. Узнав каким-то образом, что мы там, с просьбой вернуть людей начали прибывать посланцы отрядов. Пришел со связными Петухов, радистки, приехал Хвесько.
В Плещаницком подпольном райкоме мы достали ляжку говяжьего мяса. И, пополнив свое небогатое энзэ копченым, черным от дыма мясом, поплелись дальше — на Палик.
Остановились мы на Пупке — песчаном острове, поросшем раскидистыми соснами. Вокруг в болоте чернела ольха — чаще сухостоины, зеленые только у комлей. На западе не смолкала кононада. Зная — остров будут обстреливать, смастерили берлоги у сухостоин, вокруг которых зеленая поросль раскустилась больше.
Потянулись дни. На третий или четвертый день мимо прошли партизаны бригады Тябута.
Утром болото бомбили, там и тут слышались глухие подземные взрывы-всхлипы. Партизаны были мокрыми по пояс, в тине, еле передвигали ноги. Некоторые из них несли цинковые ящики с патронами, разобранный миномет. Тащили за собой коровьи шкуры — для питания, и казалось — они оттуда, из-под бомбежки. Гонцов, перехватив старшего, принес страшную весть — в болотах Палика блокировано несколько десятков тысяч, и каратели готовы применить газы. Возможно завтра.
Спали в ту ночь не все. Каждый из нас в случае надобности поставил бы на кон жизнь. Но умереть отравленным? С бесполезным оружием в руках? Неспособным ответить чем-либо врагу? Это возмущало, страшило — мужеству нужна цель. Вспоминалось — минские товарищи предупреждали… Пришло ясное, звонкое утро. На запад, будто их гнали солнечные лучи, удалялись оранжевые, с волокнистыми краями облачка. Быстро теплело. Тепло ласкало озябшее за ночь тело, тешило душу. «Готтберг! Неужели сегодня?» — удивляла мысль.
Низко пролетел аист. Заметив нас, шарахнулся в сторону, но быстро подняться не смог и, тяжело лавируя между сухостойных деревьев, исчез за островом.
Гул самолета появился неожиданно, занозой вошел в сердце. Его стало видно, когда самолет начал заходить на круг. Это был «фокке-вульф» — «рама». Она обычно не бомбила, редко обстреливала, но ее люто ненавидели, как предвестницу беды.
«Неужели она?» — забилась мысль.
«Рама» сделала круг и, будто остановившись, выбросила какой-то предмет, который тут же с треском распался на мириады бабочек.
— Агитснаряд! — плюнув, выругался Гонцов, который, увязая по колени, проходил мимо меня. — Листовки, поздравляю!
Его злость передалась мне.
— Слабо оказалось! — кипел и я. — Боятся, чтобы самим после не захлебнуться в своих логовах. Слабо!..
Омелькин — он стоял подле, по грудь в зарослях, — зло ухмыляясь в косматую бороду, выставил в небо фигу.
— На! Полетай!
— Ха-ха-ха! — разразился смехом Хвесько. — Ха-ха!..
Ржавая болотная вода, недоедание постепенно давали о себе знать. Пухли, кровоточили десны. Организм мучился, требовал: соли! Не помнится, как до нас дошло: в четырех-пяти километрах, в лозняке, при слиянии двух ручьев, спрятана лодка с овсом. Это было за линией немецких постов, но все равно сделалось надеждой. Испытать удачу выпало нам с Омелькиным.
Взяв сумки, карту-километровку, из оружия — «ТТ» и финки, мы засветло отправились за спасительным овсом. Шли, увязая в торфяном месиве или перепрыгивая с кочки на кочку. К горлу подступала тошнота — мучил пробужденный надеждой голод, — поедом ели комары.
Перед заходом солнца, как и показывала километровка, набрели на остров — немного меньше нашего. Заметили истоптанную осоку, привядшие ветки прибрежных кустов — кладки — и выбрались на берег с предосторожностью. Увидели под соснами землянки. В крайней — нары, убитых в нижнем белье, рядом — живую кошку с огненными зрачками, котят. Убитые валялись и около остальных землянок — полуодетые, с перевязанными руками, грудью. Стало ясно — партизанский госпиталь, где не так давно, намостив кладки, побывали каратели.
Осторожный Омелькин настоял, и мы свернули в гражданский лагерь, с жителями которого встречались, еще когда брели на Пупок. Нашли этот убогий, похожий на первобытную стоянку, лагерь-табор в высоком, непроходимом камыше. В первом попавшемся шалаше, где тихонько стонали во сне дети и слышались вздохи, сагитировали проводника пойти с нами — седого лохматого старика, и сразу стали спокойнее. В полночь сами не зная того, мы прошли линию немецких постов. Догадались об этом только тогда, когда за нашими спинами неожиданно взвилась ракета. А вот когда возвращались назад, попали в переплет — нас услышали: как ни старались ступать тише, под ногами хлюпало, чавкало.
Ночь куда-то отступила, болото залил мертвый свет. Со звяканьем шлепаясь в воду, засвистели пули. Сторожевой катер на Березине и тот, включив прожектор, отозвался пулеметной очередью. Как мы выбрались из ада? Спасли, наверное, кочки, осока. Да то, что немцы не решались войти в воду со своих насиженных мест.
Обессиленные так, что даже качало, с порезанными об осоку руками, вернулись мы к Пупку. Исчезли желания, мысли. Исчезли… Но, говоря правду, когда перед этим проходили по острову, где каратели расстреляли раненых, не позабыли прихватить с собой лист жести, чтобы жарить овес.
Кончился блокадный месяц. Нас трудно было узнать.
Экономя силы, некоторые перестали подниматься, не брились. У радисток отекли ноги. Пришлось беспокоить Москву. «SOS». Самолет прилетел в ночь на двадцать пятое июня. Все понимали: он несет нам тепло, силы, боеприпасы, и подготовились как следует. На самую высокую сосну посадили наблюдателя, насобирали сухой, как порох, хвои, лапок, натаскали хвороста.
И когда над головами послышался родной гул, сделали так, что из разведенных треугольником костров вверх полыхнули пламя, золотые искры.
— Есть один! — даже захлебнулся наблюдатель. — Еще один! Третий!..
Развернувшись с определенными интервалами цепью, мы спустились в болото — туда — куда скомандовал наблюдатель. Однако когда вода достигла груди, остановились— парашюты как провалились…
Есть ли предел человеческим силам и выдержке? Отдышавшись, мы опять развернулись цепью и опять, только уже в ином направлении, двинулись к болоту.
— Ребята!.. Ей-богу, они падали там! — канючил наблюдатель.
Сколько заходов мы сделали? Не знаю! Знаю только, что когда выбрались на остров последний раз, то уже не сели, а попадали на сырую землю.
На рассвете меня растормошил знакомый секретарь Борисовского подпольного горкома Смирнов.
— Хочешь видеть наших? — спросил с улыбкой.
Смирнов не против был разыграть человека, посмеяться потом, но так улыбаться при розыгрыше он не мог. Это дошло до моего затуманенного тяжелым сном сознания. Я вскочил.
— Вы серьезно? Где?
— На Холопеничском большаке…
Через час, потные от усталости и волнения, мы уже месили рыжую болотную жижу, стараясь, чтобы не слишком грузли ноги, ступать на осоку. Солнце всходило ясное. И хоть ноздри щекотал запах тины, от далекого синего берега тянуло свежим ветерком. Но вместе с тем, как мы приближались к берегу, запах тины смешивался с чем-то душным, сладковатым. Он как бы плотнел.
Это пробудило подозрение, тревогу. Да, то, что ожидало нас, оказалось выше всякой фантазии. Боже мой! Вдоль берега возвышались костры трупов. Восковые, раздетые, трупы были старательно уложены, как дрова.
Да и расстреливали бедняг усердно — всех в затылок. Это, наверное, были те, кто, не выдержав голода, выходил из болота — некоторые, возможно, даже с листовками-пропусками, сброшенными тогда «фокке-вульфом».
А дальше? На некотором расстоянии от этих костров, на живописной полянке, нас встретила очередная новость — спортивный городок с посыпанными желтым песком дорожками. Здесь, судя по всему, в свободное время каратели занимались физкультурой. Страшные костры и спортивный городок! Забегая вперед, признаюсь: когда позже нам встретилась колонна этих, уже понурых и пленных спортсменов, я сам кричал автоматчикам-конвоирам: «Куда вы ведете их? Зачем?..»
Над большаком, пролегавшим тут по лесам и болотам, стояли пыль, гул. Они, как казалось, перемешались в одно, как и все, что двигалось по большаку. С лязгом двигались танки и тягачи с бревнами, со свитками железных тросов. Фыркая от пыли, загребали ногами лошади — везли орудия и ящики со снарядами. Следом или по сторонам плелись запыленные пехотинцы.
Мы остановились в кустах, как зачарованные, не имея сил оторвать глаз от большака. Радистки плакали — экзальтированная Лена усмехаясь, кроткая Маша со скрещенными на груди руками, — без кровинки в лице, она будто молилась. Совсем рядом с нами проехал на каштановой лошадке бровастый майор с пшеничными украинскими усами. Что-то прикинув в уме, вернулся, спешился. Начал расспрашивать, первым обнял Гонцова, потом остальных и, увидев походную кухню, с дымком, покачивающуюся на обочине, поднял руку.
— Только не ешьте много, — предупредил взволнованно и виновато повар. И по его расстроенной виноватости можно было догадаться, как мы выглядели.
Лена с Гонцовым нырнули в придорожный подлесок, забросили антенну на литой сук старого дуба, видневшегося и с большака. Долго колдовали над рацией. Приказ получили неожиданный — обогнать фронтовые части и опять войти в тыл противника.
«Нам!.. Обогнать?..»
Мы попросились на танки — с незнакомо массивными зенитками, со спаренными пулеметами. За Кранцами, на мощеной высокой гребле, по сторонам которой зеленел кустарник и расстилался простор, колонна остановилась — впереди были Березина и сожженный мост.
Вороньем налетели «юнкерсы». Но зенитки и пулеметы на танках как бы очнулись, открыли бешеный заградительный огонь. Черные кусты бомбовых взрывов вскинулись далеко — там, на зеленом приречном раздолье. Удача не оставила нас здесь. Пока саперы подводили понтоны, пока собрались наводить переправу, мы по обломкам моста переправились на другой берег Березины и уже своими тропами — где пешком, где на подводах — двинулись на Логойщину.
В уцелевших Радьковичах я получил от Гонцова последнее задание. Днями националисты собрали установочный конгрессик, который разогнало наступление наших. Необходимо было собрать о нем сведения, захватить, если успеем, кого-либо из сотрудников СД. С Володей Кононовым, Омелькиным и несколькими автоматчиками я должен был отправиться под Минск и войти в него с армейской разведкой.
Затемно приблизились к Радошковичскому шоссе. На восходе полыхали зарницы и гремела канонада. Там, где был Минск, трепетало багровое зарево. Мы знали — гарнизон в Паперне разбежался. Но по шоссе тек шумный поток, скрипели колеса, надрываясь, завывали машины. И только, когда там поутихло, мы пересекли шоссе и пошли без дороги — по азимуту.
В город вошли удивленные тишиной.
Мы входили по Долгиновскому тракту. Окраинные домики здесь уцелели. Серенькие, убогие, но с палисадниками, в зелени, они, как казалось, сами не верили, что избежали разрушения. В скособоченных воротах крайнего домика стояла женщина в плюшевой жакетке, с платком на шее. Подперев по-деревенски щеку, она приросла плечом к верее и тоже верила и не верила своим глазам. Да, пилотки, зеленоватые плащ-палатки, автоматы с круглыми дисками убедили ее. Она рванулась к нам, обняла первого, кто ей попался, и торопливо начала совать ему в руки фанерный коробок.
— Возьмите, возьмите, — повторяла со слезами. — Это сигары. Специально прятала.
Из-за вереи выглянула вторая живая душа — мальчик вихрастый, в майке и трусиках, как спал.
— Мама! — крикнул он женщине, видно по всему, боясь за нее. — Хватит, мамка!
— Так это же наши, Илюшенька! — принялась оправдываться женщина. — Иди и ты сюда… Не бойся!
На Сторожевке пустую улицу, украдкой, перебегали сгорбленные фигуры с поклажей на спинах. Из разрушенной коробки дома выбежала собака, но не залаяла, а будто шла по чьему-то следу с опущенной мордой.
Высмотрев у Сторожевского кладбища оставленный домик с белыми ставнями — пусть будет пристанище, пришли же насовсем! — мы торопливо двинулись в центр. Оттуда доносилась перестрелка. По Советской улице на запад с грохотом катила железная лавина наших войск. В небе патрулировали ястребки. А нам показалось: мы вступаем в мертвый город, может, недавно найденный археологами. Где-то стреляли, где-то грохотало, а тут все окутало небытие — руины, руины. Желтые, причудливые, в которых удивляло и то, что они стоят, ни на что не опираясь.
А ночью немецкие самолеты обрушили на все это бомбы. Злые, визгливые, они рвались в мертвых кварталах, зенитный огонь прикрыл от них живое — железную дорогу, станцию, Дом правительства, который, залитый светом ракет-фонарей, как бы поднялся над морем руин.
Отказавшись идти в самодельное убежище во дворе облюбованного домика, я наблюдал за поединком неба и земли. Земля вздрагивала, стонала. Небо же гудело, по нему метались лучи прожекторов, его рвали огненные вспышки. Вдруг в одном из лучей засветился самолет. К нему бросился второй луч. И когда они скрестились, самолет исчез, на его месте блеснуло огненное пятно.
Я уже любил Минск. С ним были связаны наивысшие взлеты моей души. Но в этот момент я почувствовал: он входит в меня как что-то бесконечно большее, тобой защищенное, без чего нельзя жить. И, как кажется теперь, именно тогда во мне зародилось желание рассказать о нем, о товарищах, о пережитом…
Ничего не скажешь, были у нас свои грехи и слабости. Нередко мы спорили из-за амбиции. В несдержанности хватались за пистолеты. Некоторые не против были восхищаться собой. Когда, скажем, времени было в обрез, а операция против Готтберга уже была подготовлена, почему-то понадобилось менять ответственного за нее. Кое-кто очерствел. И, как выяснилось, когда мы плевали на Палике кровью, у одного из нас в рюкзаке лежала соль. Все это было. Но… Но мы не жалели себя и делали все, что могли, вот для этой минуты.
СЛОВО О МУЖЕСТВЕ
эссе
Природа наделила чудесным даром — стремлением отдавать себя высокой цели, ставить во имя нее на чашу весов свою жизнь. Этот дар мы называем мужеством. Без него сама жизнь, наверное, была бы иной — без огня. Ибо мужество жило в людском стремлении укротить огонь, воду, молнию. Это оно открыло материки, обживало пустыни, через льды, стужу проложило Северный путь. А разве без мужества можно было построить Волховскую ГЭС, когда бетон утрамбовывали ногами?.. Мужество приводило человека и человечество к победе в войне и мире — в работе, борьбе, науке!
Космонавтика — вообще арена мужественных. Начиная со старта, когда взлетать в звездную высоту приходится в огненном грохочущем смерче, и заканчивая приземлением, когда опасность таится в тебе, вокруг тебя и там, куда ты стремишься душой, на земле, — это большое испытание твоей ценности и преданности заветному.
Разве не бессмертным является выход Алексея Леонова с космического корабля в открытый космос? Достаточно же было одного иголочного прокола в скафандре, и кровь бы закипела в жилах космонавта.
Достаточно непредвиденной сильной вспышки на Солнце, чтобы на космонавта хлынули смертоносные лучи.
Величие подвига измеряется опасностью, которую преодолевает человек. Но еще в большей степени оно определяется тем, что противостоит герою, с чем он оказался один на один, что ему необходимо преодолеть.
Алексей Леонов, выходя из люка корабля, ступал в пустоту. Он оставлял единственное и последнее, что связывало его с родным, привычным миром. Вокруг же простиралась пустота — безмолвная, бескрайняя, мертвая. Где-то страшно далеко была Земля, да на черно-бархатном небе сверкало большое солнце. Космонавт очутился один на один с Землей и Солнцем!. Подвигом своим он установил новые взаимоотношения между землянами и Галактикой. Помог человечеству по-новому осознать себя, свое место и роль в мироздании, открыл новые дали.
Мне думается: подвигом является и история родного Минска. Он возник как часовой, страж славянских земель. Поднявшись на росстанях — скрещении торговых путей, славился ярмарками, изделиями кустарей-умельцев. Но уже и тогда по его дорогам шли не только товары.
Минск осаждали полчища Койдана, немецкие псы-рыцари, польская шляхта, шведские ландскнехты, солдаты корпуса Даву. Но что замечательно! Полчища Койдана нашли здесь свой бесславный конец. Когда шведы прорвали крепостной вал, минчане сами подожгли свои дома. Партизанскими налетами на обозы и интендантские склады ответили они на террор и издевательства французских захватчиков.
И еще. Город неизменно вставал из пепла. Что спасло его от порабощения? Что не давало ему погибнуть? Его неизменная отвага, патриотизм — чувства, которые не представишь одно без другого. Потому что трус вряд ли может быть патриотом — трусость обязательно помешает ему по-настоящему любить народ: настоящая любовь утверждается готовностью защищать то, что ты любишь.
Рождение пролетариата положило свой отпечаток как на ход событий, так и на мужество тех, кто определял судьбу города: был разорван заколдованный круг — город пробудился для завтрашнего дня. В одном 1895 году в Минске отгремело пятьдесят четыре стачки!
Первая русская революция нашла здесь самую горячую поддержку. На Кровавое воскресенье в Петербурге минские пролетарии ответили недельной забастовкой и демонстрацией под лозунгом «Долой самодержавие!». Город забурлил в водовороте красных знамен. Октябрьскую всероссийскую политическую стачку минчане поддержали всеобщей забастовкой. 18 октября 1905 года они не отступали перед строем наставленных штыков, и рабочая кровь залила мостовую Привокзальной площади. Незабываемый семнадцатый — самоотверженная борьба большевиков-ленинцев, действие отрядов народной милиции и красногвардейцев — поставил Минск в ряд самых революционных городов того бурного времени. «Областным съездом и предложением из Минска надо воспользоваться для начала решительных действий», — указал Владимир Ильич на историческом заседании ЦК РСДРП(б), когда было принято решение о вооруженном восстании.
Подвигом, исторической заслугой минчан явилось провозглашение советской власти в Минске через несколько часов после того, как она победила в Петрограде. Наступательное революционное мужество сделало свое — Минск стал большевистским сердцем Белоруссии.
Подъем революционной волны был таким высоким, что она разбросала и смыла все преграды, воздвигнутые контрреволюцией. В том числе и так называемый «Комитет спасения революции» и так называемую «Беларускую раду». Не сломили мужества минчан и оккупанты. 20 февраля 1918 года легионы Довбор-Мусницкого ворвались в город: вслед за ними вошли кайзеровские войска, уже 28 февраля на нелегальном собрании коммунистов был организован подпольный горком. 8 августа 1919 года Минск захватили легионы Пилсудского, а через две недели начал действовать подпольный горком, а затем и особый штаб повстанческого движения.
Когда же рожденная в революционных боях белорусская столица освободилась от захватчиков, жизнь минчан приобрела мирный, созидательный характер.
Уже в 1921 году был восстановлен первый в Белоруссии чугунолитейный и металлообрабатывающий завод «Энергия» (теперь имени Октябрьской революции). 1 мая 1922 года как героев труда минчане торжественно приветствовали Ф. Васанского — литейного мастера — и К. Павловского — вагранщика с завода «Металл», П. Перловского, Г. Позняка, П. Габриловича с Эльвода и многих других. В 1927–1928 годах вступили в строй кожевенный завод «Большевик» и станкостроительный «Коммунар» (теперь имени С. М. Кирова). Строились мосты, стадионы, больницы, детские сады, кинотеатры, школы, институты, клубы. И не просто больницы, а клинический городок. И не просто институты, а университетский городок. Однако в трудовой жизни страны прочно и неотъемлемо укоренялись героические основы, и это помогало жить, работать, добиваться своего.
Социалистическое соревнование, зачинателями которого были рабочие «Энергии», встречное планирование, «общественные буксиры», хозяйственный расчет, техническая учеба (первым предприятием сплошной технической грамотности стал опять же завод «Энергия»), движение рационализаторов, рейды «легкой кавалерии», творческие экскурсии рабочих содействовали бурному подъему экономики города.
За десять предвоенных лет Минск вырос, распрямил плечи, похорошел. Когда-то далекий бор стал парком культуры и отдыха. На улицах зазвенел трамвай. В центре поднялись многоэтажные громады. На окраинах у новых и старых фабрик и заводов выросли благоустроенные поселки. Менялся сам облик Минска — все выразительнее и настойчивее вырисовывались очертания столичного города Советской Белоруссии.
Обстоятельства, при которых началась Великая Отечественная война, поставили Минск в очень тяжелое положение. На вторые военные сутки в нем занялись пожары, а на третьи он уже горел. 26–27 июня наша Тринадцатая армия вела жестокие неравные бои на его подступах. Сражались упорно. Однако силы врага беспрестанно пополнялись, и вскоре противнику, который прорвался к городу с юга и севера, удалось овладеть им.
Свое хозяйничанье захватчики начали с торопливой организации концентрационных лагерей, гетто. Ввели драконовские ограничения, систему заложников, круговую поруку. В тюрьмы бросили сотни горожан.
И все же, не считаясь со смертельной опасностью, минчане укрывали бойцов и офицеров, попавших в окружение, оказывали им медицинскую помощь. Многие патриоты поплатились за это жизнью, и одними из первых — Ольга Щербацевич и ее четырнадцатилетний сын Володя. Найденные в кармане убитого на фронте фашистского офицера фотографии, на которых запечатлен момент Володиной смерти, сейчас потрясают мир.
Нет, город не сдался! 28 июня гитлеровцы вошли в Минск, — вспомните немецко-кайзеровскую оккупацию — а в начале июля в доме № 1 по Вирской улице уже состоялось нелегальное собрание коммунистов-железнодорожников, и железную дорогу залихорадило. Организационно оформилась подпольная группа во главе с коммунистами С. Зайцем, Н. Герасименко, И. Казинцом, Д. Короткевичем, участником Октябрьской революции и гражданской войны А. Аритом… В борьбу включались целыми семьями — отец, мать, дети.
С чего начинали подпольщики? Вспомните немецко-кайзеровскую и белопольскую оккупации! Начинали со сбора всего, что нужно было для борьбы, — оружия, одежды, медикаментов. С террора в ответ на насилие захватчиков, с пропаганды, нейтрализовавшей геббельсовскую ложь. Город переплела законспирированная сеть боевых, диверсионных, разведывательных, пропагандистских групп, и земля под ногами у захватчиков загорелась.
Одной из главных задач подпольного партийного комитета, организованного на общегородском совещании в ноябре месяце, стала организация партизанских отрядов из минчан и посылка военных специалистов, политработников, медиков в действующие уже на Минщине отряды. И трудно переоценить то, что несли в партизанский лес с собой рабочие, партийные работники, военные специалисты, которые, кроме всего, вселяли надежду — и раненому тебе помогут! Минск давал партизанам советы, предупреждал о блокадах, карательных экспедициях, планах врага, показывал примеры мужества.
И все это совершалось в условиях страшного оккупационного режима. На минчан обрушился неслыханный террор. Только за один майский день сорок второго года гитлеровцы повесили двадцать восемь наиболее активных деятелей подполья и двести одного расстреляли. Вешали на телеграфных столбах, на виселицах, на деревьях в скверах. Расстреливали в казематах тюрьмы, застенках СД, за городом, недалеко от деревни Копище.
Но борьба продолжалась. Таков уж закон — пролитая за справедливое дело кровь не дает покоя живым, зовет на борьбу. Разгромленный горком был восстановлен. В подполье вступали новые люди. Борьба переместилась на предприятия, в учреждения.
Исключительный размах приобрели диверсии. Рабочие выпускали бракованную продукцию, выводили из строя оборудование, ломали инструменты, выносили и портили готовые изделия, сырье, материалы. Железнодорожники выводили из строя паровозы, взрывали составы. На заводах имени Ворошилова и Мясникова рабочие взорвали важнейшие цехи. Были организованы поджоги бензоскладов, гаражей, обувной и войлочной фабрик. В мае 1942 года совершилось необычное — увидела свет подпольная «Звязда». Во многих районах города даже ночные фашистские патрули боялись показываться. Ряд кварталов Комаровки, Долгобродской улицы, Пушкинского, Грушевского поселков городской комендант объявил на особом положении и запретил солдатам и офицерам, когда темнело, там ходить. Генерал фон Шперлинг вынужден был признаться: только на улицах Минска нашли свою смерть свыше тысячи шестисот военнослужащих и оккупационных чиновников…
Мужество у человека, как и доброта, — от природы. Как великий дар, они могут проявляться или нет. Их можно развивать. Но в отличие от доброты мужество больше чем что-либо иное зависит от окружения, от подготовленных временем обстоятельств. Мужеству необходимы определенная атмосфера, примеры, знамя. Оно часто передается как эстафета. В Минске были эти примеры, эта атмосфера, делавшие мужество нормой поведения… Редкая ночь в городе проходила без того, чтобы где-то не горело или не слышались взрывы, перестрелка.
Причем радостно отметить: мужество тут было направлено не только против захватчиков — оно брало под охрану мирных людей, их собственность. В леса южной пригородной зоны Минска перед решающими боями сорок четвертого года из города было выведено более пяти тысяч семей. Созданные горкомом специальные группы взяли под охрану фабрики, заводы, уцелевшие здания. Передовые армейские части установили с ними контакты, и это спасло Дом правительства, здание ЦК КП(б)Б, окружной Дом офицеров, хлебозавод «Автомат»…
Что представлял собой освобожденный Минск? Море желтых чудовищных развалин. А между ними — чахлые грядки, огороженные колючей проволокой и спинками кроватей, побывавших в огне. Вокруг теперешней площади Победы колосилась рожь, росла картошка…
Да вот чудо! Как только в город начали возвращаться минчане, на закопченных изуродованных коробках сразу же появились клятвы: «Из пепла и руин поднимем тебя, родной город!» С утра, по выходным дням, и под вечер, в рабочие дни, к руинам стекались люди. Несли кирки, лопаты. Приходили с песнями, нередко в колоннах, расходились молча, чаще по одному. И хотя на расчищенных площадях вырастали клетки кирпича и кучи железа, казалось: руины как и раньше поднимаются всюду и в вечерних сумерках стали даже выше.
А с чего начинался знаменитый теперь МАЗ? Его решили строить в Красном Урочище, где до войны был военный городок с авторемонтными мастерскими. Отступая, немцы успели кое-что оттуда вывезти, многое взорвали. Вот сюда, направленные Центральным штабом партизанского движения, и пришли первые строители, Некоторые — прямо с парада, которым завершилась партизанская эпопея. Поселились в шалашах под соснами, в уцелевших бараках. Жили, как и воевали, отрядами… Имели общие запасы продуктов. Ежедневно назначали дежурных в артельных кухнях, по очереди возили в бочках из Свислочи воду. Вечерами разводили костры, и тогда совсем по-партизански выглядел бор.
Разрушение, которое приносят народам войны, — не новость в истории, как не ново и то, что люди работой преодолевают их. Об этом, как мы видим, свидетельствует и прошлое Минска, не раз поднимавшегося из руин. Но его прошлое не знало еще ни такого трудового героизма, ни таких успехов и темпов в самовозрождении.
При братской помощи многонациональной родины минчане подняли из небытия город редкой красоты. Они превратили его в крупнейший промышленный, научный и культурный центр, в город высших учебных заведений, исследовательских институтов, место всесоюзных конференций, симпозиумов, спортивных соревнований.
Его широкие, красивые проспекты, где человек чувствует себя хозяином, просторные площади — Владимир Ильич на главной из них, обелиск с Вечным огнем у подножия на площади Победы, милые липы на улицах у тротуаров, бульвары, парки, Купаловский и Колосовский мемориалы — радуют глаз. Их принимает сердце.
А это же еще и сейчас не выходит из памяти, как на одну из октябрьских демонстраций минские автозаводцы взяли с собой своих первенцев. Помню: колонна их двигалась по Советской улице, по сторонам которой возвышались желтые руины, а впереди знамен и самодеятельного оркестра шли четыре грузовика. Это было наивно, но чудесно! Потому что чувствовалось: в этом — начало большого, за которым — еще большее, как и за всем, что создает мужество. В день же 50-летия республики на прежней Советской улице, а теперь Ленинском проспекте, можно было видеть уже целый необычный парад. Мы привыкли и полюбили демонстрации, парады — торжественные марши наших воинов, разлив знамен и свободный шаг демонстрантов, красочное шествие физкультурников. Но в этот раз по главной столичной магистрали двигались сотни машин, созданных собственными руками. Демонстрировали мирные труженики полей и ферм! Они шли долго, но все, кому повезло видеть это, с уважением смотрели на них.
Теперь трудно счесть, что вырабатывают минские фабрики и заводы. Очень многое дают они стране и миру — от шарикоподшипников до автоматических линий, от холодильников до электронно-вычислительных машин.
Нет, достичь такого без отваги и мужества не дано!
Время, когда немецко-фашистские захватчики были изгнаны с белорусской земли, отдалилось на десятки лет. В жизнь вступили и берут на себя заботы о завтрашнем дне поколения, для которых Великая Отечественная война — далекое прошлое. И все же память о ней не гаснет. Может быть, наоборот, с годами полнее раскрывается величие осуществленного, глубже осознается его цена, роль в определении судьбы нашего и других народов.
Почему? Да, видимо, потому, что время — наивысший судья. Что большие, всемирные события лучше видны издали. Что становится известным, как и что сделали пропавшие без вести. Потому что в бронзу, в гранит одеваются правда, герои, а кривда, человеконенавистники, их черные тайные планы и дела разоблачаются до конца. Потому что мы пожинаем плоды великой победы и мирных своих усилий.
И вот о чем еще хочется напомнить: мечтая когда-то о победных днях, мы верили: советский народ-победитель будет народом-орденоносцем. Так, так! И пускай эти мечты кое-кому казались не совсем серьезными, они осуществились. Ратных и трудовых орденов удостоились и отличные воины-труженики и республики Советского Союза. Исполнением нашей мечты стало и присвоение Минску почетного звания Города-героя, присоединившее его к озаренной славой когорте, где Москва, Ленинград, Киев, Волгоград, Севастополь, Одесса, Брестская крепость, Новороссийск с его легендарной Малой землей, Керчь. История увенчала Минск высоким званием, признавая бессмертие его военного подвига и то, что он остался жив в трудовом мужестве мирных дней. Не зря же, когда едешь по Минску, пролетаешь над ним, миллионным, по внезапным, неожиданным связям перед глазами часто встают его военные, пустые, настороженные улицы, готовые обрушиться руины и зарево над ними.
Трудом, заботами, любовью своей мы залечили военные раны. Страна распрямила крылья, набрала разгон.
И ох, как это верно: