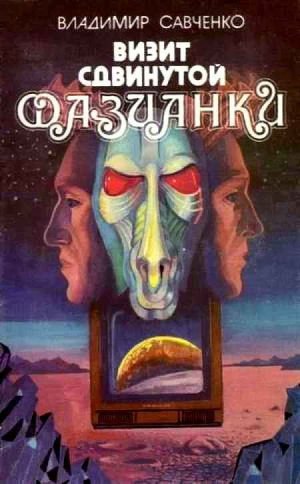
I
Я сидел в парке и читал газету. Уже из одного этого обстоятельства вытекает полная моя непричастность к описываемому, ибо что может быть индифферентнее и обыденнее человека, который читает в парке газету! Люди, чья жизнь насыщена, газет в парках не читают, а если и читают их, то в мчащемся экспрессе, в госпитале после ранения-ищут упоминаний о своей деятельности.
А я… я преподаватель физики в техникуме для глухонемых. Фамилия, имя, возраст? Э, какое это имеет значение! До пенсии еще далеко.
Сижу, стало быть, читаю. Когда — подсел один. Я как раз углубился в прогноз погоды на май, не заметил, с какой стороны он подошел; гляжу-сидит. Худой такой, длинноволосый; лицо, впрочем, приятное, широколобое, щеки впалые, темные глаза с антрацитовым блеском. Но веки красные, не брит, в глазах застывшая, неподвижная какая-то мысль и тревожный вопрос. Мне сразу неуютно стало: сейчас, думаю, разговор завяжет. И точно:
— Про Вишенку пишут что-нибудь? — спрашивает. Голос тревожный, надтреснутый, хоть и интеллигентный.
Про какую «Вишенку» — ансамбль?
Он так и воззрился:
— Какой еще ансамбль — про тепловую звезду, ближайшую к нам! Ну, про ту, что сперва считали радиозвездой. Новую экспедицию к ней не посылали?
Поскольку я физик, хоть и для глухонемых, положение обязывает:
— Ближайшие звезды к нам, уважаемый, это альфа и Проксима Центавра. И они не тепловые, а вполне, так сказать, световые. Экспедиций к ним не посылали и пошлют еще не скоро.
— А, ну это синхронные, — отмахнулся он. — Я о других, о «фантомных мирах»… что, тоже ничего, да? Ну, как же, я ведь тот, кто их открыл… то есть приписывают-то это теперь себе другие, но открыл их фактически я — еще мальчишкой, когда воровским образом подключил свой телек к Салгирскому радиотелескопу. Неужто ничего не читали, не слышали… что, а? Нет? Что? Ведь были сенсация и скандал.
Теперь мне стало не только неуютно — жутко. Надо же так нарваться. Подсел бы алкаш, которому не хватает на бутылку; дал двугривенный — и всех делов. И место уединенное… Я пожал плечами, ничего не сказал.
— Та-ак… — тяжело и печально произнес он. — Значит, опять попал не туда. Ничего, ничего, молчание… Канальство! Как же быть-то?.. — Подсевший замолк, только жестикулировал сам себе, на лице сменялись гримасы. Потом поднял на меня угольно блестящие глаза. — Скажите, но вот вы верите? У вас доброе лицо, и о Проксиме Центавра вы знаете… Могли бы поверить?
— Чему?
— Тому, что все это было. Наличествует, собственно. Не в слове дело. Ну, про Вишенку, сдвинутые миры, гуманоидов непарнокопытных пластинчатых… и вообще. А?
Что бы вы, скажите на милость, ответили в подобной ситуации явному психу, находясь с ним, так сказать, тет-а-тет? Не верю?.. А если кинется?
— Ну, вообще говоря… — промямлил я. Он, похоже, угадал мое состояние:
— Вы только не пугайтесь. Да, я действительно состою, не буду от вас скрывать. Уже десятый год на учете-с тех, собственно, пор, как эти трое вернулись из экспедиции в невменяемом состоянии и пытались проходить друг сквозь друга, а я своими экспериментами подтвердил, что они правы… Я-то еще ничего, раз в месяц на осмотры к районному психиатру, а те-то — в стационаре. Их лечат! Как будто они могут вылечить! Как будто от этого, от нового понимания мира, надо лечить! Ничего, ничего, молчание…
Он снова впал в задумчивость с жестикуляцией и гримасами. Спохватился, взглянул на меня:
— Ну, хорошо-с, про «фантомные миры» вы не знаете, в гуманоидов непарнокопытных не верите, во вселенский синхронизм и резонансы тем паче… Так ведь или нет? — В его интонациях была страстная надежда, что я все-таки сознаюсь, что верю; но я молчал. — Но вот в изречение Нилика: «Перед нами безумная теория. Весь вопрос в том, достаточно ли она безумна, чтобы быть правильной?» — в него вы верите?
— Нилика?..
— Ах, ну-Нильса Бора! Мы их так между собой именуем: Нилик, Беня, Фредди… Так как?
— Я слышал это изречение, — сказал я.
— Вот видите, — напористо вел подсевший. — Но разве из того, что истинная теория должна выглядеть среди нынешних физических представлений совершенно безумной, не следует, что сами-то представления эти, верования теоретические как раз они-то и безумны, идиотичны в своей тяжеловесной логичности! Что, а разве, нет? Это же как прямая и обратная теоремы. А они меня на учет, лечить… ничего, ничего, молчание!
Он снова помолчал и снова спохватился:
— Что ж, раз об этом не пишут в газетах, давайте-ка я расскажу вам все сам.
II
Я рос очень смышленым мальчишкой. В двенадцать лет я овладел радиотехникой, а в четырнадцать был отменным телелюбителем. Не любителем балдеть перед телеэкраном, боже упаси! — а в благородном, ныне исчезнувшем смысле: любителем сделать больше, чем вложено, к примеру, в серийные телеприемники. Усовершенствованные мною, они ловили передачи в рассеянных УКВ-то есть не только от ближайшего ретранслятора, а множество «диких». Это непростое дело, уверяю вас. Само собой, изображения на экране я мог голографировать — и не только в декартовых координатах, но и в спиральных, косоугольных… У меня были два приятеля-помощника, и нас страшно веселило, когда удавалось этими способами измордовать классическую трагедию так, что получалась клоунада, фарс. Здоровое мальчишеское отношение к драмам — что, разве нет!
Но главная цель была, конечно, выудить из эфира самые «дикие» передачи, недоступные никому. Вот тогда меня и осенило насчет радиотелескопа, который соорудили поблизости. У вас он не Салгирский, да, вероятно, не там и не такой… но важно не это, а иное. Что? Ну, как же-сравните телевизорную антенну у себя на крыше и решетку километр на полтора: ведь чувствительность-то у нее-черт побери! Такая выудит и рассеянное на ионизированных слоях атмосферы, от телестанций, кои далеко-далеко за горизонтом.
Труднее всего нам было достать бунт ВЧ-кабеля да тайком прокопать канавку для него под ограждением. Как же, разумеется: «Запретная зона, вход воспрещен!» — о ретрограды!.. Но на то мы и мальчишки, чтобы проникать куда не следует и делать то, что не разрешают, а интересно.
А потом ловили, упивались — и передачами, которые детям нельзя смотреть, и всякими специальными, кои и обычным взрослым нельзя. Часто не понимали язык и что показывают-но жизнь была полна, мы ходили таинственно-гордые.
Особенно одна ежевечерняя передача увлекла нас? мы ее сначала приняли за многосерийный телефильм из жизни чертей в неканонической интерпретации. Почему? Во-первых, местность показывали все время такую, что лучше, чем фразой «Черт ногу сломит», ее и не определишь: утесы, обрывы, пропасти, громады валунов, между которыми бьют дымящиеся гейзеры, спиральные блестящие стволы с ветвями-пружинами и побегами-пружинками… ничего прямого, ровного, плоского. Во-вторых, персонажи, существа эти трехногие: одна нога толчковая, на ней они подпрыгивали и переносились по две опорные — ими они упирались о камни, удерживались на новом месте в вертикальном положении. И морды у всех были симпатичные, как у молодых козлов, только без рожек; тела покрыты красивыми пластинками на манер крупной чешуи — пластинки эти то топорщились, то опускались с кастаньетным треском — да не все сразу, а этакими волнами от загривка до бедер. Да еще к тому же преобладали отчаянные любители духовой музыки: сверкающее обилие труб, похожих у кого на горн, у кого на тромбон, у кого на бас, на саксофон… а то и вовсе ни на что не похожих. Существа выдували бодрую музыку, солировали даже в прыжках, да еще для ритма подыгрывали своими пластинками… Словом, умереть и не встать; мы как увидели их, так сразу почувствовали себя хорошо.
Мы втроем просиживали вечера перед экраном, наперегонки старались ухватить сюжет-хоть в общих чертах: кто наш, кто отрицательный, кто с кем поженится, кого поймают… Но что-то не получалось. Слишком много персонажей, сцен, каждый раз появлялись новые — не разберешь.
Незнакомец помолчал, потом повернул ко мне свое треугольное — широкий лоб, впалые щеки — лицо, антрацитово сверкнул глазами:
Но самое — то, черт побери, дорогой собеседник, состояло в том, что передачи-то эти запаздывали! Шла осень, сумерки наступали раньше, и раньше мы собирались у телека, держали и подгоняли настройку- а передачи с «чертями» начинались все позже. Примерно на четыре минуты каждый день.
…И тогда я, смышленый мальчик, вспомнил, что радиотелескоп — суть телескоп, а не просто антенна, он в небо смотрит… И понял: четыре минуты-это время суточного отставания «неподвижного» неба от нашей вращающейся планеты. Словом, понял я, что передачку-то мы ловили из той области звездного неба, куда вечерами ориентирован Салгирский телескоп, — из созвездия Возничего. И не персонажей мы видели, не артистов-исполнителей-этих трехногих, в перламутровой чешуе любителей духовой музыки-а жителей тех мест!
С этим мальчишеским открытием в мальчишеском восторге я помчался к радиоастрономам, хозяевам радиотелескопа: вот, мол, что мы сделали и что наблюдаем, не хотите ли присоединиться, проверить, восхититься и нас похвалить!?.. О наивный глупец! — Он наклонился так, что длинные волосы свесились перед лицом, схватил себя за голову, некоторое время раскачивался, потом распрямился. — Но ничего, ничего, молчание!
III
— Я пропущу ряд животрепетных подробностей: от того, как топал на меня ногами академик, шеф радиотелескопа, кричал, что мы создали помехи, из-за которых все их результаты насмарку (а если здраво помыслить: что те их копеечные результатики против моего открытия?.. — но ведь, простите, свои!), что я несу вздор, фантастики начитался; как обрезали и смотали наш ВЧ-кабель и велели благодарить, что не забирают телевизор… ну-с, и вплоть до обзора времен, в которые эта истина долго и трудно продиралась сквозь дебри «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда».
Салгирский телескоп, между прочим, и был сооружен для исследования мощного потока радиоизлучения, шедшего от созвездия Возничего. Поток был настолько мощен, что его приписывали «радиогалактике», находящейся в том направлении и как и надлежит галактикам — очень далеко; соответственно, чтобы телесигналы с богатой информацией оттуда доходили через мегапарсеки сюда, мощность их излучателя должна быть немыслимо громадной, астрономической. В двадцать-тридцать Сириусов, представляете? Однако семантологи быстро доказали, что передачи эти вовсе не были адресованы нам или в иные миры: обычные информационные и развлекательные, для внутреннего пользования этими непарнокопытными пластинчатыми. Какой же смысл? Да и как-ведь сумасшедшая энергия?.. Ладно бы, если бы телепередачи оттуда (теперь вся Земля смотрела их) показывали какую-то сверхцивилизацию. Нет, ничего подобного: общее впечатление такое, что они пониже нас по техническому уровню во всем — кроме, пожалуй, духовой музыки.
А если допустить, что источник — не радиогалактика, а радиозвезда, коя находится к тому же гораздо ближе видимых? Но ведь нет ничего заметного в том направлении на близкой дистанции. Нейтронная звезда? Коллапсировавшая?.. Опять не то: жизнь там — органическая, хоть и непривычная по формам-протекала под благотворными лучами своего нормального светила. В пейзажных кадрах все видели, как оно восходит из-за скал, озаряет сильно пересеченную местность, поднимается в небо с облаками… Так что же там? Что все это означает?
Я под эти недоумения и споры вырос, окончил с отличием радиофакультет, сам возглавил радиоастрономическую лабораторию с большим остро направленным телескопом. И… бухнул в костер научных страстей ведро керосина, определив годичный параллакс этого источника УКВ-излучений и интересных передач.
Параллаксы, углы полугодового смещения небесных объектов, должен вам сказать, вообще радиотелескопами не меряют-разрешающая способность у них куда слабее, нежели у астрономических линз и зеркал; а в предположении, что там далекая радиогалактика, мое намерение вообще выглядело бессмыслицей. А я взял да померил — и получил потрясающий результат: девять угловых секунд! Против 0,8' у Проксимы, представляете? Это значило, что Радиоближайшая находится рядом (в астрономическом смысле): одна девятая парсека, неполных четыре световых месяца от нас.
Мир-и не только научный-растерялся. Что, действительно, за чудеса электроники: по телевизору видим, а в натуре ничего?.. Но… поднатужились, нацелили в созвездие Возничего самые крупные рефлекторы, усиленные фотоумножителями, — и обнаружили. Нашли! Точечный источник с обильным инфракрасным излучением и даже чуть-чуть темно-вишневого свечения. Ну, светил он, честно сказать, не сильнее забытого включенным на теневой стороне Луны электроутюга, для глаз неощутимо-но все-таки. Нашли, обнаружили, отлегло… уф-ф! Так Радиоближайшая стала Вишенкой.
И па-ашли все приводить в соответствие! Мощный источник радиолучей остывшая, еле теплая звезда; поэтому так долго и не замечали, хоть и предельно близка. Существа на планете, гуманоиды пластинчатые, развились и живут в кромешной тьме-но для них она не тьма, а мир красок и света благодаря соответствующему устройству зрительных органов, воспринимающих, инфракрасные лучи. И в своем телевидении они, естественно, используют люминофоры и режимы, которые показывают мир таким, каким они его видят; а радиоволны все так и передают нам. Словом, все в порядке, мир прост и понятен, музыка играет, штандарт скачет… Ничего, ничего, молчание!
Незнакомец замолчал довольно надолго. Светило солнце, ветерок шелестел листьями деревьев.
Я многое пропускаю, — заговорил он, когда я уже подумывал, не вернуться ли к газете. — Например, что пошла мода подключать к антеннам радиотелескопов телевизоры с гибкой настройкой, ловить «передачи Вселенского ТВ». Так обнаружили немало диковинных, видеограмм-и все по направлениям мощных космических радиоизлучений. Но поскольку, во-первых, по тем направлениям, как ни вглядывались всеми аппаратами, решительно ничего не обнаружили, и, во-вторых, в самих видеограммах не оказалось ничего близкого к нашим понятиям жизни и разума — какие-то абстракции, многоцветные или черно-белые… то наблюдения отнесли кто к спутниковым мистификациям, кто к ошибкам. Отмахнулись.
IV
— Между тем пошел следующий этап в исследовании Вишенки: надо устанавливать контакт. Казалось бы, чего проще: послать на тех же частотах теми же радиотелескопами свои телесообщения непарнокопытным гуманоидам… ан нет, мудрено, не выходит. Не принимают! Мощность сигналов такова, что решетчатые диполи полыхают в сумерках огнями святого Эльма, — а ответа нет. Не реагируют гуманоиды. Год бьются радисты, другой, третий — ничего.
Тогда я предложил попробовать отправлять сигналы на других частотах повыше, пониже… поискать. Предложение дикое — и надо ли говорить, что в двадцати, по меньшей мере, организациях меня, что называется, оборжали. Доктор наук, радиофизик-и отрицает резонансную настройку, основу основ в радиотехнике! «За такие идеи надо лишать всех дипломов», — высказывались некоторые. Ну-с, а в двадцать первой, отсмеявшись, все-таки решили попробовать: чем черт не шутит! И что вы думаете: как сдвинулись изрядно вверх, к дециметровым волнам… есть! Через семь месяцев и две недели — таков цикл обращения сигналов — видим на экранах: восчувствовали там, ошеломлены и ликуют. И в телепередачи их вмонтированы наши сообщения. А ликовали-то как, мать честная! Жители, дудя в трубы, целыми группами высоко подпрыгивали на толчковых ногах, делали в воздухе грациозные па… куда нашим танцорам! Месяцы спустя они исполняли наши мелодии и танцы, приплясывая тремя ногами и прищелкивая пластинками. Мажорная публика эти гуманоиды.
Конечно, пошел и обмен научными сведениями, инженерией — и выяснилось, что они действительно от нас отстают. Телевидение было вершиной их техники, да и то принципа усиления сигналов они не знали. Этим объяснялась мощь их передач: их телевизоры чем-то были подобны нашим детекторным приемникам 20-х годов. О выходе в космос они еще и не думали…
Незнакомец запнулся, внимательно взглянул на меня, передернул тонкими губами:
— Вот вы думаете: да что это он все «я» да «я» — и в том, и в другом, в третьем!.. (Я действительно в этот момент подумал так.) Но ведь так и было. И неспроста, видимо, в ключевых событиях этой истории без меня не обошлось. Многие пробовали, пытались, но подойдут, бывало, посмотрят — нет, мудрено. А я смог.
— Ну-с, стало быть, полетели, — объявил он без паузы и связи с предыдущим. Трое. В плазменном звездолете, который они назвали «Первоконтакт». Строго говоря, это был не звездолет — дальний планетолет-сухогруз с. предельной скоростью 31 тысяча километров в секунду. Добираться на таком к видимым звездам, пусть и самым близким, нечего и думать; но до Вишенки на этой скорости — три года туда, столько же обратно. И команду «Первоконтакта» составили не избранные, а заурядные дальнепланетники, возившие дейтерий-тритиевый лед с Плутона.
Я так понял, что ребята спартизанили. Дальнепланетники — люди самостоятельные, привыкшие больше полагаться друг на друга и на самих себя, чем на земное начальство. Подзапаслись горючим, всем необходимым и — пока там чухаются со специальным кораблем и экипажем-давай-ка махнем! О своем намерении они сообщили, изрядно удалившись от Солнечной; одновременно послали весточку и гуманоидам: ждите, мол. Земле ничего не осталось, как согласиться и официально, с подобающей торжественностью, с горним трепетом в голосах дикторов объявить об экспедиции к планете гуманоидов… Но конечно же, дорогой собеседник, конечно же, те, чьи карты спутали эти трое, затаили досаду, горечь, злость и иные малоприятные чувства. О страсти человеческие, страсти существ разумных и деятельных-как они движут нами! Что, думаете, нет, а?.. Но ведь ежели наш ум над ними, а не служит удовлетворению их — почему же он все никак не постигнет природу чувств? А?
V
— И вот, наконец, подлетают. На планете гуманоидов все готово для приема: расчистили площадку для спускаемого аппарата… не площадку даже, громадный стадион — километровое поле, амфитеатр почти до облаков. Организовали и систему радиопривода с маяками в крайних точках планеты. И телепередачи, телепередачи, телепередачи-сорок тысяч одних передач: гуманоиды звездолету, «Первоконтакт» им, гуманоиды нам, мы им, «Первоконтакт» нам, мы ему… Для землян за эти годы стали дорогими лица троих нахалов.
…И не замечали, не желали заметить в атмосфере радостного ожидания растерянности на этих лицах. А она появилась, когда «первоконтактники» сообщили, что планета гуманоидов радиолокаторами не прощупывается. По маячным сигналам оттуда они на подлете запеленговали ее, «вели» параболическими антеннами по орбите вокруг Вишенки — однако собственный, посланный звездолетом радиоимпульс не отразился ни от чего. Это был первый зловещий факт.
Дальше-хуже. «Первоконтакт», гася скорость, приблизился настолько, что пора было различить в телескоп хотя бы темный диск планеты на фоне звезд (размер ее знали по обмену сведениями, в полтора раза больше Земли); а также пусть и тусклый, темно-вишневый, но серпик освещенной ее части. И тоже ничего — ни серпика, ни диска, заслоняющего обильные россыпи звезд.
В расчетной точке от звезды (ее едва тлеющий диск был заметен) скорость звездолета уменьшилась до 2-й космической, вектор был надлежащий — пора бы тяготению Вишенки взяться за дело и закружить корабль на планетарной орбите. И опять осечка: не обнаруживалось у Вишенки тяготения! То есть оно как бы было и как бы не было: траекторию «Первоконтакта» не искривляло-но ведь планету гуманоидов что-то же удерживало около этого, с позволения сказать, светила!
«Мало мы еще знаем о свойствах звезд», — подумал командир и решил приблизить звездолет, непосредственно к планете, стать на спутниковой орбите. Уж там-то точно должно быть поле тяготения, у такой глыбы вещества.
Гуманоиды не подозревали о возникших осложнениях. На планете все эти дни царил ликующий бедлам. Экраны показывали толпы трехногих существ, сияющих в лучах своей яркой Вишенки начищенной чешуей и трубами, они согласованно подпрыгивали, помахивая запасными ногами. Все оркестры и хоры их в знак дружеских чувств наяривали исключительно земные песни: «Подмосковные вечера», «Их хатте айне камераде», «Гоп со смыком», «Не шей ты мне, муттерхен, сарафанэ руж» и т. д. Амфитеатр вокруг посадочного поля заполнили избранные жители планеты, все в очках-фильтрах на козлиных физиономиях (предупредили, что свет от дюз при посадке может их ослепить). Словом, ждут.
И Земля ждет. Ждет, затаив дыхание, все человечество, вся Солнечная. Информацию здесь принимают по двум каналам: передачи от гуманоидов и с «Первоконтакта». Видно, что на телеэкранах в звездолете проходят те же кадры с планеты, которое синхронно принимает (одновременность со сдвигом. в три года) Земля} по ним ясно, что корабль на месте, рядом.
Правда, параллельно с корабля транслируют и непосредственную обстановку у них: видны ошеломленные, недоумевающие лица астронавтов, в иллюминаторах темно и пусто — и только световые индексы на маячных табло показывают, что радиоприводные антенны развернулись почти под 120° друг к другу — то есть планета под брюхом корабля, в сотнях километров.
Однако ничего там нет, даже в виде темного диска, заслоняющего звезды.
И командир неуверенным голосом сообщает, что поля тяготения «Первоконтакт» от планеты не чувствует, летит прямо, будто ее и нет.
А на пультовом телеэкране живет, сверкает красочными объектами, скалами и строениями, бурлит мелодиями и возгласами… существует с отчетливой достоверностью, обеспечиваемой близким приемом, громадный мир разумных существ. Мир, к которому стремились и летели. Мир, которого не оказалось.
— А ну, растудыть, давай напрямую! — биндюжьим голосом взревел командир сухогруза.
И корабль… пролетел сквозь планету гуманоидов. Сквозь место, где ей надлежало быть, — пустоту. Прошел на первой космической, ни за что не зацепившись, не ощутив даже трения-нагрева о разреженный газ — ничего, кроме пестрых помех на телеэкране.
…И на обратном пути, когда «Первоконтакт», не осуществивший контакта, опозорившийся планетолет-сухогруз, вошел в Солнечную и стали попадаться встречные корабли, командир все норовил пройти и сквозь них «напрямую»-так что двум помощникам довелось его спеленать, взять управление на себя.
Впрочем, участь их была не лучшей: во-первых, они дали такие же, как и командир, ни с чем не сообразные показания комиссии, во-вторых, обнаружили подобную же странность поведения-нет-нет, да и пытались пройти друг сквозь друга или сквозь стену. Спокойненько так, будто там ничего и нет. Их тоже контузило это происшествие.
Странность поведения, а!.. Попомните меня, в историю науки эта странность войдет со временем как первый проблеск правильного, здравого — да-с! понимания нашего вещественного мира. Это придет, придет во все миры. Уже грядет! Ничего, ничего, молчание!
VI
— Человечество почувствовало себя так, будто его по-дурацки разыграли. Розыгрыш космических масштабов длиной в шесть лет — ничего себе! «Да заблудились эти космические биндюжники, сбились с пути, вот и все, — объясняли доброхоты. — А по телеку что у нас, что у них…» Но-проверили память навигационной ЭВМ, записи курсовых автоматов: нет, не сбились, правильно летели.
Когда страсти утихли, из случившегося вывели расхожую мораль: вот как плохо озорничать, не слушать старших и начальство. Вот если бы к Вишенке полетел специальный звездолет с подготовленным экипажем (подготовленным-к чему?!), то, может… А что, собственно, «может»? Как объяснить случившееся? В этом и была самая закавыка.
И такая, уважаемый собеседник, закавыка, что от нее на Земле среди научных работников началась пандемия «прокурорских инсультов» и «прокурорских инфарктов»…
— Прокурорских?
— Ну, их так назвали в память о том губернском прокуроре, который, если помните, когда пошли слухи, что Павел Иванович Чичиков есть на самом деле или одноногий капитан Копейкин, или переодетый Наполеон, раздумался в полную силу, как это может быть… брык! — и помер. Так и здесь: как начнет какой-либо «научный прокурор», блюститель незыблемых физических теорий, задумываться, как это, в самом деле, может быть, с одной стороны, все вроде и есть, а с другой совершенно ничего нет: ни вещества, ни тяготения… — брык! — и в ящик. Брык-и нет, и некролог. Ах, сколько тогда было содержательных некрологов!.. Я на учете, это избавляет меня от необходимости посыпать главу пеплом и разрывать на себе одежды: «От нас безвременно ушел…», «Мировая наука понесла невосполнимую потерю…»-во всех тех случаях, когда надо писать с нескрываемым облегчением: «Наконец-то отдал концы выживший из ума консерватор, который своим маразмом и авторитетом тормозил развитие целой отрасли физики!» И, признаюсь, я и сейчас вспоминаю об этой пандемии не без удовольствия. Тем более что это ведь они, они и сановные наставники их, все, кто стремятся на научный Олимп и говорят, что они патриоты наук, и то и се… аренды, аренды хотят эти патриоты, выгод, диссертаций, званий! — это они устроили меня так. Ничего, ничего, молчание.
Таким манером интерес к Вишенке и непарнокопытным гуманоидам стал сникать. Спецэкипаж распустили, спецкорабль перестроили на другие дела. Даже передачи оттуда никто более не ловил. Остался только термин «фантомные миры». Сама тема негласно оказалась под запретом — настолько все чувствовали себя не то ловко одураченными, не то просто дурнями.
Все — кроме меня. «Pas moi», как говорят французы.
…Что «фантомные миры» — разве и без них вокруг мало фантомных представлений, к коим мы привыкли и не удивляемся! Взять, например, то, почему во Вселенной так мало вещества? Ведь если распределить его по ней равномерно, то на объем Земли едва ли придется щепотка пыли. Что, не задумывались, не удивлялись, а, нет? Я удивился — и это был первый намек.
Или взять эти супермодные новинки астрофизики: квазары, пульсары переменные звезды (всегда с сильным радиоизлучением, заметьте!), которые меняют яркость и спектр с бешеной частотой — до 30 раз в секунду. Ну, представьте: громадный мир, много больше Солнца — и его трясет так, что размеры, плотность, температура, даже темп ядерных реакций меняются с такой частотой. Тридцать раз в секунду это бж-ж-ж-ж… движение крылышек мухи. Возможно ли, чтобы звезды делали такое «бж-ж-ж-ж»…?
— Ну, а как же, раз мы это наблюдаем! — пожал я плечами.
— Э, батенька, что наблюдаем? И кто наблюдает?.. Мы-то с вами об этом читаем статьи и заметки — хорошо, если научные, а то и вовсе в газетах. Готовые толкования. А наблюдают… точнее, регистрируют посредством сложной аппаратуры колебания яркостей каких-то очень далеких образований во Вселенной — немногие астрофизики. И видят они не трясучку миров, а в лучшем случае слабенькие игольчатые лучики, а то и вообще показания приборов, индикаторную цифирь. Так сказать, ночь, туман, струна звенит в тумане… Все же остальное-домыслы теоретиков, возникшие из установленных представлений и желания их спасти.
Но это пришло ко мне потом. А первой ниточкой, за которую я ухватился, был тот мой совет менять частоту нашей телетрансляции для гуманоидов Вишенки. Помните: они приняли нас на повышенной против своей! Объяснить это можно только так: наша повышенная частота для них не повышенная. Или, если желаете, наоборот: мы принимали их передачи на куда меньшей частоте, чем та, на которой они их посылали…. Откуда он, этот сдвиг частот, а? — Собеседник посмотрел на меня многозначительно и торжественно; чувствовалось, что он приблизился к кульминации рассказа. — А произошел он потому, что мир Вишенки сдвинут относительно нашего по фазе!
— По фазе чего? — не понял я.
— Колебаний! — голос незнакомца ликовал.
— Каких?
— Основных. Слушайте, ведь это предельно просто, надо только принять всерьез то, что говориться в физике микромира о волне-частице, о дифракции электронов и протонов… и все эти волновые модели, и что частицы в уравнениях квантовой механики рассматриваются как «гармонические осцилляторы». А принять это можно только так, что микрочастицы и все, состоящее из них: атомы, молекулы, тела — суть материальные колебания очень высокой частоты. Мы, видите ли, не воспринимаем тела как колебания! — Он раздраженно фыркнул. Но мы и свет воспринимаем не как колебания, а как свет — но там смирились, а вот с колебаниями-веществами все никак.
Колебаниям же, как известно, свойственны период, амплитуда и фаза. Смотрите, это же просто: берем выражение Бенчика для фотона…
— Бенчика? — переспросил я.
— Ну, не знаю, как его в вашем мире зовут. Я вот что имею в виду…незнакомец склонился и ногтем нацарапал на земле «Е=mv», соотношение Альберта Эйнштейна! — И помножим его на известный всем электрикам угол сдвига фаз, вернее, на косинус его. (Он дописал ногтем справа в формуле «cos»). В обычном мире, для которого Беня вывел свое соотношение, сдвига фаз нет, равно нулю, его косинус-единицы. Но между разными-то мирами он всегда есть, сдвиг фаз! Косинус меньше единицы. И как мы это воспринимаем? Смотрите: m измениться не может, это мировая постоянная, значит, только частота — воспринимаемая нами частота сигналов из сдвинутого мира. И всегда в сторону уменьшения. Она окажется тем меньше, чем больше сдвиг фаз. Задачка для младших школьников.
Незнакомец распрямился, откинул волосы.
— Вот вам и фокус с частотами телепередач. Да что передачи-сама Вишенка вовсе не тепловая, а нормальная, может быть, даже горячее Солнца звезда. И мир гуманоидов вполне веществен… да только колебания веществ нашего и ихнего сдвинуты так, что когда мы есть, их нет, а когда они есть, нас нету. Тик-так, тик-так-вот звездолет и пролетел сквозь планету. Единственный связующий наши миры нитью оказались смещенные по частоте радиоволны. И с другими «фантомными мирами» — помните, обнаружили иные сомнительные телепередачи от радиозвезд? Не мистификации это были, не помехи, и не от радиозвезд они шли — от обычных звезд с обычными планетами, только сдвинутыми по фазе.
…Я вам рассказываю подробно — но сам понял все как-то сразу, ночью на прогулке. Меня будто ударило, я стоял под звездами, смотрел на них и дико хохотал. Нет, каково! Они же почти все не такие. А большая часть не видна совсем. И пульсары эти… Никаких трясущихся миров на самом деле нет. А есть знаете что?
Незнакомец так лукаво, со страстным предвкушением сюрприза поглядел на меня, что я просто не мог не спросить:
— Что же?
— Только тс-с-с… никому! — он приложил палец к губам. — Я к этому недавно пришел, еще ни с кем не делился, даже с теми троими в стационаре. Но вы мне симпатичны, я вам открою, как родному: это биения. Ну, знаете, те самые, что при работе двух близких по частотам радиостанции создают в приемнике свист-свист, который никто не издавал. Так и с пульсарами — квазарами. Ведь не только фазы, но и частоты собственных колебаний вещества в различных мирах не обязаны строго совпадать.
…А теперь, симпатичный собеседник, я приобщу вас к подлинной Вселенной, малой частью которой является Вселенная видимая! Впрочем, если вы помните теорию этого… ну, лысый такой, остроносый, гениальный, имя забыл-ну, релятивистская теория вакуума, по которой пустота суть «запрещенная зона» шириной в 2Мс2, а энергия вещества и антивещества есть избыток над ней… не вспомнили?
— М-м… Полик? — неуверенно предположил я.
— Да, вот именно: Поль-Адриен-Морис Дирак. Он англичанин, а англичане… о, они на все имеют тонкие виды! Так вот, если сочетать его теорию с моей, нетрудно убедиться, что сдвинутых по фазе миров должно быть куда больше, нежели синхронных с нашим. Получается вот что… — незнакомец снова наклонился и вычертил ногтем чертежик:
— Вот только в этих выступах, в эти малые доли периода мы овеществляемся, существуем, взаимодействуем с другими синхронными телами. Можем и с антисинхронными, с антивеществом, кое строго в противофазе. Но в просветах между тем и другим, видите, сколько всего может вместиться? Просто черт побери, сколько там всего сдвинутого по фазе на чуть-чуть и поболе… вот вам и разгадка, почему мало вещества и много пустоты. Не мало его, просто оно распределено по всем фазам. Настолько не мало его, мой дорогой собеседник, незнакомец распрямился, откинул волосы и глядел на меня возвышенно, — что и на этом месте, где мы с вами беседуем, в те части периода, когда нас нет, всплескивается далеко не одно вещественное колебание, не один сдвинутый мир. Много! А среди них и тот, где томятся в стационаре мои друзья, летавшие к Вишенке, и тот, где мой дом, моя лаборатория, и, главное, тот чудесный мерцающий мир, в котором Она… и все выходит так, что когда Она есть, меня нет, а когда я есть, Ее нет, тик-так, тик-так… эх, канальство! Ничего, ничего, молчание.
Незнакомец понурился, запустил в шевелюру тонкие бледные пальцы, раскачивался горестно на скамейке,
VII
— Теперь вы понимаете, откуда я, — продолжал он через минуту, — и почему несовпадения в обстоятельствах, названиях, истории. Блуждаю. Блуждаю, ибо от теории перешел к экспериментам, а метод, оказался слишком уж прост. Вы его освоите со временем, уверен. Это ведь в ложных, ошибочных теориях эксперименты — поиски в лабиринте заблуждений — сложны и дорогостоящи… Возьмите, к примеру, эти сверхускорители элементарных частиц, посредством — которых все никак не удается выяснить первоосновы материи, — ведь это же современные пирамиды, памятники блужданий в потемках наших «фараонов от физики»! А когда теория верна, то для реализации ее, бывает, и вовсе не надо приборов, достаточно усилий точно направленной мысли. Важно-понять, почувствовать идею, увериться в ней. А как мне было не увериться!
…Нет, начал я, конечно, тоже с установки-резонатора для прощупывания сдвинутых пространств- на оптическом уровне, атомном, молекулярном. Сам фазовый переход — дело нехитрое: ведь не на расстояние смещаешься и не во времени-чуточный сдвиг по волне вещества, на малую долю кратчайшего из периодов колебаний, и вы не там. Но важно контролировать ситуацию, чтобы попасть на поверхность тела в ином мире, а не в пустоту, не внутрь… иначе влипнешь, как муха в янтарь. Теперь мне удается это и без резонатора. Но в первых опытах в фазовую пустоту безвозвратно ухнуло немало предметов — и все, знаете, преимущественно казенные. В увлечении, в экспериментальном азарте я, случалось, себя не помнил, вот и совал, что под руку попадется: то лабораторные журналы сотрудников, то сейф с документацией и ценностями, то короткофокусный зенит-телескоп… а однажды даже кожаную куртку моего нового шефа.
Да, к тому времени я устранился от руководства лабораторией, утратил интерес ко всем этим рутинным делам, семинарам, плановым работам… что в них — при озарении такой-то идеей! И работал более в неслужебные часы, преимущественно ночами, один: хотел все сделать и доказать сам. Если вы помните, как встречали мои прежние большие идеи и открытия: ту, еще в детстве, о телепередачах из космоса, затем о сдвигах частот, — вам не нужно объяснять почему… Сейчас-то я понимаю, что был слаб, пошл и тщеславен: важно было для меня не переместиться в сдвинутые миры, в настоящую Вселенную, а перетащить сюда, в лабораторию, предмет оттуда подиковинней: небывалый минерал, изотоп с дикой картиной распада, прибор с чудными свойствами — и тем поразить коллег. Полюбоваться выражениями их лиц. Микроскопический свой мирок, который замкнут взаимоотношениями и интересами, был для меня важнее, обширнее вереницы находящихся рядом неоткрытых планет… низость, низость души моей! Вот и был наказан. Вознагражден и наказан — все сразу.
Он повернулся ко мне всем телом и заговорил с мучительными интонациями:
— Ибо кто же знал, мой дорогой собеседник, что в ночь первой удачи я перетяну из сдвинутого мира не камень, не прибор, не штучку какую-то в самый раз для доказательства правоты, для дешевого лабораторного триумфа — а Ее!
…Возможно, вы обратили внимание, что я ничего не рассказываю о своей личной жизни. Нечего рассказывать — не было ее. Во всяком случае ничего заслуживающего упоминания в одном ряду с моими идеями и открытиями. Личная жизнь творческого талантливого человека-о, какая это непростая тема! И собой хорош, и умен, и с положением… а все не то, все как-то так. Я нравился многим женщинам-да они-то мне, привлекательные и с гормонами самочки обывательницы, очень уж быстро оказывались глубоко неинтересны. Ведь талант, в конечном счете, — углубленное понимание мира и людей. Для них же он — вроде богатого наследства, приданого… способ нахватать побольше благ. Вот и предпочитал лучше быть «несчастливым» в обывательском смысле-неустроенным, необласканным, чем несчастным трагично, поставив свою творческую свободу в услужение гормонам, животной биологии… Но, конечно же, чувствовал себя очень одиноким и мечтал. Ах, как я мечтал!
Незнакомец помолчал, прикрыв глаза.
— Она появилась на платформе резонатора на фоне пейзажа из своего мира. В том мире был солнечный голубоватый день, ветер мял высокую алую траву на лугу за ее спиной, гнал волны по озеру и синие облака в сиреневом небе. Но мир тот сник, а она осталась — в ночи, в окружении приборов и звезд. Сначала была вся полупрозрачная, потом полупрозрачными остались только одежды.
Какая она была, спросите вы, какие глаза, лицо, кожа, руки? А имеет ли значение цвет глаз, проникающих в душу! Важна ли геометрия линий и форм, если от одного взгляда на тело наполняешься радостной силой! И интересен ли цвет кожи, которая светит чистотой и негой!.. Фиолетовая у нее была кожа. И вся Она была таких оттенков: глаза, волосы, губы… Но главное: светилась-не физически, дорогой собеседник, не люминесцировала, а будто распространяла вокруг сияние жизни, любви, нежности. Кажется, у мистиков это называют аурой. В лабораторном сумраке все это выглядело волшебно.
И с первого мгновения, с самого первого обмена взглядами мы поняли одно и то же: что я для нее — Единственный, Он, а для меня такой является Она. Все, что я знаю и понял умом, рассудком, Она постигла чувствами, сердцем своим. Любовь-тоже резонанс душ, и для сложных тонких натур он настолько избирателен, что ни в городе своем, ни в ближайшей окрестности, даже не на одной планете, а только среди многих миров возможно найти Ту Самую, всеми изгибами и сколами совпадающую с твоей, половинку цельности «Он — Она». И вот нам двоим повезло, немыслимо повезло!
Я свел ее с платформы за руку. Сердца наши стучали в такт. Посредине зала, под куполом, за которым сверкали звезды, нас притягивала друг к другу жаркая сила. Мы ничего не говорили, нам не нужно было говорить. Я так и не знаю, какой у Нее голос.
Фиолетовый свет Ее лица озарял мои поднятые руки. И тело у Нее было заметно горячее моего — но я был готов сгореть в этом пожаре. Она закинула руки мне за шею, привлекла к себе… как вдруг, канальство, как вдруг!
У незнакомца прервался голос. Минуту он справлялся с собой.
— …как в резонаторе моем-эти экспериментальные установки с вечными переделками и соплями! — что-то разладилось; И Она исчезла. Была и нет. Я стоял в дурацкой позе, обнимая пустоту.
Она все еще находилась здесь, я чувствовал! И стремилась ко мне всей душой. Но проклятие фазового «тик-так» разъединило нас: есть я-нет Ее, есть Она-нет меня… И любовь-такая любовь! — не состоялась.
И знаете, что меня до сих пор более всего угнетает? Она обладает теми же знаниями и тем же умением смещаться по фазе. Вероятно, это у Нее не от ума, а от сердца, по-женски — но есть. И теперь Она тоже ищет меня! И переходит в те сдвинутые миры, в коих я только побывал. Когда двое ищут друг друга, кому-то лучшё оставаться на месте… но кому? Ей? Мне?.. Ах, это просто сводит с ума.
…Так и не знаю, что отказало в резонаторе. Не знаю-потому что не могла моя страсть, энергия любви обратиться в занудное прилежание исследователя, лабораторной крысы, вынюхивающей неисправность. Нет, она могла обратиться только в гнев, в неистовство против нелепости случая, отнявшего у меня счастье. Что мне теперь были все научные результаты, доказательства моей правоты и превосходства ума! И я разбил свою установку. Сокрушал ее стульями, жег паяльной лампой, топтал ногами…
VIII
Вот теперь я понимал незнакомца и сочувствовал ему: человек сошел с ума не на почве физики, а нормально, как многие, от неразделенной любви.
Тронуться от физики нехорошо, неприлично — это наука, ее преподают. А от любви что ж, от нее — можно.
— На следующее утро, — заканчивал он глухим голосом, — мне было очень трудно объяснить шефу и сотрудникам причину исчезновения сейфа, куртки и прочих предметов. Еще труднее было объяснить разгром в лаборатории… Объяснить все можно было единственным образом: рассказать все как есть, то, что я изложил вам сейчас. Я рассказал — и вот с тех пор я на учете, А Она… и они, и те, другие… и сановные наставники их… ничего, ничего, молчание.
Он замолк и понурился.
— Да, жизнь, — сказал я, чтобы что-нибудь сказать, — и чего в ней только не бывает. Да вы не расстраивайтесь, все образуется как-нибудь.
— Что, а?.. Так вы мне сочувствуете? — он поднял голову.
— Конечно. Всей душой.
— Значит, и верите? — в его глазах появился прежний блеск. — О, это было бы замечательно. Ведь верите, да, а?
— М-м… ну, почему бы и нет. Бывает.
— О, ну это превосходно! Я сразу почувствовал в вас человека, который сможет помочь. Нет-нет, ничего такого от вас не потребуется. Просто, понимаете ли, я заблудился, в сдвигах, в фазовом океане-так, сказать без руля и без ветрил. А мне пора возвращаться туда, где меня ждут… и подданные, и наставники, и те три приятеля в стационаре. Нет, вы не подумайте, я вас не обманывал, я только на учете, но часто наведываюсь к ним обсудить проблемы фазовых пространств, современней физики. Я ведь благодаря сдвигам и сквозь стены запросто-ну, вы догадываетесь, как: подойти к стене, сдвинуться по фазе туда, где ее нет, шаг вперед, потом обратно по фазе, — и вы дома. Очень практично, не правда ли?
Незнакомец частил все более лихорадочно, сам придвигался ко мне по скамейке. Глаза его испускали гипнотический черный свет. Я отодвигался. Скамья кончилась. Я растерянно встал… Он тоже.
— Ну, понимаете, мне же надо сориентироваться, — напористо вел он, — а то я опять бог весть куда сдвинусь. А сделать это без установки можно только через человека… такого, что верит, понимает, сочувствует- как вы. Ну, человек человеку друг-товарищ-брат. Вы для меня резонатор, я для рас… тик-так, тик-так. Под' данных… или поддатых? — главное, жалко: как они там без меня? Политический кризис может произойти, ведь англичане на все имеют тонкие виды. Нет, я знаю, что рассудком вы еще не все приняли, но чувствами, душой, воображением — ведь согласны? Да меня ведь, милостивый государь, понимаете ли, Она ждет?! Что, а, да, по рукам?
— Э!.. А… но… — Я пятился в ошеломлении, в голове вертелись слова «На помощь!»; но звать было некого, мы были одни на аллее.
— Да вы не бойтесь, вам будет только немного щекотно. Ну, начали, а? Поймите же, мне надо вперед, к себе, к Ней! Я хочу в голубой зенит, там моя точка… Тик-тик, тик-так, тик-так — бж-ж-ж-ж-ж! Тик-так-тик-так-тик-так бж-ж-ж-ж-ж!
Он принялся ритмично и в то же время прицельно как-то раскачиваться, примеряться-приближаться ко мне. Голос перешел в музыкальный контрабасовый гул, понизился почти до инфрачастот, стал отдаваться всюду диковинной реверберацией, будто эхо в ущелье. Сам незнакомец заколыхался, расплылся в очертаниях, стал прозрачным: я увидел сквозь него скамейку с газетой, урну, деревья в молодой листве… И он исчез. Только во мне будто что-то удалялось в глубину.
…И восходило сиреневое солнце среди алмазных скал, над которыми парили четырехкрылые розовые птицы. Враз исчезли-и раскрылось надо мной звездное небо с незнакомым рисунком созвездий; прямо над головой пылали в квадрате четыре звезды, каждая ярче Сириуса… но тотчас потускнели, сделались малиновыми, вишневыми. А вместо сникающих накалялись во тьме новые звезды, летели среди них, сияя зелеными конусами, кометы. Все вытиснилось мраморной колоннадой, сизыми дымками благовонных курений; ниц лежали, распростерлись какие-то смуглокожие в чалмах. Сгинуло и это — пылал за полупрозрачными деревьями парка фиолетовый закат, незримое светило озаряло две поднявшиеся над горизонтом луны — одна большим серпом, другая поменьше…
«Что, неплохие виды, а? — донесся изнутри, будто издалека, голос незнакомца. — Ну-с, весьма благодарен, я сориентировался, прощайте! Тик-так, тик-так, тик-так, тик-так-бж-ж-ж-ж…»
Голос затих. Звезды, луны, колонны, скалы — все слилось в ускоряющийся звенящий хоровод.
Я сидел на скамье. Рядом лежала газета.
1980 г.