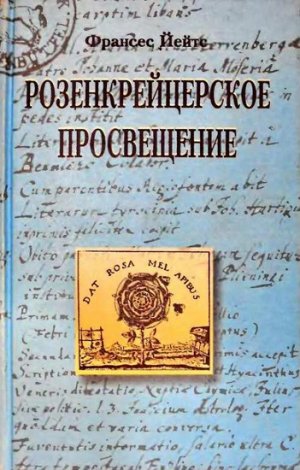
Предисловие
Название этой книги может показаться читателю довольно странным. Прилагательное «розенкрейцерское» позволяет думать, что речь пойдет о каких-нибудь современных оккультных группах.
Наоборот, существительное «Просвещение» будто бы отсылает к другой, вполне определенной, исторической эпохе, именуемой у немцев Aufklärung, — ко времени, когда Вольтер, Дидро, а с ними и все общество XVIII века, осуществили прорыв «от мрака суеверий к свету разума». Сочетание слов, вынесенных в заглавие книги, кажется нелепым еще и потому, что они, согласно расхожему мнению, выражают прямо противоположные понятия: одно — склонность к диковинным суевериям, второе — критичное и рациональное непринятие таковых. Дело, однако, в том, что я употребляю термин «розенкрейцерский» в строго историческом, т. е. ограниченном определенными временными рамками, значении, а вот термин «Просвещение» у меня лишен общепринятой исторической привязки. Период, о котором говорится в книге, приходится на начало XVII столетия, хотя мне и не удалось обойтись без экскурсов в более ранние и более поздние времена. Задача исследования — рассмотрение ряда документов, напечатанных в Германии в начале XVII века и известных как «розенкрейцерские манифесты», в их историческом контексте. Более поздние во времени течения, тоже называвшие себя «розенкрейцерскими» (часть из них существует и поныне), остались за рамками работы. Интересующие же меня манифесты призывали к прогрессу человеческого знания — и потому название, которое я дала этой книге, представляется правильным в приложении к рассматриваемой в ней исторической ситуации. В начале XVII столетия действительно существовало движение, заслуживающее того, чтобы быть названным «Розенкрейцерское Просвещение», — ему и посвящена эта книга.
Итак, термин «розенкрейцерство» — в предложенном здесь узко-историческом понимании — обозначает определенную фазу в истории европейской культуры, пришедшуюся на промежуток времени между Ренессансом и так называемой «научной революцией» XVII века. Характеризуется эта фаза, прежде всего тем, что в возрожденческую традицию герметизма и каббалы влилась еще одна герметическая традиция — алхимическая. «Розенкрейцерские манифесты» как нельзя лучше выражают суть этого явления — соединив в себе «магию, каббалу и алхимию», они послужили импульсом и основой начавшегося в то время просветительского движения.
В своей книге «Джордано Бруно и герметическая традиция» (1964) я попыталась проследить развитие ренессансной герметической традиции — со времени ее зарождения в Италии, первых формулировок в трудах Марсилио Фичино и Пикоделла Мирандолы, и далее, до конца эпохи Ренессанса. Однако к началу XVII века эта традиция вовсе не утратила своего значения (как мне казалось, когда я работала над книгой) и не перестала влиять на все основные направления культурного развития. Наоборот, герметическая традиция, как я теперь понимаю, в начале XVII столетия переживала подлинный ренессанс, проявляя себя в обновленных, свежих, не известных прежде формах. Герметизм подвергся сильному влиянию со стороны алхимии, что было особенно важно, так как способствовало выработке нового, «математического» подхода к природе.
В ряду виднейших «розенкрейцеров» выделяется Джон Ди, который, как я писала в статье 1968 г., «с исторической точки зрения являет собой типичную фигуру ренессансного „мага“, но только более позднего, розенкрейцерского толка». В книге «Театр мира сего» (1969) я постаралась привлечь внимание коллег и читателей к тому факту, что Джон Ди оказал на Елизаветинский ренессанс весьма значительное воздействие; по-настоящему же заполнил этот большой пробел в наших представлениях о Ренессансе Питер Френч, всесторонне исследовав в своей блестящей монографии «Джон Ди» (1972) творчество Ди и его влияние на английскую культуру. Ди был продолжателем ренессансной герметической традиции, к тому времени вобравшей в себя последние достижения научной и религиозной мысли, и он обогатил ее еще больше, работая в новых и важных областях человеческого знания. Так, Ди по праву считается блистательным математиком, а свои исследования числа он соотносил с тремя мирами каббалистов. В «нижнем мире» — мире стихий, начал, или элементов, — «число», с точки зрения Ди, является основой технических и прикладных наук. Блестящий обзор таковых (и «математических искусств» вообще) содержится в его «Предисловии» к Евклиду. В «небесном мире» «число» связано с астрологией и алхимией — и Ди в «Иероглифической Монаде» утверждает, что ему удалось открыть формулу, сочетающую воедино каббалистическую, алхимическую и математическую премудрость и позволяющую ее обладателю свободно перемещаться по всей «шкале» бытия, из низших сфер в высшие и обратно. Что же до последней, «занебесной» сферы, то Ди будто бы нашел тайный способ заклятия ангелов — он заключается в особых операциях с числами, восходящих к каббалистической традиции. Приведенный выше краткий обзор воззрений Ди должен прояснить читателю, что я имела в виду, называя его типичным позднеренессансным «магом»: все подобные фигуры пытались объединить «магию, каббалу и алхимию» и обретали в итоге новое мировидение, представлявшее собой, на наш взгляд, причудливую смесь самой передовой для того времени науки и ангелологии. Ди пользовался поразительным влиянием в елизаветинской Англии — до 1583 г., когда он оставил родину и перебрался на континент. Там он также приобрел чрезвычайное влияние, став вдохновителем новых движений в Центральной Европе. Эта часть жизненного пути Джона Ди, второй, «континентальный», период его деятельности, до сих пор не подвергалась систематическому исследованию, и наши знания о ней основываются по большей части на сплетнях и слухах. Похоже, что в Богемии Ди не просто числился главой определенной алхимической школы, но возглавлял движение за религиозную реформу, природа которого нам пока не очень ясна. Наши знания о культурной среде, сложившейся вокруг императора Рудольфа II и во многом определившей позднее творчество Ди, все еще крайне скудны — остается лишь дожидаться завершения труда Роберта Эванса, обещающего стать серьезным исследованием рудольфианской культуры[1].
Настоящая книга — и мне хотелось бы подчеркнуть это со всей возможной силой — является, прежде всего, историческим исследованием. Я рассматриваю «розенкрейцерскую» фазу развития мысли, культуры и религии под особым углом зрения: желая главным образом выявить те исторические каналы, посредством которых характерные для этой фазы идеи распространялись по Европе. К сожалению, «каналы» заросли тиной и для современного исследователя едва различимы — а произошло это потому, что историческая наука «забыла» некий существенный исторический период.
Мы, конечно, можем прочитать в монографиях или учебниках по истории, что принцесса Елизавета, дочь Якова I, вышла замуж за Фридриха V, курфюрста Пфальцского, и что последний несколько лет спустя безрассудно пытался заполучить для себя богемский престол, каковая затея окончилась бесславным провалом. Венценосные супруги, позже получившие насмешливое прозвище «монархи Богемии на одну зиму», после поражения 1620 г. вынуждены были спешно покинуть Прагу и до конца дней своих пребывать в нищете и изгнании, ибо одновременно с Богемией они утратили Пфальц. Все это так, однако, историки каким-то образом упустили из виду то, что «розенкрейцерская» фаза культуры связана именно с этим эпизодом — как связаны с ним и «розенкрейцерские манифесты», явно написанные не без влияния идей, которые несколькими годами ранее распространял в Богемии Джон Ди. И еще то, что скоротечное правление Фридриха и Елизаветы в Пфальце было «золотым веком» герметизма, вобравшего в себя и алхимическое движение под водительством Михаэля Майера, и «Иероглифическую Монаду» Джона Ди, и многое другое. Да, Яков I отрекся от «розенкрейцерства», вследствие чего это движение, просуществовав очень недолго, потерпело крах. И все же нам не обойтись без знания его истории — иначе мы не поймем, почему розенкрейцерская идеология не исчезла сразу после разгрома Фридриха, но давала о себе знать вплоть до конца XVII столетия. Предложенная нами реконструкция этого важного периода европейской культуры и истории, основанная на современных методах исторической критики, покажет, как мы надеемся, что розенкрейцерская тема вовсе не является монополией некритичных и маловразумительных «оккультистов» — напротив, она должна стать «законной» и важной сферой научных изысканий.
Поскольку эта книга представляет собой первую попытку нового подхода к розенкрейцерской теме, она просто не может не содержать ошибок, и, вероятно, будущие исследователи заметят их и исправят. Дело осложняется еще и тем, что «вспомогательного инструментария» для работы в данной области в настоящее время практически нет. Особенно остро ощущается отсутствие надежной библиографии. Имеющиеся исследования о розенкрейцерах тоже в большинстве своем не устраивают серьезного историка: единственно полезное, что в них можно отыскать, — это ссылки на первоисточники. Труды А.Э. Уэйта я отношу к иной категории, и они мне очень пригодились, хотя, как заметил Г. Шолем, эти действительно ценные работы многое теряют из-за того, что их автор некритично относится к источникам. Книга Поля Арнольда полезна потому, что автор собрал огромный фактический материал, которым, правда, не сумел должным образом распорядиться. Монография Виль-Эриха Пойкерта незаменима для понимания исторической обстановки в Германии в ту эпоху. Все перечисленные книги, как и другие, упомянутые в примечаниях, очень мне помогли. Однако в своей работе я попыталась взглянуть на связь розенкрейцерства с современной ему политической и культурной ситуацией под принципиально иным, новым углом зрения.
Как уже говорилось, в мою задачу не входит рассмотрение ни позднейшей истории так называемого «розенкрейцерства», ни тех диковинных контекстов, в которых порой всплывал и до сих пор всплывает этот термин. Может быть, мои выводы проливают какой-то свет и на дальнейшую судьбу розенкрейцерства, но лично я заниматься подобными вопросами не собираюсь. Это — уже другой, самостоятельный предмет исследования. К примеру, в книге «Тайные Фигуры Розенкрейцеров» (Geheime Figuren der Rosenkreuzer), опубликованной в Альтоне в 1785 г., мы встречаем розенкрейцерские символы начала XVII века, однако в контексте более поздней эпохи они могли означать нечто совершенно иное, и здесь требуются особые, отдельные разыскания. Для того чтобы удержать объем настоящей работы в запланированных рамках, мне часто приходилось сокращать или опускать те или иные материалы, преодолевая искушение остановиться и тщательно разобраться во всех мелочах или же двинуться по «боковой тропке», уводящей далеко в сторону от основной темы.
Гравюры из книги «Тайные Фигуры Розенкрейцеров». Альтона, 1785.
А тема эта действительно очень важна, поскольку, по существу, речь идет о трудном движении человечества к «просвещению» (в смысле обретения нового мировидения) и к «просвещенности» (в смысле накопления интеллектуального потенциала и научных знаний). И не беда, что я так и не смогла достоверно узнать, кем были первые розенкрейцеры, да и существовали ли они вообще, — ведь сомнения и неопределенность, с которыми сталкивались и до сих пор сталкиваются все ищущие незримую Братию Креста-Розы, суть неизбежные спутники тех, кто взыскует Незримого.
Содержание некоторых начальных глав предлагаемой книги впервые было кратко изложено в лекции «Яков I и Пфальц: забытая глава из истории идей», прочитанной в Оксфорде в октябре 1970 г. в рамках семинара по английской истории, посвященного Джеймсу Форду. Великодушная поддержка со стороны Г. Тревор-Ропера ободрила меня и вдохновила на написание книги. Как всегда, главным моим пристанищем и домом на время написания книги стал Варбургский институт — его директору и всем моим тамошним друзьям я выражаю самую глубокую признательность. Д.П. Уокер весьма любезно согласился ознакомиться с черновиком рукописи, мы неоднократно обсуждали затронутые в ней темы, и эти беседы принесли большую пользу моей работе.
Дженнифер Монтегю и другие сотрудники Фотографического собрания всегда с готовностью оказывали мне всяческое содействие в подборе иллюстраций. Особо хочу поблагодарить Мориса Эванса, который начертил карту для этой книги.
Питер Френч по согласованию с издательством любезно позволил мне ознакомиться с гранками его монографии о Джоне Ди, в то время еще не опубликованной.
Я выражаю самую искреннюю благодарность персоналу Лондонской библиотеки. Не могу не упомянуть и то любезное содействие, которое оказали мне сотрудники Библиотеки д-ра Уильямса. Хочу также поблагодарить директоров Национальной портретной галереи, Музея Ашмола и Британского музея за предоставленное мне разрешение включить в книгу репродукции портретов и гравюр из собраний, вверенных их попечению. Директор Библиотеки земли Вюртемберг в Штутгарте позволил мне снять микрофильм с одной из рукописей, хранящихся в этой библиотеке. Цитаты из книги Э.А. Беллера «Карикатуры на „Зимнего короля“ Богемии», вышедшей в свет в 1928 г., я использую с разрешения издательства Clarendon Press, Оксфорд.
Настоящая книга продолжает серию, начатую монографией «Джордано Бруно и герметическая традиция». Все время, пока я работала над этой серией, сестра оказывала мне огромную, не поддающуюся никакому учету поддержку. Без ее постоянной практической помощи, всегдашней готовности ободрить в трудной ситуации, без ее вдумчивого понимания и острого критического чутья я не смогла бы довести свое начинание до конца.
Институт Варбурга,
Лондонский университет
I. Королевская свадьба
Бракосочетание принцессы Елизаветы и курфюрста Пфальцского
Свадьба Фридриха V и принцессы Елизаветы. Немецкая гравюра. 1613. Мудрость древних и тайные общества. Смоленск, 1995. С. 54.
В старину в Европе королевская свадьба считалась важнейшим дипломатическим событием, а сопутствующие ей празднества превращались в своего рода политические декларации. И не приходится удивляться, что ради намеченной на февраль 1613 г. свадьбы — принцесса Елизавета, дочь Якова I, должна была обвенчаться с Фридрихом V, курфюрстом Рейнского палатината, — рекой лились сокровища английского Ренессанса, а Лондон просто обезумел, радуясь предстоящему продолжению «века Елизаветы», каковым представлялся союз новой, юной Елизаветы с вождем германских протестантов, внуком Вильгельма Молчаливого[2].
Действительно, многое в этом счастливом событии напоминало о временах прежней королевы. Елизавета I была опорой и надеждой Европы в борьбе против агрессии Габсбургов, вступивших в союз с католической реакцией; она поддерживала союзнические отношения с мятежными Нидерландами и их вождем, а также с немецкими и французскими протестантами. В своей религиозной политике Елизавета ориентировалась на реформированную и облагороженную имперскую идею — это и имели в виду поэты, нарекшие ее именем Астрея[3], Дева-Справедливость золотого века[4]. Была даже какая-то пикантность в том обстоятельстве, что, в отличие от прежней, «девственной» Елизаветы, новой Елизавете предстояло укрепить политическую линию, освященную великим именем ее предшественницы, узами брака. Двор был готов довести себя до разорения, расходуя огромные средства на наряды, украшения, развлечения и празднества, без которых не могло обойтись предстоящее бракосочетание. И это еще не все. Закрома английской мысли и поэтического чувства тоже в то время изобиловали сокровищами, которые грех было бы не растратить в честь счастливых молодоженов. Шекспир был еще жив и находился в Лондоне; театр «Глобус» еще не сгорел[5]; Иниго Джонс продолжал совершенствовать искусство оформления столь любимых при дворе «масок»[6]; Фрэнсис Бэкон уже опубликовал свой знаменитый трактат «О Прогрессе Учености». Английский Ренессанс еще находился в зените славы, а занимающаяся заря XVII века уже манила обещаниями нового интеллектуального подъема.
Но чем обернутся обетования нового столетия? Сулят ли они мирное развитие или же грядущие бедствия? Предзнаменования не обещали особых благ. Война между Испанией и Нидерландами приутихла, враги заключили перемирие, но срок его истекал в 1621 г. Силы католической реакции готовились вновь ополчиться на ересь, уповая на усиление дома Габсбургов. Сами же Габсбурги держались пока начеку и выжидали своего часа. Осведомленные в политике люди полагали, что война неминуема и что разразится она в Германии. Вот какие мрачные тучи сгущались за спиной Фридриха и Елизаветы, невзирая на блеск предстоящего бракосочетания. Этим молодым людям, таким обворожительным и невинным, предстояло всего лишь через несколько лет оказаться в эпицентре страшного урагана.
Юный германский князь сошел на английский берег 16 октября 1612 г. в Грейвзенде[7]. Молодой человек был хорош собой, его манеры отличались подобающей учтивостью, и, естественно, он произвел хорошее впечатление при дворе, понравился народу и пришелся по сердцу нареченной. Фридрих и Елизавета полюбили друг друга так сильно, что их чувство сумело выдержать все обрушившиеся впоследствии удары судьбы. Но счастливо начавшийся роман омрачила, еще до свадьбы, беда: после внезапной болезни скончался брат невесты — Генрих, принц Уэльский. Несмотря на свою молодость, Генрих успел проявить качества, достойные будущего государя, и его прочили на трон Генриха IV Французского (убитого в 1610 г.). Если бы этот замысел удался, на французском престоле оказался бы противник габсбургских держав. Генрих намеревался поехать вместе с сестрой в Германию и поискать там невесту для себя самого — поговаривали, что у него были далеко идущие планы, связанные с прекращением «религиозных дрязг»[8]. Его внезапная и ранняя смерть означала утрату важного источника влияния на Якова I: ведь Генрих наверняка действовал бы в интересах своей сестры и ее мужа. Но даже столь роковое событие не могло надолго прервать предсвадебные увеселения, хотя церемония венчания была, конечно, отложена.
Елизавета обожала театр, и у нее была своя труппа. Актеры именовали себя «людьми леди Элизабет» и играли специально для принцессы и ее жениха[9]. А в дни празднования Рождества актеры королевской труппы, труппы Шекспира, показали придворным целых двадцать пьес. Сохранилась расписка Джона Хеминга (того самого, что позже вместе с Генри Конделлом осуществил первое издание шекспировских пьес) в получении денег за составление списка этих спектаклей. Список предназначался для «леди Элизабет» и «князя Пфальцского», и в нем, между прочим, упоминались «Отелло», «Юлий Цезарь», «Много шума из ничего» и «Буря»[10]. Согласно одной гипотезе, «маска»[11] была введена в первоначальную редакцию «Бури» именно в расчете на то, что показ пьесы состоится в вечер помолвки, 27 декабря 1612 г.[12] Прямых свидетельств, подтверждающих эту любопытную теорию, не имеется — если не считать таковыми саму пьесу, повествующую о любовной истории некоей принцессы и включающую в себя «венчальную маску», а также тот факт, что «Буря» входит в число шекспировских пьес, разыгранных перед Фридрихом и Елизаветой. Последние, впрочем, в ту «комедийную» пору своей жизни (когда все происходившее с ними казалось сюжетом какой-то комедии со счастливым финалом) действительно напоминали героя и героиню «Бури».
По традиции зять английского короля должен был быть кавалером ордена Подвязки — и пфальцграфа («палсгрейва», как именовали его в английских официальных документах), конечно же, удостоили этой чести. Избрание Фридриха и его дяди Морица Нассауского в кавалеры ордена состоялось 7 декабря, а 7 февраля, за неделю до венчания, пфальцграф на церемонии в Виндзоре был торжественно облечен подобающими регалиями[13]. «Большого Георгия» (усыпанную драгоценными камнями медаль с изображением святого Георгия, поражающего дракона[14], которая крепится к специальному широкому воротнику) вручил будущему зятю сам король, а еще одного «Георгия» (видимо, это был т. н. «Малый Георгий» — уменьшенная копия той же медали, носимая на ленте и предназначенная для менее торжественных случаев) преподнесла жениху невеста[15]. Столь большое значение, придававшееся в то время ордену Подвязки, опять-таки говорит о желании Якова продолжить елизаветинские традиции. Королева фактически возродила этот орден — его церемонии, процессии, рыцарственный дух — и использовала как средство сплочения дворян в общем служении Короне[16]. Став рыцарем Подвязки, пфальцграф тем самым как бы вступил под хоругвь Алого Креста св. Георгия и разделил с кавалерами ордена их обязательства — всегда и всюду поражать дракона Неправды и защищать монарха.
История о св. Георгии и драконе и другие романтические приключения великомученика, ополчавшегося на неправедных и защищавшего угнетенных, была представлена серией красочных фейерверков. Это зрелище незадолго до свадьбы, ночью 11 февраля, подарили придворным и всему народу королевские пушкари. Грандиозный фейерверк подробно описан в печатном отчете[17], а отдельные эпизоды представлены в миниатюрах рукописной книги, ныне хранящейся в Британском музее[18]. Одна из «огненных картин» изображала святого Георгия, великого ратоборца, в момент освобождения королевы из узилища, в которое заключил ее некий чернокнижник. Другая показывала святого воина уже на мосту, соединяющем темницу с башней упомянутого мага; на этом самом мосту св. Георгий поражал дракона. Потом святой проникал в башню и пленял злого колдуна. Зрелище завершалось сжиганием башни, сопровождавшимся «хлопками взрывов и вспышками огней».
Хотя «мастера огненных дел» описывали свое творение весьма восторженно, в действительности оно оказалось не без изъянов: несколько человек вроде бы было покалечено[19]. Но вообще это представление, состоявшееся между посвящением Фридриха в кавалеры ордена и церемонией венчания, явно было задумано как аллегория, намек на курфюрста Пфальцского, которому, как и св. Георгию, небесному покровителю рыцарей Подвязки, надлежало очистить этот мир от злого заклятья. Читавшие «Королеву фей» Спенсера (если таковые нашлись среди зрителей фейерверка) могли вспомнить и о рыцаре Алого Креста, доблестно защищавшем Уну[20], — герое сей возвышенной аллегории, прославлявшей Деву Елизавету. Теперь же новая Елизавета, которой вот-вот предстояло стать супругой, созерцала другую, «свято-георгиевскую», аллегорию, выписанную разноцветными огнями и восхвалявшую ее собственный брачный союз с доблестным рыцарем — кавалером Подвязки.
Наконец наступило 14 февраля, день венчания. Происходило оно в королевской часовне в Уайт-холле. Голову невесты украшала «корона чистого золота, выглядевшая весьма царственно, поелику вся она усыпана была жемчугами и бриллиантами, столь плотно пригнанными друг к другу, что образовывали как бы звездчатый нимб над ее янтарного цвета волосами, надлежащим образом заплетенными в косы, переброшенными через плечи и ниспадавшими вниз, доходя до пояса»[21]. Обряд совершал Джордж Эббот, архиепископ Кентерберийский. Жених придерживался кальвинистского вероисповедания, но венчание происходило по англиканскому обряду: «князь Пфальцский произносил слова брачной клятвы по-английски, повторяя их вслед за архиепископом»[22]. Это выглядело весьма символично, превращало церемонию в торжество англиканской церкви: подобный брак, конечно, мог лишь укрепить ее авторитет в других странах. В самом деле, Эббот приписывал союзу Фридриха и Елизаветы значение некоей религиозной миссии — пуританской и очищающей по своей сути[23]. Церемония сопровождалась музыкой и пением церковных гимнов. Невеста и жених предстали глазам народа как живые воплощения орденских преданий. Когда Фридрих наконец покинул часовню, перед ним шествовало шесть музыкантов его собственной свиты. Они столь восхитительно играли на серебряных трубах, что развеселили весь двор, а тысячи простолюдинов закричали: «Пошли им радость, Господи!» На этой ноте, под звуки немецких труб, и завершилась королевская свадьба.
Вечером того же дня в банкетном зале Уайт-холлского дворца новобрачным и всему двору было показано театральное представление — «маска». Текст пьесы написал Томас Кэмпион, постановку же осуществил Иниго Джонс[24]. Первый эпизод основывался на предании о могучей власти музыки Орфея, прогонявшей прочь уныние и безумие. Повествование об Орфее перемежалось хоровым пением, сценами, изображавшими «сумасшествие», и поэтическими вставками, затем распахивалась верхняя часть сцены, открывая взорам зрителей облака и крупные звезды. Гармония небесных сфер соединялась с гармонией королевской свадьбы[25]:
Рейн сливается с Темзою, Германия соединяется с Великобританией, звезды в перемещениях своих изливают на этот союз умиротворяющую Гармонию[26]:
В согласии с настроением этой песни звезды двигались в весьма необычной и очаровательной манере, и, полагаю я, мало кому довелось видывать, когда бы то ни было более изощренное искусство, чем выказанное в измышлении движения этих светил Мастером Иниго Джонсом, каковой и во всех прочих выдумках своих, относящихся к названному спектаклю, показал чрезвычайную изобретательность и из ряда вон выходящее умение.
Потом открывалась уходящая вдаль перспективная декорация, в середине которой высился серебряный обелиск, а рядом с ним стояли золотые статуи невесты и жениха. Появлялась дряхлая Сивилла и вещала латинскими стихами о великом роде королей и императоров, который произрастет из этого союза германской мощи и британского могущества, а также благодаря слиянию народов в единой вере и искренней взаимной любви[27].
Следующим вечером, 15 февраля, джентльмены «Грейз инна» и «Иннер темпла»[28]; разыграли «маску» драматурга Фрэнсиса Бомонта[29], тоже воспевавшую союз между Рейном и Темзой. Текст был посвящен Фрэнсису Бэкону, к которому автор обращался в следующих выражениях: «Вы, не пожалевшие ни труда, ни времени, чтобы подготовить, упорядочить и украсить эту маску…»[30] Пьеса чем-то не понравилась королю Якову, и он распорядился отложить представление. Однако содержание «маски» нам известно. Главный эпизод должен был являть собой великолепное зрелище: взору публики открывается холм, на котором собрались представители рыцарского и духовного сословий. Затем и те, и другие нисходят с высоты, чтобы вместе исполнить торжественный танец, символизирующий грандиозность задач, стоящих перед духовным рыцарством. Священники поют[31] о том, что на свадьбе, венчающей соединение столь выдающейся четы,
Если общий план спектакля и в самом деле был разработан Фрэнсисом Бэконом, это означает, что последний очень серьезно воспринял брак Фридриха с Елизаветой и глубоко симпатизировал идее альянса тех сил, воплощением и надеждой которых были молодожены. Представим себе: автор прославленного трактата «О Прогрессе Учености» (опубликованного восемью годами ранее, в 1605 г.) отвлекается от всех своих занятий, дабы внести лепту в свадебные торжества… Не правда ли, его имя придало бы окончательный блеск тому созвездию поэтических, художественных и научных талантов, что озарило светом неувядаемой славы последние дни, проведенные Елизаветой на родине?
Фридриху еще надлежало почтить своим посещением университеты, чем он и занялся. Ученые сообщества приветствовали принца латинскими стихами, в которых эрудиция часто перевешивала поэтическое чувство. Одно из таких произведений написал Джордж Херберт[32]. Не иссякал и поток поздравительных стихов, извергавшийся печатными станками и между прочим вобравший в себя несколько стихотворений Джона Донна[33]. Во многих произведениях такого рода к ликованию по поводу венчания Елизаветы примешивается печалование о преждевременной кончине ее брата.
«Всяк благонамеренный имел великую приятность и удовлетворение в Браке сем, — писал в личном письме один современник событий, — как явившем прочное основание и утверждение религии»[34]. То бишь бракосочетание и свадебные торжества воспринимались как декларация религиозной политики, как заявление о твердом намерении Великобритании поддерживать курфюрста Пфальцского в его борьбе против реакционных католических держав, которые как раз в тот момент сплачивались, чтобы во всеоружии встретить скорый конец перемирия. На свадьбе и сопутствовавших ей празднествах присутствовали послы Голландских штатов. Послы Франции и Венеции также приехали на эти торжества, причем посол венецианский почел уместным выказать свое пылкое восхищение некоторыми эффектами, изобретенными Иниго Джонсом. Отсутствие же посланников габсбургских держав вызывало подозрение в намерении оскорбить царственную чету. «Испанский (посол) заболел или сказался больным; а от посла эрцгерцога[35], который был приглашен на следующий день, последовали лишь вымученные извинения»[36]. Друзьями, а равно и врагами, это бракосочетание мыслилось (в согласии с европейской традицией) как политическое заявление, во всеуслышание провозглашавшее приверженность Англии прежней своей, избранной еще королевой Елизаветой, роли: роли защитницы протестантских держав Европейского континента. Причем, как все полагали, курфюрст Пфальцский должен был занять лидирующее место в подобной политике — с ведома и при деятельной поддержке его тестя.
Современники, однако, упустили из виду, что такая концепция протестантского альянса не совсем совпадала со взглядами и намерениями Якова. Яков отнюдь не считал себя политическим восприемником королевы, в свое время отправившей на плаху его мать[37]. Он-то, судя по дальнейшим событиям, лелеял совсем иные планы: «уравновесить» брачный союз дочери с немецким протестантским князем, женив сына, Карла, на испанской принцессе-католичке, — и тем самым избежать войны с габсбургскими державами, которых очень опасался и столкновение с которыми желал предотвратить любой ценой. К несчастью, пфальцграф и его советники не учли последнего обстоятельства, когда, разделяя всеобщее роковое заблуждение, поспешили с головой окунуться в омут рискованной антигабсбургской политики.
Елизавета с супругом и сопровождавшими чету свитами покинула Англию 25 апреля 1613 г., отчалив от пристани Маргейт. В Гааге[38] их тепло встретил Мориц Нассауский — дядя пфальцграфа по материнской линии, сын Вильгельма Молчаливого.
Сошествие на голландский берег английской принцессы (тем более что она звалась Елизаветой) должно было оживить глубоко укоренившиеся в сознании людей исторические, политические, религиозные стереотипы — наследие предыдущего столетия. Вильгельм Молчаливый приложил в свое время много усилий, чтобы создать прочный союз с Англией, способный противостоять испанской агрессии, и намеревался скрепить этот союз узами брака. Он «продвинул» французского принца Франциска Анжуйского на пост наместника Фландрии и Брабанта, надеясь впоследствии женить его на королеве Елизавете, после чего возник бы франко-английский альянс, контролируемый Вильгельмом. Однако из этого замысла ничего не вышло: правление Франциска Анжуйского завершилось позорным крахом, и испанцы вернулись в Антверпен. Произошло это в 1584 г.[39] Когда чуть позже, в 1586 г., граф Лестерский туманно намекнул голландцам на возможную английскую помощь, народ повсюду приветствовал его как избавителя, и «турне» высокого гостя по Провинциям вылилось в непрекращающееся торжество, отмеченное, среди прочего, грандиозным праздником ордена Подвязки, устроенным в Утрехте[40] по инициативе самого графа. В результате местное население не только познакомилось с орденской символикой, но стало воспринимать ее как символ собственного освобождения.
И вот теперь из Англии является принцесса, состоящая в браке с кавалером ордена Подвязки, каковой рыцарь, между прочим, состоит в кровном родстве с Оранско-Нассауской династией[41], сам же является наследственным властителем Пфальца (то есть влиятельнейшим из светских выборщиков императора) и, кроме того, возглавляет союз немецких протестантских князей. Нидерланды, с тревогой ожидавшие окончания перемирия, вряд ли могли отыскать для себя лучшего союзника. А потому, тратясь на приемы в честь принцессы Елизаветы и курфюрста Пфальцского, нидерландские города с расходами не считались[42]. Щедрые застолья, дорогие подарки, спектакли — все что угодно, лишь бы развлечь и ублажить высоких гостей. Курфюрст оставил супругу в Гааге, а сам поспешил в свои владения, чтобы подготовить торжественную встречу.
Принцесса последовала за ним в надлежащий срок, поднимаясь вверх по Рейну на роскошной барке. Так началось это «супружество Темзы и Рейна», предсказанное в свадебных «масках». И, может быть, сам Иниго Джонс, придумавший для тех масочных представлений волшебные перспективные декорации, сопровождал принцессу в ее плавании. Известно, что граф Эрендел, ценитель искусств, коллекционер и покровитель Иниго Джонса, отправился вместе с принцессой на ее новую родину. А еще мы знаем, что второе свое путешествие в Италию Иниго Джонс совершал в свите графа Эренделского. Вывод (пусть и не подтвержденный документально) напрашивается сам собой: Иниго, как и его патрон, скорее всего, прибыл из Лондона в Хайдельберг в свадебном кортеже принцессы и уже оттуда последовал за Эренделом в Италию[43]. Образование в Хайдельберге квазианглийского двора потребовало частых сношений между Лондоном и рейнским княжеством и открыло новый маршрут для приезжавших на континент англичан.
Первым городом Пфальца, который посетила Елизавета, стал Оппенхайм, расположенный возле самой границы. Верноподданные обыватели украсили город в честь своей только что обретенной повелительницы. Эти декорации можно увидеть в иллюстрированном отчете, напечатанном сразу после прибытия принцессы из Лондона в Хайдельберг[44]. На одной из воздвигнутых в Оппенхайме триумфальных арок изобразили множество роз — намек, как объясняют авторы отчета, на происхождение Елизаветы из дома Йорков и Ланкастеров[45]. Герб короля Великобритании, обрамленный Подвязкой, соседствовал с гербом Пфальца. Вдоль городских улиц выстроились шеренги гвардейцев в красочных одеяниях, а горожане с неистовым восторгом приветствовали молодую английскую принцессу.
Гравюра с изображением «розовой арки» в Оппенхайме подписана именем «Де Бри», как и другие гравюры в том же отчете. Имя принадлежало известному граверу Иоганну Теодору Де Бри, который как раз накануне приезда Елизаветы перевел свое издательско-гравировальное заведение из Франкфурта в Оппенхайм. На протяжении всего времени правления в палатинате Фридриха и Елизаветы, то есть с 1613 по 1619 гг., Иоганн Теодор Де Бри оставался в Оппенхайме и наводнял княжество своими публикациями, посвященными весьма мудреным предметам, но всегда отличавшимися высоким качеством гравированных иллюстраций. В граверном деле мастеру Де Бри помогал его зять Маттеус Мериан.
Ведущее место среди книг, опубликованных Де Бри в Оппенхайме, принадлежит двухтомному, прекрасно иллюстрированному изданию сочинения Роберта Фладда «История Макро- и Микрокосма»[46] (Utriusque Cosmi Historia). Установление тесных связей между Пфальцем и Англией, несомненно, облегчило задачу публикации в Оппенхайме пространного философского труда, написанного англичанином. Позже я еще вернусь к рассмотрению того факта, что труд Фладда был напечатан именно в Оппенхайме и именно в правление Фридриха и Елизаветы.
7 июня 1613 г. Елизавета наконец прибыла в Хайдельберг, столичный город своих новых владений. Этот момент запечатлен на гравюре из «Отчета о Путешествии». Военный парад — полки проходят торжественным строем перед супругой курфюрста. Она же — такая кокетливая в высокой алой шляпке, кружевном воротнике, юбке с фижмами из золотой парчи — только что покинула карету. Супруг торопится ей навстречу. Елизавету ожидает другая, обтянутая малиновым бархатом, карета, в которой ей предстоит въехать в Хайдельберг.
Факультеты Хайдельбергского университета, одного из важнейших центров протестантского образования в Европе, воздвигли триумфальные арки в честь супруги своего суверена. Арку богословского факультета украшали портреты отцов Церкви, а также Лютера, Меланхтона и Беза (любопытно, что Кальвин в их компанию не попал).
Проехав по городу, вереница экипажей стала подниматься на гору, к замку. Хайдельбергский замок представлял собой импозантное, романтического вида здание, впечатление от которого еще более усиливалось благодаря удачному расположению — на вершине высокой горы, круто обрывавшейся вниз, к реке Неккар, притоку Рейна. Во дворе замка царственную чету ожидала еще одна триумфальная арка, высотой почти в двадцать метров, украшенная статуями прежних правителей Пфальца, имевших жен-англичанок. У входа в дом новобрачных встречала мать курфюрста, Луиза Юлиана Нассауская (дочь Вильгельма Молчаливого), давно мечтавшая об этой партии для своего сына, но, по правде сказать, не слишком надеявшаяся на исполнение столь дерзких грез.
В течение нескольких дней после прибытия курфюрстины в замке не прекращались турниры и прочие праздничные действа. По дорогам медленно двигались триумфальные колесницы с ряжеными, изображавшими античных богов. В одной такой повозке ехал курфюрст Пфальцский в наряде Ясона, со свитой, переодетой аргонавтами, собравшимися в поход за золотым руном. В оформлении мифологической аллегории явно ощущается франко-бургундский стиль. Тем из гостей, кто видал постановки Иниго Джонса при английском дворе, он, должно быть, казался провинциальным и старомодным. Да и сам Иниго Джонс, если, конечно, был в это время в Хайдельберге, мог заняться профессиональными оценками и сравнениями. И все же идея «колесницы Ясона» была вполне в духе лондонских свадебных торжеств. Появление Фридриха в образе Ясона должно было напомнить зрителям об ордене Золотого Руна, тем более что с ветви древа, «выросшего» на «палубе», свисала подвеска, символизировавшая и «руно», и названный в его честь орден. Как курфюрст, обладающий правом избрания императора, Фридрих, естественно, был кавалером этого имперского ордена. На мачте же корабля красовалась Подвязка — в знак того, что, став зятем короля Великобритании, он вступил и в прославленный английский орден. Лондонские «огненные картины» изображали Фридриха в образе св. Георгия, патрона ордена Подвязки; здесь же он выступал как Ясон, мифический основатель ордена Золотого Руна. Роль паладина, ищущего мистических приключений, подходила молодому пфальцграфу более всех других. Во всяком случае, многим тогда так казалось.
Но вот торжества подошли к концу. Представители английского двора отбыли на родину, сочтя свой долг исполненным. Покинули Хайдельберг граф и графиня Эренделские. Вслед за ними заторопились в Англию лорд и леди Харрингтон. С отъездом высоких гостей последние официальные узы, связывавшие Елизавету с ее прежним домом, оборвались. Отныне она была супругой курфюрста Рейнского и с блеском играла свою новую роль, оставаясь в Хайдельберге, пока не разразился роковой в ее судьбе 1619 год.
Ни для кого во всей Священной Римской империи не осталось неведомым известие о женитьбе курфюрста Пфальцского, влиятельнейшего из выборщиков императора, на дочери короля Великобритании. Новости проникали через глухие лесные чащи, распространялись по городам, принося многим чувство удовлетворения: как же, такой замечательный союз, он, несомненно, пойдет на пользу делу германского протестантизма. Напротив, в других местах вести о семейном счастье Фридриха восторгов не вызывали — в Граце, например, где держали свой пышный двор австрийские Габсбурги.
Хайдельбергскому же замку с приездом Елизаветы суждено было превратиться в источник странных и будоражащих влияний, распространявшихся вовне, на всю Европу. Преждевременно усопший брат курфюрстины, принц Генрих, весьма интересовался ренессансным садово-парковым искусством. Увлекали покойного принца и механические фонтаны, умевшие воспроизводить музыкальные мелодии, говорящие статуи и тому подобные диковины, вошедшие в моду в связи с обнаружением новых античных текстов, в которых описывались удивительные устройства, придуманные Героном Александрийским и его последователями. Принц принял на службу в качестве землемера-планировщика французского протестанта Соломона де Ко — блистательного садового архитектора и инженера-гидравлика[47]. Этот ученый муж поддерживал дружеские отношения с Иниго Джонсом, также выполнявшим некоторые работы для принца Генриха. Следуя заветам Витрувия[48] (которого, вместе с Героном, извлекли из забвения гуманисты), оба мастера интересовались всеми дисциплинами, обязательными, как учил римский архитектор, для истинного зодчего, а именно искусствами и науками, основанными на числе и мере: музыкой, перспективой, живописью, механикой и тому подобным[49] Иниго Джонс занимался архитектурой и театральным дизайном; последний в его представлении был теснейшим образом связан с зодчеством и подчиненными ему дисциплинами — перспективой и механикой[50]. А Соломон де Ко уделял основное внимание планировке садов — искусству, которое в эпоху Ренессанса было теснейшим образом связано с архитектурой. (Как и архитектура, считавшаяся «царицей математических наук», садово-парковое искусство опиралось на пропорциональную меру, перспективу, геометрию, а также использовало — в поющих фонтанах и прочих «украшательствах» — новейшие открытия из области механики.)
По кончине принца Генриха Соломон де Ко поступил на службу к курфюрсту Пфальцскому и поселился в Хайдельберге в качестве придворного архитектора и инженера; он придумывал поразительные новшества для замка и прилегающих к нему земельных угодий. Некоторое представление о том, чем занимался этот человек, можно получить, разглядывая гравюры в книге де Ко «Пфальцский Сад» (Hortus Palatinus), изданной во Франкфурте в 1620 г. Иоганном Теодором Де Бри. Де Ко взорвал скалистую верхнюю часть горы, чтобы получилась плоская ровная площадка, и разбил на ней регулярный парк, очень сложный по планировке (см. илл. 20). Этот волшебный сад, вознесшийся над городом и долиной реки Неккар, называли восьмым чудом света[51]. Старинная крепость также подверглась модернизации: появились пристройки, было улучшено естественное освещение внутренних помещений — за счет того, что прорубили много новых окон (в которых современники усматривали подражание стилю английских домов или дворцов). Как бы то ни было, огромное здание, изображенное в книге де Ко, кажется единственным в своем роде, не имеющим параллелей в германской архитектуре.
Де Ко построил в саду множество гротов, оборудовав некоторые из них механическими фонтанами, из которых изливалась не только вода, но и оживляющая зрелище музыка. Гроты были украшены изваяниями и являли собой мифологические сцены: музы на горе Парнас, царь Мидас в пещере. Особенно поражала воображение статуя Мемнона — Мемнона с обликом Геркулеса, вооруженного палицей. Статуя издавала звуки «в ответ» на прикосновение к ней первых солнечных лучей — в полном соответствии с античным мифом[52]. На гравюре показано, каким образом достигался этот магический эффект: де Ко использовал пневматический принцип, применявшийся в аппаратах Герона Александрийского.
Соломон де Ко по-особому относился к музыке: он полагал ее главнейшей из всех наук, основанных на числе, и сам слыл большим знатоком по части органов[53]. Утверждают, что он сконструировал водяной орган в Хайдельберге (подобные органы сооружались уже в античности, и их описания можно найти у Витрувия). Попробуем представить себе тогдашний хайдельбергский парк со всеми его говорящими статуями, музыкальными фонтанами и гротами: обширный дворцовый парк был «полон звуков» и должен был казаться неким подобием острова Просперо[54].
Иниго Джонс, если, конечно, он посетил Хайдельберг в свите графа Эрендела, когда тот сопровождал принцессу Елизавету, не мог не заинтересоваться начинаниями коллеги. Но, разумеется, такие «затеи» Соломона де Ко, как эффектные поющие фонтаны, или гроты, или установленные в садах изваяния, издающие музыкальные каденции, не представляли бы загадки для лондонского мастера: разве не те же технические решения, унаследованные от Витрувия, использовал сам Джонс при постановке «масок»? Если мы сравним скульптурную группу «Аполлон среди муз» в Хайдельберге или хайдельбергский же грот «Мидас» с некоторыми декорациями, разработанными Иниго Джонсом для масочных представлений, то станет ясно, что те и другие произведения выдержаны в одинаковом «театрализованном» духе. Курфюрст Пфальцский сделал все возможное, чтобы супругу, привезенную им в родной Хайдельберг, окружал мир грез, похожий на тот, в котором протекала ее лондонская жизнь.
Хотя постановка масочных представлений, возведение музыкальных гротов, поющих фонтанов или говорящих пневматических изваяний вряд ли покажутся нам важным свидетельством развития прикладной науки, на самом деле именно в этих областях ренессансная наука, не спешившая расстаться с окутывавшей ее магической атмосферой, впервые стала широко внедряться в практическую деятельность, ища в ней применения новейшим техническим открытиям[55]. Пример де Ко в этом отношении весьма показателен: говорят, что он додумался до получения энергии из пара и смог использовать эту энергию, предвосхитив тем самым достижения XIX века. А в трактате «Причины движущих сил» (изданном в 1615 г. с посвящением пфальцграфине), кроме гравюр, показывающих работы, осуществленные в Хайдельберге, содержится много ссылок на описания различных механизмов у Витрувия, приводится чертеж строительной машины, описанной у того же античного автора, и, наконец, излагаются соображения самого де Ко о возможности приложения математических принципов к механике.
Тот факт, что придворный инженер-архитектор, нанятый Фридрихом для усовершенствования дворцово-паркового ансамбля в Хайдельберге, столь глубоко интересовался новейшими научными достижениями, показывает, что в правление этого курфюрста культура Рейнского палатината была достаточно передовой, что переход от «ренессансной» стадии к стадии «научной революции» XVII столетия совершался здесь вполне типичным, естественным образом.
Прибегая к системе образности, свойственной масочным представлениям, мы можем сказать, что новый, «яковитский», Хайдельберг вырос из супружества, соединившего Темзу с Рейном. Именно после того, как госпожой Пфальца стала дочь Якова I, туда начали проникать новейшие английские идеи и английская культура вообще. Вероятно, в Хайдельберге побывал Иниго Джонс. Соломон де Ко разбил в этом городе сад во вкусе рано усопшего принца Генриха. Фридрих и Елизавета, эта типично «шекспировская» пара, продолжали разыгрывать свою жизнь как лондонскую драм — их переезд был лишь сменой театральных декораций.
А среди многочисленных новых веяний, проникавших теперь из Англии в эту германскую область, следует особо отметить те, что привозили с собой странствующие труппы актеров. Само присутствие в здешних местах четы театралов, знакомых с английским драматическим искусством, наверняка прибавляло духу гастролирующим английским артистам. Известно, что в 1613 г. английские актеры побывали в Хайдельберге[56] и уже оттуда отправились на Франкфуртскую ярмарку, всегда привлекавшую заезжие труппы. Распространению интереса к английскому театру содействовала сама принцесса Елизавета — в Лондоне она содержала собственную труппу и страстно увлекалась драматургией во всем ее жанровом многообразии.
Между Рейнским палатинатом и Англией была налажена регулярная связь: слуги и всякого рода посланцы буквально кишели на пути, связывавшем Лондон с Хайдельбергом. Возвращаясь в германское княжество, эти люди наверняка рассказывали об английских новостях, а может, и привозили с собой только что вышедшие книги. Мы помним, что Фрэнсис Бэкон выказал особое расположение принцессе и ее супругу, с усердием отдавшись хлопотам, связанным с постановкой одного из предсвадебных спектаклей. Вполне вероятно, что оба они — Фридрих и Елизавета — прочли бэконовский труд «О Прогрессе Учености». Принцесса, во всяком случае, в последние годы своей жизни проявляла интерес к творчеству Бэкона и читала его работы с большим удовольствием[57]. Она была женщиной умной, хотя, быть может, ее знаниям и не хватало глубины. Курфюрст же слыл интеллектуалом и мистиком, прекрасно разбирался в музыке и архитектуре. Свои философские пристрастия он сумел передать кое-кому из детей. Старшая дочь его, которую тоже звали принцессой Елизаветой, удостоилась чести получить посвящение от самого Декарта, начертавшего ее имя на титульном листе своих «Начал»[58].
Рассматривая завораживающие виды хайдельбергского сада, выгравированные Маттеусом Мерианом, мы можем поразмышлять о том, что здесь, в самом центре Германии, на этом обрывающемся к реке утесе высился аванпост яковитской Англии, цитадель едва расцветшей культуры XVII века. Увы! Сей чудный цветок, взращенный на почве, оплодотворенной браком Темзы и Рейна, внушал надежды, которым не суждено было сбыться. Год публикации упомянутой гравюры — 1620-й — стал годом скоротечного правления Фридриха и Елизаветы в Праге в качестве короля и королевы Богемии. Конец того же года открывает трагическую финальную сцену первого периода Тридцатилетней войны[59]: опустошение Пфальца и уничтожение блистательного «яковитского» Хайдельберга. Военные действия переносятся в Рейнский палатинат, и разрушительная суть католической реакции сказывается в полной мере на участи Хайдельберга.
После поражения курфюрста Пфальцского против него развернулась неистовая пропагандистская кампания. Враги Фридриха не брезговали ничем, лишь бы унизить его и сделать смешным в глазах бывших подданных. В огромных количествах печатались сатирические листовки. Как правило, это были лубки: картинка, а под ней незатейливые стишки, растолковывающие, что, собственно, происходит. Вот конник трубит — это гонец, рыщущий повсюду в поисках сбежавшего короля Богемии. По большей части, однако, пропагандистские листки бывали куда злее этой сравнительно беззубой карикатуры, содержали зловещие намеки и грязные оскорбления. Перед нами еще одна картинка: Фридрих с женой и ребенком гуляет по тщательно спланированному саду. Художник придал им черты дегенератов и показал, как садовые дорожки прямиком направляют супругов в ад с его пламенами. Фридрих и Елизавета, люди утонченной ренессансной культуры, представлены здесь в облике жалких грешников-колдунов. Трудно осознать, что этот злобный пасквиль изображает ту самую молодую чету, которая, в более счастливый период своей жизни, наслаждалась светлым волшебством шекспировской «Бури».
II. Богемская трагедия
Колесо Фортуны. Немецкая карикатура на Фридриха V. 1621. Scheible J. v. Die Fliegenden Blatter des XVI. und XVII. Jahrhunderts. Stuttgart, 1850. Zwischen S. 232 und S. 233.
В 1577 г. юный Филип Сидни (см. илл. 4) был послан Елизаветой I к императорскому двору, чтобы передать новому императору Рудольф II соболезнования в связи с кончиной его отца, императора Максимилиана II. По ходу этой поездки Сидни не упускал случая посетить кого-либо из немецких князей-протестантов, в частности, побывал он и в гостях у кальвинистских властителей Пфальца. Общение это имело целью выяснить перспективы создания европейской Протестантской лиги. Сидни к тому времени выработал собственную политико-религиозную позицию, опиравшуюся на воззрения его дяди, графа Лестерского. Сидни был сторонником протестантского «активизма», направленного против Испании, — политики чересчур дерзновенной, чтобы ее могла поддержать осторожная Елизавета. Зато в Хайдельберге он неожиданно обрел сторонника и друга — в лице Иоганна Казимира, брата тогдашнего курфюрста Пфальца. Сидни сообщал Уолсингему, что немецкие протестантские князья без энтузиазма восприняли его планы насчет Протестантской лиги, по-настоящему заинтересовались идеей лишь Казимир Пфальцский и «ландгрейв Уильям» (ландграф Вильгельм Гессенский)[60].
Рано умерший Филип Сидни превратился в своего рода легенд — beau ideal[61] протестантской рыцарственности. Имя его ассоциировалось, среди прочего, с возрождением романтического внешнего антуража жизни рыцарей, с фантастическим культом королевы Елизаветы, с рыцарскими турнирами в годовщины ее восшествия на престол. А тесная дружба, завязавшаяся между посланцем Елизаветы и Казимиром Пфальцским, стала связующим звеном между двором в Хайдельберге и сиднеевской традицией в Англии, само наличие которого оправдывало позднейшее выдвижение молодого курфюрста Пфальцского на роль предводителя англо-германского протестантского воинства.
Действуя в русле традиционной для него «активистской» политики[62], Пфальц предложил помощь французскому королю Генрих IV, когда последний обдумывал планы вторжения в Германию. Планы эти были сорваны убийством Генриха в 1610 г. Однако уже само обещание помощи свидетельствовало о готовности курфюрста продолжить дружеские отношения, установившиеся между двумя государствами еще при Казимире — последний поддержал Генриха IV, в то время именовавшегося Генрихом Наваррским и возглавлявшего гугенотское движение, в его борьбе против Католической лиги.
Весьма важную — хотя и закулисную — роль в политике Пфальца играл Кристиан Анхальтский[63], главный советник курфюрста. Он был горячим сторонником планов Генриха IV, являвшихся, насколько можно судить по сохранившимся отрывочным сведениям, частью грандиозного замысла, долженствовавшего положить конец верховенству Габсбургов в Европе. Когда гибель Генриха перечеркнула эти планы, пфальцские политики, вдохновляемые князем Анхальтским, обратились к поиску иных средств достижения той же цели.
Вот тогда-то немецкие князья обратили свои взоры на юного пфальцграфа Фридриха V, и чем дальше, тем яснее становилось, что именно ему суждено занять пустующее место предводителя протестантского сопротивления габсбургским державам. Кандидатура Фридриха казалась наиболее предпочтительной по многим причинам. Он унаследовал титул курфюрста Пфальцского — главного из светских выборщиков императора. А вместе с титулом — давние традиции протестантского «активизма», заставлявшие видеть в нем государя, от рождения предназначенного к тому, чтобы возглавить Союз германских протестантских князей, направленный против лиги князей-католиков. К тому же он имел прочные связи с протестантами Франции — его дядя, герцог Бульонский, числился среди лидеров гугенотского движения. С Нидерландами, главным оплотом протестантизма в Европе, Фридриха соединяли семейные узы. Наконец — что явилось решающим доводом, фрагментом, довершившим тщательно выстраиваемый мозаичный портрет, — он женился на дочери короля Великобритании. Стало быть, можно рассчитывать — думали сторонники курфюрста Рейнского — и на поддержку всего дела со стороны Якова I: в самом деле, не отступится же этот король от родной дочери и зятя. Все это выглядело идеальным сочетанием политических альянсов, объединенных фигурой молодого пфальцграфа, и ясно указывало, что именно ему предстоит сыграть заглавную роль в тот критический, но неуклонно приближающийся период, когда Европа, наконец, обретет новую судьбу.
Исход же ближайшего будущего во многом будет зависеть от того, приверженец какой партии окажется на троне германского императора, от того, сумеют ли Габсбурги и дальше сохранять свое верховенство в Священной Римской империи.
В напряженной атмосфере межвоенной Европы (имеется в виду промежуток между религиозными войнами XVI столетия и Тридцатилетней войной) смерть императора Рудольфа II в 1612 г. привела к политическим затруднениям, очень похожим на симптомы кризиса. Рудольф II, хотя и принадлежал к дому Габсбургов, весьма прохладно относился к своему дяде Филипп II Испанскому, сам же вел непонятную для других европейских государей жизнь, без остатка заполненную таинственными и мудреными занятиями. Императорский двор свой он переместил из Вены в Прагу, и столица Богемии превратилась в средоточие алхимических, астрологических и научно-магических изысканий всяческого рода. Укрывшись в огромном пражском дворце, с его прекрасными библиотеками и «комнатами чудес», в которых были собраны диковинные «магические» механизмы, Рудольф сознательно устранился от всех проблем, возникавших из-за фанатичной нетерпимости Филиппа — его ужасного дяди. Прага при Рудольфе стала Меккой для ценителей эзотерических и научных знаний, стекавшихся в этот город со всей Европы. Здесь побывали Джон Ди и Эдуард Келли, Джордано Бруно и Иоганн Кеплер. И пусть тогдашняя Прага слыла местом несколько странным, зато обстановка в городе отличалась терпимостью к инакомыслящим. Никто не мешал евреям углубляться в каббалистические штудии (у Рудольфа в религиозных советниках числился — и был весьма близок к своему покровителю — Писторий, каббалист), а существование возросшей на местной почве «Богемской церкви»[64] было легализовано специальной «Грамотой Его Величества». Богемская церковь возводила свою историю к Яну Гусу и являлась старейшей из реформированных церквей Европы. Веротерпимость Рудольфа простиралась не только на Богемскую церковь, но и на «Богемских братьев» — мистическое сообщество, разделявшее учения этой церкви.
Прага при Рудольфе была городом ренессансной культуры — в том особом преломлении, которое эта культура получила в Восточной Европе. В чешской столице, словно в плавильном тигле, перемешивались самые разные идеи; она обладала таинственной притягательной силой, обещала неведомые прежде пути развития. Но как долго город сможет сохранять свою — пусть относительную — независимость теперь, когда Рудольф умер? На какое-то время проблема отпала сама собой благодаря восшествию на имперский и богемский престолы Матвея, брата Рудольфа. Но Матвей был стар и ничтожен и, что самое огорчительное, вскоре умер — далее оттягивать решение богемского вопроса было невозможно. Силы реакции смыкали ряды: еще пара-другая лет, и мирная передышка закончится. На имперский и богемский троны прочили эрцгерцога Штирии Фердинанда. Фанатичный католик, представитель семейства Габсбургов, учившийся у иезуитов, он только и думал о том, как искоренить всяческую ересь.
В 1617 г. Фердинанд Штирийский стал королем Богемии[65]. Верный своему воспитанию и природным наклонностям, новый король сразу же положил конец политике религиозной терпимости, отличавшей правление Рудольфа, — он отменил «Грамоту Его Величества» и воздвиг гонения на Богемскую церковь. По мнению некоторых исследователей, подлинным началом Тридцатилетней войны следует считать введение в Богемии политики религиозных преследований. Либеральные католические круги Богемии предприняли достойную всяческого уважения попытку приостановить столь пагубное начинание нового монарха. Однако Фердинанд и его советники-иезуиты «закусили удила»: гонения на Богемскую церковь и ее духовенство продолжались. Это вызвало взрыв недовольства; в результате на одном бурном собрании пражских горожан двух видных католических деятелей просто выбросили из окна. Этот эпизод, известный под названием «Пражской дефенестрации»[66], сыграл не последнюю роль в цепи событий, приведших, в конечном счете, к Тридцатилетней войне. Богемия перешла к открытому восстанию против своего габсбургского суверена. Мятежники придерживались мнения, что, поскольку король Богемии подлежит избранию, они вольны выбрать ту кандидатуру, какую предпочтут сами, — то есть отказывались признавать законными притязания Фердинанда и его приверженцев, считавших пражский престол неотторжимой наследственной вотчиной дома Габсбургов.
26 августа 1619 г. чехи решили предложить корону своей страны Фридриху, курфюрсту Пфальцскому.
Мысль о возможном превращении Фридриха в короля Богемии возникла не вдруг; об этом поговаривали как будто бы уже на свадьбе курфюрста[67]. Кристиан Анхальтский сразу же загорелся идеей и делал все возможное, дабы поспособствовать ее успеху: ведь победа Фридриха обернулась бы появлением новой, самой сильной «цитадели» в той цепи антигабсбургских укреплений, возведению коей советник посвятил свою жизнь.
В соответствии со сложной, тщательно разработанной имперской конституцией при выборах императора за королем Богемии числился один голос. Как курфюрст Фридрих уже имел один голос; став королем Богемии, он получил бы второй — то есть появлялся реальный шанс сколотить на имперских выборах большинство, противостоящее сторонникам Габсбургов, чтобы затем окончательно избавиться от диктата этой семьи. Так (или почти так) оценивали ситуацию князь Анхальтский и его друзья, и как знать, не виделось ли им, в некоем отдаленном будущем, облечение императорским саном самого Фридриха. А имея пред собой столь радужные перспективы, эти люди, привыкшие мыслить «идеалистически», легко могли загореться и идеей церковной реформы, осуществляемой под эгидой имперской власти, — идеей, о которой Европа грезила со времен Данте.
Выбор, стоявший перед Фридрихом, который должен был решить, принимать ли ему предложенную корону или же отказаться от нее, являл собою, стало быть, одновременно и практическую, и религиозную дилемму. Практический аспект сводился к тому, что согласие подразумевало слишком большой риск, было равносильно объявлению войны габсбургским державам. Пусть так, но разве за ним, Фридрихом, не стояли могучие союзники? Разве не из-за этих самых союзов — с немецкими и французскими протестантами, с голландцами, с королем Великобритании, выдавшим за него замуж свою дочь, — чехи и предпочли его кандидатуру всем прочим? Что же до религиозного аспекта проблемы, то отказ Фридриха следовать боговдохновенным, как он думал, путем означал бы прямое неповиновение воле Божией. Есть все основания полагать, что именно последнее соображение представлялось курфюрсту наиболее весомым. На людей, посещавших Хайдельберг в тот период, личность Фридриха производила неизгладимое впечатление. Так, английский посланник пишет королю Якову из Хайдельберга (в июне 1619 г.), что Фридрих «не по годам набожен, мудр, деятелен и доблестен», а супруга его по-прежнему «столь же благочестива, добра, мила; принцесса ‹…› покоряет сердца всех, кто оказался близ нее, своей любезностью; она столь нежно любит принца, супруга своего, и столь обожаема им, что всем в радость созерцать их»[68]. В этих строках на мгновение оживает уже знакомая нам «шекспировская» пара. Поэт Джон Донн, которому доводилось проповедовать перед Фридрихом и Елизаветой в Хайдельберге, поскольку он служил там в должности посольского капеллана, взялся исполнить для них небольшое поручение, о чем с восторгом рассказывает в частном письме: «Это такое большое и общее дело (имеется в виду предполагаемое восшествие Фридриха на богемский престол), что даже столь незначительный и убогий человек, как я, имеет в нем часть, равно как и долг соработать делу сему, споспешествуя ему теми же молитвами, кои я возношу за собственную душу, дабы вложить их в уши Бога Всемогущего»[69]. В числе тех, кто давал советы касательно «богемского предложения», оказался и Джордж Эббот, архиепископ Кентерберийский, с горячностью призывавший не отказываться от короны. Годы спустя Елизавета показывала навещавшим ее в Гааге гостям давнее письмо архиепископа Кентерберийского: там говорилось, что корону следует принять непременно, ибо сие есть религиозный долг[70].
Другие давали более осторожные советы. Союз протестантских князей в целом отнесся к предложению чехов скептически, полагая, что принять его было бы слишком опасно. А мать курфюрста вообще умоляла сына отказаться от короны: дочь Вильгельма Молчаливого слишком хорошо понимала природу сил, с которыми он собирался вступить в конфликт.
28 сентября 1619 г. Фридрих все же написал богемским мятежникам, что мог бы принять корону. По словам С.В. Уэджвуда, «как бы ни оценивали ситуацию современники Фридриха, курфюрст, без сомнения, был искренен, когда в письме к своему дяде, герцогу Бульонскому, обобщил двигавшие им побуждения в следующих словах: „Это божественный зов, и я не смею не повиноваться ему ‹…› Моя единственная цель — послужить Господу и Церкви Его“»[71].
Однако к тому времени успело произойти событие, смешавшее далеко идущие планы сторонников богемской авантюры. В августе во Франкфурте избрали нового императора — Фердинанда. Задуманная схема рассыпалась: богемская корона нимало не вела к имперскому трону, ибо корона Священной Римской империи уже увенчала главу одного из Габсбургов. Сам же Фридрих оказался в неловком положении: поддержав мятежников, он тем самым выказал бы неповиновение императору, то есть должен был бы пренебречь своим вассальным обязательством ради того, что ему виделось высшим, религиозным долгом. Он предпочел действовать, следуя религиозному долгу, но многим его современникам такое решение показалось не вполне законным.
27 сентября Фридрих и Елизавета, вместе со своим первенцем принцем Генрихом, отбыли из Хайдельберга в Прагу. Восторженный свидетель рассказывает, сколь смирен и благочестив был дух, выказанный супругами в начале путешествия, сколь велики надежды, возлагавшиеся на царственного младенца, в котором, по мнению многих, возродился к жизни другой Генрих — рано усопший принц Уэльский. Саму курфюрстину он благоговейно восславляет как «вторую королеву Елизавету, каковой она является уже сейчас. Что же до того, чем она может стать со временем, или до ее будущего потомства, то дело сие в руце Божией есть, и Он распорядится сам, ко славе Своей и ко благу Церкви Его»[72]. Восторг в Англии не сдерживался никакими пределами. «Сколь велика и всеобща любовь, — пишет тот же человек, — коей Британия воспылала к Фридриху и Елизавете, описать превыше моих сил»[73]. Многим тогда казалось, что «единственный Феникс мира сего», то есть прежняя королева Елизавета, возродился к жизни и что рукой подать до неких благодетельных свершений.
Молодая чета проехала через Верхний Пфальц и добралась до границы Богемии (см. карту), где ее уже дожидалась депутация богемского дворянства, а затем продолжала путь по землям своего нового королевства, пока не прибыла в его дивную столицу. Церемонию коронации в пражском соборе проводило гуситское духовенство. Это был последний великий обряд, всенародно свершенный служителями Богемской церкви (в ближайшем будущем ее объявят вне закона).
Пфальц в начале XVII в.
Ко дню коронации была напечатана памятная гравюра (см. илл. 3). Художник изобразил Фридриха и Елизавету венчанными монархами Богемии. На заднем плане реформаторы и сторонники мира торжествуют победу над Контрреформацией и войной. Четыре льва символизируют подчиненные или дружественные новому королю и королеве государства. Геральдическим зверем самого Фридриха был лев, и лев, которого мы видим слева, — это Лев Пфальца, увенчанный короной курфюрста. Затем следуют Лев Богемии с раздвоенным хвостом, Британский Лев с мечом, Лев Нидерландов (крайний справа). Немецкие стихи под гравюрой объясняют ее значение. Стихи эти полагалось петь на манер псалма; их начальные строки (в подстрочном переводе) таковы[74]:
На гравюре солнцеподобное сияние излучает Имя Божие, начертанное по-древнееврейски, и лучи, разумеется, падают на Фридриха и Елизавету — это и есть та «алая заря наступающего утра», про которую толкуют стишки. Далее в стихах разъясняется связь между «зарей» и новой королевой: Гус заимствовал свое учение у Уиклифа, англичанина (имеется в виду влияние идей Уиклифа на гуситскую реформацию), а теперь из той же Англии к нам прибыла новая королева. Мало того[75],
Тут мы доходим до самой сердцевины этой великой трагедии недопонимания. Ведь Яков-то и не думал заступаться за дочь и ее мужа; он, напротив, действовал скорее в пользу их врагов, желая, во что бы то ни стало угодить Испании, дружбу с которой возвел в какой-то безумный культ. Как раз в момент публикации рассматриваемой нами гравюры английский король заявил пред лицом всех государей Европы, что снимает с себя всякую ответственность за богемское предприятие зятя[76]. И мало того, что Британия ничуть не озаботилась какими бы то ни было военными приготовлениями (будь то в армии или же на флоте) на случай, если вдруг понадобится поддержать предприятие Фридриха, — можно сказать, что вся дипломатия Якова «работала» в прямо противоположном направлении: король отмежевывался от своего зятя, вставлял ему палки в колеса, надеясь таким способом снискать благосклонность габсбургских владык. Поведение Якова, разумеется, безмерно ослабило позиции Фридриха, заставив даже друзей курфюрста усомниться в целесообразности его затеи. Прежде все думали, что Яков просто не может не заступиться за дочь, если та попадет в беду. В ней видели заложницу, чье присутствие в Богемии гарантировало этой стране всяческую поддержку со стороны английского короля. Но когда дошло до дела, обнаружилось, что Яков вполне способен отступиться от дочери, даже пожертвовать ею, лишь бы не навлекать на себя гнев Габсбургов.
Ситуация в целом очень запуталась, и нелегко было разобраться, где истина, а где ложь. Яков стоял за мир любой ценой; он надеялся добиться своего, породнившись (посредством династических браков) с лидерами противоборствующих сил. Фридрих же со своими приверженцами воспринял согласие Якова на его брак с Елизаветой как обещание всемерной поддержки. Да и среди подданных Якова многие поняли происшедшее точно так, как курфюрст, и с восторгом приветствовали «возрождение елизаветинских традиций». Но вряд ли даже королева Елизавета оказалась бы полностью на стороне Фридриха: сама она тщательно избегала того, на что решился курфюрст, — посягновения на верховную власть в другом государстве (тем более что власти этой домогалась третья держава). Елизавета, например, твердо отказалась принять в свое подданство Нидерланды, хотя и поддерживала дело, за которое боролась эта страна.
Как бы то ни было, в задачи настоящего исследования не входит ни оценка мотивов поведения наших персонажей, ни детальный разбор событий и их запутанных следствий. Все, что нам нужно, — обрисовать картину в общих чертах и констатировать тот несомненный факт, что Яков проводил политику умиротворения габсбургских держав, тогда как Фридрих и его приверженцы надеялись вопреки всему, что этот король готов оказать им активную поддержку. Печальная истина заключается, вероятно, в следующем: Фридрих был признан виновным именно потому, что проиграл. Окажись он удачливее в своих начинаниях — и все колеблющиеся, включая тестя курфюрста, наверняка перешли бы на его сторону.
Но случилось то, что случилось: Яков I Английский (см. илл. 2) — государь, которому подобала бы роль посредника между враждующими сторонами, ибо к его советам прислушивалась вся Европа, — похоже, стал стремительно впадать в детство. Приближенные отмечали в нем новые черты: маразматическую некомпетентность и дурное здоровье, неспособность принимать решения, стремление избегать мало-мальски серьезных дел, готовность во всем полагаться на своих неразборчивых в средствах фаворитов, не замечая, что его презирают и одурачивают испанцы[77]. Вот так Европа и покатилась — не имея ни авторитетного лидера, ни четких представлений о сложившейся ситуации — к Тридцатилетней войне.
Зиму 1619–1620 гг. Фридрих и Елизавета, которых впоследствии нарекут «монархами Богемии на одну зиму», провели в Праге, в том самом дворце, где все напоминало о Рудольфе II. Мы плохо представляем себе, что именно происходило в Праге, когда там правила эта фантастическая пара, и (как во всех подобных случаях) пытаемся заполнить белые пятна немногими дошедшими до нас сплетнями, переходящими из одного исторического сочинения в другое. А надо бы выяснить факты совсем иного рода. Например: как отнесся Фридрих к художественным и научным собраниям Рудольфа? Что думали о новом короле пражские каббалисты и алхимики? Какие пьесы ставились труппой английских актеров под водительством Роберта Брауна (кажется, проведшей в Праге всю зиму)?[78] Что за реформы намеревался провести Фридрих (мы знаем о них по беглым упоминаниям во вражеских пропагандистских листках)? Похоже, неистовый кальвинист Абрахам Скультет, служивший священником при дворе, возбудил недовольство пражских прихожан, бестактно уничтожив несколько особо почитаемых образов. Создается также впечатление, что жизненный уклад Фридриха и Елизаветы слишком уж отличался от принятого в здешних местах, и новые подданные не вполне его одобряли. Даже одежда царственных супругов, сшитая по последней английской моде, в Праге воспринималась как вызов добрым нравам.
Год близился к концу, а обстановка вокруг Фридриха делалась все более зловещей. Враги собирались с силами, чтобы перейти в наступление; важнейшие же из его союзников — немецкие князья-протестанты — как-то не торопились с помощью. Князь Анхальтский встал во главе Фридрихова воинства; католическими армиями командовал герцог Баварский. Войска Фридриха были на голову разбиты в сражении у Белой Горы, на подступах к Праге, 8 ноября 1620 г. Одержав эту победу, Габсбурги продлили свое верховенство в Европе на время жизни еще одного поколения, но и развязали Тридцатилетнюю войну, которая, в конечном счете, подорвала их могущество.
Битва у Белой Горы стала, таким образом, поворотным событием в европейской истории. Фридрих потерпел полное поражение. Прагу охватило смятение; горожане, страшась неминуемого и скорого возмездия, желали как можно скорее избавиться от своего короля, чье дальнейшее присутствие в городе в глазах победителей могло лишь усугубить их вину. Елизавета родила в Праге еще одного ребенка (позже прославившегося в английских гражданских войнах под именем принца Руперта Рейнского), так что Фридрих покидал город с женой и двумя детьми в такой спешке, что большую часть имущества пришлось попросту бросить на произвол судьбы. Среди ценностей, попавших в руки врага, были и инсигнии ордена Подвязки[79]. Пропагандистские листки, впоследствии распространявшиеся врагами Фридриха, охотно изображали его убогим беглецом, у которого один чулок сползает с ноги, — намек на потерянную «подвязку»[80]. Сатирические лубки сыпали соль на рану, смакуя ту общеизвестную истину, что помощи от своего тестя Рыцарь Подвязки так и не дождался, что все его начинание обернулось пагубнейшим провалом, завершилось позорным бегством и утратой всех владений.
Между тем еще до этих трагических событий испанские войска под водительством Спинолы наводнили Пфальц. 5 сентября Спинола перешел Рейн; 14-го он взял Оппенхайм; остальные города к тому времени уже пали. Матери Фридриха с двумя его старшими детьми, остававшимися в Хайдельберге, пришлось бежать к родне — в Берлин. В конце концов, все семейство воссоединилось в Гааге, где ему предстояло еще долгие годы влачить изгнанническое существование вместе со своим обнищавшим двором.
В Богемии же начались массовые казни (именовавшиеся «чистками»), быстро положившие конец всякому сопротивлению. Богемская церковь была загнана в подполье, а страна низведена до уровня полной нищеты. Пфальц подвергся тогда страшному опустошению — и вообще пострадал в ходе ужасной Тридцатилетней войны больше, нежели все другие области Германии.
Надежды, которые вольнолюбивая Европа возлагала на Фридриха, курфюрста Пфальцского, на поверку оказались миражом. Никто, конечно, не может сказать, что случилось бы, одержи он победу у Белой Горы. Однако, проиграв эту битву, Фридрих однозначно доказал свою никчемность — и в качестве «спасителя» Богемии, и в качестве возможной кандидатуры на роль главы антигабсбургской коалиции. Все было кончено. Те, кто и раньше колебался, теперь поспешили переметнуться к противникам Фридриха. Немецкие князья-протестанты и пальцем не пошевельнули, чтобы помочь, хотя опустошение Пфальца вселяло в них завораживающий ужас. А славный король Английский упорно оставался глух ко всем воззваниям дочери, зятя и их многочисленных английских друзей.
Историки уже отмечали воздействие странной богемской авантюры, и особенно ее трагического финала, на внутреннее развитие Англии. Они пришли к выводу, что Яков I, осуществляя свою внешнюю политику как король «милостью Божьей», не согласовывал ее с парламентом (единодушно выступавшим за помощь королю Богемии) и тем самым положил начало цепи событий, разрушивших в конечном итоге монархию Стюартов. Недовольство вызывала не только внутренняя политика короля, проводившаяся без оглядки на парламент, — стремление и во внешней политике действовать наперекор парламенту (или, во всяком случае, не считаясь с ним) вызывало гнев никак не меньший, причем не только среди членов парламента, но и в народе вообще, во всех общественных классах. Знатные вельможи испытывали стыд за поведение короля, а Уильям Херберт, граф Пембрукский, даже извинялся за своего суверена (пренебрегшего, как он полагал, собственным долгом) перед представителем Фридриха[81]. Простолюдины желали звонить в колокола и жечь костры во славу обожаемой всеми Елизаветы, но власти им этого не позволили. Трещина в политической системе Англии (между монархией — с одной стороны, парламентом и нацией — с другой), в то время уже становившаяся заметной, еще более расширилась из-за непопулярности избранного Яковом внешнеполитического курса.
Этот аспект богемской трагедии достаточно хорошо известен. Зато ничего (или почти ничего) не было сделано, чтобы выяснить, какой след в европейской культуре оставили те большие надежды, что возлагались на якобы уже решенный союз между королем Англии и курфюрстом Пфальцским. А ведь в те годы неустойчивой мирной передышки между очередными религиозными войнами пфальцграф отстаивал не только кальвинистские традиции своей семьи, но нечто гораздо большее. Женившись на английской принцессе, Фридрих сумел перенести в Германию блистательную культуру яковитского Ренессанса. У него на родине эта великая возрожденческая традиция встретилась и смешалась с иными мощными потоками культурных влияний, что в итоге привело к образованию новой богатой культуры, ставшей — несмотря на краткость ее существования — весьма важной вехой на пути от Возрождения к Просвещению. Именно на этом отрезке пути силы Ренессанса сталкиваются, лоб в лоб, с силами реакции. Возрожденческие силы терпят поражение, и мы их вообще больше не видим — все заслоняют ужасы Тридцатилетней войны. Когда же, в конце концов, война заканчивается, в свои права вступает новая эпоха — Просвещение. В дальнейшем мы попытаемся разобраться в сложных взаимодействиях идейных течений, характеризовавших культурную жизнь Пфальца в правление Фридриха и Елизаветы. Мы надеемся, что наше исследование поможет пролить свет на одну из важнейших проблем интеллектуальной и культурной истории человечества — проблему перехода от Возрождения к Просвещению, выявления конкретных стадий этого перехода.
Хотя Пфальц был кальвинистским государством, те умственные сдвиги и мировоззренческие направления, в которых нам предстоит разобраться, не имели, по сути, ничего общего с теологией кальвинизма. Зато они прекрасно подтверждают гипотезу, выдвинутую Г. Тревор-Ропером[82]. По мнению этого исследователя, «активный» кальвинизм всегда привлекал к себе либеральных мыслителей самых разных толков — как потому, что являлся оплотом против сил крайней реакции, так и потому, что гарантировал (в сфере своего непосредственного влияния) защиту от инквизиции. В заключение настоящей главы (и в порядке подготовки к последующим) стоит, пожалуй, обратиться к карте, и поразмышлять об отношениях Пфальца с соседними государствами.
В Венеции к тому времени, когда происходили описанные нами события, Паоло Сарпи[83] уже несколько лет возглавлял антипапскую оппозицию, и в Англии с острым интересом следили за разворачивавшимся под ее руководством либеральным движением. Генри Уоттон, английский посланник в Венеции, отличавшийся неумеренной пылкостью характера, даже надеялся обратить местных жителей в англиканскую веру[84]. Треволнения, возбужденные Венецианским интердиктом[85], к 1613 г. успели забыться, но республика заинтересованно наблюдала за тем, как складываются дела у Фридриха; князь Анхальтский поддерживал контакт с Сарпи[86]; Уоттон часто останавливался в Хайдельберге во время своих дипломатических разъездов. Если бы Фридриху удалось удержать «либеральный коридор» в Европе, ведший из Голландии через Германию в Венецию, наступление на свободу мысли в Италии могло бы быть приостановлено, и судьба Галилея сложилась бы совсем по-иному.
Отношения курфюрста с Голландией были, разумеется, самыми дружественными. В Хайдельберге, между прочим, проживало много голландских ученых, среди них знаменитый Ян Грутер, гуманист и поэт, организатор своего рода сообщества единомышленников — выходцев из разных стран, поддерживавших между собой оживленную переписку[87]. Грутер занимал должность профессора в Хайдельбергском университете и, кроме того, числился хранителем прославленной Пфальцской библиотеки — богатейшего собрания книг и рукописей, созданного усилиями нескольких поколений предков нынешнего курфюрста и помещавшегося в церкви Святого Духа в Хайдельберге.
Ближайшим соседом Пфальца было герцогство Вюртембергское, прилегавшее к владениям Фридриха с юга. Здесь господствовала лютеранская вера, но в воздухе носились идеи объединения лютеран и кальвинистов. Фридрих Вюртембергский, скончавшийся в 1610 г., слыл завзятым англофилом, в правление Елизаветы лично посетил Англию, а в 1604 г. Яков I удостоил его звания кавалера ордена Подвязки (что обещала, но не успела сделать старая королева), причем для свершения церемонии в Вюртемберг было направлено специальное посольство. Лютеранин и англофил, Фридрих Вюртембергский поощрял распространение новых любопытных идей, главным вдохновителем которых был Иоганн Валентин Андреэ, лютеранский пастор и мистик. Восприемник Фридриха Вюртембергского также поддерживал дружеские отношения с курфюрстом Пфальцским. Еще одним близким другом курфюрста из числа немецких протестантских князей был Мориц, ландграф Гессенский, человек высокой культуры и, между прочим, большой поклонник театрального искусства, всегда готовый оказать поддержку гастролирующим английским труппам.
Но самое мощное культурное воздействие оказывала на Пфальц и дружественные ему немецкие княжества Прага. Развитие алхимических и эзотерических изысканий, поощрявшихся Рудольфом II, свидетельствовало о том, что в Богемии еще сохранилась вольная атмосфера Ренессанса, гораздо более привлекательная, нежели тот режим идеологического контроля, который стремилась навязать Европе католическая реакция. «Тайными науками» интересовались и германские дворы, особенно гессенский и вюртембергский. К примеру, Кристиан Анхальтский, главный советник курфюрста по политическим вопросам, был наверняка прекрасно осведомлен и об идейных традициях рудольфианской Праги. Он поддерживал дружеские отношения с графом Рожмберком, отпрыском чешского рода, многие представители которого увлекались оккультизмом и алхимией. Возможно, и самому князю Анхальтскому не были чужды подобные увлечения — недаром его лейб-медиком был Освальд Кроллий, приверженец герметизма, каббалы и алхимии парацельсовского толка.
В эту среду, уже взбудораженную проникавшими отовсюду новыми странными веяниями, и попала принцесса Елизавета — живое воплощение поздневозрожденческого расцвета столицы Якова I и надежд на мощную поддержку со стороны английского короля. Хайдельбергский замок, наполненный волшебными творениями магии и науки, Хайдельбергский университет, этот крупнейший центр протестантского образования, превратились с ее приездом в символы развернувшегося в межвоенный период сопротивления силам католической реакции. Здесь, в Пфальце, продолжали надеяться на наступление новой зари просвещения и возвещали человечеству ее скорый приход.
Но эти мечтания были прерваны внезапно разразившейся чудовищной катастрофой: тотальным разгромом Фридриха в Богемии, вражеской оккупацией и опустошением Пфальца. Сохранились свидетельства людей, видевших воочию, как победители уничтожали личную библиотеку курфюрста и архив Грутера[88]. Печатные издания и рукописи, любовно собиравшиеся на протяжении целой жизни, просто выкидывали на улицу и во двор, где в тот момент находилось тридцать лошадей. Понятно, что все книги пропали. Та же участь постигла и другие частные библиотеки Хайдельберга. Огромное собрание Пфальцской библиотеки было целиком вывезено в Рим[89], и с ним вместе — многие книги Грутера. Мне не удалось отыскать каких-либо свидетельств касательно того, что случилось с водяными органами, поющими фонтанами и другими имевшимися в замке диковинами. Соломон де Ко, остававшийся в Хайдельберге, откуда писал в 1620 г. королю Богемии по поводу какой-то музыкальной проблемы, впоследствии устроился на службу при французском дворе. Грутер же после поражения Фридриха вел несчастливую скитальческую жизнь, разъезжая по окрестностям Хайдельберга, где через несколько лет и скончался. Опустошение Пфальца повлекло за собой исчезновение целого мира: прекрасные здания были обезображены или уничтожены, книги и рукописные хроники пропали, люди или перебрались в другие страны (если им удалось бежать), или же были обречены на скорую и страшную гибель: ближайшие годы несли с собой разгул насилия, мор, голод.
Это-то несостоявшееся новое «Возрождение» (представлявшее собой на самом деле ранний вариант Просвещения, не понятое современниками обещание «розенкрейцерской зари») и является предметом нашего исследования. Мы хотим определить ту побудительную причину, которая вызвала к жизни движение, выразившее себя в так называемых «розенкрейцерских манифестах» с их странными провозвестиями наступления нового века научных и духовных прозрений. И нам кажется, что, только разобравшись в окружавшей Фридриха Пфальцского атмосфере идейных исканий, в мотивах, заставивших его сначала принять, а затем отстаивать в борьбе с врагами богемскую корону, мы сможем найти ответ.
III. Джон Ди и явление «Христиана Розенкрейца»
Пещера иллюминатов. Г. Кунрат, Амфитеатр Вечной Мудрости. Ганновер, 1609.
Слово «розенкрейцер» произведено от имени Христиан Розенкрейц, Rosencreutz же можно перевести как «розовый крест» или «розокрестье». Так называемые «розенкрейцерские манифесты» представляют собой два небольших памфлета или трактата; впервые они были опубликованы в Касселе в 1614 и 1615 гг. Поскольку названия трактатов очень громоздки, в дальнейшем они будут обозначаться сокращенно: «Откровение» (Fama)[90] и «Исповедание» (Confessio). Главным действующим лицом в обоих сочинениях является некий «отец Х.Р.», или «Христиан Розенкрейц», о коем сообщается, что он основал то ли орден, то ли братство, и вот эта ассоциация теперь — понятно, на момент обнародования манифестов — возродилась и приглашает всех желающих примкнуть к ее рядам. Появление манифестов повергло публику в немалое возбуждение, а когда в 1616 г. вышла в свет третья публикация серии, покров тайны, окутывавший эти произведения, сгустился, казалось, еще более. Третья книжка оказалась странным алхимическим романом — в переводе с немецкого его название звучит так: «Химическая Свадьба Христиана Розенкрейца». Герой романа как будто тоже был связан с каким-то орденом, использовавшим в качестве символов алые розы и крест.
Автором «Химической Свадьбы» определенно был Иоганн Валентин Андреэ. Манифесты, несомненно, связаны с «Химической Свадьбой», хотя сочинил их, скорее всего, не Андреэ, а какой-то другой автор или группа авторов.
Кто же такой «Христианин Розокрестья», о котором впервые стало известно из упомянутых сочинений? Несть числа мистификациям и преданиям, сплетенным молвой вокруг этого персонажа и якобы учрежденного им ордена. Мы на них полагаться не будем, и попробуем отыскать совершенно иной, новый путь к истине. Но давайте начнем эту главу с более простого вопроса: а кем был Иоганн Валентин Андреэ?
Иоганн Валентин Андреэ (см. илл. 5–6) появился на свет в 1586 г. как уроженец Вюртемберга, лютеранского государства, имевшего с Пфальцем общую границу. Его дед был выдающимся лютеранским богословом, приобретшим репутацию «вюртембергского Лютера». Иоганн Валентин Андреэ тоже посвятил себя современным религиозным проблемам, стал, как и дед, лютеранским пастором, но лютеранство его отличалось вольномыслием и интересом к кальвинизму. Вопреки преследовавшим его несчастьям Иоганн Валентин всю жизнь не уставал надеяться на возможность радикального разрешения религиозных противоречий. Эта надежда вдохновляла любое дело, за которое он брался, как набожный ли лютеранский пастор, интересующийся проектами переустройства общества, или же, как распространитель «розенкрейцерских» вымыслов. Андреэ был многообещающим писателем, на чье воображение заметное влияние оказали странствующие английские актеры. О начальном этапе жизни Андреэ и испытанных им в молодости влияниях мы располагаем достоверными сведениями, почерпнутыми из его же автобиографии[91] (см. илл. 7).
Там, например, говорится, что в 1601 г., когда мальчику было пятнадцать лет, овдовевшая мать повезла его в Тюбинген, чтобы он мог учиться в знаменитом Вюртембергском университете. Будучи студентом в Тюбингене, как рассказывается далее, Андреэ увлекся литературным творчеством — его первые юношеские опыты относятся приблизительно к 1602–1603 гг. Он написал, среди прочего, две комедии на сюжеты библейской Книги Есфирь и мифа о Гиацинте (обе, как утверждает автор, сочинялись «в подражание английским актерам»), а также произведение под названием «Химическая Свадьба». Эту последнюю вещь Андреэ характеризует латинским словом ludibrium — «выдумка», «шутка», «пустячок»[92].
Судя по известному нам варианту «Химической Свадьбы» (с Христианом Розенкрейцем в качестве главного героя), опубликованному в 1616 г., ранний вариант того же произведения должен был представлять собой алхимическую аллегорию, в которой «свадьба» символизировала алхимические процессы. Первоначальный вариант не мог быть тождествен тексту, опубликованному в 1616 г., ибо последний содержит скрытые намеки на розенкрейцерские манифесты 1614 и 1615 гг., а также на курфюрста Пфальцского, его хайдельбергский двор и женитьбу на дочери Якова I. Ранний вариант «Химической Свадьбы», до нас не дошедший, к моменту вторичной публикации этой вещи в 1616 г. наверняка был переработан. Тем не менее, тематическое ядро произведения, его основные идеи наверняка присутствовали уже в утраченной ныне первой редакции.
Мы полагаем себя вправе высказать несколько весьма правдоподобных предположений о том, какие именно влияния и происшествия могли вдохновить Андреэ — в бытность его студентом в Тюбингене — на сочинение названных произведений.
Правителем герцогства Вюртембергского был в ту пору Фридрих I, алхимик, оккультист и восторженный англофил, лелеявший всю жизнь две взаимосвязанные мечты, а именно: заключить союз с королевой Елизаветой и получить от нее орден Подвязки. Несколько раз он посещал Англию в видах достижения вожделенных целей и, похоже, привлек там к себе всеобщее внимание[93]. Королева называла Фридриха его семейным прозвищем «кузен Мумпельгарт», а исследователи шекспировской пьесы «Виндзорские насмешницы» до сих пор не пришли к единому мнению о том, как следует понимать упоминание «кузена Гармомбля» и загадочный эпизод кражи лошадей, нанятых в гостинице «Подвязка» слугами какого-то немецкого герцога[94], — многие полагают, что в том и другом случае подразумевается Фридрих Вюртембергский[95]. Королева дала согласие на присвоение герцогу Вюртембергскому звания кавалера ордена Подвязки в 1597 г., но церемония инвеституры по разным причинам откладывалась до ноября 1603 г., когда для облечения Фридриха инсигниями Подвязки в Штутгарт, его столицу, прибыло специальное посольство от Якова I.
Направив посольство к Фридриху в первый же год своего правления, Яков I ясно выразил намерение продолжать политику Елизаветы и поддерживать дружбу с немецкими протестантскими князьями. И хотя в последующие годы он не оправдал внушенных этим жестом надежд, в 1603 г. в Вюртемберге воцарение нового английского короля было воспринято как событие, открывающее путь к осуществлению самых дерзновенных упований: и посланников короля, прибывших, чтобы вручить герцогу регалии ордена, и сопровождавших их английских актеров встречали с огромным энтузиазмом.
Штутгартская церемония инвеституры и сопутствовавшие ей празднества описаны Э. Целлием — его составленный на латинском языке отчет был напечатан в Штутгарте в 1605 г. и частично включен (в английском переводе) в «Историю Ордена Подвязки» Элайаса Ашмола[96].
Шествия, по ходу которых английские официальные лица, представлявшие рыцарей Подвязки и несшие инсигнии этого ордена, торжественно встречались с немецкими сановниками, произвели самое блестящее впечатление. Роскошнее всего обставлено было появление самого герцога: Фридрих вышел весь усыпанный драгоценностями и казался окруженным подобием нимба — «лучащейся смесью пестрых красок»[97]. Среди англичан, представлявших орден, находился и Роберт Спенсер, по утверждению Целлия, родственник знаменитого поэта[98]. Из этого любопытного упоминания следует, что в Штутгарте было известно имя Спенсера, а может, и содержание «Королевы фей».
Герцог, во всем великолепии своего убранства, проследовал в церковь, где под звуки торжественной музыки ему были переданы регалии ордена. После проповеди вновь пришел черед музыки — зазвучали «гласы двух Отроков в одеждах белых[99] с крылами, как у ангелов, и стоявших друг противу друга»[100].
Когда общество вернулось в дворцовый зал, все собравшиеся приняли участие в празднике Подвязки — пиршество продолжалось до утра следующего дня. Рассказывая об этом торжестве, Целлий сообщает ряд подробностей, отсутствующих у Ашмола, и в частности упоминает выступления «английских музыкантов, комиков, трагиков и других весьма умелых актеров». Английские музыканты устроили совместный концерт со своими вюртембергскими коллегами, а английские артисты порадовали участников застолья показом драматических представлений. В числе последних была «История Сусанны»[101], сыгранная «с таким пониманием сценического искусства и со столь явным мастерством», что собравшиеся вознаградили заезжих актеров долгими аплодисментами и щедрыми дарами[102].
В последующие дни английских посланцев знакомили с главными достопримечательностями герцогства. В числе прочих мест гости посетили Тюбингенский университет, где «их развлекали комедиями, музыкой и иными удовольствиями».
Посещение герцогства Вюртембергского посольством ордена Подвязки и сопровождавшими это посольство актерами не могло не оказать чрезвычайно сильного, стимулирующего воздействия на Иоганна Валентина Андреэ, в то время юного и пылкого тюбингенского студента. Действительно, в «Химической Свадьбе» редакции 1616 г. отразилось множество ярких воспоминаний о пышных церемониях и празднествах, о каком-то ордене или орденах, в роман включены очаровательные «театральные» эпизоды. Более того, сама структура «Свадьбы» становится понятнее, если усматривать в ней итог английских влияний, усвоенных молодым Андреэ: сценические постановки и церемонии, как бы слившиеся в одно целое, очевидно, и вдохновили его на создание нового оригинального литературного жанра.
Год спустя после церемонии вручения ордена Подвязки, то есть в 1604-м, появилось весьма необычное сочинение, посвященное герцогу Вюртембергскому. Назывался этот труд «Наометрия»[103], а автором его значился Симон Студион. Рукопись, никогда не публиковавшаяся, ныне хранится в Библиотеке земли Вюртемберг в Штутгарте[104]. Она представляет собой огромного объема трактат апокалиптического и пророческого характера, содержащий запутанные нумерологические расчеты, основанные на приведенных в Библии цифровых данных, относящихся к Храму Соломона[105], а также на сложном толковании важнейших дат библейской и европейской истории. Подобные рассуждения естественным образом переходят в пророчества с указаниями точных дат грядущих событий. Автор трактата особенно интересуется датами жизни Генриха Наваррского, а сочинение в целом вроде бы подразумевает существование тайного союза между Генрихом, королем Французским, Яковом I, королем Великобритании, и Фридрихом, герцогом Вюртембергским. Этот предполагаемый альянс (о котором мне не удалось найти никаких свидетельств в иных источниках) описывается весьма обстоятельно: так, несколько страниц рукописи занимают одни лишь ноты к песнопению, прославляющему вечную дружбу между Лилией (королем Французским), Львом (Яковом Английским) и Нимфою (герцогом Вюртембергским).
Доверившись свидетельству Симона Студиона, можно предположить, что в 1604 г. существовал тайный союз между Яковом, Фридрихом Вюртембергским и королем Французским и что заключен он был в развитие rapprochement[106] между Фридрихом и Яковом, внешним выражением которого стала церемония вручения инсигний ордена Подвязки, состоявшаяся в Штутгарте годом ранее. Не надо забывать, что речь идет о самом начале царствования Якова, когда он еще сохранял верность союзам, заключенным в правление Елизаветы, и действовал в полном согласии с Генрихом Наваррским, ставшим к тому времени королем Франции.
«Наометрия» представляет собой любопытный образчик пророчеств, построенных на хронологической основе, — в те времена интерес к подобной литературе приобрел характер всеобщей мании. Но, помимо этого, книга примечательна тем, что содержит очень интересный и, по-видимому, достаточно достоверный отчет об одном событии, якобы имевшем место в 1586 г. Если верить автору «Наометрии», 17 июля 1586 г. в Люнебурге произошла встреча «между некоторыми евангелическими князьями и курфюрстами» и представителями короля Наварры, короля Дании и королевы Английской. Целью этого собрания, как сообщается, было формирование евангелической лиги, которая могла бы противостоять действиям Католической лиги (в то время направленным в основном на то, чтобы воспрепятствовать восшествию Генриха Наваррского на французский престол). Созданная в Люнебурге новая лига получила название Confederatio Militiae Evangelicae («Конфедерация Евангелических Ополчений»)[107].
Так вот, некоторые ранние исследователи розенкрейцерской тайны видели в «Наометрии» Симона Студиона и описанной в ней «Конфедерации Евангелических Ополчений» главные источники розенкрейцерского движения[108]. А.Э. Уэйт, изучавший рукопись Студиона, считал содержащийся в ней рисунок с упрощенным начертанием розы и крестом посреди цветка первым по времени образчиком розенкрейцерской символики[109]. Сама я не очень убеждена в значимости этого рисунка, лишь отчасти напоминающего розу, но мысль о том, что корни розенкрейцерского движения следует искать в каком-то объединении единомышленников-протестантов, сплотившихся, чтобы дать отпор Католической лиге, представляется мне разумной и хорошо согласуется с интерпретацией тогдашних событий, предложенной в настоящей книге. Дата формирования «Конфедерации Евангелических Ополчений» — 1586 — заставляет нас вернуться к царствованию королевы Елизаветы, к тому году, когда граф Лестер посетил Нидерланды и скончался Филип Сидни, к замыслу создания Протестантской лиги, столь дорогому для Сидни и Иоганна Казимира Пфальцского.
Вопросы, возникающие в связи с Симоном Студионом и его «Наометрией», слишком сложны, и здесь нет смысла рассматривать их сколько-нибудь подробно, но я склонна согласиться с мнением о необычайной важности штутгартского манускрипта для всех исследователей розенкрейцерской тайны. Меня побуждает к этому то обстоятельство, что Иоганн Валентин Андреэ несомненно был знаком с «Наометрией», ибо в его сочинении «Вавилонская Башня»[110], опубликованном в 1619 г., есть ссылка на рукопись Студиона. Причем интересуют Андреэ не какие-либо былые события, упоминаемые в «Наометрии», но содержащиеся в ней датировки событий грядущих, то есть пророчества. Симон Студион настойчиво повторяет, вновь и вновь возвращаясь к этой мысли, что 1620 год (напомним, пишет он в году 1604-м) окажется судьбоносным, ибо узрит крушение царства антихристова в падении власти Папы и Магомета. Последующие несколько лет будут отмечены дальнейшим крахом сил зла, а примерно в году 1623-м начнется Тысячелетнее царство[111]. Андреэ очень невнятен в своих оценках предсказаний «Наометрии» — ясно лишь, что он их сопоставляет с пророчествами аббата Иоахима Флорского[112], святой Бригитты, Лихтенберга, Парацельса, Постеля и других «иллюминатов»[113]. Между прочим, представляется вполне вероятным, что предсказания такого рода могли при случае повлиять на ход исторических событий. Не потому ли курфюрст Пфальцский и его преданные сторонники столь поспешно решились на богемскую авантюру, что веровали в скорый приход Тысячелетнего царства?
Углубляясь в подробности взаимоотношений герцога Вюртембергского с орденом Подвязки или в тайны «Наометрии», мы начинаем догадываться о существовании неких подспудных течений — уже в самом начале века, когда в Германии создавался протестантский союз, возлагавший большие надежды на поддержку со стороны французского и английского монархов. В те годы начала столетия Яков I, казалось, симпатизировал протестантам. Правда, убийство короля Французского в 1610 г., накануне планировавшегося им вторжения в Германию, на какое-то время нарушило планы протестантских «активистов», резко изменив соотношение сил в Европе. Тем не менее, Яков вроде бы оставался верен прежней политической линии. В 1612 г. он присоединился к Протестантской унии[114], которую возглавлял в то время молодой курфюрст Пфальцский; в том же самом году Яков обручил свою дочь Елизавету с Фридрихом, а в 1613 г. была сыграна знаменитая свадьба, воспринятая современниками как прямое заявление о том, что Великобритания намерена в будущем оказывать всяческую поддержку главе немецкого протестантского союза — курфюрсту Пфальцскому.
Теперь, когда дружба Великобритании и Пфальца достигла своего апогея, и ничто не предвещало скорого предательства Якова, энергичный Кристиан Анхальтский начал подготавливать почву для выдвижения курфюрста Пфальцского на роль идеального вождя, призванного возглавить антигабсбургские силы в Европе. Других достойных кандидатур к этому времени не осталось — Генриха Французского убили, а Генрих принц Уэльский умер совсем молодым. И вот жребий судьбы выпал юному Фридриху Пфальцскому.
Главную ответственность за неудачную богемскую затею Фридриха единодушно возлагали и возлагают на князя Анхальтского, и не случайно именно против этого человека велась широкая враждебная агитация, когда злосчастная авантюра провалилась[115]. Он имел большие связи в Богемии, и похоже, что, если бы не его настойчивые увещевания, мятежники-чехи так и не решились бы предложить корону Фридриху. В годы, предшествовавшие богемской трагедии, Кристиан Анхальтский являл собой политическую фигуру огромного, можно сказать, первостепенного значения, и потому нам необходимо выяснить, каковы были интересы этого человека, какого рода связи имел он в Богемии.
С формально-теологической точки зрения Кристиана Анхальтского должно считать ревностным кальвинистом. Однако, подобно многим иным протестантским князьям того времени, он весьма увлекался мистикой и парацельсовским движением. Известно, что Кристиан Анхальтский покровительствовал Освальду Кроллию, каббалисту, последователю Парацельса и алхимику. Подобные знакомства он завел и в Богемии. Дружил, например, с Петером Боком фон Розенбергом (Петром Боком з Рожмберка)[116], богатым чешским аристократом, владевшим обширными земельными угодьями в окрестностях Тршебоня (Требоны) на юге Чехии, вольнодумцем старой рудольфианской школы, покровителем алхимиков и оккультистов.
Богемские связи Кристиана Анхальтского бы ли такого рода, что он оказался в сфере воздействия весьма примечательного потока влияний, исходивших из Англии и особенно оживившихся после того, как в Богемии побывали Джон Ди и его друг Эдуард Келли. Как достоверно известно, Ди и Келли посетили Прагу в 1583 г., и Ди тогда пытался заинтересовать императора Рудольфа II идеями всеохватного «имперского» мистицизма и своими разнообразнейшими исследованиями. Теперь, благодаря недавно опубликованной книге Питера Френча, характер творчества Ди во многом прояснился. Этот человек, оказавший огромное влияние на английскую культуру, числившийся в наставниках Филипа Сидни и его друзей, наверняка приобрел сторонников и в Богемии — пусть мы и не располагаем пока данными, позволяющими изучить этот вопрос. Можно предполагать, что главным центром распространения идей Ди в Чехии стал Тршебонь — судя по тому, что именно в этом городке Ди и Келли устроили свою «штаб-квартиру», после того как впервые побывали в Праге[117]. Ди жил в Тршебоне на правах гостя Виллема Рожмберка до 1589 г., а потом вернулся в Англию. Виллем Рожмберк (Вилем з Рожмберка) приходился старшим братом тому самому Петру, который дружил с Кристианом Анхальтским и унаследовал по смерти Виллема родовые владения в Тршебоне и округе[118]. Имея в виду душевные склонности князя Анхальтского и характер его интересов, можно не сомневаться, что и он в той или иной степени испытал на себе влияние Ди. Более того, распространение в Богемии новых идей и взглядов, вдохновителем которых, в конечном счете, был Ди, английский философ елизаветинской школы, скорее всего, было использовано князем Анхальтским для укрепления авторитета Фридриха: ведь именно с фигурой пфальцграфа связывались надежды на будущие контакты с Англией, на проникающие оттуда новые благотворные веяния.
Задолго до того, как Ди посетил Германию, его идеи попадали туда из Чехии. Согласно заметкам о Ди, принадлежащим Элайасу Ашмолу и вошедшим в «Британский Химический Театр» (1652 г.), путешествие Ди по Германии в 1589 г., на пути из Богемии в Англию, произвело настоящий фурор. Ди побывал почти в тех самых местах, где двадцатью пятью годами позже вспыхнуло розенкрейцерское движение. Ландграф Гессенский осыпал Ди комплиментами, а тот взамен «одарил его двенадцатью венгерскими конями, кои приобретены были дарителем в Праге в расчете на предстоящее путешествие»[119]. На этом отрезке пути Ди, кроме того, встретился со своим учеником по имени Эдуард Дайер (близким другом Филипа Сидни). Дайер отправлялся послом в Данию, а «годом ранее [он] побывал в Тршебоне, откуда увез письма Доктора (Ди) для королевы Елизаветы»[120]. Ди произвел в этой части Германии сильнейшее впечатление — своими обширными знаниями да еще, похоже, репутацией человека, вокруг которого вершатся большие дела.
Ашмол сообщает, что 27 июня 1589 г., будучи в Бремене, Ди принимал у себя «того славного Герметического Философа, Доктора Генриха Кунрата Гамбургского»[121]. Влияние Ди прослеживается в необычном произведении Кунрата, «Амфитеатре Вечной Мудрости» (см. илл. 8–9), которое вышло в свет в Ганновере в 1609 г.[122] Так, на одной из иллюстраций в «Амфитеатре» мы видим придуманный Ди знак «монады» — сложный символ, вынесенный на титульный лист книги «Иероглифическая Монада» (см. илл. 12), опубликованной в 1564 г. с посвящением императору Максимилиану II. Символ же этот стал своего рода эмблемой той особой разновидности алхимической философии, которую исповедовал Ди. Кроме того, в тексте сочинения Кунрата прямо упоминаются две книги Ди — «Монада» и «Афоризмы»[123]. Так что кунратовский «Амфитеатр» оказывается своего рода посредующим звеном, связующим философию, окрашенную воздействием Ди, с философией розенкрейцерских манифестов. В сочинении Кунрата мы впервые встречаем фразеологию, характерную для манифестов, многочисленные напоминания о макрокосме и микрокосме, рассуждения о магии, каббале, алхимии, каковые науки должно соединить, и тогда родится некая религиозная философия, обещающая человечеству «новую зарю».
Символические гравюры в «Амфитеатре Вечной Мудрости» стоят того, чтобы потрудиться над их уразумением, потому что являются как бы зримым введением в образный строй и философию розенкрейцерских манифестов. В тексте, не считая заглавия, слово «амфитеатр» не встречается, и мы можем только догадываться о том, какой смысл вкладывал Кунрат в название своей книги. Быть может, в заглавии отразилось представление об оккультной мнемонической системе, позволяющей выражать философские идеи в визуальных образах. На одной гравюре (см. рисунок перед гл. III) изображена огромная пещера с надписями на сводах, а также адепты некоего духовного опыта, движущиеся сквозь пещеру к свету. Этот рисунок вполне мог послужить одним из источников образности розенкрейцерского «Откровения». А гравюра с благочестивым алхимиком (см. илл. 10) отражает целую систему взглядов, имеющих явное сходство и с воззрениями Джона Ди, и с манифестами розенкрейцеров. Слева виден человек в позе, означающей глубокое религиозное чувство: он стоит на коленях перед алтарем, на котором расставлены книги с каббалистическими и геометрическими символами. По правую руку — печь и вся утварь, потребная в алхимических трудах. Посередине — стол с нагроможденными на нем музыкальными инструментами. Большой зал, где все это размещается, нарисован по всем правилам построения перспективы — что доказывает искушенность художника в «математических искусствах», неотделимых от ренессансной архитектуры. Гравюра, таким образом, является зримым воплощением той системы взглядов, что впервые предстает перед нами в «Иероглифической Монаде» Джона Ди. По мнению приверженцев этой системы, сочетание каббалистических, алхимических и математических дисциплин открывает новые возможности достижения углубленных прозрений в природу и проникновения в тайны божественного мира, лежащего за ее пределами.
Но ведь и розенкрейцерские манифесты настойчиво призывают объединить магию, каббалу и алхимию в единое, окрашенное интенсивным религиозным чувством мировоззрение (предполагающее религиозный подход также и ко всем наукам о числе).
Следует ли из этого, что в розенкрейцерских манифестах можно обнаружить следы влияния Джона Ди? Да, конечно, причем такое влияние прослеживается в этих сочинениях со всей очевидностью, не оставляющей места даже для тени сомнения. Сейчас я ограничусь лишь кратким перечислением подобного рода свидетельств — более подробно они будут рассмотрены в последующих главах.
Второй розенкрейцерский манифест, «Исповедание» 1615 г., вышел в свет под одной обложкой с трактатом на латинском языке, названным «Краткое Рассмотрение Таинственнейшей Философии»[124]. Автор брошюры излагает содержание «Иероглифической Монады» Джона Ди, широко используя пространные дословные цитаты. «Рассмотрение» составляет одно целое с присовокупленным к нему розенкрейцерским манифестом — «Исповеданием». А «Исповедание» в свою очередь не разъять с первым манифестом, «Откровением», опубликованным в 1614 г., — хотя бы потому, что многие темы первого манифеста повторяются во втором. Итак, становится вполне очевидным, что «таинственнейшая философия», скрывающаяся за манифестами, есть не что иное, как философия Джона Ди, суммарно изложенная в «Иероглифической Монаде» (см. ниже).
Идем дальше. Иоганн Валентин Андреэ, издавший в 1616 г. «Химическую Свадьбу» — романтическую аллегорию, разъясняющую и развивающую основные идеи обоих манифестов, на титульном листе своей публикации поместил знак «монады» Джона Ди. Более того, тот же символ мы встречаем еще раз, уже внутри книги — на полях рядом со стихотворением, с которого, собственно, и начинается аллегория.
Так что сомнений не остается: движение, заявившее о себе тремя розенкрейцерскими публикациями, уходит корнями в творчество Джона Ди. В Германию идеи Ди могли проникать непосредственно из Англии, с которой курфюрст Пфальцский поддерживал тесную связь. Источником их распространения могла быть и Богемия, страна, где уже задолго до описываемых событий узнали и самого Джона Ди, и пропагандируемые им философские взгляды.
Но почему для обнародования философии Ди был выбран столь необычный способ, как публикация розенкрейцерских текстов? Кажется, можно нащупать ответ на этот вопрос, причем ответ, подтверждаемый свидетельствами — о них пойдет речь в последующих главах. Суть же предполагаемого ответа такова: розенкрейцерские публикации следует рассматривать в контексте той духовной атмосферы, что окружала курфюрста Пфальцского и, в конечном счете, подвигла его на богемскую авантюру. Главным же распространителем новых веяний или, если угодно, их душой приходится считать Кристиана Анхальтского, имевшего связи в тех самых кругах богемского общества, где идеи Ди были известны и встречали сочувствие.
Итак, предлагается необычная и многообещающая гипотеза касательно природы розенкрейцерского движения: похоже на то, что движение это было запоздалым следствием путешествия Ди в Богемию — события, свершившегося за двадцать лет до появления розенкрейцерских манифестов. Пропагандировавшиеся Ди идеи не были забыты и ко времени, о котором идет речь, распространились в кругу соратников курфюрста Пфальцского. Став кавалером ордена Подвязки, Фридрих дополнил их культом английской рыцарственности, ставшим неотъемлемой частью розенкрейцерского движения. С другой стороны, будучи главой Протестантской унии, курфюрст воплощал в себе идею всегерманского объединения, практическим осуществлением которой занимался князь Анхальтский. Совпадение названных обстоятельств, подготовленное событиями прошлых лет, выдвинуло Фридриха на роль политического и религиозного вождя, призванного разрешить трудные вопросы века. Между 1614 и 1619 гг. — в годы розенкрейцерской шумихи, поднявшейся вокруг манифестов, — курфюрст с супругой царствовали в Хайдельберге, а Кристиан Анхальтский занимался подготовкой богемского предприятия.
Речь шла не просто о политической антигабсбургской акции — богемское предприятие явилось выражением религиозного движения, собиравшегося с силами на протяжении многих лет. Оно впитывало в себя подспудные идейные течения, расходившиеся по Европе, и искало разрешения религиозных противоречий на путях мистицизма, намеченных герметизмом и каббалой.
Причудливую мистическую атмосферу, которой окружали Фридриха и его супругу восторженные почитатели, можно почувствовать, рассматривая немецкую гравюру, напечатанную в 1613 г. (см. илл. перед гл. I): Фридриха и Елизавету озаряют лучи, исходящие от божественного имени, начертанного над их головами. Этот лубок мог быть первым из числа многих листовок, гравюр и памфлетов подобного рода, распространявшихся в Германии в последующие годы. Иконография Фридриха на печатных гравюрах предоставляет исследователю важнейшую череду свидетельств относительно связей пфальцграфа с современными ему идейными течениями, что и предполагается со всей ясностью показать в следующей главе.
IV. Розенкрейцерские манифесты
Алхимик в пещере. Гравюра, оказавшая влияние на позднейшую иконографию склепа Христиана Розенкрейца. Т. Швайгхардт, Зерцало Мудрости Розо-Крестовой. 1618.
«Откровение» и «Исповедание» (в дальнейшем оба розенкрейцерских манифеста будут именоваться этими сокращенными названиями) приводятся, в переводе на русский язык, в Приложении к настоящему изданию, так что читатель волен самостоятельно познакомиться с содержащимися в них пламенными провозвестиями грядущей зари просвещения и со странной романтической историей о «Христиане Розенкрейце» и его Братии. Многочисленные вопросы, возникающие в связи с манифестами, не могут быть целиком рассмотрены в этой главе, и мы будем возвращаться к ним на протяжении всей книги. К примеру, попытка понять, зачем в одном томе с «Откровением» был напечатан (в переводе на немецкий язык) большой отрывок из некоего итальянского сочинения, отложена до одной из последних глав, где предполагается разобраться во взаимоотношениях немецких розенкрейцеров с итальянскими вольнодумцами. В Приложении приведена и краткая библиография к манифестам, с перечнями «посторонних» материалов, публиковавшихся вместе с «Откровением» и «Исповеданием». На это стоит обратить внимание, поскольку читатели первых изданий манифестов наверняка знакомились и с сопутствующими материалами, которые, надо полагать, в чем-то проясняли содержание основных документов.
Хотя самое раннее из дошедших до нас печатных изданий «Откровения», первого розенкрейцерского манифеста, помечено 1614 г., документ мог ходить по рукам (в рукописи) и прежде этой даты, судя по тому, что еще в 1612 г. в печати появился ответ на него, написанный неким Адамом Хазельмайером. Хазельмайер утверждал, что видел манускрипт «Откровения» в Тироле в 1610 г., а в Праге, судя по некоторым данным, такую же рукопись видели в 1613 г. «Ответ» напечатан в томе, содержащем первопечатную редакцию «Откровения». Хазельмайер причисляет себя к «христианам евангелических церквей» и восторженно славит просвещенную мудрость «Откровения», походя бросая несколько резких упреков в адрес иезуитов. Еще он намекает на повсеместные ожидания коренных перемен, распространившиеся по кончине императора Рудольфа II в 1612 г. Этот «Ответ» помещен в конце тома, после «Откровения», но упоминается в предисловии, открывающем книгу. Там, в предисловии, среди многого другого рассказывается и про то, как иезуиты схватили Хазельмайера, будучи недовольны его выступлением в поддержку воззваний «Откровения», и теперь он «закован в железа на галере». Само это предисловие внушает открывшему томик читателю, что розенкрейцерские манифесты задуманы как противовес Обществу Иисуса, ибо зовут учредить такое братство, которое, в отличие от ордена иезуитов, воистину будет опираться на учение Христа. И ответ Хазельмайера, и предисловие с рассуждениями на его счет чрезвычайно темны по смыслу, и нелегко определить, следует ли понимать эти тексты — как, впрочем, и другие розенкрейцерские писания — буквально. Как бы то ни было, основная мысль «Ответа» и «Предисловия» очевидна: они должны были увязать первый розенкрейцерский манифест с антииезуитской пропагандой.
Особенно четко подобное стремление проступает в полном заголовке всего тома, включающего в себя «Откровение». Заглавие это может быть переведено следующим образом:
Всеобъемлющая и Всеобщая Реформация всего этого пространного Мира в целом. Вкупе с Fama Fraternitatis [Откровением Братства] Высокочтимого Ордена Креста Розы, составленным для уведомления всех Ученых мужей и Государей Европы: Также с присовокуплением краткого Ответа Господина Хазельмайера, за который ответ он был схвачен Иезуитами и закован в железа на Галере: Теперь обнародовано в Печати и обращено ко всем искренним Сердцам. Напечатано в Касселе Вильгельмом Весселем, Год 1614.
Этот заголовок покрывает собой все содержание тома, в который издатели включили отрывок из произведения одного итальянца, призывавшего ко всеобщей реформации (о нем мы поговорим несколько позже); затем следовало «Откровение» и — в конце — ответ Хазельмайера. Так что читатель первого издания знакомился с «Откровением» в определенном контексте, благодаря чему четче прояснялась антииезуитская направленность манифеста, которая вовсе не очевидна, если читать один этот документ.
«Откровение» начинается настойчивым призывом к общему вниманию, и, надо сказать, этот «трубный глас» действительно прокатился по всей Германии, более того, его отзвуки были услышаны и в других частях Европы. Бог в эти последние дни открыл нам более совершенное знание — как о Сыне Своем Иисусе Христе, так и о Природе. Он воздвиг среди нас мужей, наделенных мудростию великой, и сии мужи в силах обновить все искусства и привести их все к совершенству, благодаря чему «человек постигнет, наконец, свое высокое и благородное происхождение, свое как Микрокосма образование и сколь далеко простирается в Натуре его Искусство»[125]. Если бы ученые мужи объединились, они смогли бы уже ныне извлечь из «книги Натуры» «Истину» — некий совершенный принцип всех искусств. Но распространение нового света и новой правды затруднено из-за тех, кто не оставил свои прежние пути, будучи привязан к ограничительным авторитетам Аристотеля и Галена.
После этих вступительных рассуждений читателя знакомят с таинственным Розенкрейцем, основателем «нашего братства», который много и долго трудился ради радикального преобразования описанной ситуации. Брат Розенкрейц, некий «высокопросвещенный» муж, много странствовал по Востоку, где мудрецы имеют обыкновение охотно делиться друг с другом своими познаниями. Тот же обычай мыслимо учредить и в сегодняшней Германии, где нет недостатка «в ученых, магах, каббалистах, медиках и философах», коим должно соработать друг другу. Путешественник изучил восточную магию и каббалу и нашел в них «основу своей веры, которая как раз соответствовала Гармонии всего мира и чудесно запечатлевалась во всех периодах веков».
Брат Р.К. затем отправился в Испанию, с тем, чтобы открыть тамошним, а равно и всем ученым мужам Европы то, чему сам был научен. Он показал, как можно исправить «недостатки церкви и всю моральную философию», предоставив своим слушателям новые правила для исцеления указанных несовершенств, но над ним лишь посмеялись.
Слушавшие его опасались «умалить значение своих славных имен, начав учиться и признав все свои прежние заблуждения». Он весьма огорчился, будучи готовым поделиться всеми своими знаниями с учеными, «если они только пожелают взять на себя труд признать для всех факультетов, всех наук и искусств, а также и всей Натуры известные непреложные самоистины». А буде таковое достигнуто, в Европе можно было бы образовать некое общество, которое обогащало бы государей своими знаниями и к которому все желающие в нужде могли бы обратиться за советом. В нынешнем мире идеи такого рода носятся в воздухе, и уже появлялись и появляются на свет мужи, призванные развеять тьму. К ним можно отнести «Теофраста» (Парацельса), который, правда, не принадлежал к «Братству нашему», «но все же должную Гармонию изрядно у него находим».
Между тем брат Р.К. возвратился в Германию, предвидя «близкогрядущие перемены и чудесную и опасную борьбу». (Согласно «Исповеданию», брат Р.К. родился в 1378 г. и прожил 106 лет; его житие и труды, следовательно, относят к четырнадцатому и пятнадцатому столетиям.) Он выстроил дом, в коем предавался размышлениям о своей философии, проводил много времени за изучением математики и создавал различные инструменты и приспособления. Все более пламенно стремясь к чаемому преобразованию, он пожелал собрать помощников этому делу и начал всего с троих. «Таким образом составилось братство R.C., вначале из четырех лиц, и их трудами были выработаны магический язык и письмо вместе с пространным словарем, ибо мы и сегодня ими, во славу и хвалу Божию, пользуемся и большую мудрость в них находим».
Автор «Откровения» далее продолжает излагать воображаемую историю воображаемого ордена, которую мы здесь сократим, потому что полный текст приводится в Приложении. Число членов ордена увеличивалось. Они воздвигли строение, коему надлежало служить средоточием братства, — Дом Духа Святого. Главным делом братьев было пользование больных, но, кроме того, они еще много странствовали, дабы добывать и распространять знания. Они соблюдали шесть правил, первое из которых требовало не иметь никакого иного занятия, кроме лечения больных, «и все это безвозмездно». Им не полагалось облекаться в отличающие их от прочих людей наряды, но следовало одеваться так, как принято в той стране, где им случилось оказаться. Раз в год они должны были собираться все вместе в своем Доме Духа Святого.
Первый усопший из Братии умер в Англии. Множество братьев присоединилось к первоначальному ядру ордена, а совсем недавно Братство обрело новую значительность благодаря обнаружению склепа, в коем был погребен брат Розенкрейц. Дверь этого склепа была чудесным образом открыта, и это событие стало прообразом грядущего отверзания некоей двери в Европе, столь вожделенного для многих.
Описание упомянутого склепа занимает центральное место в предании о Розенкрейце. Солнце никогда не проникало под его своды, но в склепе светло, потому что его освещает другое Солнце, находящееся внутри. На стенах склепа изображены геометрические фигуры, в нем хранятся многие сокровища, в том числе некоторые произведения Парацельса, чудесные колокольчики, горящие лампады и «искусные песнопения». А еще до того Братство владело «Кругами» (Rotae) и «Книгой М.». Могила Розенкрейца располагается под алтарем склепа; на стенах же написаны имена братьев.
Открытие склепа есть знамение всеобщего преображения, это та самая заря, что предвещает восход солнца. «Хотя мы и прекрасно знаем, что независимо от нашего стремления или упования других всеобщее божественное и человеческое преобразование свершится, все же не безразлично, что солнце, перед своим восходом, бросит на небо яркий или темный свет»[126]. Косвенным образом указана и дата обнаружения склепа — 1604 г.
«Откровение Братства», этот весьма своеобычный документ, будто бы хочет поведать — используя аллегорический образ склепа — об открытии новой или, лучше сказать, об обновлении старой философии, первоначально и прежде всего алхимической и связанной с медициной и целительством, но занимающейся также числом и геометрией, да еще изготовлением механических диковин. Речь идет не просто о прогрессе научных знаний, но, что гораздо важнее, о просветлении сознания, имеющем религиозную и духовную природу. Новая философия вот-вот будет возвещена миру, что повлечет за собой всеобщую реформацию. В качестве мифических агентов, распространяющих новую мудрость, выступают розенкрейцерские Братья. Братья, как можно понять из «Откровения», все немцы и христиане-реформаты, ревнители евангелического благочестия. Их вера, похоже, тесно сопряжена с исповедуемой ими алхимической философией, не имеющей ничего общего с «безбожным и проклятым златоделанием», ибо богатства, которые предлагает основатель ордена, духовны суть; отец Розенкрейц «радуется не тому, что он делать злато может ‹…› но тому, что он небо отверстым и Ангелов Божиих восходящими и нисходящими видит и что имя его вписано в Книгу жизни»[127].
Напряженное возбуждение, вызванное «Откровением» и всей историей Розенкрейцерского ордена, еще больше усилилось в следующем году, когда был опубликован второй розенкрейцерский манифест, «Исповедание», продолживший рассуждения о розенкрейцерской Братии, о философии Братства и о его миссии. «Исповедание», кажется, было задумано как продолжение «Откровения», во всяком случае, оно постоянно ссылается на первый манифест. Напечатано второе сочинение было все в той же типографии и тем же печатником. В отличие от «Откровения», написанного на немецком языке, как и остальные брошюры, опубликованные вместе с ним, первое издание «Исповедания» вышло на латыни (сопутствующие материалы — также). Представляется поэтому, что, хотя том с «Исповеданием» мыслился как продолжение тома с «Откровением», второе (латиноязычное) издание обращалось к иной, более образованной аудитории. Кроме того, во втором манифесте и сопутствующих ему текстах как будто бы предлагалась расшифровка ряда аллегорий и романтических иносказаний из «Откровения».
Латинское заглавие тома, содержащего первую редакцию «Исповедания», можно перевести следующим образом:
Краткое Рассмотрение Таинственнейшей Философии, составленное Знатоком Философии Филиппом Габелльским, публикуемое ныне впервые вкупе с Исповеданием Братства Р.К. Издано в Касселе Вильгельмом Весселем, Печатником Наисиятельнейшего Князя. Год после рождества Христова 1615.
На оборотной стороне (verso) — титульной страницы значится:
Да даст тебе Бог от росы небесной
и от тука земли.
Бытие 27[128].
Судя по заголовку, читателю явно внушают, что сначала ему следует изучить «Краткое Рассмотрение» и лишь затем переходить к «Исповеданию». «Краткое Рассмотрение», как я уже указывала, основано на «Иероглифической Монаде» Джона Ди. Отождествить «Филиппа Габелльского» с кем-либо из известных лиц мы пока не можем (уж не псевдоним ли это, намекающий на каббалу?), но ясно, что сочинитель тщательно проштудировал творения Ди.
Ключ к нашему источнику дается в библейской цитате, помещенной на оборотной стороне титульного листа. Естественно, Филипп Габелльский приводит стих по-латыни: De rore caeli et pinguedine terrae det tibi Deus[129]. Тот же текст помещен на титульном листе «Иероглифической Монады» Джона Ди (см. илл. 12), причем тема нисходящей росы (по-латыни — ros), соединяющей небеса с землею, в последнем случае воспроизведена еще и визуально.
«Краткое Рассмотрение» не пересказывает «Монаду» Ди целиком, но содержит буквально процитированные отрывки из первых тринадцати «теорем» трактата, перемежаемые иными материалами. Именно в «теоремах» Ди разъясняет композицию своей «монады», показывая, каким образом этот знак включает в себя символы всех планет; как в нем отображается зодиакальный знак созвездия Овна, символизирующий огонь и, следовательно, алхимические процессы; почему крест под знаками Солнца и Луны представляет элементы, и каким образом, переставляя образующие крест четыре линии, можно получить знак тройки или четверки, составить и треугольник, и квадрат, разрешив тем самым великую тайну[130]. Диаграммы, которые приводит «Филипп Габелльский» (некоторые из них в «Монаде» Ди отсутствуют), и в самом деле помогают понять, что было на уме у английского философа, когда он разрабатывал компоненты своего иероглифа. Ясно, что именно «монада» как таковая представляла наибольший интерес для «Филиппа Габелльского», которого привлекал и сам таинственный знак, и его составляющие, обозначавшие все небеса и «начала», священные фигуры — треугольник, круг и квадрат, а также крест. Как ни странно, «Филипп Габелльский» никогда не употребляет термин «монада» — даже в пассажах, дословно переписанных из труда Ди, слово «монада» повсюду заменено на Stella («звезда»). У «Филиппа Габелльского» монада неожиданно для нас превращается в звезду, а «иероглифическая монада» — соответственно в «иероглифическую звезду». Правда, подобное толкование находит поддержку в книге самого Ди — на последней ее странице помещено изображение некоей женщины, держащей звезду, которое можно понять как заключительный обобщающий символ.
«Краткое Рассмотрение» завершается молитвой на латинском языке, написанной в духе глубочайшего благочестия и ревностной устремленности к вечному и беспредельному Богу, с возложением всех упований на Него, Единого сильного, Единого совершенного, в Коем все сущее Едино есть, Кто вкупе с Сыном Своим и Святым Духом есть Троица в Единице. Молитва напоминает молитвы Ди, а факт ее присутствия в конце сокращенного варианта «Монады» еще более усиливает сходство между душевным настроем обоих сочинений, в которых пламенной набожности сопутствует увлеченность сложными магико-научными изысканиями.
Молитва подписана именем «Филемон Р.К.», то есть «Филемон Креста Розы», и вслед за нею, на следующей странице, помещено предуведомление ко второму розенкрейцерскому манифесту, «Исповеданию». Под этим предисловием, обращенным к читателю, стоит подпись «Брат Р.К.», а потом сразу же начинается «Исповедание».
Все вышесказанное позволяет утверждать, что вдохновленное Ди «Краткое Рассмотрение» и молитва, его заключающая, тесно связаны с розенкрейцерским манифестом, являются его неотъемлемой частью — эти тексты как будто бы должны объяснить, что «таинственнейшая философия», стоящая за розенкрейцерским движением, есть не что иное, как философия Джона Ди, изложенная в «Иероглифической Монаде».
Сделанный нами вывод заставляет вспомнить об одной старой теории, ныне обычно не принимаемой всерьез. Теория эта доказывала, что словосочетание, лежащее в основе обозначения «розенкрейцер», следует переводить не «розовый крест», но «росный крест» (от ros — «роса» и crux — «крест»), и понимать в алхимическом смысле: росу алхимики считали растворителем золота, а крест — символом света[131]. Не углубляясь далее в алхимические тонкости, мы, думается, все же можем сказать, что обнаруженное нами тесное сродство между «Монадой» Ди (кстати, девиз на обложке этого трактата тоже упоминает «росу небесную») и розенкрейцерским манифестом является весомым доводом в пользу обсуждаемой теории.
Мы же сейчас переходим, как и было задумано составителями тома, от разбора «Краткого Рассмотрения», текста, тесно связанного с «Монадой» Ди, к изучению собственно розенкрейцерского документа, то есть «Исповедания».
В обращении к читателю, что предваряет текст манифеста, делается поразительное заявление: «Как мы ныне вполне вольно и безопасно, и безо всякого ущерба, зовем папу римского антихристом, что прежде почиталось смертным грехом, и мужей во всех странах за подобное предавали смерти, — так же, наверное, нам ведомо, что наступит в свой черед время, когда то, что пока хранится нами в тайне, мы будем открыто, вольно и громогласно объявлять народу и исповедовать пред всем миром»[132].
Уже первые фразы «Исповедания» внушают мысль о тесной связи этого документа с «Откровением». Что бы ни послышалось в трубном гласе «Откровения», впервые возвестившем о Братстве, говорит автор «Исповедания», читателю не должно ни с поспешностью уверовать в услышанное, ни столь же поспешно отвергать его. Иегова, видя мир сей клонящимся к упадку, поспешает обратить его вспять, к истокам. Братия раскрыла в «Откровении» природу своего Ордена, и ясно, что его никак нельзя подозревать в ереси. Что же до реформирования философии, то здесь второй манифест повторяет программу первого. Вновь ученых мужей Европы призывают откликнуться на братские призывы ордена и принять участие в его начинаниях.
«Исповедание» с восторгом отзывается о глубоких познаниях отца Р.К., размышления коего о всех дисциплинах, открытых после сотворения мира, простым ли умением человеческим или же чрез служение ангелов либо духов, столь всеобъемлющи, что даже если бы все прочие знания были утрачены, то одной его мудрости хватило бы, чтобы восстановить Дом Истины. Разве не чаем мы победы над голодом, нищетой, недугами, старостью, разве не желаем познать все страны земли и их тайны, читать из одной-единственной книги, которая объем лет в себе все другие? «Сколь усладительно будет, если запоешь так, что не скалы увлекать будешь, но перлы и драгоценные камни, не зверей приманивать, но духов»[133].
Когда же Труба Ордена зазвучит в полную силу, то все эти вещи, о которых ныне осмеливаются говорить только шепотом и иносказательно, выйдут на явь и заполнят собою весь свет, а тирания папы будет сброшена. Мир уже узрел множество перемен с тех пор, как отец Р.К. был рожден, и много больше перемен грядет. Но прежде Конца Бог позволит великому потоку истины, света и великолепия, подобному тому, что окружал Адама в Раю, пролиться на род человеческий. Новые звезды явились в созвездиях Змееносца и Лебедя[134], и они суть знамения того, что все сказанное сбудется.
Второй манифест повторяет, даже с еще большим пылом и настойчивостью, призывы первого. В нем звучат мощные пророческие и апокалиптические ноты: конец света совсем близок, новые звезды предвещают явление небывалых чудес, великая реформация обернется Тысячелетним царством, возвращением к состоянию Адама в раю.
Эти воззвания были встречены с лихорадочным возбуждением. Многие тогда предпринимали отчаянные попытки вступить в контакт с розенкрейцерской Братией — посредством писем, печатных воззваний, памфлетов. Манифесты породили целую реку печатной продукции — откликов на призыв вступить в общение с орденом и сотрудничать с ним. Но похоже, что все обращения к Братии остались без ответа. Братья, если таковые существовали, казались невидимыми, упорствовали в своем нежелании открыться. Но эта таинственность ничуть не уменьшала интерес к баснословному Братству, напротив, только разжигала его еще сильнее.
В позднейшие времена о «розенкрейцерской тайне» высказывались самые разные точки зрения. Сегодня, думается, мы вправе не принимать всерьез фундаменталистов — тех, кто верует в буквальную истинность легенды о Христиане Розенкрейце и его Братстве. Противоположной позиции придерживаются скептики, видящие во всем этом намеренную мистификацию. «Незримость» Братьев, их очевидный отказ подать хоть какой-то знак своим последователям, естественно, способствовали распространению подобных взглядов.
Внимательного читателя манифестов не может не поразить противоречие между серьезностью религиозно-философских идей и надуманностью обрамления, в котором эти идеи преподносятся. Религиозное движение, которое обращается к алхимии как к средству укрепления евангелического благочестия и предлагает обширную программу научных изысканий и реформ, несомненно представляет собой интересный феномен. А то, что сама наука мыслится в ренессансных герметико-каббалистических терминах, то есть представляется неразрывно связанной с магией и каббалой, вполне естественно для рассматриваемого периода. Даже милленаризм, принуждавший видеть в «новой заре» лишь временный период света и прогресса, канун неминуемого конца мира, вовсе не был чужд передовой мысли той эпохи. Бэконовский проект «Великого восстановления наук», как показал Паоло Росси[135], тоже окрашен милленаризмом. История о Христиане Розенкрейце, розенкрейцерской Братии и обнаружении волшебного склепа с гробницей, в коей покоится основатель ордена, отнюдь не должна была, по замыслу ее сочинителей, восприниматься буквально, как повествование о действительно имевших место событиях. Выдумывая ее, они, очевидно, вдохновлялись легендами о погребенных и чудесным образом обнаруженных сокровищах — весьма распространенными как раз в алхимической традиции. Да и в самих манифестах есть достаточно подтверждений тому, что речь идет об аллегории или вымысле. Так, отверстая дверь склепа символизирует какие-то врата, открывающиеся в Европе. Склеп освещается «внутренним солнцем» — намек, что проникновение под его своды может символизировать некий внутренний опыт, как и пещера с льющимся изнутри светом, изображенная в «Амфитеатре Вечной Мудрости» Кунрата (см. илл. перед гл. III).
И все равно находилось немало доверчивых читателей, которые простодушно верили в эти тексты и воспринимали их буквально, — как тогда, когда манифесты только что вышли в свет, так и потом, вплоть до сего дня. Современные исследователи розенкрейцерской тайны придают большое значение тому факту, что сам Иоганн Валентин Андреэ именовал всю историю измышлением, комедией или шуткой. А ведь Андреэ, несомненно, был в числе самых посвященных, тех, кто стоял «за кулисами» розенкрейцерских публикаций, да и в своих многочисленных работах (мы не имеем здесь в виду «Химическую Свадьбу», числящуюся чуть ли не третьим манифестом розенкрейцеров) он зачастую упоминает это движение. Заговаривая о розенкрейцерстве, Андреэ чаще всего пускает в ход латинское словечко ludibrium. О манифестах он выражается в таком духе: «ludibrium этого суетного „Откровения“, или: „ludibrium вымышленного Розенкрейцерского Братства“». Французский историк Поль Арнольд перевел ludibrium как une farce[136], сделав из этого вывод, что сам Андреэ назвал историю с манифестами шуткой[137]. Другой исследователь, Чарлз Уэбстер[138], полагает, что все эти рассуждения про ludibrium имеют иронически-уничижительный характер.
Действительно, прибегая к «насмешливым словесам», Андреэ пытался отделить свое имя от тайн розенкрейцерства, ибо подозрение в причастности к последним в то время могло навлечь на него серьезные неприятности. Все же я не думаю, что указанное обстоятельство полностью объясняет употребление слова ludibrium у Андреэ. Ведь латинское ludibrium может также означать (театральную) игру, комическое представление, а Андреэ — и мы еще к этому вернемся в одной из последующих глав — высоко ценил театр, видел в нем источник нравственных и просветительских влияний. «Театральность», на которую намекают высказывания Андреэ, представляется одним из самых поразительных аспектов розенкрейцерского движения. Сейчас я лишь вскользь упоминаю об этом, чтобы читатель понял: обозначение «Откровения» и «Исповедания» словечком ludibrium, что бы оно ни подразумевало (не будем спешить — точный смысл этого термина пока не выяснен), само по себе весьма красноречиво. Получается, что, хотя авторы манифестов и не имели намерения добиться от своей аудитории веры в буквальную истинность истории о Христиане Розенкрейце, эта история может быть истинной в каком-то ином, более высоком смысле — как «божественная комедия», аллегорическое изображение сложного религиозно-философского течения, оказывавшего непосредственное воздействие на свою эпоху.
Положение наше все же куда лучше, чем у более ранних исследователей розенкрейцерских текстов, — ведь мы знаем, что на манифесты сильнейшим образом повлияла «Иероглифическая Монада» Джона Ди. Проповедуемая в этих документах «таинственнейшая философия» и есть философия Ди. Аллегория же склепа и обнаружения скрытых в нем чудесных сокровищ, скорее всего, означает, что движение вобрало в себя некие новые идеи. В конечном счете — правда, не целиком — эти новые веяния тоже восходят к влиянию Ди, к его богемской миссии 1580-х гг. С семействами тогдашних сторонников Ди поддерживал дружбу Кристиан Анхальтский, главный организатор движения, долженствовавшего возвести Фридриха Пфальцского на богемский престол. Манифесты же, я уверена, являют собой мистическое обоснование этого самого движения, сочетавшего ревностную набожность с реформационными настроениями, элементами герметизма, магии и алхимии — к чему и призывал Ди в своих богемских «проповедях». Не нужно зацикливаться на этом обстоятельстве: понятно, что манифесты вобрали в себя и множество иных влияний; и все же факт совпадения по времени фридрихианского движения и розенкрейцерских публикаций имеет первостепенное значение — как и факт влияния на манифесты идей Ди, не вызывающий никаких сомнений и прекрасно согласующийся с гипотезой о возникновении манифестов в атмосфере борьбы за богемскую корону.
Эта гипотеза находит неожиданное подтверждение в источниках совсем иного рода. Враги движения порой предоставляют нам очень ценную информацию, к рассмотрению которой мы сейчас и обратимся.
Андреас Либавий, один из крупных представителей раннего периода развития химической науки, определенно не питал дружеских чувств к розенкрейцерам. Либавий принадлежал к тем «химикам», которые кое в чем поддались влиянию новых учений Парацельса. Так, он признавал целесообразность использования во врачебной практике новых химических снадобий, за которые ратовал Парацельс, однако в теории придерживался традиционных Аристотелевых и Галеновых концепций, а мистицизм Парацельса отвергал[139]. На титульном листе главного труда Либавия, «Алхимии», опубликованного во Франкфурте в 1596 г., красуются портреты Аристотеля и Галена — а ведь розенкрейцерские манифесты нападали на последователей этих древних философов, обвиняя их в старомодной негибкости ума. То ли Либавий принял эти нападки на свой счет, то ли обиделся за традиционное учение, одно несомненно: критика Либавия в адрес розенкрейцерских манифестов переполнена враждебностью к тем «химикам», которые, подобно нечестивому Парацельсу, мало чем отличаются от колдунов. Либавий обвиняет авторов манифестов в непонимании серьезной, научной алхимии, которую они подменяют нелепым теоретизированием, и предлагает свои «благонамеренные размышления» в качестве указаний, следуя коим, заблуждающиеся смогут осознать свои ошибки, обретя вместе с тем прочное основание в истинно научной алхимии.
Либавий критиковал розенкрейцерские «Откровение» и «Исповедание» в нескольких своих произведениях, самое важное из которых, «Благонамеренные Размышления Об „Откровении“ и „Исповедании“ Братства Розового Креста», вышло в свет во Франкфурте в 1616 г.[140] Ссылаясь на тексты обоих манифестов, Либавий серьезно возражает их авторам, приводя научные, политические и религиозные аргументы. Либавий категорически не согласен с теориями гармонии макро- и микрокосма, он выступает против «магии и каббалы», против Гермеса Трисмегиста (приписываемые ему сочинения Либавий особенно обильно цитирует), против Агриппы и Тритемия[141] — короче говоря, против возрожденческой традиции, в той ее разновидности, которую восприняли авторы розенкрейцерских манифестов и в духе которой они интерпретировали труды Парацельса. Либавий видит во всем этом подрыв Аристотелево-Галеновой традиции, что, несомненно, соответствует действительности, и сильнейшим образом критикует манифесты за отход от ортодоксии.
Весьма примечательно, что уже в работе, опубликованной задолго до интересующих нас событий, в 1594 г., Либавий нападал на «Иероглифическую Монаду» Ди, указуя на наличие в последней каббалистических элементов, решительно ему не нравившихся[142]. Значит, он вполне способен был уловить следы влияния «Монады» в манифестах, что могло лишь усилить его негативное отношение к этим документам.
И еще одно многозначительное обстоятельство: в своих антирозенкрейцерских трактатах Либавий часто упоминает имя Освальда Кроллия, явно соединяя в одно целое учение манифестов и доктрины этого ученого, к которым относится крайне неодобрительно. В самом начале «Благонамеренных Размышлений» он с осуждением цитирует предисловие к «Химической Базилике» Кроллия.
Освальд Кроллий (Кролль) был врачом-парацельсистом. В отличие от Либавия, он признал не только новые химические лекарства, изобретенные Парацельсом, но и весь стоявший за ними строй мышления. Подобно своему учителю, Кроллий отвергает авторитеты Аристотеля и Галена, выступая убежденным сторонником мистицизма, магии и «гармонических» теорий, то есть принимает учение Парацельса целиком. В своей книге «Химическая Базилика», опубликованной во Франкфурте в 1609 г., Кроллий многократно и с большим почтением цитирует Гермеса Трисмегиста и другие герметические тексты. Столь же уважительно его отношение к великим неоплатоникам Возрождения, например к Пико делла Мирандола. Темой «Базилики» является волшебная гармония макрокосма и микрокосма, и дух этого сочинения должен был быть весьма близок авторам розенкрейцерских манифестов. В другой своей книге, опубликованной в Праге в 1608 г., Кроллий использует для интерпретации Парацельсовой концепции взаимозависимости между «великим» и «малым» мирами теорию астральных сигнатур[143] («печатей»)[144].
Либавий и Кроллий, таким образом, представляют противоположные направления в алхимии: Либавий — «химик», в теории придерживающийся традиционных Аристотелевых и Галеновых воззрений, тогда как противник его — мистик и приверженец радикального парацельсианства. По мнению Либавия, и авторы розенкрейцерских манифестов, и Кроллий равным образом относятся к неортодоксальной школе алхимической мысли.
Освальд Кроллий, как я уже упоминала, был непосредственно связан с Кристианом Анхальтским, состоя у него на службе в качестве врача. «Химическая Базилика» Кроллия посвящена князю Анхальтскому и издана под покровительством императора Рудольфа II. А трактат «О сигнатурах вещей» Кроллий посвятил Петру Боку Рожмберкском — чешскому дворянину, преданному стороннику князя Анхальтского и брату того самого человека, гостеприимством которого пользовался Джон Ди во время своего пребывания в Богемии. Подчеркивая сходство идей, выраженных в манифестах и в трактатах Кроллия, Либавий тем самым как бы допускал, что манифесты тоже могли возникнуть в среде, окружавшей князя Анхальтского, — ведь именно там влияния, воспринятые от Джона Ди, смешивались с влияниями Кроллия.
Сам же князь — и это не вызывает сомнений — был идеологом «активного» направления в германском протестантизме. «Активные» протестанты с начала XVII столетия искали достойных лидеров для своего движения, и вот теперь (к моменту публикации розенкрейцерских манифестов) их выбор окончательно остановился на Фридрихе V, курфюрсте Пфальцском, — именно в нем все увидели подлинного вождя, коему суждено возглавить движение и привести его к победе.
В произведениях своих Либавий не только критикует философское мировоззрение розенкрейцерских манифестов, но также выражает неодобрение той политической линии, к которой они призывают. Особенно это заметно, когда он разбирает одно место из «Откровения», где авторы заявляют, что, признавая ныне власть Империи, они все же ожидают в ней некоторых перемен и намереваются тайным образом способствовать таковым:
В политике признаем мы Римское царство[145] и четвертую монархию[146] как за нашу, так и всех христиан главу. Хотя нам и известно, что за перемены предстоят и о них другим ученым Господним очень охотно сообщить желаем ‹…› Будем, однако же, при добрых обстоятельствах, скрытую помощь оказывать, после того как нам Господь позволит или предостережет…
Либавий видит в этом пассаже намек на какого-то «Парацельсова Льва», который вступит в союз с турками и попытается низвергнуть Römische Reich[147], чтобы взамен создать мировую державу, власть которой будет основываться на магических заклинаниях[148]. Либавий, по сути, интерпретирует этот отрывок в контексте прогнозов Хазельмайера, напечатанных под одной обложкой с «Откровением», — в своем «Ответе» Хазельмайер тоже предрекает перемены в Империи и, кроме того, откровенно заявляет об антииезуитской направленности «Парацельсовой» политики.
Ко времени обнародования манифестов искомый «львиноподобный» вождь протестантов — идеал сторонников князя Анхальтского — успел обрести реальность, материализовавшись в фигуре Фридриха V Пфальцского, геральдической эмблемой которого, как было ведомо всему миру, являлся лев.
И время, и место выхода манифестов в свет позволяют с большой степенью вероятности предположить, что розенкрейцерское движение уже к моменту первой публикации было каким-то образом связано с курфюрстом Пфальцским. Оно распространялось вширь именно в те годы, когда Фридрих царствовал в Пфальце, и шла подготовка к богемской авантюре. Душа розенкрейцерского движения, Андреэ, жил в это время в Вюртемберге; манифесты печатались в Касселе. Вюртемберг и Гессен-Кассель были протестантскими княжествами и располагались очень близко от Пфальца — естественно, жители обоих государств проявляли немалый интерес к делам своего соседа. Их взоры, прежде всего, привлекал Хайдельберг — город, будивший воображение и волновавший чувства, ибо в нем цвели волшебные сады и правил Князь-Лев.
Для того чтобы найти подтверждения своей гипотезе, мы теперь обратимся к другим враждебным движению авторам, гораздо более злоязычным и ожесточенным, нежели Либавий.
Фридрих как Странник-без-Подвязки. На заднем плане слева — он же с Елизаветой и двумя детьми. Немецкая карикатура, 1621. Scheible. Die Fliegenden Blätter. Zwischen S. 274 und S. 275.
Сочинители направленных против Фридриха сатирических лубков, выпущенных в свет сразу после богемской катастрофы, выказывают немалую осведомленность о движении, во главе которого стоял побежденный князь[149]. Все подобные материалы явно происходят из одного источника: их публикация была тщательно продуманной пропагандистской кампанией, имевшей целью дискредитацию и осмеяние разгромленного экс-короля Богемии (см., напр., илл. 13). Две карикатуры уже обсуждались в нашей книге. На одной Фридрих и Елизавета гуляют по саду, аллеи которого ведут в ад. На второй Фридрих изображен со спущенным чулком (см. илл.). Чулок сполз с ноги потому, что государь остался без Подвязки — так обыгрывалась тема утраченных инсигний ордена. Другие карикатуры разрабатывают «звериную» тематик — в духе средневековой традиции, использовавшей образы животных в целях политической пропаганды. Особенно многочисленны изображения габсбургского орла и пфальцского льва. Мы видим, к примеру, победоносного орла Габсбургов, взгромоздившегося на колесо Фортуны, под которым простерся поверженный лев Пфальца. Внутри колеса надпись: «Римская империя». Оно совершило оборот — и вот уже Габсбургский Орел восстановлен в своих правах, а Пфальцский Лев изгнан из Богемии (см. илл. 14). В аннотации к серии репродукций подобных карикатур Э.А. Беллер подчеркивал, что Орел всегда символизирует императора Фердинанда, а Лев — Фридриха Пфальцского, мораль же заключается в том, что Лев потерпел крах, ибо нечестиво посягнул на Империю. Таким образом, некоторые карикатуры — и это для нас очень важно — содержат явные отклики на розенкрейцерские манифесты.
«Откровение» — манифест, провозвестивший великие перемены в Империи, — кончается словами: «В тени крыл Твоих, Иегова!» Слова эти приводятся на латыни — sub umbra alarum tuarum, Jehova; в то время как весь текст напечатан по-немецки. Перед нами — строка из молитвы о защите, она встречается в Псалтири несколько раз. «Храни меня, как зеницу ока; в тени крыл твоих укрой меня» (Пс. 16:8). Или: «Помилуй меня, Боже, помилуй меня; ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не прейдут беды» (Пс. 56:1). Появляясь в конце «Откровения», это молитвенное восклицание подчеркивает религиозный характер манифестов. Оно как бы накладывает на документ печать.
Тот же девиз воспроизводится (уже как зрительный образ) в ряде других розенкрейцерских публикаций, например на титульном листе сочинения «Зерцало Мудрости Розо-Крестовой» (см. илл. 15), опубликованного в 1618 г. Гравюру венчает изображение крылатого круга: в поле круга древнееврейскими письменами начертано Неизреченное Имя Божие, от которого исходят лучи, а над кругом изгибается свиток с надписью: sub umbra alarum tuarum — «в тени крыл твоих».
Розенкрейцерский девиз пародируется на одной антифридриховой гравюре, где опять обыгрывается тема «Торжествующего Орла» — Triumphierender Adler. Расположившись на верху колонны, горделивый Габсбургский Орел широко распростер свои крылья, тогда как поверженный Лев в изнеможении пал на землю. Для Льва, таким образом, Орел занял место Иеговы: Имя Божие светится теперь над Орлом и на него испускает божественные лучи. Измененные слова розенкрейцерского девиза окончательно проясняют суть этой оголтелой пропаганды: SUB UMBRA ALARUM MEARUM FLOREBIT REGNUM BOHEMIAE — «В тени крыл моих расцветет королевство Богемское».
Слева от колонны мы видим напуганных, неприкаянных сторонников Фридриха, и среди них — князя Анхальтского с подзорной трубой, устремленной на орла.
Рассмотренный лубок — еще одно подтверждение тому, что «Откровение» содержит в себе намеки на политические и религиозные цели Фридриха и его сторонников, прежде всего Кристиана Анхальтского. Значит, и манифесты, и само течение розенкрейцерства причастны были к контексту фридрихианского движения, намеревавшегося отнять Богемию у Габсбургского Орла и передать ее Льву Пфальца. Острые очи Орла, стало быть, тоже различили в «Откровении» опасные намеки, задолго до этого замеченные Либавием.
Еще одна сатира на Фридриха живописует торжество Габсбургского Орла, срывающего богемскую корону с головы поверженного Фридриха. Сторонники Орла вставляют в его крылья новые перья, на которых написаны названия городов Пфальца: Оппенхайм и т. д. Сценка — своего рода ответ на фразу из второго манифеста розенкрейцеров, «Исповедания»: «…наш путь преграждают еще некие орлиные перья…». Мол, вот вам: Фридрих не сумел ощипать Орла — напротив: Орел хвалится новым оперением, то бишь захваченными градами Пфальца.
Еще более важным свидетельством в пользу того, что враги Фридриха считали его связанным с розенкрейцерским движением, является странная сатирическая гравюра, на которой пфальцграф изображен стоящим на заглавной букве «ипсилон» (Y); смысл этой аллюзии раскрывается в стихах под рисунком. Ипсилон — пифагорейский символ, означающий развилку, то есть выбор между двумя путями: благим и пагубным. Фридрих, доказывают авторы лубка, избрал дурную дорогу, которая и привела его к краху. На дальнем плане — панорамы сражений, проигранных Фридрихом, начиная с битвы у Белой Горы на подступах к Праге (слева). Y опирается на другую букв — Z, которая в свою очередь установлена на сфере; вся композиция крайне неустойчива, хотя ее и поддерживают трое из числа ближайших наперсников Фридриха, среди них — Кристиан Брауншвейгский, однорукий вельможа (руку он потерял в недавней битве). В жизни этот человек отличался рыцарственной привязанностью к Елизавете Стюарт, экс-королеве Богемии, и преданно сражался на стороне Фридриха. Справа — фигура Сатурна с косой и песочными часами.
Текст под рисунком подробно повествует о попытке Фридриха заполучить богемский престол, отняв его у Фердинанда, и о провале этого начинания. Ближе к концу вирши упоминают «высокое общество розенкрейцеров», намекая на его связь с предприятием Фридриха. Упоминанию розенкрейцеров предшествует описание всемирной реформации, которую богемцы будто бы намеревались совершить под водительством курфюрста Пфальцского. Вот это место[150]:
Здесь всеобщая реформация мира, провозглашенная розенкрейцерскими манифестами, описывается как всемирная реформация, которую богемцы будто бы собирались осуществить под водительством курфюрста Пфальцского. Эта всеобщая реформация предполагает конкретные реформы — образовательные, церковные, правовые — и, сверх того, окрашена милленаристскими тонами: она должна возвратить мир к «состоянию Адама» или, что то же самое, к Сатурнову «золотому веку». И правда, «Исповедание», второй розенкрейцерский манифест, говорит о всеобщей реформации как о предвестии великого возвращения «истины» и «света» — они окружали Адама в раю, и Бог снова пошлет их на землю перед концом мира. Стишки же под гравюрой прямо утверждают, что наступление Тысячелетнего царства, возвращение «золотого века» Адама и Сатурна есть конечная цель «высокого общества розенкрейцеров», намеревающегося «обратить все горы в злато». Лубок, стало быть, связывает реформационное движение как таковое с «розенкрейцерским» направлением в алхимии, ибо под «златом», о котором здесь идет речь, конечно же, следует понимать не вещественный итог алхимических трансмутаций, но духовные сокровища «золотого века» и возвращения к адамической невинности.
Враги Фридриха, придумавшие сию карикатуру и стишки под нею, предоставили нам бесценное свидетельство касательно политико-религиозного аспекта программы, выдвинутой в розенкрейцерских манифестах. Программа эта носила апокалиптический характер, призывала к всемирной реформации, вслед за которой должно было последовать Тысячелетнее царство. Она к тому же была каким-то образом связана с планами тех советчиков курфюрста Пфальцского, что толкали его на богемскую авантюру. Богемцы, «обвенчавшие Пфальц с миром», тоже стремились к мировой реформации. Далее сочинитель стихов с презрением осмеивает нелепые (с его точки зрения) цели «политики Пфальца»[151]:
Из этой враждебной Фридриху сатиры мы узнаем, что «политика Пфальца» была движима далеко идущими замыслами и представляла собой, по сути, религиозное движение, выступавшее за реформу церкви и Империи. За кратким эпизодом «посягновения» Фридриха на верховенство Габсбургов в Богемии просматривается широкая перспектива европейской истории. Сочинители подобных карикатур были прекрасно осведомлены об идеологии, стоявшей за фридрихианским движением, знали и о связи последнего с розенкрейцерством; можно не сомневаться, что им также было ведомо, сколь большое воздействие оказали на розенкрейцеров идеи Джона Ди. «Иероглифическая Монада» — сочинение, несомненно повлиявшее, как было доказано выше, на розенкрейцерские манифесты, — открывается диаграммой с пифагорейским ипсилоном (Y), а в дальнейших рассуждениях эта буква толкуется как символ дилеммы, стоящей перед любым правителем: свернет ли он на проторенную дорогу «тиранства» или же встанет на прямой и узкий путь[152], коим шествуют «адепты», то есть боговдохновенные мистики. Не для того ли побежденного Фридриха изобразили стоящим на букве Y, чтобы подчеркнуть связь разгромленного движения с богемской «миссией» Ди?
Однако уничижительно-сатирическая характеристика фридрихианского движения и его целей, содержащаяся в рассмотренной нами листовке, которую распространяли враги пфальцграфа, может быть прочитана и в другом, положительном смысле. Судя по этому документу (если отвлечься от его язвительного тона), современники видели во Фридрихе религиозного вождя и реформатора — и подобное предположение вполне согласуется с визионерски-реформаторским настроем розенкрейцерских манифестов.
V. «Химическая свадьба Христиана Розенкрейца»
Возможная иконографическая параллель к сюжету из «Химической Свадьбы». Немецкая гравюра начала XVII в. Alchemie und Mystik. Hrsgb. Alexander Roob. Stuttgart, 1995.
В годы перед войной Хайдельбергский замок, обитель Пфальцского Льва и его царственной супруги, не мог не вызывать откровенного восхищения и благочестивого одобрения у одних, у других же — ожесточенной ненависти и осуждения. Как бы то ни было, игнорировать его существование было невозможно. Усовершенствований, внесенных де Ко, который достроил и модернизировал замок, наполнил его волшебными механическими статуями, водяными органами и прочими чудесами, объединявшими в себе новейшие достижения магии и науки, уже было вполне достаточно, чтобы возбудить изумленное любопытство соседей. Еще более достойными удивления должны были казаться сами обитатели крепости. Елизавета Стюарт отличалась сильным характером и яркой индивидуальностью (не стоит забывать, что бабушкой ее была Мария Шотландская). Посторонние наблюдатели не уставали поражаться страстной привязанности супругов друг к другу. Их двор разительно отличался от всех других германских дворов, а жизнь, которую они вели, со стороны представлялась романтической повестью, не менее удивительной, чем обрамлявший ее фантастический антураж. Разглядывая гравюру Мериана с видом на замок в Хайдельберге и на его сады, поневоле еще раз задаешь себе вопрос: какие последствия в Германии имело «бракосочетание Темзы и Рейна» — королевская свадьба, столь блистательно отпразднованная при яковитском дворе?
Сохранились и другие виды Хайдельберга — на эмблемах, впервые репродуцируемых в настоящей книге. Эмблемы эти заимствованы из небольшой книжки «этико-политических эмблем» Юлия Вильгельма Цинкгрефа, опубликованной Иоганном Теодором Де Бри в 1619 г. (гравюры были выполнены Маттеусом Мерианом) и посвященной курфюрсту Пфальцскому[153]. Позже мы еще вернемся к этой книжице и проанализируем ее более подробно. Пока же нас интересуют только виды Хайдельбергского замка — доподлинно отображающие действительность, поскольку гравером был Маттеус Мериан, в свое время создавший целую серию изображений замка и его садов для книги «Пфальцский Сад» и, стало быть, прекрасно знавший особенности хайдельбергского зодчества.
Первая эмблема в книге представляет собой вид на Хайдельбергский замок; слева — город, над которым высится шпиль церкви Святого Духа. На переднем плане — Лев, «сохраняющий бдительность даже во сне», как поясняют французские стихи, помещенные под эмблемой. Этот Лев — князь (курфюрст Пфальцский), охраняющий безопасность своих подданных. На другой эмблеме Лев Пфальца выглядит более воинственным; изображение замка на заднем плане позволяет составить достаточно полное представление об облике «английского крыла» с его многочисленными окнами. На третьей эмблеме замок и город показаны в более отдаленной перспективе, главное же место занимает фигура Льва, который держит отверстую книгу с девизом Semper Apertus[154].
Рассмотрение видов Хайдельбергского замка с фигурой его Властителя-Льва на переднем плане имеет прямое отношение к теме настоящей главы — в этом читатель вскоре убедится.
В 1616 г. в Страсбурге был опубликован примечательный немецкий роман (или повесть, или, если угодно, фантазия)[155], название которого можно перевести как «Химическая Свадьба Христиана Розенкрейца». Книга представляла собой третью публикацию в серии, вызвавшей «розенкрейцерский фурор». Ряд пополнялся ежегодно в течение трех лет: «Откровение» — 1614 год, «Исповедание» — 1615-й, «Свадьба» — 1616-й; при этом каждый новый документ не удовлетворял, но лишь еще более разжигал нетерпеливое любопытство тех, кто жаждал разгадки розенкрейцерской тайны. Мы, однако, уже подобрали исторический ключик к «Откровению» и «Исповеданию» — он должен помочь нам разобраться и со «Свадьбой». Роман повествует о царственной чете, обитающей в чудесном замке, полном всяческих диковин и изображений львов. Рассказ имеет аллегорический смысл, поскольку интерпретирует алхимические процессы как некий опыт мистического супружества души — опыт этот передается Христиану Розенкрейцу посредством видений, что посещают его в замке, посредством театральных представлений и инициационных церемоний (его посвящают в рыцари), наконец, посредством разъяснений, которые он получает от придворных Короля и Королевы.
Повествование делится на Семь дней, как в Книге Бытия. День первый начинается с того, что рассказчик накануне Пасхи готовится к Причащению. Сидя за столом, он обращается к своему Творцу в смиренной молитве и размышляет о множестве великих тайн, «немалую часть коих Отец светов[156] по своей милости открыл мне». Внезапно налетает бешеный ураган, и в самом средоточии вихря является сияющая Дева в ризах небесного цвета, усыпанных звездами. В деснице чудесного видения — златая труба, на ней выгравировано некое Имя, каковое повествователь (Христиан Розенкрейц) прочесть сумел, но открыть не дерзает. В левой руке Девы — связка посланий на разных языках, которые она должна доставить во все концы света. Большие крыла ее усеяны очами[157]. Паря в воздухе, вестница громко протрубила в златую трубу.
Труба, крылья, усеянные очами, и другие атрибуты Девы согласно указывают на то, что перед нами — общепринятый аллегорический образ Славы (лат. fama)[158]. Выходит, что Дева, привидевшаяся повествователю, имеет самое непосредственное отношение к «трубному гласу» первого розенкрейцерского манифеста, «Откровения» (Fama).
Вскрыв конверт, врученный ему Девой, Розенкрейц обнаружил внутри стихотворное послание. Начиналось оно так:
На поле страницы подле стихов помещен некий символ; под стихами же — подпись: Sponsus et Sponsa, «Жених и Невеста». Тот же символ, в перевернутом положении, появляется и на титульном листе книги.
Символ воспроизводит в упрощенном начертании «иероглифическую монаду» Джона Ди, на что впервые обратил внимание С.Х. Йостен[160]. Присутствие этого знака сближает «Химическую Свадьбу» со вторым розенкрейцерским манифестом, «Исповеданием», опубликованным годом раньше под одной обложкой с вводным текстом, пересказывавшим содержание «Иероглифической Монады». «Свадьба» фактически начинается со знака монады, вынесенного на поле страницы, — и это еще один, очень сильный, довод, доказующий, что «таинственнейшая философия», лежащая в основе розенкрейцерских манифестов, есть не что иное, как философия Джона Ди.
Христиан Розенкрейц принял приглашение и стал торопливо собираться на королевскую свадьбу. Он облачился в белый льняной камзол, крестообразно расположил на плечах кроваво-красную перевязь, а «к шляпе своей ‹…› прикрепил четыре алых розы». Таков был его праздничный наряд — и вообще бело-красное одеяние и красные розы на шляпе останутся характерными атрибутами Христиана Розенкрейца на протяжении всего рассказа.
День второй застает героя в пути — он поспешает на Свадьбу, наслаждаясь красотой окружающей природы. Поднявшись на холм и достигнув величественного королевского портала, Розенкрейц вступает в разговор со Стражем Врат. Тот требует Пригласительное письмо, которое наш герой, по счастью, взял с собой. На вопрос Стража, кто таков гость, следует ответ: «Брат от Креста Алой Розы». У следующих врат был прикован на цепи рыкающий Лев, но тамошний Страж отогнал его, и Розенкрейц вошел внутрь. В крепости зазвонили колокола; Страж сказал, что следует поторопиться — не то, мол, и опоздать можно. В тревоге рассказчик поспешил вослед Деве, освещавшей ему путь факелом. Как только он вошел в Третьи Врата, они захлопнулись.
Замок был великолепен; он состоял из множества покоев и лестниц и был переполнен людьми. Правда, некоторые из гостей оказались надоедливыми хвастунами. Один, к примеру, рассказывал, что ему доводилось слышать музыку движущихся небесных сфер, другой якобы видал Платоновские «идеи», третий мог исчислить атомы Демокрита. Гости вели себя слишком шумно, но все разговоры смолкли, когда в зале зазвучала прекрасная и величественная музыка. «Играли все струнные инструменты разом ‹…› настолько гармонично согласовываясь друг с другом, что я позабыл самого себя». Когда музыка прекратилась, раздались звуки труб, и вошедшая вслед за тем Дева объявила, что Жених с Невестой уже неподалеку.
Третий день начался с восхода яркого и великолепного в своей славе солнца. Вновь зазвучали трубы, созывая гостей, и опять появилась давешняя Дева. Внесли весы и взвесили всех присутствовавших[161], включая нескольких императоров, то же приглашенных на праздник. Мало кто выдержал испытание, а для некоторых эта процедура закончилась и вовсе скверно[162]. Но когда очередь дошла до Христиана Розенкрейца, который держался очень скромно и казался менее достойным, чем другие гости, один из пажей вдруг крикнул: «Это он!» А Дева, увидев розы на его шляпе, попросила подарить их ей.
В тот же день на пышном пиру Розенкрейцу предоставили почетное место. Стол был покрыт красным бархатом и уставлен драгоценными кубками из золота и серебра. Пажи преподнесли каждому из гостей по ордену с изображением «Золотого Руна» и «Летящего Льва» с тем, чтобы они впредь носили эти знаки. Тем самым Жених облекал их инсигниями ордена, что позже намеревался «подтвердить посредством подобающего торжественного обряда».
Оставшаяся часть дня была посвящена осмотру достопримечательностей замка: гости любовались Львиным фонтаном в саду, рассматривали многочисленные картины, знакомились с великолепной библиотекой, дивились драгоценным часам, имитировавшим движение небесных сфер, и огромному глобусу с нанесенными на него изображениями всех стран света. А под вечер Дева повела всех в комнату, где ничего драгоценного не было, только несколько диковинных маленьких молитвенников. Там они увидели Королеву и преклонили колена свои, дабы соборно вознести молитву о Бракосочетании сием, прося, чтобы свершилось оно во славу Божию и к их общему благу.
На Четвертый день Розенкрейц, желая освежиться, вышел поутру в сад, к фонтану, и увидал, что Лев вместо меча имеет подле себя табличку с надписью, начинающейся словами: HERMES PRINCEPS[163]. Главным событием дня стало театральное представление, показанное Королю и Королеве в присутствии всех гостей и придворных.
Эту «веселую комедию» играли «искусные и ученые мужи» на «богато убранных подмостках»; части зрителей «предоставили наверху особое место», прочие же стояли внизу «между колонн». Пьеса состояла из семи актов, и сюжет ее вкратце сводился к следующему. На берегу моря старый король находит выброшенный волнами сундук, а в нем — младенца; сопроводительное письмо объясняет, что родину дитяти захватил король мавров. В следующих актах появляется сам Мавр и похищает найденную королем девочку, успевшую к тому времени подрасти и превратиться в юную даму. Сын старого короля освобождает принцессу и обручается с ней, но девушка вскоре опять оказывается во власти Мавра. В конце концов, ее освобождают вновь, но тут в ход событий вмешивается «весьма злокозненный священник». Наконец и его могуществу наступает предел — ничто более не мешает бракосочетанию. Жених и невеста являются на сцену в великом блеске, и все присутствующие в зале восклицают: Vivat Sponsus, vivat Sponsa![164] — «таким образом они, через посредство этой комедии, благороднейшим образом поздравляют наших Короля и Королеву». В финале все голоса сливаются в единую Песнь Любви:
«Песнь» заканчивается пророчеством о потомстве любящей четы, которое будет исчисляться тысячами.
Между действиями этой «комедии» с очень простым сюжетом разыгрывались короткие интермедии на библейские темы, имевшие символический смысл. Например, на сцену вдруг являлись «четыре зверя Даниилова»[165] или «истукан Навуходоносора»[166] — это должно было настроить зрителя на восприятие спектакля как пророчества.
После представления все вернулись в замок, где и произошел весьма странный эпизод, описанный в романе со многими выразительными подробностями. Среди всеобщего скорбного молчания внесены были шесть гробов. Шестерых человек обезглавили, и тела их поместили в гробы. Позднее, на следующий день, усопшие были возвращены к жизни.
На Пятый день рассказчик, исследуя подземелье замка, внезапно оказался у двери с загадочной надписью. Открыв дверь, он обнаружил склеп, под своды которого не проникали лучи солнца; тем не менее, темно не было — внутренность помещения освещали огромные рубины. Посреди стояла гробница, украшенная удивительными изображениями и надписями.
День Шестой прошел в тяжких трудах у печей и иных алхимических приспособлений. Алхимикам удалось в итоге сотворить новую жизнь — в облике алхимической Птицы. Рождение этой Птицы и уход за ней описаны в юмористической и очень живой манере (ср. илл. 1).
На Седьмой, и Последний, день гости собрались на морском берегу, готовясь к отплытию. Их ожидало двенадцать кораблей, на которых развевались флаги с эмблемами зодиакальных созвездий. Дева сообщила, что все присутствующие избраны в число «Рыцарей Златого Камня». В последовавшем за тем великолепном шествии Христиан Розенкрейц ехал верхом рядом с Королем, и «каждый из нас держал белоснежную хоругвь с красным крестом». Шляпа Розенкрейца опять была украшена розами — его отличительным знаком. Паж зачитал по книге установления ордена Златого Камня, каковые сводились к следующему:
I. Вы, Господа Рыцари, должны присягнуть, что во всякое время будете посвящать свой Орден служению не какому бы то ни было Дьяволу или Духу, но одному только Богу, Создателю Вашему, и Служанке Его Природе.
II. И что Вы отвергнетесь всяческого распутства, невоздержанности и нечистоты и не оскверните Ваш Орден таковыми пороками.
III. И что Вы, по мере способностей Ваших, всегда будете готовы содействовать всем и каждому, кто того достоин и в том нуждается.
IV. И что не возжелаете злоупотребить оказанной Вам честью ради мирской гордыни или светских властей.
V. И что не потщитесь прожить дольше, нежели то будет угодно Господу.
После этого все они были «с подобающими церемониями посвящены в рыцари». Завершился обряд в маленькой часовне. В той же часовенке наш герой повесил свое «Златое Руно» и шляпу с розами, оставляя их на вечную память, и написал рядом собственный девиз и имя:
Summa Scientia nihil ScireFr. CHRISTIANUS ROSENCREUTZ[167].
«Химическая Свадьба» — слишком длинное сочинение, чтобы печатать его в Приложении целиком; поэтому мы решили ограничиться кратким пересказом, который поможет читателю составить хотя бы общее представление о романе.
Перед нами, по сути, алхимическая фантазия. Ее центральная тема — слияние элементов, или, выражаясь алхимическим языком, «свадьба», соединение «жениха» и «невесты». Затрагивается также и тема смерти, или nigredo[168], — состояния, через которое проходят элементы в процессе трансмутации. На гравюрах школы Михаэля Майера[169], изображающих «алхимические эмблемы» и относящихся примерно к тому же времени, что и роман, можно увидеть и «алхимическую свадьбу», и «алхимическую смерть», и образы львов и дев, которые следует понимать как символы либо зашифрованные обозначения тех или иных действий «химиков». Правильность интерпретации романа как алхимической аллегории подтверждается еще и тем обстоятельством, что, по сюжету, один из дней был целиком посвящен алхимическим трудам.
Однако эта аллегория, конечно же, имеет и духовный подтекст: она описывает процессы обновления и изменения, происходящие в человеческой душе. Алхимии всегда была свойственна подобная смысловая двойственность, но в данном произведении тема «духовной алхимии» (которая как бы открывается знаком «монады» Ди) разработана с особой утонченностью. Будущим исследователям, возможно, удастся обнаружить прямую связь между передвижениями героев романа (очерченных с математической точностью) и концепцией «Иероглифической Монады» — но этот вопрос требует особого рассмотрения.
Мы же пока отметим, что анализ манифестов, проведенный в предыдущей главе, позволяет выделить в тексте «Химической Свадьбы» несколько измененные варианты аллегорий, уже знакомых нам по «Откровению» и «Исповеданию». Так, в манифестах Христиан Розенкрейц связан с неким орденом, занимающимся благотворительностью; в «Свадьбе» — с рыцарским орденом. Розенкрейцерская Братия привержена «духовной алхимии»; то же может быть сказано и в отношении Рыцарей Златого Камня. То, чем занимаются розенкрейцерские Братья, символически воплощено в сокровищах их склепа; аналогичное символическое значение имеют и сокровища замка. Более того, в «Свадьбе» рассказывается о склепе с гробницей — читателю явно хотят напомнить о знаменитом склепе, описанном в «Откровении». Да и начинается роман с появления персонифицированной Славы, издающей призывный «трубный глас».
Сказанное не обязательно означает, что все три произведения — «Откровение», «Исповедание» и «Свадьба» — были написаны одним автором. Однако аллегорические ходы, используемые в упомянутых произведениях, настолько однотипны, что заставляют предполагать согласованную работу единомышленников, стремящихся тем или иным путем распространить миф о Христиане Розенкрейце — благодетеле рода человеческого, вокруг которого сплачиваются разные братства и ордены.
Но откуда взялось само имя этого брата? Почему его называют «Христианом Розенкрейцем»? На этот счет выдвигалось много предположений. Роза — символ алхимический; мы знаем целый ряд алхимических трактатов, названия которых начинаются со слова Rosarium — «Цветник роз». Роза — символ Девы Марии, который, однако, имеет и другой, более широкий мистико-религиозный смысл — вспомним хотя бы видение Данте или «Роман о Розе» Жана де Мена[170]. Исследователи обращали внимание и на параллели более частного характера: так, Лютер использовал розу в своей эмблеме; герб Иоганна Валентина Андреэ представлял собой сочетание креста св. Андрея с розами[171].
Символы по самой своей природе амбивалентны, а потому все вышеприведенные рассуждения должны быть учтены, все они могут оказаться необходимыми звеньями общей картины. Но давайте вернемся к тому времени, когда Иоганн Валентин Андреэ, юный студент в Тюбингене, сочинял первый вариант своей «Химической Свадьбы», находясь под свежим впечатлением от недавних взволновавших его воображение событий: церемонии облечения герцога Вюртембергского регалиями рыцаря Подвязки и гастролей английских актеров. Не герцог ли Вюртембергский — оккультист и алхимик, блистательный рыцарь ордена Подвязки — послужил прототипом образа Христиана Розенкрейца? Ведь и Розенкрейц описывается как немецкий вельможа, состоящий в некоем ордене, символами которого являются красный крест и розы — символы св. Георгия Английского и одновременно ордена Подвязки.
Некоторые мотивы «Химической Свадьбы» редакции 1616 г. тоже могут быть истолкованы как отражение юношеских впечатлений, вдохновивших Андреэ на написание первого варианта романа. Так, в дошедшей до нас второй версии подробно описываются роскошные празднества, церемония посвящения в рыцарский орден, театральное представление. Игра английских актеров, рассказывает Андреэ[172] столь сильно поразила его воображение, что он и сам начал писать пьесы — как раз в то время, когда сочинял «Химическую Свадьбу». По моему предположению, юношеские впечатления — и театральные, и связанные с пышным церемониалом ордена Подвязки — были использованы Андреэ, когда он создавал вторую версию романа (1616 г.). Христиан Розенкрейц — не только рыцарь Золотого Руна и Златого Камня[173], но еще и рыцарь Красного Креста. В пространных описаниях рыцарских праздников и инициационных церемоний то и дело всплывают намеки на орден Подвязки: Красный Крест ордена Подвязки, Красный Крест св. Георгия Английского стали неотъемлемой частью немецкой культуры, слившись с образом Христиана Розенкрейца, преобразившись в его отличительные знаки — алые розы и Красный Крест.
Один исследователь интересующего нас движения подошел, как мне думается, весьма близко к решению вопроса о происхождении имени Розенкрейц — хотя и не располагал собранным мною материалом. Я имею в виду Поля Арнольда и его книгу «История розенкрейцеров», где проводится параллель между «Химической Свадьбой» и эпизодом с Рыцарем Красного Креста из «Королевы фей» Спенсера[174]. Арнольд полагает, что аллегорические образы Рыцаря Красного Креста у Спенсера и Брата Креста Розы в «Химической Свадьбе» имеют много общего. Правда, по моему мнению, сходство не простирается далее того факта, что в обоих случаях центром аллегорических построений является рыцарь Красного или Розового Креста. Но все равно, Арнольд, пусть и окольным путем, выводит нас на правильную дорогу: сходство обоих произведений объясняется тем, что прототипом спенсеровского Рыцаря Красного Креста тоже послужили рыцари Подвязки.
Когда Фридрих Пфальцский выдвинулся на роль протестантского лидера, специалисты по пропаганде стали настойчиво подчеркивать его принадлежность к ордену Подвязки. Мы видели, как был обыгран этот мотив устроителями свадебных фейерверков в Лондоне; как он возник вновь на торжествах в Хайдельбергском замке по случаю прибытия туда молодоженов (помните, сам курфюрст разъезжал тогда на триумфальной колеснице, украшенной эмблемами обоих орденов — и Золотого Руна, и Подвязки); как, наконец, после разгрома Фридриха его враги коварно использовали в своих целях факт утери Подвязки — той самой, что якобы гарантировала курфюрст поддержку со стороны его царственного тестя.
Итак, перерабатывая первый, юношеский вариант «Химической Свадьбы», Иоганн Валентин Андреэ осовременил его, введя в текст намеки на нового высокого представителя ордена Подвязки в Германии, причастного, как мы помним, к розенкрейцерскому движению, — Фридриха Пфальцского. Теперь, как кажется, мы легко можем установить и местонахождение того замка, где разворачиваются основные события нашего странного романа. Конечно же, речь идет о Хайдельбергском замке — владении Пфальцского Льва (того, что изображен охраняющим замок на «этико-политических эмблемах», рассматривавшихся в начале этой главы). Автор «Химической Свадьбы» вводит нас в просторный замок, наполненный всякими диковинами и окруженный волшебным садом, — это и есть Хайдельбергский замок и его сад, изобилующие чудесными творениями де Ко. Описания Льва, прикованного к воротам, и великолепного Львиного фонтана в саду должны внушить мысль, что мы находимся во владениях Пфальцского Льва. Повсюду — в замке и в сад — царит оживленное движение, мы встречаем множество служащих этого богатого двора, вся жизнь которого вращается вокруг супружеской четы, Короля и Королевы, «жениха» и «невесты». Царственная пара символизирует собой «супружество» как некий мистический опыт, с одной стороны, а с другой — как алхимический процесс соединения sponsus'a и spons'u («жениха» и «невесты»), который следует интерпретировать в духовном плане. Кроме того, у этих персонажей есть и вполне конкретные исторические прототипы — курфюрст Пфальцский и его жена, Елизавета Стюарт.
Порой за сложной символикой «Химической Свадьбы» проступают черты характера и обстоятельства жизни реальной Елизаветы. Так, на Третий день гостей вводят в комнату со странными маленькими молитвенниками, где все они, преклонив колена, молятся о сем брачном союзе, дабы он послужил ко славе Господней. В этом эпизоде можно усмотреть намеки на скромную пуританскую молельню Елизаветы, на ее англиканские молитвенники, наконец, на то «божественное» значение, которое приписывалось ее свадьбе, — ведь венчание в Лондоне праздновалось столь пышно именно потому, что современники считали его событием, весьма важным «для веры».
Нам непросто понять, о чем думали государи эпохи Ренессанса, когда они создавали и украшали свои дворцы и парки, выстраивая из них как бы открытую мнемоническую систему, позволявшую, посредством сложной пространственно-образной систематизации, хранить в памяти всю энциклопедическую сумму тогдашних знаний. Нечто в подобном роде представляли собой «комнаты чудес» в пражском дворце императора Рудольфа II — и как знать, не потому ли Фридрих так заботился об обустройстве своего Хайдельберга, что видел в этом городе будущую столицу «герметической» империи? Мы не можем восстановить даже в своем воображении все те постройки и «чудеса», коими славен был Хайдельберг, однако «Химическая Свадьба» в некоторой степени проясняет для нас цели строителей — они хотели представить (в символической форме) энциклопедию всех тогдашних знаний и, может быть, создать у себя такую атмосферу, что помогала бы улавливать оккультные связи и вслушиваться во вселенские гармонии.
Вся жизнь курфюрста Пфальцского и его жены (начиная с лондонской свадьбы) была сопряжена с театром. Переехав в Пфальц, супруги не изменили своей привязанности к сценическому искусств — а потому нас не должно удивлять, что и в «Химической Свадьбе» наряду с другими занятиями гостей описано посещение театра. Гости, кажется, направляются к месту, где будет представлена пьеса, через сад, а само театральное здание называется «Домом Солнца». На гравюре Мериана с видом на замок и сад в Хайдельберге изображено любопытное строение или комплекс строений — в плане это выглядит как две закругленные амфитеатрообразные конструкции, соединенные крытыми проходами с центральным залом. Не напрашивается ли мысль, что необычное сооружение могло предназначаться для неких зрелищных мероприятий или театральных представлений?
Но все-таки главные события «Свадьбы» так или иначе, связаны с церемониями и ритуалами рыцарских орденов. Автора, мне кажется, могли вдохновлять не только первые зрелища подобного рода, увиденные им в пору юности в Штутгарте, но и более недавние события при хайдельбергском дворе. Кульминацией всего романа является сцена посвящения гостей в рыцари ордена Златого Камня, отнесенная к концу Дня седьмого, после чего гости отплывают на своих кораблях. Это место в сочинении Андреэ как будто опровергает наши догадки: место действия «Химической Свадьбы» явно не соответствует расположению Хайдельберга — уж никак не скажешь, что столица Фридриха стоит на берегу морском. Но не будем забывать, что именно в Хайдельберге триумфальные колесницы оформлялись в виде кораблей; одна гравюра из «Описания Путешествия» изображает, как пфальцграф, переодетый Ясоном, «плывет» на подобном «корабле», украшенном символами Золотого Руна и Подвязки.
Итак, целый ряд деталей согласно указывает на то, что впечатления от блистательного хайдельбергского двора направляли фантазию Андреэ, когда он писал свой замечательный роман, ставший вершиной розенкрейцерского мифа. Но, конечно, прежде всего, роман этот является созданием оригинального творческого воображения, сумевшего выразить в художественной форме чаяния розенкрейцерского движения, которому суждено было погибнуть, едва начавшись. И, что еще важнее, перед нами — творение гениального религиозного ума, которое не укладывается в узко-политические или же сектантские рамки, ибо представляет собой аллегорию духовного самосовершенствования человека, сопоставимую по интенсивности мысли и чувства с «Путем Паломника»[175] Джона Беньяна.
Но все-таки что подразумевают слова «Крест Розы», каково их происхождение? Вниманию читателя было предложено несколько гипотез на этот счет — старых и новых. В настоящей главе я высказала предположение о рыцарской этимологии имени Розенкрейц, намекающего, как мне кажется, на Красный Крест св. Георгия и ордена Подвязки и на символ Англии — розы. В предыдущей главе излагалась старинная алхимическая гипотеза, согласно которой имя образовано от латинских слов «роса» — ros и «крест» — crux (причем «крест» понимается как символ света) и несет в себе отсылку к алхимическим учениям. В подтверждение этой теории можно сослаться на то обстоятельство, что «Монада» Ди — сочинение, на титульном листе которого цитируется библейское высказывание о росе (ros), а в самом тексте знак «монады» трактуется как алхимическая форма креста, — обнаруживает, как мы постарались показать, непосредственные связи с розенкрейцерским «Исповеданием». Избегая слишком категоричных высказываний по столь сложным вопросам, я все же дерзну заметить, что две рассмотренные выше гипотезы вовсе не исключают одна другую: имя Розенкрейц может подразумевать одновременно и экзотерическое (рыцарское) толкование — «розовый крест», и эзотерическое (алхимическое) — «росный крест». Если это так, то истоки розенкрейцерства как алхимического учения следует искать в «Монаде» Ди, в самом же образе Розенкрейца явственно ощутимы «рыцарские» обертоны, да и имя его, прежде всего, ассоциируется с «Красным Крестом». Оба истока имени оказываются английскими: английская рыцарская идеология и английская алхимия, соединившись вместе, оказали сильнейшее воздействие на зарождавшееся в Германии движение «Креста-Розы» — английские символы, как мы видим, не только были «переведены» на язык немецкой культуры, но и обрели в новой среде дополнительные оттенки смысла.
VI. Пфальцский издатель Иоганн Теодор де Бри и публикация произведений Роберта Фладда и Михаэля Майера
Иоганн Теодор Де Бри (1561–1623). Р. Фладд. Амфитеатр Анатомии Франкфурт, 1623.
Кроме Андреэ и его не известных нам единомышленников, возможно, тоже внесших свою лепту в создание розенкрейцерского мифа, к главным представителям розенкрейцерской философии обычно причисляют еще двух авторов — Роберта Фладда (Флудда) и Михаэля Майера. Хотя Фладд и Майер отрицали свою принадлежность к ордену Креста-Розы, оба они, тем не менее, сочувственно и одобрительно отзывались о розенкрейцерских манифестах, а их собственные философские взгляды в целом вполне соответствовали идеям, выраженным в манифестах. Однако те новые философские подходы, которые лишь угадываются в «Откровении», «Исповедании» и «Свадьбе», выступают там как бы в замаскированном виде, у Фладда с Майером получают детальнейшую разработку — увесистыми томами этих авторов, печатавшимися на протяжении многих лет, можно заполнить целую библиотеку. В трудах Фладда мы находим наиболее полное выражение философии макрокосма и микрокосма; у Майера — блистательное рассмотрение проблем «духовной алхимии». Именно «солидность» творчества Фладда и Майера придает реальность розенкрейцерскому мифу, благодаря им розенкрейцерство обретает черты идейного течения, опирающегося на серьезную литературную базу.
А потому мы с особым удовлетворением отмечаем тот факт, что главные труды Фладда и Майера были опубликованы в Пфальце в правление Фридриха V, — это обстоятельство неожиданно подтверждает правильность избранного нами исторического подхода, определившего тематику предыдущих глав. Огромные тома написанной Робертом Фладдом «Истории Макро- и Микрокосма» издавались в Оппенхайме Иоганном Теодором Де Бри — в 1617, 1618, 1619 гг. «Убегающая Аталанта» Михаэля Майера (книга эмблем, в которой идеи «духовной алхимии» воплощены с высочайшей художественной выразительностью) тоже печаталась в Оппенхайме — в 1618 г. Оппенхайм, как мы помним, был первым городом Пфальца, который посетила Елизавета — в 1613 г., едва прибыв на свою новую родину. В честь этого события воздвигались триумфальные арки. Об одной из них, украшенной розами, мы уже говорили — она изображена на гравюре того самого Иоганна Теодора Де Бри.
Иоганн Теодор (см. илл. перед гл. VI) был сыном Теодора Де Бри, род же Де Бри происходил из Льежа[176]. Все Де Бри держались протестантской веры, поэтому, когда Льеж оказался под властью католиков, им пришлось бежать. Проскитавшись некоторое время, семья осела во Франкфурте. В конце XVI столетия Теодор Де Бри основал в этом городе процветающее издательство и граверную мастерскую. Он имел достаточно тесные связи с Англией, в частности, потому, что печатал серию книг о географических открытиях и использовал в них много английских материалов. Он часто и сам бывал в елизаветинской Англии, где его гравюры пользовались успехом. Теодор умер в 1598 г., а его заведение унаследовал сын, Иоганн Теодор. Одна из дочерей Иоганна Теодора вышла замуж за швейцарского художника и гравера Маттеуса Мериана, оказавшегося очень ценным помощником в семейном деле. Мужем другой дочери стал англичанин Уильям Фицер.
Иоганн Теодор перевел свое дело из Франкфурта в Оппенхайм «по религиозным соображениям» — так обычно объясняется его переезд, без уточнения дальнейших подробностей. Известно только, что в 1613 г. Де Бри уже жил в Оппенхайме и запечатлел на своих гравюрах праздничные декорации, подготовленные к приезду Елизаветы; этот факт дает нам основания предположить, что его устраивала религиозная политика пфальцского режима, и что он разделял надежды, возлагавшиеся на брак курфюрста с дочерью Якова I. Действительно, сохранились многочисленные свидетельства тому, что Де Бри сочувствовал пфальцскому движению. Так, например, в 1619 г. Де Бри напечатал в Оппенхайме книгу эмблем Цинкгрефа, содержавшую, среди прочего, изображения Хайдельбергского замка и его властелина — Льва, о которых мы говорили в предыдущей главе. В посвятительной надписи Цинкгреф благодарит курфюрста Пфальцского за оказанное им содействие и покровительство. Эмблемы гравировал зять Де Бри, Мериан, и среди вводных стихотворений, открывающих книгу, одно — написанное по-латыни Яном Грутером — обращено непосредственно к нему. Грутер же был хранителем Пфальцской библиотеки в Хайдельберге, то есть занимал ответственный официальный пост. В том вошли и другие стихотворные тексты, сочиненные, как сказано в книге, «сановником хайдельбергского двора». Все это показывает, что печатное заведение Де Бри было тесно связано с хайдельбергским двором. И неслучайно именно Де Бри опубликовал в 1620 г. альбом под названием «Пфальцский Сад» с гравюрами работы Мериана. Де Бри удалось в этой книге запечатлеть прославленные чудеса Хайдельберга — как раз накануне разрушившей их войны. Символично, что он же запечатлел самое начало правления Фридриха и Елизаветы — в своих гравюрах, посвященных торжественному прибытию супругов в Оппенхайм в 1613 г.
Когда в 1620 г. разразилась катастрофа и полчища Спинолы наводнили Пфальц, Де Бри был вынужден снова вернуться во Франкфурт. Спинола вступил в Оппенхайм в сентябре 1620 г. Фридрих, вновь побывавший в этом городе лишь через двенадцать лет, в 1632 г., писал Елизавете, что она не узнала бы знакомые места: половина домов сгорела, а остальное — сплошные развалины[177]. Фирма Де Бри, должно быть, успела заблаговременно вывезти большую часть печатного оборудования, судя по тому, что во Франкфурте она очень скоро возобновила свою деятельность. Однако оппенхаймский этап окончился внезапно; «Пфальцский Сад», правда, успели издать в 1620 г., но напечатан он был не в Оппенхайме, а во Франкфурте. И очередной том из серии работ Фладда, публиковавшейся фирмой Де Бри, тоже вышел во Франкфурте, в 1621 г. Изменение слова «Оппенхайм» на «Франкфурт» в выходных данных книг этой серии обычно проходит мимо внимания исследователей, кажется им чисто внешней деталью. Теперь мы видим, что «деталь» эта преисполнена подлинного трагизма.
Издание книги «этико-политических» эмблем Цинкгрефа, датированной 1619 г., по существу было актом нравственной и политической поддержки курфюрста Пфальцского. Так, одна из эмблем изображает израильтян на пути в Обетованную землю и (на переднем плане) Ковчег Завета. Тут явно содержится намек на путешествие в Прагу, предпринятое Фридрихом в 1619 г. Ради обретения богемской короны. Вообще все эмблемы имели непосредственное отношение к Фридриху — это доказывают карикатуры на пфальцграфа, выпущенные в свет после его поражения. У нас нет возможности подробно останавливаться на данном вопросе. Отметим лишь, что сочинители сатирических лубков обыгрывают отдельные элементы этих эмблем (чаще всего паутину и пчелиный улей)[178], соединяя их с образом Фридриха. Понятно, что и фирма Де Бри, печатавшая эти эмблемы, и Мериан, их гравировавший, останься они на родине после оккупации Пфальца, были бы причислены к особо опасным противникам нового режима.
Итак, в 1617–1619 гг. Де Бри не покладая рук трудился в Оппенхайме, выпуская один за другим великолепно иллюстрированные тома розенкрейцерских философов Фладда и Майера. Его позиция была вполне осознанной — он поддерживал дело, в которое верил, ради которого, собственно, и перебрался со своей типографией в Пфальц.
В те времена печатники и издатели нередко оказывались в самом центре оппозиционных религиозных течений. Мы знаем, к примеру, что великий антверпенский печатник Кристофер Плантен втайне состоял членом «Семьи Любви»[179], секты, отвергавшей основные церковные догматы и занимавшейся в основном мистическим и аллегорическим толкованием библейских текстов. К франкфуртскому печатнику Вехелю обращались за помощью — в связи с трагическими событиями Варфоломеевской ночи 1572 г. — Филип Сидни и его друзья[180]. Другой франкфуртский печатник, тоже носивший имя Вехель, приютил у себя Джордано Бруно[181], в 1590–1591 гг. издал большие латинские поэмы того же Бруно, а в 1591 г. выпустил второе издание «Иероглифической Монады» Джона Ди[182]. Иоганн Теодор Де Бри, чья семья уже давно осела во Франкфурте, связав себя с местным издательским делом, должен был прекрасно разбираться во всех подводных течениях европейской философской мысли, встречавшихся и зачастую смешивавшихся друг с другом в этом крупнейшем центре международной книжной торговли.
Оппенхаймский период издательской деятельности Де Бри совпадает по времени с годами расцвета Пфальца: блистательные союзнические связи, которые имел или приобрел Фридрих, и, главное, его женитьба на английской принцессе не просто чрезвычайно повысили в глазах современников авторитет этого государя, но внушили надежды на успех возглавлявшегося им антигабсбургского движения, к которому готовы были примкнуть многие европейские вольнодумцы.
Розенкрейцерские авторы, чьи сочинения издавал Де Бри, как бы олицетворяют собой две страны, на которые в первую очередь ориентировались пфальцские политики, — Англию и Богемию. Роберт Фладд (см. илл. 16) был англичанином, врачом парацельсовского толка, имевшим практику в Лондоне; его философские взгляды сложились под влиянием ренессансной магии и каббалы[183] — с присовокуплением Парацельсовой алхимии и учения Джона Ди[184]. Михаэль Майер (см. илл. 21), тоже врач и последователь Парацельса, сформировался как личность в весьма своеобразной атмосфере пражского двора императора Рудольфа II. Майер был личным врачом императора и пользовался его доверием[185]. В Праге философские воззрения Майера никого не удивляли: магико-научная направленность его интересов, приверженность каббале и учению Парацельса — все это вполне соответствовало духу религиозной терпимости, царившему в Богемии при императоре Рудольфе. То обстоятельство, что Майер, приверженец лютеранской веры, смог, тем не менее, стать личным врачом императора-католика, само по себе свидетельствует о либерализме Рудольфа. Философия Роберта Фладда, возможно, привлекала сторонников Фридриха уже тем, что была порождена английской культурой; Майер же продолжал традиции рудольфианской Праги, что было вполне естественно для жителя Богемии. Кристиана Анхальтского интересовали и Англия, и Богемия. Он стремился укрепить связи Пфальца с обеими странами — посредством брака курфюрста с английской принцессой и посредством выдвижения его в качестве достойной кандидатуры на роль богемского короля.
Объем материалов, вошедших в трехтомное издание «Истории Макро- и Микрокосма» Фладда, весьма значителен — очевидно, это были работы разных лет, собранные вместе и опубликованные под общим названием. То же самое можно сказать и о сочинениях Михаэля Майера, во множестве издававшихся в те годы печатными заведениями Де Бри (в Оппенхайме) и Луки Енниса (в Страсбурге) — кстати, оба издательства поддерживали между собой связь[186]. Вряд ли все эти книги создавались в такие короткие сроки — непосредственно перед их публикацией; правдоподобнее предположить, что печатались и старые работы, быть может, написанные еще тогда, когда Рудольф был жив, а Майер служил при его дворе. Что-то, однако, побудило названных издателей выпустить в свет — в сжатые сроки и в большом количестве — произведения Фладда и Майера. За этим просматривается целенаправленная политика. Видимо, нужно было быстро издать корпус материалов, созвучных пфальцскому движению. Все эти издания роскошно иллюстрированы — следовательно, на их субсидирование должны были выделяться значительные денежные суммы.
Люди, прочитавшие манифесты и желавшие войти в контакт с розенкрейцерскими Братьями, обычно пытались связаться с ними через печать. Они издавали либо обращения к ордену, либо восхищенные отзывы о его деятельности. Однако все подобные воззвания остались без ответа: Братство никак не реагировало ни на хвалебные, ни на критические высказывания в свой адрес. Загадочное поведение розенкрейцеров, которые предпочли остаться «невидимыми» после того, как сами призывали современников присоединяться к их рядам, стало темой трактата Михаэля Майера «Безмолвие после зовов» (Silentium Post Clamores).
Роберт Фладд начал свою «розенкрейцерскую карьеру» так же, как многие другие: он напечатал два сочинения, в которых выразил восхищение розенкрейцерским орденом и его программой, провозглашенной в манифестах. Эти две книжечки небольшого объема (обе на латинском языке) Фладд написал в надежде на установление связи с розенкрейцерской Братией. Первая называлась: «Краткая Апология Братства Креста Розы, смывающая и удаляющая, словно Поток правды, пятна подозрений и бесчестия»[187] (далее это сочинение будет именоваться «Апологией»), Вторая — «Апологетический Трактат, защищающий Сообщество Креста Розы В Его Целостности» (далее — «Трактат»)[188]. Обе книги были опубликованы в Лейдене Годфри Бэссоном в 1616 и 1617 гг.
Годфри Бэссон — сын Томаса Бэссона, англичанина, поселившегося в Лейдене и открывшего там печатно-издательское дело[189]. О Томасе мы знаем, что он был протеже графа Лестерского и интересовался оккультными науками. Это он опубликовал в 1597 г. «Таммуз» (Thamus) Александра Диксона (ученика Джордано Бруно), книгу, посвященную магическому искусству запоминания и в основном воспроизводящую концепцию Бруно[190].
В начале «Апологии» Фладд заявляет о своей приверженности традициям древней мудрости, каковой владели prisci theologi, «древние богословы». Высочайшим авторитетом в этой области Фладд считает «Меркурия Трисмегиста»[191], имея в виду его «Поучения» («Герметический Свод», Corpus Hermeticum) и «Изумрудную Скрижаль» (Tabula Smaragdina) — тезисное изложение философии герметизма, которое всегда было в большом почете у алхимиков. Таким образом, Фладд, желая сблизиться с розенкрейцерской Братией, выставляет себя приверженцем «египетской» философии, то есть философии герметизма, созданной, по преданию, египетским жрецом Гермесом Трисмегистом.
Далее Фладд повествует о том, как молва (или «слава» — fama) об «Откровении» Общества Креста Розы прокатилась по всей Европе, достигнув и его, Фладда, ушей[192]. Фладд не только читал оба манифеста — «Откровение» и «Исповедание», он ознакомился и с враждебным им сочинением Либавия. Этот Либавий, по словам Фладда, злобно нападает на розенкрейцерскую Братию, опускаясь в одном месте своего трактата до прямых обвинений в неповиновении властям и подстрекательстве к мятежу: Nam uno loco fratres in seditionis suspicionem adduxit[193]. Фладд не уточняет, о каком именно месте трактата идет речь, но, как мне кажется, определенно имеет в виду проделанный Либавием анализ тех отрывков из манифестов, где говорится об Империи и в которых он, Либавий, усматривает мятежные замыслы. Фладд отвергает обвинения Либавия и горячо защищает манифесты. Братья, утверждает он, суть истинные христиане, а не злокозненные колдуны или подстрекатели. Будь их помыслы дурны, разве стали бы они громогласно заявлять о них вслух? Верно, розенкрейцерские Братья, подобно лютеранам и кальвинистам, выступают против папы, но это нимало не доказывает их приверженность к ереси. Может быть, именно они — а не католическая церковь — обладают истинным божественным знанием. В заключение Фладд всерьез пытается убедить Братьев принять его в свои ряды.
Вышедший в следующем году «Трактат» начинается с таких же примерно рассуждений, что и «Апология», но на сей раз автор гораздо решительнее выступает в защиту «благой магии». Магия бывает благая и злокозненная, и следует понимать, что, отвергая или осуждая магию первого рода, «мы тем самым лишаем себя всей натуральной философии»[194]. Маги сведущи в математике, говорит Фладд и тут же приводит список известных всем магико-механических диковин, начиная с деревянного голубя Архита и кончая волшебными игрушками Роджера Бэкона, Альберта Великого и прочих[195] (перечень его почти совпадает с аналогичными списками у Агриппы, Ди, да и практически у всех остальных авторов, писавших об использовании механики в магических целях)[196]. Братья Розового Креста, продолжает Фладд, прибегают только к благим видам магии: они пользуются в основном математической и механической магией, а также магией каббалы, научающей вызывать ангелов, произнося их священные имена. Магия, каббала и астрология — в том виде, в коем их изучают розенкрейцерские Братья, — суть и научны, и святы.
Далее Фладд переходит к обозрению искусств и наук, желая доказать читателю, что и те и другие нуждаются в совершенствовании. Не только натуральная философия, алхимия, медицина, но и важнейшие из всех наук — математические — обнаруживают, по мнению Фладда, свою ущербность. Ему кажется, что розенкрейцерское «Откровение» призывает к обновлению математических наук. Похоже, он вычитал этот призыв в описании таинственной герметической пещеры и наполняющих ее диковинных приспособлений; пещера и все в ней находящееся символизируют, как полагает Фладд, конкретные математические науки, и их в первую очередь подразумевает заявленная в манифесте программа реформ, провозглашающая (в общем виде) необходимость совершенствования научных знаний[197].
В число математических наук или искусств Фладд включает геометрию, музыку, военное искусство, арифметику, алгебру и оптику; все они нуждаются в «улучшении» и реформировании. Такой набор математических дисциплин заставляет вспомнить «Предисловие к Евклиду» Джона Ди и содержащийся там обзор «витрувианского» списка, в котором на первом месте стояла архитектура. Мне уже приходилось, правда, в другом месте, писать о влиянии «Предисловия» Ди на Фладда[198]. В «Трактате» Фладд вроде бы заявляет о том, что именно перечисленные им математические искусства розенкрейцерские Братья желали реформировать и что в этом и заключается суть предложенной в манифестах программы. Подобное заявление равнозначно признанию влияния на розенкрейцеров философии Ди, а также того факта, что их мистическое движение базируется на математических знаниях и других достижениях современной науки — опять-таки в духе учения Ди. В свете обнаруженных нами данных, доказывающих влияние «Иероглифической Монады» Ди на манифесты и «Химическую Свадьбу», предположение Фладда кажется более чем правдоподобным. Продолжая далее свой обзор дисциплин, которые нуждаются в реформировании, Фладд упоминает этику, экономику, политику, юриспруденцию, теологию — все они должны быть включены в ту же программу. После этого он переходит к пророческому искусству и искусству заклятия Святого Духа и ангелов[199], считая то и другое весьма полезными для розенкрейцерского движения дисциплинами, и увенчивает свой перечень рассуждениями о чудотворных оккультных возможностях музыки.
В заключение, как и в брошюре, опубликованной годом ранее, Фладд обращается к розенкрейцерской Братии и умоляет, чтобы орден допустил его к участию в своих трудах.
Рассмотренные сочинения Фладда, призывающие к реформированию наук, на первый взгляд кажутся написанными в духе Бэкона, чей трактат «О Прогрессе Учености» и в самом деле мог в какой-то степени на них повлиять. Но только у Фладда упор делается на математику и «искусство заклятия ангелов», а это больше напоминает Ди; да и в манифестах Фладда, кажется, привлекала, прежде всего, интеллектуальная программа, составленная, как он считал, в духе Ди.
Через несколько лет, когда Фладду пришлось защищаться у себя на родине от обвинений в «розенкрейцерстве» (враги, в частности, ставили ему в упрек давешнее выступление в защиту тех «ученых и славных теософов и философов», которые называют себя «Братством Креста-Розы»), он заявил, что так и не получил ответа от розенкрейцерской Братии, хотя полагает, что их «пансофия, или универсальное знание о природе» должна быть сродни его собственным философским взглядам[200]. Это не должно нас удивлять: все вообще отклики на розенкрейцерские манифесты остались без ответа — после прозвучавших в этих документах трубных призывов навсегда воцарилась тишина. Фладд, кажется, верил в реальное существование розенкрейцерских Братьев, но признавался, что сам ни одного из них не видал.
Случай Фладда, похоже, представляет все-таки некоторое исключение из общей картины: за публикацией «Апологии» и «Трактата» последовал если не ответ, то все же некое событие — Фладду, очевидно, предложили печатать свои произведения в Пфальце, в издательстве Де Бри. Это могло означать, что его выступление в поддержку розенкрейцерской Братии и против Либавия было оценено как знак солидарности с политической линией тогдашнего пфальцского правительства.
Позже, в Англии, Фладда обвиняли еще и в том, что он печатал свои книги «за морями», поскольку из-за содержавшейся в них магии они не могли быть изданы на родине автора. В ответ Фладд цитирует письмо одного немецкого ученого, где говорится, что издатель (то есть Де Бри), прежде чем публиковать его книгу, показывал ее многим образованным мужам, в их числе даже нескольким иезуитам, — все они весьма восхищались прочитанным и рекомендовали рукопись к публикации. Правда, иезуитам не понравились разделы о геомантии[201], и они советовали их убрать[202], но издатель, кажется, этого не сделал. Фладд настойчиво внушает своим оппонентам, что ни кальвинисты, среди которых жил его издатель, ни лютеране, «кои суть его пограничные соседи», ни даже паписты не находили в его работах ничего дурного, а, напротив, весьма их хвалили. Правда, в этой убедительно звучащей фразе он забывает упомянуть о том, что иезуиты, судя по его же словам, все-таки не вполне одобрили содержание книги.
Первая из публиковавшихся в Оппенхайме работ Фладда, «История Макрокосма» 1617 г. (см. илл. 17), вышла в свет с посвящением Якову I. Посвящение это более чем знаменательно, ибо в нем Яков превозносится как Ter maximus[203] (то есть к нему прилагается эпитет Гермеса Трисмегиста), а также как «могущественнейший и мудрейший во всем мире государь». Смысл посвящения начинает проясняться только теперь, когда мы стали лучше понимать, почему книги Фладда печатались именно в Оппенхайме. Фладд и его издатель нисколько не сомневались в том, что Яков заинтересуется книгой, опубликованной во владениях его зятя. Более того, они попытались использовать авторитет этого «могущественнейшего князя» для укрепления собственной философии, приписав ему роль Гермеса. Таким образом, попав в другие германские государства или в Богемию, книга должна была бы способствовать распространению в этих странах (иллюзорного) представления о том, что зародившееся в Пфальце новое идейное течение опирается на поддержку короля Якова.
Теперь попытаемся взглянуть на ту же ситуацию с точки зрения Якова. Его зять, а также советчики и друзья этого зятя не просто пытаются втянуть его в политические действия, которые он не одобряет (в «активистскую» политику, ведущую к богемской авантюре), — они еще приписывают ему чуждые философские взгляды. Яков на дух не переносил никакой магии — это было глубинное свойство его натуры, можно сказать, невроз. Яков терпеть не мог Джона Ди, не желал его видеть[204] и, в конечном счете, удалил от двора, подвергнув своего рода ссылке. И вот теперь во владениях его собственного зятя издают пространнейший труд по герметической философии, выдержанный в духе сочинений Ди. Хуже того: подобный том выходит с посвящением, адресованным ему, Якову, и тем самым читателю дают понять, что король разделяет воззрения автора или, по крайней мере, относится к ним снисходительно. Неудивительно, что второй том «Истории Макро- и Микрокосма» вышел уже без посвящения английскому монарху, Фладд же на родине столкнулся с какими-то неприятностями — именно в связи с публикацией этого сочинения[205].
Отвечая на обвинения в том, что издавал свои книги «за морями», ибо они содержали запретные магические знания, Фладд объяснял собственные действия весьма просто: он предпочитал печататься за границей, так как издательство Де Бри могло обеспечить гораздо лучшее качество иллюстраций, нежели аналогичные английские заведения[206]. Действительно, немецким художникам удалось представить в зримой форме сложнейшие «иероглифы» Фладдовской философии. Граверы в точности следовали указаниям автора, в чем может убедиться каждый, кто сопоставит текст с иллюстрациями. Правда, нелегкий труд пфальцского издателя, взявшегося печатать творения Фладда, во многом облегчался тем обстоятельством, что между Лондоном и Пфальцем постоянно сновали гонцы, доставлявшие поселившейся в Хайдельберге английской принцессе вести с ее прежней родины.
Фладдова «История Макро- и Микрокосма»[207], или, если перевести буквально, «История Обоих Миров» (имеется в виду большой мир — макрокосм и малый мир человека — микрокосм) представляет собой попытку охватить и изложить с возможно большей ясностью целую философию, основанную на убежденности в том, что гармоничности мирового устройства соответствует гармоничность человеческой природы. Гравированные иллюстрации очень помогают в объяснении этих космических принципов. Фладдовская схема мироустройства, по сути, мало чем отличается от схем, предлагавшихся уже в раннем Ренессансе, — когда Пико делла Мирандола возродил для европейцев еврейскую каббалу, соединив ее с философией герметизма, тоже возрожденной благодаря обнаружению и использованию в трудах Фичино древних герметических текстов. Тома Фладда изобилуют цитатами из герметических сочинений в латинском переводе Фичино, а египетский бог или жрец «Меркурий Трисмегист», которому приписывается авторство этих текстов, представляется Фладду высочайшим авторитетом — что, впрочем, не мешает ему считать высочайшим авторитетом и Библию, которую он «примиряет» с герметизмом посредством каббалистических толкований книги Бытия. На Фладдовской схеме космического устройства (см. илл. 19). Иегова (представленный в образе окруженного ореолом лучей Имени Божьего, начертанного по-древнееврейски) правит небесными сферами (изображенными в виде концентрических окружностей, заполненных ангелами, звездами и «элементами»), центром которых является Человек. Все мироздание пронизано астральными связями, причем аналогии между гармониями макрокосма и микрокосма на схеме Фладда проступают гораздо отчетливее, нежели на чертежах времени Пико и Фичино. Это объясняется влиянием Парацельса, чьи медико-астральные теории расширили понимание соответствий между большим и малым мирами.
Второй том Фладда, посвященный микрокосму, содержит среди прочего важный раздел под названием «Техническая история», в котором дается обзор искусств и наук, используемых человеком. Все искусства и науки, по мнению Фладда, имеют основой своей природу, природа же в свою очередь основана на числе. Как я уже показала в «Театре мира сего», Фладд в разделе о «технике» следует концепции Джона Ди, изложенной в математическом предисловии к Евклиду. В «Предисловии» Ди настаивал на необходимости совершенствования математических наук и предлагал классифицировать их так, как это делал Витрувий (в трактате об архитектуре), то есть считать царицей математических наук архитектуру.
В целом можно сказать, что «История Макро- и Микрокосма» Фладда представляет собой компендиум ренессансной магии и каббалы — с присовокуплением Парацельсовой алхимии и дополнений, внесенных в упомянутые традиции Джоном Ди. Если согласиться с предложенной нами трактовкой розенкрейцерских манифестов, то есть рассматривать их как художественные произведения, содержащие призыв к реформации, основанной на магии, каббале и алхимии (в интерпретации Парацельса и Джона Ди), то и философию Фладда, несомненно, следует считать розенкрейцерской, понимая под последней ренессансную философию, дополненную новейшими научными достижениями. Очевидно, в Пфальце тоже полагали, что философия Фладда — розенкрейцерская, и именно потому столь активно издавали его труды.
Невозможно всерьез изучать культуру фридрихианского Пфальца, обходя стороной одного из наиболее значительных ее представителей — Соломона де Ко, автора «Пфальцского Сада», искуснейшего архитектора и механика, чьи удивительные магико-механические изобретения стали неотъемлемой частью таинственной атмосферы Хайдельбергского замка. Творчество де Ко основывалось на вере в гармоничность мироустройства — недаром он так интересовался музыкой и органами. Кроме того, де Ко был горячим приверженцем Витрувия, как явствует из его сочинения по механике «Причины движущих сил». В Пфальце труды Соломона де Ко не публиковались, за исключением «Пфальцского Сада». Но и этой единственной книги, напечатанной Иоганном Теодором Де Бри и проиллюстрированной Мерианом, вполне достаточно, чтобы причислить де Ко к кругу розенкрейцерских авторов. Да и в практической своей деятельности, как механик и садовый архитектор витрувианского толка, де Ко работал во славу хайдельбергского двора, создавая гармоничные декорации для пфальцской культуры.
Михаэль Майер родился в голштинском городке Риндсберге в 1566 г. Он удостоился ученой степени доктора медицины и жил сначала в Ростоке, а потом в Праге, где, как мы уже говорили, был личным врачом императора Рудольфа II. Спустя некоторое время после смерти Рудольфа, в 1612 г., Майер побывал в Англии и почти наверняка встречался с Робертом Фладдом, хотя мы не знаем, когда именно и при каких обстоятельствах это произошло. Первая опубликованная Майером книга — «Тайное Тайных» (Arcana Arcanissima) 1614 г.[208] — была посвящена английскому врачу сэру Уильяму Падди, другу Фладда. Судя по упоминаниям в позднейших сочинениях, Майер был знаком и с другими англичанами, например с алхимиком Фрэнсисом Энтони и с сэром Томасом Смитом.
Майер был старше Фладда, родившегося в 1574 г., и большую часть жизни провел в рудольфианской Праге. Фладд, напротив, появился на свет в тихом кентском местечке Берстед и там же был похоронен в 1637 г. Что общего могло быть между этими людьми — приверженцем немецкой имперской идеи, который жил в открытой самым разным течениям атмосфере рудольфианского двора и окончил свою жизнь в перипетиях Тридцатилетней войны (Майер бесследно исчез в Магдебурге в 1622 г., когда город был захвачен вражескими войсками), и английским врачом-философом? И все-таки сходство между ними, несомненно, имеется: и Фладд, и Майер принадлежат к числу «розенкрейцерских» философов, печатавших труды в защиту розенкрейцерской Братии, хотя оба они отрицали свою принадлежность к ордену — как, впрочем, и другие тогдашние авторы, писавшие о розенкрейцерской тайне.
Очевидными точками соприкосновения между ними должно считать и то, что оба были врачами, последователями Парацельса, и оба печатались у Иоганна Теодора Де Бри в Оппенхайме. До недавнего времени принято было думать, что именно Майер ввел Фладда в мир розенкрейцерства; согласно другой, более современной версии, все было как раз наоборот: Фладд первым увлекся розенкрейцерством и приобщил к этой идеологии Майера. Обе теории, разумеется, грешат тем, что не учитывают исторической ситуации в тогдашнем Пфальце. Не означает ли знакомство Майера с Фладдом (если принять таковое за исторический факт), а также частые поездки Майера в Англию, что этот богемский философ, подобно многим своим современникам, возлагал большие надежды на брак пфальцского государя с английской принцессой? И что от него не укрылась связь между розенкрейцерской пропагандой и политической линией «Пфальцского Льва»?
После смерти императора Рудольфа Майер стал лейб-медиком Морица, ландграфа Гессенского, — правителя, весьма близкого по своим взглядам к курфюрсту Пфальцскому. Как и Фридрих, Мориц был страстным англофилом и приверженцем алхимического мистицизма; более того, именно в его владениях — в Касселе — впервые увидели свет розенкрейцерские манифесты. Служба у ландграфа Гессенского не мешала Майеру путешествовать. В 1618 г. в предисловии к одной из своих книг он упоминает, что в данный момент находится во Франкфурте, на пути из Лондона в Прагу. А как человек, хорошо знающий и Лондон, и Прагу, он мог при случае оказаться полезным Кристиану Анхальтскому, занимавшемуся в те годы подготовкой большой богемской авантюры.
И в самом деле, какая-то связь между Майером и князем Анхальтским существовала — тому есть неоспоримые свидетельства. В 1618 г. в Оппенхайме, в издательстве Де Бри, была опубликована книга Майера, посвященная «Кристиану, князю Анхальтскому». Книга называется «О Странствиях, Сиречь о Восхождениях Семи Планет» (Viatorium, Нос est de Montions Planetarum Septem). На титульном листе (см. илл. 22) мы видим мягкое мечтательное лицо Михаэля Майера и семь человеческих фигур, символизирующих собою планеты. Книга дает достаточно полное представление об «алхимическом мистицизме» Майера и об особенностях его художественной манеры: Майер предпочитает представлять свои философские взгляды в мифологизированном обличье, пряча их под покровом поэтического вымысла. Тема книги, замаскированная мифологическим сюжетом, может быть определена как поиск истины, именуемой у Майера «философской материей» (materia philosophica). Поскольку истина эта сокрыта в тайнах природы, взыскующий ее должен следовать примеру Тесея, блуждавшего в лабиринте, то есть не выпускать из рук путеводной нити Ариадны. Изучение Майерова наследия следует начинать именно со «Странствий», потому что факт посвящения этой книги князю Анхальтскому сразу же выявляет связь между Майером с его «духовной алхимией» и окружением влиятельнейшего из советников курфюрста Пфальцского.
В том же 1618 г. в Оппенхайме, в издательстве Де Бри, выходит в свет еще одна книга Майера — и опять с великолепной гравюрой на титульном листе. Книга называется «Убегающая Аталанта»[209] (Atalanta Fugiens). Она до нынешнего дня пользуется большим спросом у коллекционеров, прежде всего из-за замечательных гравюр, иллюстрирующих трудный для понимания текст. Авторство гравюр почти наверняка принадлежит Маттеусу Мериану, хотя имя его нигде не указано.
«Убегающая Аталанта» построена как книга эмблем, сопровождаемых философскими комментариями. Гравюра на титульном листе изображает Аталанту в тот миг, когда она поддается искушению и сворачивает с беговой дорожки, тем самым лишая себя надежды на обретение духовной, нравственной и научной истины. Приверженцы «духовной алхимии» должны извлечь из этого урок: им следует быть упорными в достижении намеченных целей и сохранять чистоту помыслов. Майер сумел выразить утонченную религиозно-алхимическую философию посредством эмблем, каждая из которых может быть прочитана не только как изображение, но и как музыкальная запись[210] (ср. илл. 18).
Одна из самых поразительных эмблем изображает философа, который, держа в руке фонарь, тщательно изучает следы, оставленные Природой (см. илл. 23). Эта сцена перекликается с предисловием к одной из работ Джордано Бруно, написанным в 1588 г., когда философ посетил Прагу, и содержащим посвящение Рудольф II. В предисловии Бруно обращается к своей излюбленной теме и призывает изучать «отпечатки стоп Природы», избегая религиозных раздоров и вместо этого обращая свой слух к Природе, «которая вопиет повсюду — имеющий уши да слышит»[211]. Майер, при всей своей преданности лютеранству (Фладд, напротив, был ревностным англиканином), наверное, руководствовался теми же соображениями, что и Бруно, когда в годы ожесточенных религиозных споров, в самый канун Тридцатилетней войны, решил проповедовать свои религиозно-философские взгляды через посредство алхимической символики.
На другой эмблеме из «Убегающей Аталанты» показан философ, измеряющий с помощью циркуля некую геометрическую фигуру (см. илл. перед гл. XV). Комментарий к этой эмблеме озаглавлен: «Монада, сиречь Единица». Один современный исследователь «Аталанты»[212] предположил, что здесь подразумевается «Иероглифическая Монада» Джона Ди. Таким образом, мы снова обнаруживаем «монаду» в самом средоточии розенкрейцерской тайны — на сей раз среди эмблем Майера, который, живя долгое время в Богемии, мог именно там ознакомиться с идеями Ди.
Без сомнения, своеобразное направление алхимической мысли, воплощенное доступным для визуального восприятия способом в Майеровых эмблемах, есть то самое направление, которое критиковал Либавий, — направление розенкрейцерских манифестов и «Монады» Джона Ди. Всматриваясь, например, в ту эмблему, на которой философ собирается рассечь мечом яйцо (см. илл. 24), постепенно начинаешь понимать, что видишь на рисунке яйцо «Иероглифической Монады», символизирующее собою вселенную[213], и еще огонь, включенный, как знак Овна, в иероглиф «монады» и воплощающий суть алхимических процессов. Посмотрев же теперь на кунратовского «Алхимика», гравюру, пропагандирующую алхимическую концепцию Ди, мы заметим сходство перспективных построений на Майеровой эмблеме («декорации», в которых разыгрывается сцена с яйцом) и на рисунке Кунрата. В том и в другом случае перспективные построения символизируют, как мне кажется, архитектуру и родственные ей математические дисциплины. Но ведь рисунок с яйцом у Майера имеет еще и музыкальное сопровождение, а это значит, что на одной только этой эмблеме собраны все составные элементы «Иероглифической Монады». Мне не под силу разобраться во всех этих тонкостях, тем более я не понимаю, как собирались использовать алхимию при решении конкретных математических проблем. Но мне думается, что в эмблемах Майера зашифрованы и такого рода рекомендации, а сам Майер, может быть, по глубине мысли превосходил всех других «розенкрейцерских» философов.
Хотя Майер предпочитает выражать свои взгляды посредством разрозненных алхимических эмблем, тогда как Фладд, напротив, стремится к созданию всеохватывающих философских «энциклопедий», обоих объединяет испытанное ими влияние идей Ди и стремление опереться на наследие герметизма. Майеровский культ Гермеса Трисмегиста и «египетской» герметической истины отличается не меньшей восторженностью, чем аналогичный культ у Фладда. Фладд и Майер прежде всего философы герметизма, причем представители того направления в герметизме, которое можно охарактеризовать как «герметический ренессанс». К началу XVII века герметизм, возрожденный к жизни в эпоху раннего Ренессанса, отчасти уже утратил свою привлекательность. Исаак Казобон[214] доказывал, что герметическая традиция восходит ко времени после рождества Христова, а потому ее основоположником никак нельзя считать древнеегипетского жреца Гермеса Трисмегиста[215]. Кстати, это свое сочинение, опубликованное в 1614 г., Казобон посвятил Якову I — что вроде бы позволяет отнести английского государя к лагерю противников герметизма, воспринимавших «псевдоегиптианизм» Фладда и Майера как совершенно чуждое себе явление.
В данном исследовании я не имею возможности подробно рассмотреть, или хотя бы только перечислить, все сочинения Михаэля Майера, опубликованные между 1614 и 1620 гг. Поэтому я просто попытаюсь представить вниманию читателя еще несколько работ, выбранных почти наугад из этого обширного и богатого по содержанию комплекса материалов.
Книга Майера «Серьезная игра» (Lusus serius) была напечатана Лукой Еннисом в Оппенхайме в 1616 г. Еннис подготовил и второе ее издание — в том же Оппенхайме, в 1618 г. Именно в предисловии к этой книге Майер сообщал, что находится в данный момент во Франкфурте, на пути из Лондона в Прагу. Книга открывается тремя посвящениями: Фрэнсису Энтони, «англичанину из Лондона», известному врачу и последователю Парацельса[216], Якобу Мозану, чиновнику на службе ландграфа Гессенского, и Кристиану Румфию, лейб-медику курфюрста Пфальцского. Обращение Майера именно к этим лицам показывает, что круг его друзей включал в основном медиков-парацельсистов, живших в Лондоне и в Германии, при дворах ландграфа Гессенского и курфюрста Пфальцского.
Андреэ, наверное, определил бы жанр «Серьезной игры» словечком ludibrium. Сочинение представляет собой короткую аллегорию с незамысловатым сюжетом: корова, овца и ряд других персонажей спорят о том, кто из них главнее. В конце концов, победа достается Гермесу Трисмегист — после того, как он произносит целую речь, восхваляя собственную миротворческую деятельность и доказывая полезность занятий, которыми он руководит (в числе других — медицины и механики). На первый взгляд эта история кажется откровенной глупостью, однако в кругах, где вращался Майер, в ней наверняка находили какой-то сокровенный смысл. Майер написал еще одну герметическую вещицу в таком же роде — «Суровую шутку» (Jocus severus), аллегорию о ночных птицах. Впервые она была опубликована задолго до интересующих нас событий, в 1597 г., во Франкфурте, Де Бри старшим. В 1616 г. во Франкфурте вышло второе издание этой книги — с предисловием, обращенным «ко всем алхимикам Германии» и содержащим явные намеки на розенкрейцерские манифесты. Сказанного вполне достаточно, чтобы мы осознали, насколько похожи в своей манере шутить Майер и авторы розенкрейцерских манифестов.
В «Златом Алтарном Приношении»[217], книге, опубликованной во Франкфурте Лукой Еннисом в 1617 г., Майер превозносит величие «химии», все ведение премудрого Гермеса, царя Египетского, и святость «Девы» или «Королевы» Алхимии. Венчает сочинение герметический гимн обновлению. Вообще вся книга написана в духе интенсивного герметического мистицизма и во многом напоминает подход к герметико-религиозной тематике у Джордано Бруно — правда, в отличие от последнего, Майер гораздо шире использует алхимические образы. В «Златом Алтарном Приношении» упоминается и розенкрейцерское Братство — в довольно длинном, но слишком туманном рассуждении, из которого трудно извлечь конкретную информацию.
Майер, вполне вероятно, испытал на себе влияние обеих традиций — и Бруно, и Ди. Бруно, как известно, заявлял о том, что основал среди лютеран секту «джорданистов»[218]. Майер был лютеранином; возглавлявшееся им герметическое религиозное движение, возможно, было связано с лютеранскими кругами, испытавшими на себе влияние идей Бруно, и стремилось осуществить герметическую реформу религии — в духе Бруно, призывавшего оживить религиозную жизнь, влив в нее герметическую струю. С другой стороны, ярко выраженная алхимическая направленность майеровского движения доказывает, что главным его вдохновителем был все-таки Джон Ди. По-видимому, в пфальцском движении сторонников герметической реформы смешались воедино две герметические традиции — традиция Ди и традиция Бруно.
«Безмолвие После Зовов» (Silentium Post Clamores) и «Златая Фемида» (Themis Aurea) — сочинения Майера, опубликованные во Франкфурте Лукой Еннисом в 1617 и 1618 гг., — отражают все общее лихорадочное возбуждение, вызванное недавними публикациями розенкрейцерских манифестов. Высказываясь по поводу розенкрейцерской Братии и ее деятельности, Майер затрагивал тему, возбуждавшую у его современников жадное любопытство. Создается, однако, впечатление, что Майер в обоих сочинениях открывает читателю лишь часть известной ему информации, сознательно утаивая остальное. Он, например, утверждает в той и другой книге, что розенкрейцерское Братство доподлинно существует, оно — не мистификация, как думают многие. Однако откуда берется такая уверенность? Ведь в другом месте Майер отрицает свою принадлежность к Братству и заверяет всех, что, будучи человеком незначительным, даже и доступа не имеет к столь возвышенным существам.
В «Безмолвии После Зовов» Майер защищает розенкрейцерских Братьев от клеветнических нападок и пытается объяснить, почему они не обнаруживают своего присутствия, хотя такое множество людей жаждет вступить в общение с ними. По его словам, авторы «Откровения» и «Исповедания» исполнили свой долг перед человечеством уже тем, что опубликовали эти трактаты; на клевету же они предпочитают отвечать молчанием, а не бесконечными самооправданиями. Майер торопится добавить, что вовсе не думает, будто розенкрейцерское Братство нуждается в защите со стороны столь незначительного лица, как он. Члены Братства праведны и благочестивы, цели у них благие, и они не нуждаются ни в ком. Розенкрейцерское общество, наряду с религиозными и благотворительными делами, занимается исследованием природы. Природа еще и наполовину не раскрыла свои тайны, говорит Майер; причина тому — недостаточное использование экспериментов и опытных изысканий[219]. В последней фразе чувствуется влияние Бэкона, можно даже сказать, конкретного труда Бэкона — «О Прогрессе Учености»; и это для нас очень важно. Знакомство Германии с идеями Бэкона состоялось главным образом благодаря курфюрсту Пфальцскому, женившемуся на английской принцессе, а также благодаря всякого рода посланцам, которые, подобно Майеру, совершали регулярные поездки в Англию и обратно.
В «Златой Фемиде»[220] (английский перевод этого сочинения, вышедший в 1652 г., посвящен Элайасу Ашмолу) Майер задается целью обрисовать структуру розенкрейцерского сообщества и характер правящих в нем законов. К сожалению, говоря об установлениях розенкрейцеров, он лишь пересказывает общеизвестные сведения, содержавшиеся уже в «Откровении»: Братья занимаются исцелением больных, собираются единожды в год все вместе, и так далее. И на этот раз Майер как бы поддразнивает читателя, одновременно делясь с ним своими познаниями и утаивая их. Однако он со всей определенностью заявляет, что описываемое им общество доподлинно существует; а люди, знавшие, с кем Майер водил знакомство и в какие круги был вхож, могли, быть может, извлечь из его намеков и более точные указания. Вот, к примеру, отрывок, в котором Майер, как кажется, зашифровал сообщение о месте встреч розенкрейцеров[221]:
Несколько раз наблюдал я Олимпийские Чертоги неподалеку от реки и видал город, который по-нашему именуется градом Святого Духа, — я говорю о Геликоне или Парнасе, в коем Пегас открыл источник изобильных струй: в них совершала свои омовения Диана, и была у нее Венера в служанках, а Сатурн — в привратниках. Сего довольно, чтобы вразумить осведомленного читателя, невежественного же — еще более сбить с толку.
«Парнас», «Пегас»… — все это, конечно, обычные отсылки к античной мифологии, из которых мало что можно извлечь. Упоминание же города на реке, носящего имя Святого Духа, вообще можно истолковать как угодно. С другой стороны, ведь и Хайдельберг расположен на реке, главный собор этого города назывался собором Св. Духа, а в княжеском саду был дивный фонтан «Парнас». Если читать Майера, хорошо представляя себе обстановку в тогдашнем Хайдельберге и содержание «Химической Свадьбы», постепенно укрепляешься в мысли, что Майер, как и Андреэ, намекает на Хайдельберг; более того, даже некоторые Майеровы эмблемы отражают впечатления их создателя от символических сооружений в «Пфальцском Саду». Сравним, к примеру, хайдельбергский грот работы де Ко (тот, в котором находится фонтан, украшенный кораллами) и очаровательную эмблему Майера с изображением человека, пытающегося достать коралл, то есть, как разъясняется в комментарии к рисунку, философский камень.
Представляет интерес и другое место в «Златой Фемиде» (кстати, подтверждающее некоторые наши предположения), где о розенкрейцерском Братстве говорится как о рыцарском ордене, и его эмблема сравнивается с инсигниями других орденов — с крестом Мальтийских Рыцарей, с «руном» ордена Золотого Руна, с «подвязкой» ордена Подвязки. Эти рассуждения стоило бы сопоставить с аллюзиями на рыцарские ордена в «Химической Свадьбе». Сравнение розенкрейцерского ордена с другими орденами Майер завершает неожиданным для нас выводом: эмблемой Братства не следует считать ни мальтийский крест, ни «руно», ни «подвязку», но только литеры R.C. Сами же литеры он интерпретирует как-то странно: R., по его мнению, обозначает «Пегаса», а C. — «Юлия»[222] (Майер никак не объясняет, почему это так). Засим следует вопрос: «Не коготь ли это Льва Розы?»[223]. Я с удовлетворением привожу здесь это заявление, важность которого ничуть не умаляет даже приданная ему вопросительная форма!
В другой книге, «Истинное Открытие» (Verum Inventum), опубликованной во Франкфурте Лукой Еннисом в 1619 г. (с посвящением ландграфу Гессенскому), Майер, как кажется, дал выход своему патриотическому чувству. Он рассуждает об истории Империи (в том аспекте, который касается германских дел), превозносит «сокровища немецкой учености» (упоминая, к примеру, богатые собрания рукописных книг, хранящиеся в библиотеках, подобных хайдельбергской), восхваляет Мартина Лютера и его стойкость в борении с «Римским тираном», заявляет, что горячо желает возврата к установлениям ранне-христианской церкви, и, наконец, возвеличивает Парацельса, «коему последовали многие тысячи докторов во всех странах»[224].
Вот мы и добрались до 1620 года. В том году Лука Еннис напечатал во Франкфурте еще одну книгу Майера, «Философическую Седмицу» (Septimana Philosophica). В ней излагается содержание бесед между Соломоном, царицей Савской и Хирамом, царем Тира, причем персонажи эти затрагивают самые разнообразные мистические темы, включая и тему Розы[225].
Все странные публикации Михаэля Майера укладываются, как мы видим, в определенный временной промежуток. Началом этого промежутка является 1614 г.: таким образом, первая книга серии вышла уже через год после свадьбы Фридриха и Елизаветы. Концом же периода публикаций следует считать 1620 г. (хотя было еще одно, более позднее, издание) — год скоротечного правления Фридриха и Елизаветы в Праге. Произведения Майера проникнуты герметическим мистицизмом особого рода, основанным на герметическом или «египетском» толковании сказок и мифов, якобы заключающих в себе сокровенные алхимические и «египетские» смыслы. Другой характерной особенностью сочинений Майера можно считать обильное использование в них алхимической символики. Наилучший пример подобного подхода — «Убегающая Аталанта», книга, предполагающая наличие высокообразованной и утонченной читательской среды, для которой алхимия являлась бы воплощением более широкого религиозно-интеллектуального движения, весьма значимого и потому привлекающего к себе всеобщий интерес.
Теперь представляется вполне очевидным, что временной «график» религиозно-интеллектуального движения, выразителем которого был Майер, совпадает с «графиком» фридрихианско-елизаветинского движения, датируемого промежутком от года королевской свадьбы по роковой «богемский» год включительно. Иными словами, речь идет об одном и том же — фридрихианском — движении, просто Майер в силу своих герметических интересов занимался в основном религиозными и интеллектуальными проблемами. Впрочем, обращение Майера к Кристиану Анхальтскому в предисловии к одной из его книг позволяет предполагать, что он оказывал этому сановнику услуги и политического рода — помогал в налаживании связей между Англией, Германией и Богемией, что было частью подготовки к возведению Фридриха и Елизаветы на богемский престол.
Для Майера герметизм был сильнейшим религиозным импульсом — как, в конце шестнадцатого столетия, и для Джордано Бруно. Но только у Майера приверженность герметизму сочеталась с лютеранской набожностью — комбинация вполне естественная в немецкой лютеранской среде, если признать, что учение Бруно успело к тому времени достаточно в ней укорениться.
Майер остался верным герметизму даже после катастрофы 1620 г. Последним его произведением, похоже, следует считать «Премудрые песнопения о возрождающемся Фениксе» (Cantilenae intellectuelles de Phoenice redivivo)[226]. «Песнопения» были посвящены Фридриху, принцу Норвежскому, и датированы 23 августа 1622 г., Росток. Сочинение это стало лебединой, или, лучше сказать, «фениксовой» песней Майера: в нем содержится пророчество о возрождении Феникса — «герметической» египетской птицы, чье верховенство над прочими пернатыми прославлялось уже в одной из ранних «шуток» Майера. Во вступлении к «фениксовой песне», обращаясь к принцу Норвежскому, Майер говорит, что посвятил свою жизнь не написанию сложных трудов по герметической символике (как ни странно, он их даже не упоминает), но — математическим штудиям.
Один молодой богемский алхимик, бежавший от ужасов, происходивших у него на родине после 1620 г., в знак преклонения перед памятью Михаэля Майера решил переиздать его сочинения, используя для этого печатные формы первых выпусков. Этого молодого богемца звали Даниэль Штольк, или, на латинский манер, Стольций. Он заканчивал курс медицины в Пражском университете, в 1621 г. перебрался в Марбург, где опять записался в университет, а оттуда отправился во Франкфурт, так как хотел встретиться с Лукой Еннисом. Еннис показал ему сохранившиеся доски гравюр для недавно отпечатанных алхимических книг, главным образом авторства Майера, и Стольций согласился подготовить новое сводное издание этих гравюр[227]. В итоге появилась книга «Химический Цветник» (Viridarium Chemicum), опубликованная Лукой Еннисом во Франкфурте в 1624 г.[228] Предисловие Стольция помечено: 1623 г., Оксфорд. В Англии богемский изгнанник нашел наконец прибежище — как и многие его соотечественники. В предисловии Стольций рассказывает, что в последние годы чувствовал себя несчастным, но часто смягчал боль утраты родины, переносясь воображением в «химический цветник», теперь же от всей души желает предложить то же утешение и своим обездоленным землякам. Он явно питает надежду, что книга его попадет в многострадальную Богемию. В своих скитаниях по другим странам Стольций, как он говорит, более всего печалится о бедствиях, обрушившихся на его родину, и о войне, отголоски которой повсюду достигают его слуха. Единственное спасение от грустных мыслей — «химический цветник»[229]:
Посему, добрый читатель, да возымеешь ты пользу и удовольствие в сих (эмблемах) так, как это тебе более всего по душе, и да будет гуляние твое в моем цветнике приятным. И благодари светлой памяти преславнейшего и ученейшего мужа Михаэля Майера, наидостойнейшего доктора физики и медицины, за часть иллюстраций; а мастера Иоанна Милия, усердного химика, — за остальное.
В этой книге перепечатаны многие эмблемы Майера — с первоначальных форм, сохраненных Еннисом, а также немало эмблем Милия, взятых из издания 1622 г. Милий был учеником Майера и, очевидно, горячо сочувствовал его дел — во всяком случае, в предисловии к одной из своих книг он называет 1620-й «зловещим годом, принесшим столько несчастий, что от пролитых людьми слез обрушились небеса»[230].
Судьба Стольция — как бы последнее звено в цепи фактов, доказующих связь между почитателями алхимических эмблем, группировавшимися вокруг Майера, и другим, более политизированным, «богемским», ответвлением того же движения, пришедшим к столь плачевному концу в 1620 г. Беженец из Богемии, Стольций спешит встретиться с Лукой Еннисом, чтобы воплотить свое благоговение перед памятью Майера в посмертное сводное издание его эмблем. «Химический Цветник» открывается серией эмблем, представляющих соединение sponsus'a и spons'ы («жениха» и «невесты»): их брак символизирует слияние элементов в алхимических процессах. Любопытно, что на первой картинке с изображением такой «химической свадьбы» — она, кстати, является самой первой иллюстрацией в книге[231] — алхимические «жених» и «невеста» имеют явное сходство с Фридрихом и Елизаветой, какими они были запечатлены на лубке «Четыре льва» (см. илл. 3), напечатанном в Праге по случаю их коронации.
Настоящий обзор творчества Фладда и Майера имел целью показать, что оба розенкрейцерских философа были неразрывно связаны с фридрихианским движением в Пфальце. Оба они печатались у пфальцского издателя Де Бри (правда, труды Майера публиковал также и Еннис, но последний работал в контакте с фирмой Де Бри). Мы обнаруживаем, таким образом, что печатники и издатели играли значительную роль в этом движении. Мы видим, далее, что английская герметическая философия, представленная сочинения ми Фладда, сознательно пропагандировалась в Пфальце — как, впрочем, и «алхимический символизм» Майера, интерес к которому был, возможно, обусловлен желанием укрепить связи с Богемией, и особенно с Прагой, главным европейским центром алхимических штудий. В то время как кажется, правители Пфальца сознательно поддерживали новые идейные направления, которые могли бы оправдать и соединить две стоявшие перед ними задачи — поддержания дружеских отношений с Англией и экспансии в Богемию. Ясно одно: богемская авантюра курфюрста Пфальцского вовсе не была обусловлена, как полагало большинство исследователей этой проблемы, ни сиюминутными политическими расчетами, ни ложными амбициями. На самом деле под поверхностью этого движения скрывались весьма серьезные цели.
Дело в том, что в Пфальце формировалась культура, продолжавшая традиции Возрождения, но впитавшая в себя достижения новейшей мысли, — мы могли бы определить эту культуру термином «розенкрейцерская». Центром притяжения для различных, постепенно сливавшихся воедино течений стал тогдашний правитель Пфальца — курфюрст Фридрих. Носители этой новой культуры связывали свои политические и религиозные ожидания с движением, готовившим богемскую авантюру. Как я теперь начинаю понимать, князь Анхальтский, развернувший пропагандистскую кампанию в поддержку Фридриха, был готов использовать в своих целях все таинственные идейные течения последних лет, возникавшие вокруг таких фигур, как Филип Сидни, Джон Ди и Джордано Бруно. Фридрихианское движение, разумеется, никак не могло быть причиной этих глубинных идейных течений и вовсе не представляло собой их единственного «реального» воплощения. Но организаторы фридрихианского движения попытались придать этим течениям политико-религиозную форму, осуществить идеал герметической реформы силами конкретного государя. Движение впитало в себя многие разрозненные течения: английские учения (философия Ди и мистическая рыцарская идеология) слились в один поток с различными направлениями германского мистицизма. Предполагалось, что новая алхимия сгладит религиозные различия, и был даже найден символ будущего единения — «химическая свадьба», многоплановый образ, заключавший в себе, среди прочего, и намек на «бракосочетание Темзы и Рейна». Теперь мы знаем, что фридрихианское движение было обречено на ужасный провал, что ему суждено было сгинуть в бездне Тридцатилетней войны. Но до этого оно сумело создать особую культуру: «розенкрейцерское» государство с его хайдельбергским двором, философскую литературу, публиковавшуюся в пределах этого государства, своеобразные произведения изобразительно-декоративного искусства — алхимические эмблемы школы Майера и творения Соломона де Ко.
VII. «Розенкрейцерский фурор» в Германии
«Незримая Коллегия» Розенкрейцерского Братства. Т. Швайгхардт, Зерцало Мудрости Розо-Крестовой. 1618.
Волна «розенкрейцерского фурора», захлестнувшая Германию сразу же после того, как прозвучали «трубные гласы» манифестов, очень скоро превратилась в мутный поток — слишком многие пытались присоединиться к ней, даже не понимая, что, собственно, происходит. Одних привлекала заманчивая возможность установления связи с таинственными лицами, обладавшими, как им казалось, высшими знаниями или беспредельным могуществом; другие же были раздражены или встревожены мнимыми успехами тех, кого они считали опасными колдунами и подстрекателями. Майер воспринял манифесты как обращение ко всем «химикам» Германии[232]; возможно, он имел в виду мистиков-парацельсистов или же всех тех, кто так или иначе пытался обрести путь к «просвещению». Лица, ответственные за публикацию манифестов, скорее всего, разделяли его мнение и, наверное, были удивлены, даже встревожены произведенным эффектом — тем нездоровым общественным возбуждением, что последовало в ответ на призыв так называемых розенкрейцерских братьев поддержать начатое ими движение.
Бурная общественная реакция, прежде всего, была вызвана появлением «Откровения» и «Исповедания»; авторство же этих сочинений, хотя они и написаны в духе розенкрейцерской мифологии, изложенной в «Химической Свадьбе», вовсе не обязательно принадлежит самому Андреэ. Я не буду пытаться устанавливать личности тех авторов, что могли сотрудничать с Андреэ в деле розенкрейцерской пропаганды. На этот счет уже высказывалось множество предположений, частью очевидно бьющих мимо цели, частью — заслуживающих детального рассмотрения. К последним относится гипотеза об Иоахиме Юнгии, известном математике, которым восхищался Лейбниц. Предположение о том, что розенкрейцерские манифесты сочинил Юнгий, было высказано еще в 1698 г. — человеком[233], который будто бы получил соответствующие сведения от одного из придворных, сопровождавших королевскую чету в изгнании. Сегодня версия об авторстве Юнгия представляется достаточно правдоподобной. Теперь мы знаем, что розенкрейцерский миф был своего рода «магической притчей» и что создание подобных «притч» (вспомним хотя бы «Иероглифическую Монаду» Джона Ди) требовало от автора очень серьезной научной работы, в частности в области математики. А значит, в написании манифестов вполне могли участвовать крупные ученые, такие, как Юнгий. Однако любые категоричные высказывания на этот счет должны считаться преждевременными — ведь предстоит еще немалая работа по изучению исторического фона розенкрейцерства, конкретных обстоятельств, обусловивших появление этого феномена. Тем более что после захвата Хайдельберга вражескими войсками происходило массовое уничтожение книг и документов, и многие важные свидетельства могли быть безвозвратно утрачены. Возможно, та ниточка, за которую в первую очередь стоит зацепиться, связана с Яном Грутером, хранителем Пфальцской библиотеки, поддерживавшим обширную международную переписку.
Сама длительность «розенкрейцерского фурора», то есть того временного отрезка, когда издавался поток литературных откликов на манифесты, свидетельствует в пользу предположения о связи манифестов с фридрихианским движением: весь поток этот внезапно иссяк в 1620 г., в момент краха богемского предприятия, вражеской оккупации Пфальца и гибели хайдельбергского двора.
Чтобы разобраться в огромном по объему и чрезвычайно запутанном комплексе публикаций времени «розенкрейцерского фурора», необходимо, прежде всего, расчистить «рабочую площадку», и здесь потребуются усилия профессиональных библиографов. Им предстоит каталогизировать даты и места изданий, эмблемы книгопечатников, сведения о сортах бумаги и т. п. — только тогда мы получим более полную картину движения и разрешим многие загадки, связанные с анонимными публикациями и использованием псевдонимов[234]. Все перечисленные проблемы с точки зрения исторической науки представляют собой сплошную целину, практически не затронутую современными исследователями, так как до недавнего времени их не считали заслуживающими серьезного изучения. Работая над настоящей главой, я не ставила перед собой задачу сколько-нибудь далеко продвинуться в освоении этой «целины», но собиралась лишь представить вниманию читателей краткий обзор литературы «розенкрейцерского фурора» (за вычетом произведений Фладда и Майера, рассмотренных в предыдущей главе).
Авторами большинства публикаций были простодушные люди, часто подписывавшиеся одними инициалами, которые в своих обращениях к розенкрейцерским Братьям выражали восхищение деятельностью ордена и просили позволения присоединиться к его рядам. Другие издавали более пространные сочинения, посвященные розенкрейцерам, рассчитывая привлечь к себе благосклонное внимание последних. Далее следует упомянуть открытых врагов ордена, его «хулителей», обвинявших Братьев в нечестивости, колдовстве или в прямом подстрекательстве к неповиновению властям. С одним из таких критиков — Либавием — мы уже встречались. Другие, еще более суровые критики скрывались под псевдонимами «Менапий» и «Ирений Агност»[235].
Наибольший интерес представляют печатные выступления тех, кто, как представляется, располагал достаточно полной информацией о розенкрейцерском движении или даже сам участвовал в нем, знал его изнутри. Обычно именно такие загадочные личности прибегали к псевдонимам. В дальнейшем я намерена сосредоточиться на розенкрейцерских публикациях последнего типа, отобрав те, что кажутся наиболее значительными, — чтобы узнать, если это возможно, что-то новое о движении от людей, с ним знакомых. Я сознательно оставляю без внимания безбрежный поток сочинений «аутсайдеров» — ясно, что эти не знали ничего, кроме сведений, извлеченных ими из самих манифестов.
Теофил Швайгхардт[236] опубликовал в 1618 г., не указав ни места издания, ни имени издателя, труд под следующим заглавием: «Зерцало Мудрости Розо-Крестовой, Сиречь Новейшее Откровение о Коллегии и аксиомах весьма просвещенного Братства Христова Креста Розы»[237]. Перед нами типичный образец розенкрейцерского заглавия, написанного на характерной смеси латинского и немецкого языков. В этой работе Теофил Швайгхардт (под псевдонимом вполне может скрываться некто Даниэль Меглинг, или автор, называвший себя «Флорентином Валенсийским», или даже сам Андреэ) восторженно отзывается о «пансофии» Братства и трех направлениях его деятельности: 1) божественно-магическом, 2) физическом, или «химическом» и 3) «трижды триеди-триедином», или религиозно-кафолическом. Он рассказывает, что розенкрейцерские Братья веруют в «божественного Илию» (намек на Парацельса и его пророчество о пришествии Илии), имеют свои «коллегии» с большими библиотеками и особенно почитают труды Фомы Кемпийского[238], находя в этих творениях христианского мистического благочестия подлинные «магналии»[239], окончательное объяснение тайны взаимосвязи макро- и микрокосма[240].
«Зерцало» — типичный образец публикаций такого рода — написано в духе «пансофической» философии макрокосма и микрокосма, впитавшей в себя традиции магии, каббалы и алхимии, придающей большое значение просветительской и научной деятельности, профетической по своей направленности и отличающейся строгим пиетизмом.
Хранящийся в Британском музее экземпляр «Зерцала» переплетен в один том с очень любопытной подборкой гравюр и рисунков. Одно из этих изображений имеет прямое отношение к розенкрейцерскому «Откровению». Мне известна другая копия той же гравюры[241], так что, надо думать, гравюра издавалась и сама по себе, независимо от «Зерцала».
На гравюре (см. илл. перед гл. VII) мы видим какое-то странное здание, а над ним — надпись со словами Collegium Fraternitatis[242] и Fama[243], а также дату: 1618 г. На стене здания, по обеим сторонам от двери, — роза и крест. Исходя из этого, можно предположить, что перед нами — изображение Незримой Коллегии розенкрейцерской Братии. Крылатое имя Иеговы заставляет вспомнить еще один важнейший розенкрейцерский символ — слова, завершающие «Откровение»: «Под сенью крыл Твоих, Иегова». В небесах, по правую и по левую руку от крылатого Имени Божия, изображены Змееносец и Лебедь, каждый со своею звездой. Это явный намек на «новые звезды» в созвездиях Змееносца и Лебедя, упоминаемые в «Исповедании» как знамения грядущей новой эпохи.
Длань, простирающаяся из облака, окутывающего Божественное Имя, удерживает здание как бы на некоей нити, само же строение имеет пару крыл, да еще и водружено на колеса. Означает ли это, что крылатая, передвижная Коллегия Братства Креста Розы пребывает, подобно Утопии, в Нигде, оставаясь невидимой именно потому, что не существует в буквальном смысле? Коллегию Креста Розы защищают три персонажа[244], занимающих ее угловые башни. На их щитах начертано Имя Божие, и они потрясают каким-то оружием (?), напоминающим птичьи перья. Не являются ли эти персонажи ангелами, охраняющими тех, кто пребывает «в тени крыл»?
Из одной стены здания выдвинута труба, под которой читаются инициалы C.R.F., означающие, вероятно, Christian Rosencreutz Frater («Брат Христиан Розенкрейц») — о нем и возглашали «трубы» манифестов. Из другой стены тянется рука, сжимающая меч, и рядом обозначение: «Юл. Кемпийский». Юлиан Кемпийский упоминается в «Зерцале», а его послание в защиту розенкрейцерской Братии было опубликовано в одном томе с манифестами в кассельском издании 1616 г. Возможно, поэтому на нашей гравюре именно он размахивает мечом, защищая от врагов Незримую Коллегию. Подле руки на стене выписаны слова: Jesus nobis omnia («Иисус для нас — все»); этот девиз упоминался в «Откровении», и, кроме того, он заключает в себе одну из главных идей «Зерцала»: истинный путь к постижению тайны макро- и микрокосма ведет через «подражание» Христ — понимаемое в духе учения Фомы Кемпийского. Вокруг здания изображено несколько пар крыл, одна из них подписана инициалами T.S., возможно, подразумевающими Теофила Швайгхардта, предполагаемого автора «Зерцала».
Коленопреклоненная фигура на переднем плане справа горячо молится, обращаясь прямо к Божественному Имени. За окнами хранимой ангелами Коллегии видны фигуры людей, вроде бы углубленных в научные штудии. За одним окном явственно различим ученый(?), занятый какой-то работой, за другим — некие научные приборы. Все это — символы науки; что же касается коленопреклоненной молящейся фигуры, то она, на мой взгляд, выражает некий принципиальный подход к научным, «ангелологическим» и «божественным» изысканиям, более всего напоминающий взгляды Джона Ди.
Далее читатель может сам попрактиковаться в разгадывании тайных смыслов этой гравюры, без сомнения пропагандирующей — в эмблематической форме — идеологию розенкрейцерского «Откровения». Гравюра как бы втягивает нас в круг непосредственных участников розенкрейцерского движения, и кажется, мы вот-вот поймем, что означало словечко ludibrium и что, собственно, было на уме у странных людей, создававших манифесты.
«Иосиф Стеллат» написал по-латыни, без примеси немецкого языка, трактат под названием: «Пегас Небесный. Сиречь Краткое Введение В Мудрость Древних, каковую издревле Египтяне и Персы (именовали) Магией, ныне же ее Досточтимое Общество Креста Розы справедливо именует Пансофией»[245]. Книга была напечатана в 1618 г., место издания и имя автора не указаны, зато сообщается, что сей труд вышел в свет «с разрешения Аполлона». Автор знает и цитирует «Откровение», «Исповедание» и даже «Химическую Свадьбу». Он ревностный лютеранин, но при этом приверженец «древней мудрости», то есть герметизма и каббалы (он цитирует и Рейхлина)[246]. «Стеллат» утверждает, что всякий, кто изучает Книгу Природы, занят истинно благочестивым делом. Одним из первых исследователей Природы он считает Гермеса Трисмегиста, который, по его словам, был современником Моисея; другой крупнейший «толкователь Природы» — Парацельс. «Стеллату» известны и некоторые произведения Майера, он их тоже цитирует; а слова о таинстве «гармоничного соответствия обоих миров — большого и малого» подразумевают его знакомство с сочинением Фладда.
Рассуждая о том, что розенкрейцерское движение вдохновлялось «древним богословием», основанным на изучении Природы, «Стеллат», по существу, формулирует одно из лучших имеющихся определений сути розенкрейцерства. «Стеллат» относит себя к противникам Аристотеля, отдавая предпочтение анимистической интерпретации природы. Возможно, в его книге и содержатся намеки на конкретных людей, но намеки эти слишком туманны. Правда, в одном месте, как можно предполагать, он имеет в виду ландграфа Гессенского, что же до «Пегаса», то я склонна видеть в этом слове одно из иносказательных обозначений курфюрста Пфальцского.
Из других таинственных защитников розенкрейцерской Братии стоит упомянуть Юлиана Кемпийского, о котором говорилось выше, и Юлия Шпербера, автора сочинения «Эхо Богом горнепросвещенного Братства достохвального Ордена K.P.»[247], опубликованного в Данциге в 1615 г. Юлий Шпербер — подлинное имя реального человека[248], по слухам занимавшего какую-то должность в Анхальт-Дессау, так что он мог быть лично знаком с Кристианом Анхальтским. В своем труде Шпербер демонстрирует достаточную осведомленность в делах розенкрейцерского Братства, а также глубокие познания в магии и каббале. Он знает работы Генриха Корнелия Агриппы и Иоганна Рейхлина, «Мировую Гармонию» Франческо Джорджи и труды «теолога Марсилия Фицина»[249]. Он также интересуется взглядами Коперника и настоятельно рекомендует всем, кто желает найти для себя подлинно благочестивое занятие, «вчитываться в иероглифы и письме на, начертанные в Книге Природы».
«Суждения Некоторых Славнейших И Ученейших Мужей… о Положении и Религии Знаменитого Братства Креста Розы»[250], опубликованные во Франкфурте в 1616 г., представляют собой, как видно уже по названию, сборник статей разных авторов. Первая статья сборника, восхваляющая девиз розенкрейцерского ордена Jesus mihi omnia («Иисус для меня — все»), написана «Христианом Филадельфом», почитателем пансофии, поставившим перед собою задачу убедить всех, что учение Братства носит истинно христианский характер. Другая статья призывает всех благочестивых людей Европы отбросить «ложно-национальную» (то есть Аристотелеву) философию и обратиться к «божественной теософии макро- и микрокосма».
Один из наиболее интересных трактатов подобного рода, «Расцветающая Роза»[251], издавался в 1617 и 1618 гг., без указания места издания и имени издателя. Это произведение, подписанное псевдонимом «Флорентин Валенсийский», было задумано как ответ «Менапию», выступившему с критикой розенкрейцерского Братства. Автор «Расцветающей Розы» обладает широчайшим научным кругозором и знанием литературы — превосходя в этом, пожалуй, всех прочих сочинителей рассматриваемой нами группы. Его интересуют архитектура, механика (Архимед), арифметика, алгебра, музыкальная гармония, геометрия, навигация, изящные искусства (Дюрер). Он видит несовершенство современных наук и призывает к их обновлению. Астрономия, по его мнению, изобилует пробелами; астрология в высшей степени ненадежна. А «физика» — разве не страдает она от недооценки роли эксперимента? А «этика» — разве не нуждается в пересмотре своих оснований? И что есть в медицине, кроме интуитивных догадок?[252]
Подобные рассуждения звучат вполне в духе Бэкона, чей трактат «О Прогрессе Учености» мог и в самом деле оказать некоторое влияние на круги, близкие Флорентину. Почему бы не предположить, что идеи Бэкона стали проникать в Германию, наряду с прочими английскими веяниями, после бракосочетания курфюрста Пфальцского с английской принцессой? Однако главные интересы автора «Расцветающей Розы» лежат, кажется, в области наук, основанных на числе, — это те самые «витрувианские» предметы, к совершенствованию которых призывал Джон Ди в своем предисловии к Евклиду. На автора «Расцветающей Розы» мог повлиять и Фладд, который в «Трактате» 1616 г. превозносил розенкрейцерское движение и заодно повторил доводы Джона Ди в пользу обновления математических наук. Но чьи бы влияния ни испытал на себе «Флорентин Валенсийский», ясно одно: он разработал убедительную и оригинальную концепцию, обосновывающую необходимость прогресса во всех отраслях знания. Сходная концепция угадывается и за розенкрейцерским «Откровением», которое настаивало на объединении всеобщих усилий ради распространения просвещения.
С точки зрения автора «Расцветающей Розы», стремление человека к познанию Природы обусловлено, в конечном счете, глубоко религиозными мотивами. Бог впечатал Свои знамения и письмена в Книгу Природы. А посему, созерцая эту Книгу, мы созерцаем Самого Бога. Дух Божий пребывает в средоточии Природы; именно он есть основание Природы и истинного знания обо всем сущем. Флорентин заклинает своих читателей изучать, вместе с розенкрейцерской Братией, Книгу Природы, эту вселенскую книгу, дабы человечество смогло вернуться в утраченный Адамом рай. (Бэкон тоже уповал на возвращение человеку всех тех знаний, коими Адам обладал до грехопадения.) Он заверяет враждебно настроенного «Менапия» в том, что Братья любят Бога и ближних своих; что они взыскуют познания Природы ради славы Христовой и не имеют ничего общего с диаволом и делами его. Сам же он твердо верует во Отца, Сына и Духа Святого и горячо желает пребывать «в тени крыл Иеговы».
Согласно одной гипотезе, авторство этого страстного трактата принадлежит самому Иоганну Валентину Андреэ[253]. Мы можем лишь сказать, что «Расцветающую Розу» и в самом деле можно считать выдающимся произведением, вполне достойным автора «Химической Свадьбы».
Нападки на розенкрейцерскую Братию со стороны «Менапия», «Ирения Агноста», Либавия и иже с ними сводятся преимущественно к следующим положениям. Высказываются опасения, что деятельность Братьев может провоцировать неповиновение установившимся правительственным режимам; наиболее прям в этом обвинении Либавий. Часто выдвигаются упреки в занятиях вредоносной магической практикой[254]. Наконец — и это, пожалуй, самое важное, — враги розенкрейцерства утверждают, что Братья не имеют четкой религиозной позиции. Одни зовут розенкрейцеров лютеранами, другие — кальвинистами, третьи — социнианами[255] или деистами. Некоторые даже подозревают их в принадлежности к иезуитскому ордену[256].
Подобное обвинение привлекает наше внимание еще к одному аспекту розенкрейцерского движения (возможно, из числа важнейших): к его всеохватности, способности вбирать в себя представителей разных вероисповеданий. Как мы помним, Фладд утверждал, что его труд пришелся по душе всем истинно религиозным людям, к какой бы конфессии они ни относились. Сам Фладд был ревностным англиканином, дружил с англиканскими епископами; англиканской веры придерживалась и Елизавета Стюарт, супруга курфюрста Пфальцского. Курфюрст, напротив, исповедовал кальвинизм, как и Кристиан Анхальтский, его главный советник. А Майер был ревностным лютеранином, подобно Андреэ и многим другим розенкрейцерским авторам. Наверное, всех их объединяла «музыкальная» философия макро- и микрокосма, мистическая алхимия, нашедшая наиболее законченное выражение в трудах Фладда и Майера, хотя и другие, менее значимые с этой точки зрения тексты, рассмотрением которых мы занимались в настоящей главе, отражают сходные философские воззрения.
Пропагандируя некую философию, или теософию, или пансофию, приемлемую, как они думали, для всех религиозных партий, участники розенкрейцерского движения надеялись, вероятно, создать внеконфессиональный общий фундамент для своего рода франкмасонства (я использую здесь этот термин в широком смысле, не предполагающем непременно существование тайной организации), которое позволило бы людям различных вероисповеданий жить в мире друг с другом. Таким общим фундаментом могли бы стать общепринятые основы христианской веры, интерпретируемые в мистическом смысле, а также философия природы, ищущая сакральные смыслы в иероглифах, начертанных Богом во вселенной, и видящая в макрокосме и микрокосме математико-магические системы вселенской гармонии.
В этой связи стоит вспомнить, что и Джон Ди возлагал большие надежды на смягчение религиозных разномыслии и установление вселенского царства мистико-философской гармонии — наподобие той, что царит в ангельских сферах. Эти идеи Ди, распространявшиеся им в Богемии, тоже могли просочиться в немецкое розенкрейцерское движение.
И все же материал, рассмотренный в этой главе, выявляет, прежде всего, мощную германскую струю в розенкрейцерском движении, явные следы влияния на него традиций германского мистицизма. Тому, кто читает немецких розенкрейцерских авторов, часто приходит на ум Якоб Бёме, знаменитый немецкий философ-мистик. Бёме начал писать как раз перед выходом в свет первого печатного издания розенкрейцерского «Откровения». Самая ранняя его работа, «Аврора», провозвещала, как и розенкрейцерский манифест, новую зарю научного и духовного прозрения[257]. Бёме стремился обновить посредством алхимической философии Парацельсова толка тогдашнее лютеранское благочестие, казавшееся ему мертвым и сухим, — но ведь и розенкрейцерские авторы ставили перед собой ту же задачу. Бёме родился неподалеку от Гёрлица, в области расселения лужицких сербов, на границе с Богемией. Живя в таком месте и в такое время, Бёме просто не мог оставаться в неведении относительно «розенкрейцерского фурора», фридрихианского движения и сокрушительного краха последнего в 1620 г. Биографию Бёме мы знаем очень плохо; известно, однако, что именно в 1620 г. он побывал в Праге[258]. Доказательств, подтверждающих какую бы то ни было связь между Бёме и розенкрейцерским движением, нет, однако ничто не мешает нам отнести его к тем «доморощенным» немецким «химикам», к которым обращались и которых надеялись привлечь на свою сторону авторы манифестов.
Изучение работ, упомянутых в этой главе, ни чуть не приблизило меня к ответу на вопрос, существовало ли в действительности некое организованное тайное общество, руководившее розенкрейцерским движением. Розенкрейцерские авторы, как правило, спешат заявить, что сами они розенкрейцерами не являются и никогда не видали таковых. Идея незримости Братии — существеннейший элемент розенкрейцерского мифа. Из всех источников, рассматривавшихся в настоящей главе, только один хоть в какой-то степени проясняет ситуацию. Я имею в виду гравюру с изображением крылатой передвижной Коллегии Братства Розового Креста, охраняемой воинством ангелов или духов. Если розенкрейцерские Братья таковы, каждый может смело утверждать, что никогда ни одного из них не видал, да и не претендует на то, чтобы принадлежать к столь возвышенному обществу. Дело, однако, в том, что человек, вполне искренне отрицающий свое членство в «Незримой» Коллегии, может, тем не менее, быть одним из бренных существ, допущенных пребывать «в тени крыл Иеговы».
Исследователи розенкрейцерской литературы знают, что в Германии ее поток внезапно иссяк между 1620 и 1621 гг., и недоумевают, почему это произошло. Землер еще в конце XVIII столетия пытался найти объяснение этому явлению — резкому исчезновению всякой розенкрейцерской литературы около 1620 г.[259] Арнольд же просто сообщает читателю, что после публикации манифестов многие посторонние лица попытались примкнуть к розенкрейцерскому движению, чем вызвали полнейшую неразбериху, продолжавшуюся вплоть до 1620 г., когда всеобщий ажиотаж как бы исчерпал себя[260]. Уэйт тоже говорит о 1620-м как о «годе, затворившем врата в былое»[261], разумея под «былым» прошлое розенкрейцерского движения. Ни упомянутые авторы, ни все другие исследователи розенкрейцерской литературы нисколько не интересовались историческими событиями в Пфальце и Богемии или, во всяком случае, никак не увязывали эти события с движением розенкрейцеров. Мы же в своем исследовании сосредоточились именно на связях между историей и идеологией и потому сумели отыскать разгадку. Розенкрейцерское движение кончилось именно тогда, когда потерпело крах пфальцское движение, когда окончательно рухнули надежды, связанные с курфюрстом Пфальцским и его блистательными союзниками: король и королева Богемии бежали из Праги после битвы у Белой Горы, и всем стало ясно, что ни король Великобритании, ни немецкие союзники-протестанты им не помогут; габсбургские полчища вторглись в Пфальц, и началась трагическая эпопея Тридцатилетней войны.
В 1621 г. в Хайдельберге вышло в свет «Предостережение против Розенкрейцерских Паразитов»[262]. В том году Хайдельберг находился уже во власти вторгшихся в него австро-испанских войск, и такого рода публикация была равносильна физической расправе с движением, ассоциировавшимся в глазах захватчиков с прежними правителями княжества.
В том же 1621 г. в Ингольштадте, крупном иезуитском центре, расположенном в самом средоточии католической Германии, был опубликован трактат некоего Фредерика Форнера под названием «Пальма Первенства среди Чудес Католической Церкви»[263]. Сама я, по правде говоря, сей труд не изучала (как и тот, что только что поминался, про «розенкрейцерских паразитов»). Однако, судя по впечатлениям занимавшегося этим произведением Уэйта, автор трактата, епископ, вовсю издевается над розенкрейцерской Братией за то, что она самочинно присваивает себе славные наименования и притязает на боговдохновенность, в силу коей почитает себя способной реформировать весь мир, восстановить все науки, преобразовывать одни металлы в другие и продлевать жизнь человека. Трактат с таким злобствующим торжеством извращает подлинные идеи розенкрейцерских манифестов, что его вполне можно сопоставить с пропагандистскими карикатурами на экс-короля Богемии, выпущенными в свет после поражения последнего.
Упомянем и еще одно любопытное следствие «розенкрейцерского фурора». Иезуиты в соответствии с обычной для них практикой, видимо, решили использовать розенкрейцерскую символику, переиначив ее на свой манер, в деле распространения католической веры на оккупированных католиками территориях и упрочения в этих землях Контрреформации. Некий Й. П. Д. а С. опубликовал в 1619 г. в Брюсселе сочинение под названием «Роза Иезуитская, сиречь Иезуитские Красные Подмастерья»[264] — в следующем, 1620, году оно было перепечатано в Праге (разумеется, после победы католиков). Как видно уже по заглавию, автор пытается приспособить розенкрейцерскую символику Розы к нуждам католической пропаганды. (Правда, Роза всегда была католическим символом — символом Девы Марии.) Вообще же трактат посвящен вопросу о том, не являются ли два ордена — иезуитский и розенкрейцерский — в действительности одной и той же организацией: просуществовав какое-то время под одним именем, она была вынуждена «уйти в подполье», чтобы затем возродиться под другим. Иезуиты, видимо, надеялись, что население завоеванных территорий, сбитое с толку подобными рассуждениями, окажется более восприимчивым к пропаганде идей Контрреформации.
И действительно, оккупированная Богемия постепенно утрачивала память о движении, некогда сулившем ей свободу. Мало к кому судьба отнеслась столь же благосклонно, как к Даниэлю Стольцию, сумевшему бежать к немецкому издателю-розенкрейцеру, а оттуда в Англию. В самой же Германии (как, впрочем, и в Богемии) розенкрейцерство было дискредитировано в результате катастрофического провала пфальцско-богемского движения, обернувшегося для его приверженцев разочарованием и отчаянием.
Среди расставшихся с обманчивыми иллюзиями оказался и Роберт Фладд. В книге, опубликованной в 1633 г., Фладд писал: «Те, кто прежде именовались Братьями Креста Розы, ныне зовутся просто Мудрецами, имя же („Крест Розы“) столь ненавистно стало современникам, что изгладилось из памяти человеческой»[265]. И все же Фладд, похоже, помогал Иоахиму Фрицию в создании книги под названием «Высшее Благо, Сиречь Истинные Магия, Каббала и Алхимия Истинного Братства Креста Розы» (Summum Bonum…), напечатанной во Франкфурте в 1629 г. На титульном листе трактата изображена Роза, стебель которой по форме напоминает крест. Рядом — улей и паутина, памятные нам по книге эмблем Цинкгрефа, где они были символами курфюрста Пфальцского, и по карикатурам на злосчастного государя, многократно изображавшим его запутавшимся в паутине или терзаемым пчелами.
Для того чтобы понять эти намеки, надо было помнить Цинкгрефовы эмблемы и аллюзии на них в сатирических листках, а к 1629 г. большинства помнивших, вероятно, уже не было в живых. Атмосфера Тридцатилетней войны не располагала к особой утонченности, и в более поздних карикатурах на Фридриха и его движение мы уже не находим мудреных намеков вроде картинок «химической свадьбы» или перевранных Майеровых эмблем. Подобные символы даже пародировать было страшно: началась откровенная «охота на ведьм». И именно в таком — примитивном и пугающем — обличье слухи о розенкрейцерском движении в Германии стали просачиваться за границу, во Францию.
VIII. Розенкрейцерский переполох во Франции
Рене Декарт (1596–1650). Гравюра неизвестного художника, хранящаяся в Архиве Государственного педагогического издательства в Праге.
В 1623 г. в Париже, по утверждению некоторых очевидцев событий, вдруг появились объявления, возвещавшие о присутствии в городе Братии Розового Креста[266]:
Мы, посланцы главной Коллегии Братьев Креста-Розы, зримо и незримо присутствуем в этом городе по милости Всевышнего, к коему обращены сердца праведных. Мы показуем и научаем, безо всяких книг или знаков, как говорить на всех языках, на которых говорят в тех странах, где бы мы желали побывать, и как отвращать человеков от ошибок и смерти.
Это объявление цитирует Габриэль Ноде — в своем «Поучении Франции касательно истины об истории Братьев Креста-Розы», опубликованном в 1623 г. Ноде считает, что некие лица намеренно распространяли такие плакаты, поскольку свежих новостей было мало, в королевстве царило полнейшее спокойствие, и нужно было внести в сию застоявшуюся атмосферу хоть какое-то оживление. Упомянутые лица явно преуспели в своем умысле, ежели он состоял в том, чтобы привлечь всеобщий интерес к розенкрейцерским Братьям. Ноде говорит об «урагане» слухов, распространившихся по всей стране в связи с известием о том, что таинственное Братство, недавно утвердившееся в Германии, теперь добралось и до Франции. Трудно решить вопрос, появлялись ли подобные объявления на самом деле или же слухи были порождены сенсационными книжками о розенкрейцерах, опубликованными в том году. Возможно, нам следует поверить Ноде, убежденному в подлинности объявлений, и, уж во всяком случае, он прав, утверждая, что слухи об этих документах распространялись умышленно, с целью возбудить общество или даже спровоцировать в нем панику.
Другой вариант текста действительных или мнимых объявлений приводится в анонимном сочинении, вышедшем из печати в 1623 г. под интригующим названием «Ужасающие соглашения, заключенные между Диаволом и Теми, кто выдает себя за Невидимых»[267]:
Мы, посланцы Коллегии Креста Розы, даем знать всем тем, кто пожелает вступить в наше Общество и Конгрегацию, что будем учить их совершеннейшему знанию Всевышнего, во Имя Которого мы ныне собрались на съезд, и будем превращать их из видимых в невидимых и из невидимых в видимых…
Далее в книге сообщается, что этих Невидимых всего тридцать шесть и что они рассеяны по всему миру группами по шесть человек. Год назад, 23 июня, у них состоялось собрание в Лионе, на котором и было решено внедрить одну шестерку в столице. Сборище было устроено за два часа до Великого Шабаша, на котором явился один из князей преисподней, блиставший великолепием. Посвященные простерлись перед ним ниц и поклялись отречься от христианства и ото всех обрядов и таинств Церкви. Взамен им было обещано, что они смогут переноситься по своему желанию, куда заблагорассудится, всегда иметь кошельки, полные денег, и обитать в любой стране, одеваясь в одежды, которые там принято носить, — чтобы их нельзя было отличить от местных жителей. И еще они будут наделены даром красноречия, дабы привлекать к себе всех человеков, снискивать восхищение ученых мужей, вызывать всеобщее любопытство и казаться более мудрыми, нежели древние пророки.
Книга, рассчитанная на то, чтобы испугать читателей, все же предполагает наличие у них некоторой осведомленности насчет розенкрейцерских манифестов. Подлинные факты преподносятся в извращенном свете. Так, благочестивую организацию розенкрейцерских Братьев автор превращает в сборище дьяволопоклонников; тайна, окутывающая их существование, интерпретируется как дьявольская тайна, а правило, обязующее розенкрейцеров носить одежду страны, где они в данный момент пребывают, — как ужасный способ просачивания в чужеродную им среду. Их заинтересованность в прогрессе научных знаний и натурфилософии изображается как коварная уловка ради совращения ученых и просто любопытных людей. Ничего, естественно, не говорится о христианском девизе манифестов: Jesus mihi omnia («Иисус для меня — все»), а также о филантропических устремлениях Братства, занимающегося исцелением больных. Все это выглядит, как попытка развязать «охоту на ведьм», объектом которой и должны стать пугающе-«невидимые» розенкрейцеры.
В начале XVII века движение, охарактеризованное таким образом, уже не могло казаться забавой, ludibrium'ом или шуткой. Его участники рисковали навлечь на себя ужасные гонения — вроде тех, что имел в виду видный французский иезуит Франсуа Гарасс, автор книги «Забавное Учение Благих Духов Века Сего», опубликованной в том же 1623 г. Розенкрейцеры, говорит Гарасс[268], составляют тайную секту, водятся они в Германии, а Михаэль Майер у них за секретаря. В Германии оно ведь как: держатели постоялых дворов вывешивают у себя в тавернах розы — в знак того, что все сказанное тут не должно разглашать, но, напротив, следует хранить в секрете от посторонних. Розенкрейцеры — люди пьющие и скрытные, потому и избрали своим символом розу (вывод, надо сказать, весьма любопытный). Гарасс читал «Откровение» и утверждает, что автор манифеста приобрел свои знания в Турции, а следовательно, они — языческие. Еще он говорит, что нескольких розенкрейцеров недавно осудили в Малине за колдовство и сам он твердо убежден в том, что все приверженцы этого учения заслуживают колесования или повешения. Они только по видимости благочестивы, а на деле — злокозненные колдуны, представляющие угрозу для религии и государства.
Согласно традиционным представлениям, ведьма — женщина, способная с помощью колдовства переноситься в пространстве к месту шабаша. Но когда во Франции попытались инспирировать «охоту на ведьм», направленную специально против розенкрейцеров, женщин не упоминали вообще: половая принадлежность «невидимых», объявленных дьяволопоклонниками и участниками шабашей, никого не интересовала. Качества, обычно приписываемые ведьмам (такие, к примеру, как умение становиться невидимыми или пользоваться волшебными средствами передвижения), теперь были перенесены на розенкрейцерскую Братию. «Невидимые» розенкрейцеры должны были стать объектом подлинной «охоты на ведьм», хотя некоторые их качества, и прежде всего углубленная ученость, посредством коей они якобы привлекали к себе «любопытных», плохо вписываются в привычный образ ведьмы: как известно, в ведьмовстве чаще всего обвиняли женщин бедных и невежественных. Тем не менее, похоже на то, что и автор «Ужасающих соглашений», и Гарасс всерьез готовились к «охоте» на «незримых» розенкрейцеров: используя в качестве обвинительных материалов розенкрейцерские манифесты, они пытались отыскать во всех описанных там передвижениях и деяниях Братьев скрытый дьявольский смысл. Страх перед розенкрейцерами заставлял видеть в них реально существующих ведьмоподобных существ — членов тайного общества сатанистов.
Нельзя сказать, что процессы против ведьм, эта ужасная сфера общественного быта XVI — начала XVII веков, были более характерны для какой-то одной из двух областей, на которые разделилась Европа после великого религиозного раскола. Некоторые из злейших гонений такого рода имели место в лютеранской Германии. Однако «наихудшими среди всех процессов против ведьм, воистину верхом европейского безумия» оказались преследования, разразившиеся в Центральной Европе в 1620-е гг.; они были связаны «с искоренением протестантизма в Богемии и Пфальце»[269] и с победой католической реакции в Германии. Вообще, «по всей Европе… судебные процессы против ведьм множились по мере продвижения католической реконкисты».
Посему ясно, что оба организатора антирозенкрейцерской кампании — и автор «Ужасающих соглашений», и иезуит Гарасс — действовали вполне в духе настроений, возобладавших в 1620-х гг. Мы уже видели, что поток розенкрейцерской литературы в Германии внезапно иссяк в 1620 г., а само движение было подавлено после поражения курфюрста Пфальцского и оккупации католическими войсками Богемии и Пфальца. Не была ли «охота на ведьм», развязанная во Франции в то же самое время, направлена и против пфальцско-богемского движения, тесно связанного с розенкрейцерскими манифестами? Мы видели, с какой настойчивостью враги курфюрста распространяли после его поражения пропагандистские сатирические лубки. Мы помним, что, по крайней мере, одна из карикатур определенно ассоциировала его с розенкрейцерским движением. Намеки же на увлечение Фридриха магией содержатся почти во всех направленных против него сатирических лубках. Стоило бы проанализировать литературу, сопутствовавшую «охоте на ведьм» в Германии 1620-х гг., с точки зрения ее возможных связей с «розенкрейцерским переполохом», разразившимся во Франции в 1623 г. Быть может, авторы розенкрейцерских манифестов, в предельно сжатом виде обобщившие результаты научных достижений и эзотерических исканий эпохи Ренессанса, тем самым невольно поспособствовали интенсификации гонений на «ведьм» в Европе после победы сил католической реакции?
Кажется неслучайным, что начало «охоты на ведьм» и «розенкрейцерского переполоха» во Франции датируется именно 1623 г. К 1623 г. разгром Богемии и Пфальца был завершен, а запретив «розенкрейцерские публикации», новые власти сделали все возможное, чтобы искоренить сами идеи, вдохновлявшие богемскую авантюру. По всей Европе распространялись известия о событиях первых лет Тридцатилетней войны, а вместе с ними — слухи о розенкрейцерском движении. В результате во Франции стали применять способы подавления инакомыслия, уже испытанные в германских землях: там тоже была развязана «охота на ведьм», направленная против «невидимых» и их дерзких манифестов.
«Поучение Франции» Габриэля Ноде гораздо более информативно, нежели истеричные сочинения вроде «Ужасающих соглашений», потому что сам Ноде лучше других авторов знает предмет, о котором пишет. Он приводит длинные цитаты из «Откровения» (благо у него под рукой имеется печатный экземпляр этого манифеста) и затем обращается к читателям: «Зрите, господа, ныне Актеон показывает вам наготу охотницы Дианы[270]»[271]. Во фразе явно чувствуется издевка, но интересно другое: здесь пародируется излюбленный прием розенкрейцеров — облекать естественнонаучные концепции в мифологические одеяния. Ноде говорит об огромном влиянии, оказанном на умы «Откровением» и «Исповеданием»; помимо манифестов, он знает некоторые сочинения Майера. По словам Ноде, «Откровение» произвело большое впечатление и во Франции, возбудив надежды на скорый прогресс в науке, на какой-то новый рывок в познании мира. Ноде утверждает, что повсюду толкуют об этом: мол, после всех «новшеств», которым удивлялись «наши отцы», — открытия новых континентов, изобретения пушки, компаса, часов, сдвигов в религиозном сознании, медицине, астрологии — должна вот-вот начаться следующая эпоха прозрений. Кульминацию новых веяний люди видят в деятельности розенкрейцерских Братьев и связанных с ними упованиях[272]. Тихо де Браге[273] постоянно делает новые открытия; Галилей изобрел свои «окуляры» (телескоп); и вот теперь является сообщество розенкрейцерских Братьев, возвещая неизбежность близкого «восстановления», то есть обновления, человеческого знания, что было обещано еще в Писании[274] (последняя фраза кажется отголоском идей Бэкона). Рассуждения Ноде свидетельствуют о том, что розенкрейцерские манифесты обрели широкую известность и вне Германии, что их воспринимали как пророчество о грядущем новом «просвещении», когда будет сделан следующий шаг после великих достижений эпохи Ренессанса.
Ноде, очевидно, считает необходимым — по причине начавшегося «переполоха» — выражать свои мысли очень осторожно. Он явно полагает, что приписываемый розенкрейцерам «манифест», обнародованный в развешанных по городу объявлениях, был измышлен «какими-то людьми», чтобы вызвать всеобщее возбуждение. Но о книге Гарасса он отзывается с одобрением, в то время как многие немецкие книжки, посвященные розенкрейцерским Братьям, упоминает с оттенком пренебрежения. Рассуждая о том, что розенкрейцеры имеют репутацию магов, Ноде вспоминает Фладда, а позже приводит и целый список авторов, представляющих, по его мнению, те учения, которые одобряются Братством. В перечень входят[275]:
Джон Ди, «Иероглифическая Монада»
Тритемий, «Стеганография»
Франческо Джорджи, «Гармония мира»[276]
Франсуа де Кандаль, «Поймандр»
Тиар — его «Музыка»
Бруно — его «Тени идей»
Раймунд Луллий — его «Диалектика»
Парацельс — «его толкование Магии».
Мы видим, что интересы розекрейцерской Братии Ноде прочно связывает с традицией герметизма — неслучайно он упоминает французский перевод трактата из «Герметического Свода», выполненный Франсуа де Кандалем[277], и герметико-каббалистическое сочинение Джорджи «Гармония мира»[278] (кстати, широко использовавшееся Фладдом). Упоминание «Стеганографии» Тритемия ассоциирует Братьев с ангелологией[279]. Для нас же особенно важно то, что Ноде включил в свой список «Монаду» Ди и одну из работ Бруно («О тенях идей»)[280], тем самым невольно подтвердив гипотезу о влиянии Ди и Бруно на розенкрейцерское движение. Включение в список «Музыки» Понтюса де Тиара[281] должно напомнить о музыкальной философии французской «Плеяды», в которую входил этот автор. Ноде, будучи французом, смог показать близость розенкрейцерской философии к французской герметической традиции — он сделал это, упомянув переводчика «Герметического Свода» Франсуа де Кандаля и французского представителя «музыкальной» философии Тиара.
Все перечисленные Ноде авторы — типичные представители ренессансной герметической традиции, и, по его мнению, новые достижения, обещанные розенкрейцерской Братией, будут обусловлены дальнейшим развитием именно этого идейного направления.
Среди других интересных моментов в рассуждениях Ноде можно отметить упоминание им «Хентисбера» и «Суиссета Калькулятора»[282] — как ученых, чьи взгляды были близки взглядам розенкрейцеров. Речь идет о двух средневековых математиках из Оксфорда[283], принадлежавших к мертонской математической школе. Их труды, «возрожденные к жизни» и напечатанные в начале XVII столетия, повлияли на многие важные направления тогдашней математической науки. Не исключено, что Ноде обнаруживает в этом высказывании некоторую «закулисную» осведомленность о математических интересах розенкрейцеров, знание сведений, отсутствующих в их «сбивающих с толку и бесполезных» публикациях.
Сохраняя свой презрительный тон, Ноде далее говорит о выдумках поэтов, о химерах колдунов и шарлатанов, о Телемском аббатстве Рабле и Утопии Томаса Mopa — все это, как он считает, является неотъемлемой частью розенкрейцерского «лабиринта».
Он заканчивает на ноте ортодоксального не одобрения деятельности розенкрейцерских Братьев, заявляя во всеуслышание о своем искреннем согласии с мнением иезуитов, считающих это движение вредоносным. К тому же, добавляет он, несостоятельность учения розенкрейцеров блестящим образом доказал еще Либавий[284]. Ноде, выходит, знает и про Либавия. Он в самом деле прекрасно информирован обо всем и, очевидно, глубоко заинтересован предметом своего исследования, хотя в 1623 г., когда во Франции ширился «переполох», вызванный слухами о розенкрейцерском «Откровении», и, похоже, вот-вот должна была начаться «охота на ведьм», этому ученому мужу приходилось быть крайне осторожным.
Два года спустя, в 1625 г., Ноде проявил гораздо большее мужество, опубликовав свою знаменитую работу «Оправдание великих мужей, заподозренных в Магии»[285]. В этой книге он утверждает, что всего существует четыре рода магии: «божественная магия»; «теургия», или религиозная магия, освобождающая душу от телесного осквернения; «гетия», или колдовство, и, наконец, «естественная магия», которая есть совокупность естественных наук. Только третью из разновидностей магии, гетию, можно считать вредоносной, но как раз ею «великие мужи» не занимались. Среди «великих мужей», которых он пытается защитить от обвинений в злокозненной магии, наиболее крупными фигурами являются Зороастр, Орфей, Пифагор, Сократ, Плотин, Порфирий, Ямвлих, Раймунд Луллий, Парацельс, Генрих Корнелий Агриппа (которому посвящена целая глава) и Пико делла Мирандола. Короче говоря, речь идет о неоплатониках и восходящей к ним ренессансной традиции, в которой ведущую роль играет Агриппа, главный представитель возрожденческой магии. Ноде настойчиво убеждает организаторов гонений на колдовство проявлять возможно большую осмотрительность и не путать честных людей со злокозненными «магами».
В «Оправдании» Ноде ни словом не упоминает розенкрейцерских Братьев. Но ведь все авторы, два года назад причисленные им к единомышленникам розенкрейцеров, представляют именно ту традицию, которую он теперь защищает. Исходя из этого, мы вправе предположить следующее: публикуя свой новый труд, Ноде имел в виду и Братию Креста-Розы, тем более что вызванный последней «переполох» к тому моменту был в самом разгаре. Поэтому для нас представляют интерес и рассуждения Ноде о двух главных причинах, по которым невинные люди иногда навлекали на себя облыжные обвинения в злокозненной магии.
Первая причина состоит в том, что ученых, занимающихся математикой, часто обвиняют в колдовстве, ибо сама эта дисциплина всегда была окутана магической аурой и чудесные механизмы, действие которых основано на принципах математики и механики, людям невежественным кажутся порождением колдовства[286]. Джон Ди также жаловался в предисловии к Евклиду на несправедливые обвинения в колдовстве, основанные только на том, что он прекрасно разбирается в математике и умеет создавать диковинные механические аппараты[287]. И Ноде ссылается на точку зрения Ди в своем рассуждении о математиках, обвиняемых в колдовстве, но цитирует не предисловие к Евклиду, а предисловие к «Афоризмам», в котором Ди сообщает, что в данный момент работает над книгой в защиту Роджера Бэкона[288] и собирается доказать, что чудеса, сотворенные сим ученым мужем, были плодами математических знаний, а не магии. Ноде сожалеет, что задуманная Ди апология Бэкона так и не увидела свет. Ниже мы приводим его высказывание на этот счет[289]:
Если бы мы располагали той книгой, которую Джон Ди, житель Лондона и весьма ученый философ и математик, как он сам утверждает, написал в защиту Роджера Бэкона, и в которой он показывает, что все чудеса, приписываемые сему мужу, обязаны своим происхождением знанию природы и математики, а вовсе не сделкам с демонами, в каковые тот никогда не вступал, — клянусь, я бы о нем [Роджере Бэконе] больше не говорил ‹…› Но поскольку эта книга [книга Ди о Бэконе], насколько мне известно, пока еще не увидела свет ‹…› я вынужден заполнить сей пробел, дабы доброе имя упомянутого английского францисканца, Доктора Богословия, а также величайшего алхимика, астролога и математика своего времени, не осталось навечно погребенным и проклятым подобно скопищу колдунов и магов, к которым он ни в малейшей степени не принадлежал…
Книга Ди о Роджере Бэконе так и не была опубликована, но тем любопытнее, что Ноде ссылается на нее, когда выступает в защиту математиков, обвиненных в магии.
Вторая причина, по которой, как считает Ноде, некоторых людей ложно обвиняют в приверженности магии, заключается в присущей им и вызывающей подозрения окружающих излишней «политичности»[290] (то есть религиозной терпимости), в том, что сами они не склонны преследовать тех, кто не разделяет их религиозные убеждения.
Ноде нигде в «Оправдании» не упоминает розенкрейцерских Братьев, и мы не можем с уверенностью утверждать, что он как-то связывал «розенкрейцерский переполох» с двумя наиболее распространенными причинами ложных обвинений в магии — интересом к математике и религиозной терпимостью. Но, поскольку Ноде включил Ди в список авторов, которых считал близкими по взглядам к розенкрейцерским Братьям (когда ранее был вынужден скрепя сердце присоединиться к голосам их хулителей), у нас есть все основания считать, что в первой книге он недвусмысленно ассоциирует розенкрейцеров с Ди, а во второй — использует аргументы того же Ди, защищая математиков от обвинений в зловредной магии.
Ноде, конечно, много чего знал, но высказывался очень осторожно, даже в «Оправдании». Ведь буря, вызванная толками о розенкрейцерской Братии, все еще бушевала во Франции.
Мы уже на пороге следующей эпохи: набирают силу новые идейные течения XVII столетия, в то время как ренессансные анимистические философии, окрашенные «магизмом», блекнут и постепенно сходят на нет. Среди тех, кто ополчился на ренессансный анимизм, герметизм, каббалу и сопутствующие им учения, наиболее масштабной фигурой представляется французский монах Марен Мерсенн, друг Рене Декарта (см. илл. 26). Мощная атака Мерсенна на ренессансную традицию во всей ее целостности расчистила путь для восходящей философии картезианства.
Знаменательно, что первая работа Мерсенна, направленная против возрожденческой традиции, «Вопросы к Книге Бытия» (Quaestiones in Genesim), была опубликована в 1623 году, в том самом, когда начался «розенкрейцерский переполох». В этой книге он обрушивает свою критику на ренессансную магию и каббалу, а также на все великие имена, связанные с этой традицией (Фичино, Пико, Агриппу и др.), но самые яростные нападки достаются современному выразителю ненавистной ему традиции — Роберту Фладду. Мерсенн продолжал критиковать Фладда и в последующие годы, Фладд отвечал ему, и завязавшаяся между ними полемика некоторое время находилась в центре внимания всей Европы.
Я не стану и пытаться в нескольких абзацах, которые могу посвятить этому вопросу в настоящей главе, пересказывать все публикации, в которые вылилась упомянутая полемика. В другой книге я уже разбирала один из ее аспектов и показала тогда, что в основе спора лежала критика герметической традиции со стороны Мерсенна и ее защита со стороны Фладда. В качестве главного оружия борьбы Мерсенн использовал новую датировку «Герметического Свода», предложенную Казобоном[291]. Все, что мы можем сделать здесь, — это показать, очень кратко, каким образом новый исторический подход к проблеме розенкрейцерства, характерный для данной книги, может повлиять на наше понимание позиции Мерсенна.
Мы уже видели, что розенкрейцерство, как и его манифесты, было связано с политико-религиозным движением, ставившим перед собою задачу возведения Фридриха, курфюрста Пфальцского, на богемский престол, и что публикация работ Фладда в Пфальце была частью идейной программы этого движения. Мы видели, как полный крах упомянутого движения, последовавший за поражением под Прагой в 1620 г., повлек за собой мощную пропагандистскую кампанию, направленную на осмеяние всех его целей и принципов. Мы помним: внезапное иссякновение розенкрейцерских публикаций в Германии совпало по времени с катастрофой 1620 г., и обвинение в магии стало козырной картой победителей в их игре на уничтожение идеологии розенкрейцерства — игре тем более серьезной, что к ней примешивался страх перед ведьмовством. Мы видели, что закулисные организаторы «розенкрейцерского переполоха», охватившего Францию в 1623 г., преобразили розенкрейцерскую Братию манифестов в тайное сообщество дьяволопоклонников и магов.
Теперь нам ясно, что все это произвело глубокое впечатление на Мерсенна, как, впрочем, и на его современников, живших в начале XVII века. Попытка Фридриха положить конец верховенству Габсбургов в Империи, провал этой попытки, распространявшиеся победителями слухи об использовании их недавними противниками вредоносной магии — никто в Европе не остался равнодушным к столь необычным фактам. Мерсенн испытывал страх перед розенкрейцерами. Не только по его книгам, но и по переписке очевидно, что они казались ему какими-то страшилищами, зловредными колдунами и возмутителями спокойствия. Он верил, что Братья незримым образом перемещаются по всем странам, распространяя там свои чудовищные доктрины[292]. Реальность их существования не вызывала у Мерсенна никакого сомнения — тому порукой были труды Роберта Фладда, которого он считал типичным розенкрейцером, приверженцем герметической традиции в ее самых крайних формах, в чем мог убедиться каждый, прочитавший сии труды.
Реакция Мерсенна на «розенкрейцерский переполох» отличалась от реакции Ноде. Ноде, по всей видимости, полагал, что за «благой магией» розенкрейцерского движения скрывается важная научная деятельность (прежде всего в области математики). Мерсенн же был убежден в зловредности розенкрейцерской магии, а тот факт, что магия и каббала разрослись до столь непомерных пропорций, означал для него только одно: ренессансные способы мышления должны быть вырваны с корнем, ренессансная анимистическая философия — уничтожена, ренессансная магия (в ее современных, «фладдовских», проявлениях) — безжалостно подавлена. Сам Мерсенн был мягким и доброжелательным человеком, совсем не похожим на отца Гарасса, но его реакция на «розенкрейцерский переполох» больше напоминает реакцию Гарасса, чем реакцию Ноде, потому что в основе ее лежит страх. Правда, нам следует помнить, что Мерсенн, как и Декарт, воспитывался в иезуитской школе Ла Флеш, то есть еще в ранние годы испытал на себе влияние иезуитов.
Итак, Мерсенн во всех своих работах борется с влиянием ренессансной традиции. Устранить таковое порой бывает очень непросто, в особенности, когда речь заходит о музыке — ведь Мерсенн верит в «мировую гармонию» и искренне восхищается деятельностью основанной Баифом Академии поэзии и музыки[293] (кстати, его труды остаются одним из главных источников по истории этого учреждения)[294]. В трактате «Мировая гармония» (Harmonie universelle) 1636 г. он излагает концепцию гармоничного мироустройства, не упоминая магической философии макро- и микрокосма (хотя фактически использует одну из диаграмм Фладда). Мерсенн как бы «не замечает», что в основе всех трудов Академии Баифа лежало ренессансное мировосприятие, нашедшее свое философское выражение у Тиара, — странно, ведь Ноде, его современник, прекрасно это понимал.
Философиям Ренессанса суждено было уступить место философии XVII столетия — картезианскому механицизму, и Мерсенн, преданный друг и почитатель Декарта, используя свои многочисленные связи и поддерживая оживленную переписку с самыми разными деятелями культуры, немало способствовал упомянутому сдвигу в общественном сознании, в результате которого магия была вытеснена механицизмом[295]. Один из глубочайших парадоксов в истории человеческой мысли заключается в том, что развитие научной механики, собственно и породившее механицизм как новую философию природы, само явилось итогом ренессансной магической традиции. Механицизм, сбросив с себя магические покровы, превратился в стройную философскую систему, изгнал ренессансный анимизм и на место ренессансного «мага» поставил философа-механициста.
Этот факт еще не всеми понят, не всеми признан, и именно потому мы должны попытаться прояснить и объяснить всю совокупность обстоятельств, обусловивших столь резкое изменение в отношении человека к природе. Среди других исторических факторов не последнюю роль в интересующей нас ситуации сыграли и те, что рассматриваются в данной книге. Крах розенкрейцерского движения в Германии, его искоренение посредством прямого насилия и по-дикарски злобной пропаганды — все это не могло не повлиять на тональность идейных споров начала XVII столетия, так как вносило в них элемент страха. Мерсенн, как и все, боялся. Он вынужден был защищать свой собственный интерес к математике и механике, отметая от себя малейшие подозрения в «колдовстве». Это и заставляло его столь жестко выступать против возрожденческой традиции; а будь времена поспокойнее, идейная борьба могла бы вестись более мягкими методами и закончиться с меньшими потерями, сохранив наиболее ценную часть наследия Ренессанса.
А как относился к розенкрейцерским Братьям Декарт? Пожалуй, наиболее ценные сведения на этот счет можно найти в интереснейшей биографии Декарта, написанной Белле (впервые опубликована в 1691 г.)[296]. По-новому оценивая теперь историческую ситуацию того времени, мы, быть может, глубже поймем и жизнеописание знаменитого философа или, во всяком случае, читая его, будем задавать себе новые вопросы.
В 1618 г. молодой Декарт уехал из Франции в Голландию и там завербовался в войска принца Морица Нассауского. Довольно странный поступок, если учесть, что Декарт был католиком, да к тому же получил образование у иезуитов. По мнению биографа, юноша просто хотел посмотреть на мир, лучше узнать людей и жизнь. Все еще пребывая в созерцательном настроении, Декарт в 1619 г. перебирается в Германию, так как до него доходят слухи о происходящих там странных событиях: восстании в Богемии и вспыхнувшей из-за этого войне между католиками и протестантами. Прослышав о том, что герцог Баварский набирает войска, Декарт решает поступить к нему на службу, не зная даже, с кем будет воевать. Вскоре, однако, выясняется, что войска должны выступить против курфюрста Пфальцского, которого богемцы избрали своим королем[297]. Отнюдь не воодушевленный подобной перспективой, Декарт отправляется в местечко на берегу Дуная, где на зиму расквартировали его полк, и там, пригревшись у немецкого очага, предается сеансам глубокой медитации. В ночь на 10 ноября 1619 г. он увидел несколько снов[298], которые, кажется, стали для него важнейшим внутренним переживанием, убедив в том, что математика есть единственный ключ к уразумению природы. Остаток зимы он проводит в одиночестве и размышлениях, время от времени все-таки встречаясь с людьми. От них он и узнает, что в Германии учреждено некое общество, называющее себя Братьями Креста-Розы и сулящее новую мудрость и «достоверную науку»[299]. Услышанное настолько соответствует его собственным размышлениям и устремлениям, что он пытается разыскать Братьев, но безуспешно. Одно из правил ордена обязывает его членов носить обычную, ничем не выделяющуюся одежду, так что отыскать их действительно очень трудно. Конечно, вокруг Братства поднялась большая шумиха, появилось множество самых разных публикаций, но только Декарт их не читает (он вообще бросил чтение) и позже будет утверждать, что о розенкрейцерах ничего не знает. Тем не менее, вернувшись в Париж в 1623 г., он обнаружит, что сам факт пребывания в Германии закрепил за ним славу розенкрейцера.
В июне 1620 г. Декарт оказывается в Ульме, где живет до конца лета и знакомится с неким Иоганном Фаульхабером, очарованным неординарностью мышления француза[300]. (Кстати, этот Фаульхабер был в числе первых авторов, опубликовавших брошюры о розенкрейцерской Братии.) Услышав, что его патрон, герцог Баварский, выступает в Богемию, Декарт присоединяется к имперской католической армии, участвует в знаменитой битве под Прагой (у Белой Горы) и 9 ноября входит вместе с победителями в чешскую столицу. По убеждению многих, Декарт видел в Праге прославленное собрание астрономических приборов, принадлежавших Тихо де Браге, однако Белле сомневается в этом, так как полагает, что приборы, скорее всего, были уничтожены или вывезены из города[301].
Декарт ненадолго задерживается в Южной Богемии, по обыкновению предаваясь медитациям[302], а в 1621 г. снова пускается в странствия и, проехав через Моравию, Силезию, Южную Германию, католические Нидерланды, в 1623 г. возвращается в Париж.
Декарт приезжает на родину в самый разгар «розенкрейцерского переполоха». Описание дальнейших событий мы позаимствуем у Белле[303]:
Когда он [Декарт] прибыл [в Париж], все только и говорили о делах злосчастного графа Пфальцского, избранного королем Богемии, о походах Мансфельда[304] и о том, что 15 февраля прошедшего месяца, в Ратисбоне[305], избирательный голос графа Пфальцского был передан герцогу Баварскому. Он [Декарт] смог удовлетворить любопытство своих друзей на этот счет, в ответ же те сообщили ему новость, вызывавшую у них некоторую тревогу, несмотря на то, что достоверность ее внушала сомнения. Дело было в том, что последние несколько дней в Париже упорно циркулировали слухи о Братьях Креста Розы (тех самых, которых он тщетно искал в Германии зимою 1619 г.), и поговаривали даже, что он [Декарт] вступил в их организацию.
Он удивился услышанному, ибо сам никогда не думал о розенкрейцерах как об обманщиках или мистиках визионерах подобное представление как то не вязалось ни с характером его, ни с его всегдашними наклонностями. В Париже же Братьев называли Невидимыми и с уверенностью заявляли, что из тридцати шести посланцев, отправленных главой Ордена во все концы Европы, шестеро в минувшем феврале прибыли во Францию и поселились в Париже, в квартале Марэ; но они не общаются с народом, да и с ними нельзя связаться никак иначе, чем посредством передачи им своей мысли вкупе с желанием, то есть способом, недоступным для чувственного восприятия.
Тот факт, что они прибыли в Париж в то же самое время, что и мсье Декарт, мог бы пагубно отразиться на его репутации, если бы он попытался уехать, спрятаться или остался в городе и продолжал вести тот замкнутый образ жизни, к которому привык за время своих путешествий. Но он смешал планы тех, кто собирался воспользоваться означенным совпадением, чтобы воздвигнуть на него клеветнические обвинения. Он сделался доступным для всех, искавших его общества, в особенности же для друзей, которым и не нужно было иных доводов, чтобы разувериться в его мнимой принадлежности к Братству Розенкрейцеров, или Невидимых. Кстати, тот же аргумент — о невидимости розенкрейцеров — он использовал, когда его спрашивали, почему, находясь в Германии, он не сумел разыскать никого из Братьев.
Присутствие [Декарта] в городе умерило возбуждение его друга отца Мерсенна, который тем более расстроился из-за ложного слуха, что менее других был склонен поверить в незримость розенкрейцеров и в их фантастические свойства — после всего того, что писали в их защиту некоторые немецкие авторы и англичанин Роберт Фладд.
Это, бесспорно, один из ярчайших эпизодов в необыкновенной истории интересующего нас необыкновенного движения: Декарт на время отказывается от привычной для него затворнической жизни, желая продемонстрировать своим друзьям в Париже, что он — не невидимый и, следовательно, не розенкрейцер!
Итак, Декарт побывал в Германии и застал там начало «розенкрейцерского фурора» (в это самое время он видел «вещие» сны и обдумывал свои — весьма значимые — научные идеи); вступил в Прагу вместе с католическими войсками и, быть может, в тот страшный час даже видел Фридриха и Елизавету; шатался по захваченному городу, в точности зная, что и где происходит; провел какое-то время в Южной Богемии, предаваясь, по своему обыкновению, размышлениям; затем вернулся в Париж, где только и говорили, что о лишении курфюрста Пфальцского избирательного голоса — на этот счет, как сообщает Белле, он мог предоставить своим друзьям информацию из первых рук, ведь он был свидетелем тех великих событий, находился в Праге, когда все это случилось, слышал о новых движениях в Германии еще до того, как они проявили себя.
А все германские новости, так или иначе, были связаны с розенкрейцерами. «Розенкрейцерская шумиха» в Париже, по словам Белле, началась тогда, когда в обществе «только и говорили» о курфюрсте Пфальцском и его злоключениях. В других источниках по «розенкрейцерской шумихе» во Франции этот факт не упоминается — а ведь он очень важен, так как подтверждает связь «переполоха» в Париже с событиями в Германии. Что же касается розенкрейцерского «приключения» Декарта, то оно разворачивалось по обычному шаблону. Декарт узнает о розенкрейцерах, пытается найти их, но у него ничего не выходит. Его логический ход — использование собственной «зримости» для доказательства отсутствия связей с орденом — всего лишь обыгрывает общий опыт всех тех, кто пытался, но не сумел отыскать розенкрейцеров. Правда, ход этот достоин великого философа!
Декарт всегда хотел жить очень тихо, без служебных обязанностей, вдали от людей, проводя свой досуг в размышлениях о математике. И вот, через несколько лет после описанного приключения, показавшего, что может случиться в Париже с математиком, привыкшим жить чересчур уединенно, «невидимо» для посторонних, он переезжает в Голландию. Прошли годы. В 1644 г. он поселился в тихом маленьком замке под Лейденом — главным образом потому, что хотел быть рядом с принцессой Елизаветой Пфальцской, старшей дочерью несчастного пфальцграфа Фридриха, умершего в 1632 г. Вдова Фридриха, Елизавета Стюарт, «зимняя королева» Богемии, все еще жила со своей семьей в Гааге. Принцесса Елизавета страстно увлекалась работами Декарта, который считал ее весьма способной ученицей, искренне восхищаясь и характером ее, и блестящим умом. Ей он посвятил свои «Начала» в 1644 г., причем назвал ее в посвящении дочерью короля Богемии, почтительно именуя ее отца титулом, отнятым у него врагами. В 1649 г., когда Вестфальский договор подвел итоги Тридцатилетней войны и, между прочим, обусловил передачу Нижнего Пфальца под власть Карла Людовика, старшего из оставшихся в живых сыновей «зимнего короля» Богемии, принцесса Елизавета решила вернуться в Пфальц вместе со своим братом. Она предложила и Декарту поселиться там же. К сожалению, план переезда Декарта в Пфальц не осуществился.
Мягкий климат богатой виноградниками долины Рейна явно гораздо лучше отразился бы на его здоровье, нежели суровая Швеция, где ему вскоре суждено было умереть, — Декарт отправился туда по приглашению королевы Кристины, пожелавшей вести с ним философические беседы. По мнению Белле, он принял это предложение главным образом потому, что рассчитывал представлять при шведском дворе интересы принцессы Елизаветы и Пфальцского княжества[306]. Столь сильная заинтересованность Декарта в делах Пфальца, проявившаяся в самом конце его жизни, заставляет нас еще раз задуматься над тем, что же все-таки было на уме у французского философа в те далекие годы, когда он путешествовал по Германии и Богемии. Может быть, он хотел обрести некое «просветление», секретом которого обладали «невидимые» розенкрейцеры? Или желал узнать последние достижения старинных и окутанных покровом тайны традиций? Какова бы ни была цель его поисков, не в кругах ли, близких несчастному отцу принцессы Елизаветы, искал он ответы на мучившие его вопросы?
Войны и религиозные гонения уничтожили многие следы, и невозможно с точностью реконструировать тот путь, каким европейская мысль двигалась от Ренессанса к «научной революции» XVII столетия: некоторые важные аспекты этого перехода могли вообще оказаться вне поля зрения историков.
IX. Фрэнсис Бэкон «В тени крыл Иеговы»
Ф. Бэкон (1561–1626). Миниатюрный портрет работы Николаса Хильярда. Национальная портретная галерея. Лондон
«Розенкрейцерский переполох», по всей видимости, почти не затронул внимания британской общественности. Не было потока памфлетов, адресованных розенкрейцерской Братии, как в Германии 1614–1620 гг. Никакие «невидимые» не развешивали своих объявлений[307], что могли бы вызвать неистовое любопытство и столь же неистовое негодование, — как в Париже 1620-х. «Трубные гласы» «Откровения», возвестившие начало новой эры и новый прогресс человеческого познания, кажется, были едва расслышаны на здешних островах.
Тут, правда, прозвучали свои «трубные гласы», и они произвели-таки должное впечатление, хотя и не казались столь страстными, как призывы розенкрейцерских манифестов, а скорее апеллировали к чувству меры и разуму. Я имею в виду «манифесты» о прогрессе человеческого знания, опубликованные Фрэнсисом Бэконом (см. илл. 27). Эти работы философ посвятил Якову I, тому самому монарху, который так и не оправдал надежд, возлагавшихся на него участниками розенкрейцерского движения в Германии.
Трактат «О Прогрессе Учености», опубликованный в 1605 г., дает трезвую оценку современного состояния наук, привлекая особое внимание к тем областям познания, в которых на данный момент имеются значительные пробелы; последние можно было бы сократить или вообще ликвидировать, если бы большее внимание уделялось практическим исследованиям и экспериментам (особенно это касается натурфилософии, находящейся, по мнению Бэкона, на очень низком уровне развития). Новое, более совершенное знание о природе может и должно быть использовано для облегчения участи человека, для улучшения его положения в этом мире. Бэкон настаивает на учреждении некоего научного сообщества, или братства, в рамках которого ученые могли бы обмениваться знаниями и помогать друг другу. Европейские университеты в настоящее время не в состоянии выполнить подобную задачу, потому что между ними нет достаточного взаимопонимания. А кроме того, истинное научное братство должно быть выше национальных разграничений[308]:
Воистину, подобно тому, как сама природа творит братство в семьях, и механические искусства созидают братства внутри общин, и божественное помазание налагает братские узы на королей и епископов, — так же и в процессе познания не может не сложиться братство на основе знаний и просветленности, восходящее к тому особому отцовству, что приписывают Богу, называя его Отцом просветления, или светов.
Если прочитать этот отрывок, помня об итогах наших разысканий, нельзя не обратить внимание на тот факт, что для Бэкона познание есть «просветление», то есть свет, нисходящий от Отца светов, и что ученое сообщество, которое он стремится создать, должно быть «братством на основе знаний и просветленности». Подобные выражения — не просто благочестивая риторика, от которой исследователь вправе отмахнуться; напротив, в контексте своей эпохи они кажутся весьма значимыми.
Девять лет спустя в Германии розенкрейцерское «Откровение» представило Братьев Креста-Розы как братство «просветленных», как сообщество ученых мужей, спаянное братской любовью; манифест призывал ученых магов и каббалистов делиться друг с другом своими знаниями, возвещал, что вот-вот будет достигнут значительный прогресс в познании природы. Параллель очевидна и наводит на мысль о том, что сравнение бэконианского и розенкрейцерского движений может оказаться плодотворным для понимания их обоих (возможно, идей Бэкона — в первую очередь).
Недавние исследования со всей ясностью показали, что традиционное представление о Бэконе как об ученом-экспериментаторе современного типа, освободившемся от оков исполненного суеверий прошлого, ни в коей мере не соответствует действительности. В своей книге о Бэконе Паоло Росси[309] прослеживает связь творчества этого мыслителя с герметической традицией, с ренессансной магией и каббалой, усвоенными им через посредство естествоиспытателей-магов. Будущее науки мыслилось Бэконом отнюдь не в образе прямолинейного прогресса. Его проект «Великого восстановления наук» подразумевал возврат к состоянию Адама до грехопадения[310], то есть к чистому и безгрешному общению с природой, к осознанию ее могущества. Той же концепции научного прогресса, прогресса вспять, к состоянию Адама, придерживался Корнелий Агриппа[311], автор популярного в эпоху Ренессанса пособия по оккультной философии. Научные воззрения самого Бэкона тоже не полностью освободились от оккультизма. В Бэконов обзор тогдашнего состояния наук включены такие дисциплины, как «естественная магия», астрология (которую он желал бы реформировать), алхимия (оказавшая на него глубокое влияние), искусство заклятий (как вспомогательная «магическая» дисциплина) и т. п. — эти темы обычно проходят мимо внимания исследователей, заинтересованных, прежде всего в выявлении современных аспектов творчества Бэкона.
Немецкие розенкрейцерские авторы также веровали в возвращение к мудрости Адама, а их взгляды на научный прогресс носили милленаристский характер. При сравнении их сочинений с бэконовскими напрашивается очевидный вывод: оба движения (если, конечно, оставить за скобками фантастический розенкрейцерский миф, эту «игру» или «шутку» — ludibrium) на самом деле имели в виду не просто научный, но логико-научный прогресс, «просвещение» в смысле обретения просветленности.
И тем не менее, хотя оба движения принадлежат одной и той же эпохе, оба, в конечном счете, восходят к ренессансной герметико-каббалистической традиции, оба призывают к переходу от ренессансного способа познания к более прогрессивной науке XVII века, — между ними существуют глубокие различия. Бэкон всячески подчеркивает свое неприязненное отношение к гордыне и самонадеянности ренессансных «магов». Особенно настойчиво он предостерегает своих читателей от слепого доверия Парацельсу, бывшему, как мы видели, своего рода пророком немецкого розенкрейцерского движения. Бэкон изучал Парацельсову систему, «приведенную к гармонии Северином Датчанином»[312], и пришел к выводу, что «старинное учение о человеке как микрокосме, а так же абстракции, или модели вселенной, было фантастическим образом искажено Парацельсом и алхимиками»[313]. Он, следовательно, критикует философию макро- и микрокосма, лежащую в основе Фладдовой и розенкрейцерской концепций мировой гармонии.
Другое серьезное различие во взглядах между Бэконовой и розенкрейцерской школами мысли состоит в том, что Бэкон не приемлет никакой «таинственности» в научных делах и осуждает алхимиков за давнюю традицию «сокрытия» описываемых ими процессов за непостижимыми символами[314]. Хотя авторы розенкрейцерских манифестов ратуют, как и Бэкон, за обмен знаниями между учеными мужами, сами они излагают свои идеи в форме мистификаций — таких, к примеру, как история о склепе Розенкрейца, наполненном геометрическими символами. Подобный символизм может скрывать под собой результаты глубоких математических исследований, осуществленных членами какой-то группы, — результаты, сулящие новые научные перспективы. Но даже если это и так, получается, что группа не обнародует полученные новые данные, а, наоборот, зашифровывает их, лишь разжигая нетерпение тех, кто желал бы узнать математические или другие научные секреты, таящиеся в розенкрейцерской пещере. Манифесты Бэкона написаны в противоположном духе, и именно отказ философа от использования приемов магико-мистических мистификаций придает его сочинениям современное звучание.
Работа «О Прогрессе Учености» была опубликована в 1605 г. «Новый Органон», книга, которую Бэкон написал на латыни, чтобы облегчить ее распространение в Европе, и которую сам он считал наиболее важным изложением своей философии и программы, вышла в свет в 1620-м. Перевод «Прогресса Учености» на латинский язык (De augmente) — пересмотренная версия английского издания — появился в 1623-м. Таким образом, читатели начали знакомиться с философией Бэкона за несколько лет до публикации первого розенкрейцерского манифеста; наиболее полное изложение этой философии увидело свет в тот роковой год, когда в Богемии царствовала «зимняя» монаршья чета; издание же латинского перевода «Прогресса Учености» совпало по времени с «розенкрейцерским переполохом» в Париже. Важно понять, что розенкрейцерское движение и творчество Бэкона развивались одновременно, что странный розенкрейцерский «фурор» распространялся по Европе в те самые годы, когда в Англии издавались бэконовские труды.
Несомненно, между двумя движениями существовали какие-то точки соприкосновения, но обнаружить и проанализировать их непросто. С одной стороны, наличие тесных связей между Англией и Пфальцем могло способствовать некоторому влиянию идей Бэкона на германское розенкрейцерское движение. С другой стороны, мы не должны забывать о серьезных различиях между розенкрейцерством и бэконианством.
Тот факт, что дочь короля Великобритании стала править в Пфальце, повлек за собой оживление сообщения между двумя странами и проникновение в эту часть Германии английских культурных влияний. К последним относится и знакомство немецкого читателя с бэконовским «Прогрессом Учености». Рассуждая чисто логически, нетрудно предположить, каким образом это сочинение могло оказаться в Пфальце. Оба супруга — Фридрих и Елизавета — много читали и интересовались новыми интеллектуальными движениями. Из Англии они привезли книги — мы знаем это потому, что в Праге у них был экземпляр «Истории Мира» Рэли[315] (попавший после захвата города в руки католиков, но каким-то образом вернувшийся потом в Лондон, в Британский музей, где он сейчас хранится)[316]. Так что, вполне вероятно, в Хайдельберге имелись и труды Бэкона. Известно, что позже, уже в изгнании, Елизавета интересовалась творчеством Бэкона; в юности, до замужества, она могла быть лично знакома с философом; он занимался постановкой одной из свадебных «масок». Другим распространителем идей Бэкона был, возможно, Михаэль Майер, поддерживавший оживленные связи с Англией как раз в то время, когда Фридрих и Елизавета правили в Пфальце. Благодаря Майеру немецкие алхимики познакомились с ранней английской алхимической традицией[317], и он же мог привезти в Германию труды Бэкона. Майер глубоко интересовался философской интерпретацией мифологии, и эта сторона учения Бэкона, нашедшая наиболее полное воплощение в книге «О Мудрости Древних» (1609), как раз и посвященной философской интерпретации мифа, должна была привлекать Майера и его последователей. Идея укорененности алхимической философии в древних мифах — одна из основ Майерова учения, но ведь и Бэкон возводил свою натурфилософию к мифологии[318]. Однако нам нет нужды слишком углубляться в детали, разыскивая возможные точки соприкосновения. Достаточно сказать, что распространение «англофильского» движения в Пфальце и окружающих его протестантских княжествах (связанное с большими надеждами, возлагавшимися в то время на Якова I) с неизбежностью предполагало и пробуждение интереса к творчеству великого философа яковитской эпохи Фрэнсиса Бэкона.
Тем не менее, как уже говорилось, между бэконианством и учением германских розенкрейцеров существуют принципиальные различия. Последнее прочнее связано с герметической и магической традицией, тогда как учение Бэкона кажется более рассудочным. Далее, мы проследили в германском движении следы влияния идей Джордано Бруно и, в еще большей степени, Джона Ди. Мы видели, что «иероглифическая монада», символ, в котором Ди обобщил свою философскую систему, встречается и в розенкрейцерской литературе. Бэкон же нигде не упоминает Ди, нигде не цитирует его знаменитую «Иероглифическую Монаду».
Известное возражение против отнесения Бэкона к фигурам первого плана в истории науки состоит в том, что он в своем проекте «прогресса учености» не уделил должного внимания математическим наукам, имеющим столь большую значимость; более того, он продемонстрировал собственную некомпетентность в этой области, отвергнув астрономическую теорию Коперника и теорию магнетизма Уильяма Гилберта[319]. Но, как я писала в статье 1968 г., Бэкон мог намеренно избегать подобных тем, пытаясь сделать все, от него зависящее, чтобы его программа не вызывала у читателей никаких ассоциаций с магией[320]. Ди, по распространенному убеждению, был магом и «заклинателем»; Джордано Бруно, еще один «герметический маг», в своей работе, вышедшей на английском языке, связывал появление теории Коперника с грядущим возвращением «египетской», то есть магической, религии[321]; что же до Уильяма Гилберта, то в его труде о магнитах, несомненно, ощущается влияние Бруно. По моему предположению, Бэкон не упоминал математические науки и теорию Коперника, скорее всего, потому, что в его представлении первые слишком четко ассоциировались с Ди и его «колдовством», а вторая — с Бруно и его неортодоксальным религиозным учением («египетской», или «магической», религией). Я напомнила сейчас об этой гипотезе, ибо она, как кажется, объясняет одно из главных расхождений между немецким розенкрейцерством и бэконианством. Розенкрейцеры не боятся ссылаться на Ди и его концепцию математических наук; Бэкон вообще не упоминает ни Ди, ни математику. Розенкрейцеры испытали на себе влияние Бруно; Бэкон же учение Бруно отвергает. В том и в другом случае Бэкон старается избегать тем, представляющихся ему чересчур опасными, чтобы защитить свою программу от «охотников на ведьм», от обвинений в колдовстве, которые в начале XVII столетия, если верить Ноде, легко мог навлечь на себя любой математик.
Размышляя о бэконовском подходе к науке и о его манере отстаивать научный прогресс, мы должны постоянно «держать в уме» характер и взгляды того монарха, чьей благосклонности Бэкон настойчиво добивался, пытаясь найти заинтересованного покровителя для своего проекта «прогресса учености». Эти попытки окончились ничем; по выражению Д.Г. Уилсона, Яков «не понял и не принял великий замысел Бэкона», не говоря уже о том, чтобы предложить ученому хоть какую-то помощь в осуществлении его проектов реорганизации научных учреждений. Получив в 1620 г. экземпляр «Нового Органона», король ограничился замечанием, что сей труд, подобен идее «всеобщего примирения в Господе» — он превосходит человеческое разумение[322].
Насколько я помню, никто из исследователей до сих пор не догадался связать недоверие Якова к бэконовскому естествознанию с тем смешанным чувством глубокого интереса и ужаса, которое король испытывал в отношении магии и ведьмовства[323]. Завороженность Якова этими предметами превратилась в своего рода невроз и явно уходила корнями в какие-то тягостные переживания ранней (не то детской, не то юношеской) поры. В своей «Демонологии» (1597 г.) Яков доказывает, что все ведьмы заслуживают смертной казни, хотя и призывает к соблюдению осторожности в ходе расследования подобных дел. К предмету, обозначенному в заглавии книги, король относился более чем серьезно, считая его особой отраслью богословия. Но он, конечно, был не тем человеком, что мог бы заняться выяснением достаточно запутанного вопроса: в каких случаях ренессансную магию и каббалу следует считать ценными идейными течениями, способствующими развитию науки, а в каких — просто разновидностями ведьмовства. Решение вопроса потребовало бы четкого разграничения «благой» и «вредоносной» магии, Яков же не интересовался наукой, а магия любого сорта внушала ему ужас.
Неудивительно, что, когда старый Джон Ди обратился к Якову с просьбой о помощи, желая восстановить свое доброе имя и заставить замолчать клеветников, обвинявших его в сношениях с демонами, король предпочел остаться в стороне. Этот некрасивый эпизод произошел в июне 1604 г.[324] Старик, внесший столь неоценимый вклад в культурный расцвет елизаветинского века, в правление Якова впал в немилость и окончил свои дни в крайней бедности в 1608 г. Бэкон не мог не знать, как Яков обошелся с Ди, и того, что стало с другими «ветеранами» елизаветинского века: никто из них, когда-то занимавшихся математикой и магией, дерзко бороздивших моря и сражавшихся с испанцами, при Якове не был уверен в своем будущем, не сохранил того положения, которое имел в правление Елизаветы. Графу Нортумберлендскому[325] и Рэли[326] (см. илл. 31) при Якове пришлось продолжить свои научные изыскания в тюрьме, в Тауэре, где вместе с ними математикой и алхимией занимался еще один ученый узник — Томас Хэриот[327].
Рассчитывая заинтересовать своими работами Якова I, Бэкон, очевидно, тщательно следил за тем, чтобы ничто в их тексте не напоминало королю о Ди и его «подозрительном» подходе к математическим наукам. Но, несмотря на все усилия, Бэкону так и не удалось перебороть недоверие короля к идее научного прогресса — одной осторожности в формулировках для этого было недостаточно.
Еще более неудачной была попытка расположить Якова в пользу пфальцских и богемских проектов его зятя, связав имя короля с движением, маскировавшим свои истинные цели рассуждениями о заколдованных склепах и незримых розенкрейцерских Братьях — тем более что в последних «охотники на ведьм» без труда изобличали колдунов. Среди многих ошибок, совершенных друзьями несчастного курфюрста Пфальцского, публикация розенкрейцерских манифестов, быть может, была наихудшей. Если до Якова дошел хоть какой-то слух о содержании манифестов и о причастности Фридриха к факту их появления, то, пожалуй, больше ничего и не требовалось, чтобы вызвать раздражение короля против зятя и навсегда похоронить надежду на его содействие богемскому проекту.
Так что Фрэнсиса Бэкона, дерзнувшего проповедовать «прогресс учености» (прежде всего в области естественных наук) в сложные времена правления Якова I, подстерегали на пути всяческие ловушки. Елизаветинская научная традиция была теперь не в чести, а немногие из оставшихся в живых ее представителей коротали свои дни вдали от двора или даже в заточении. Когда-то покойная королева Елизавета попросила Джона Ди объяснить ей «Иероглифическую Монаду»[328]; король Яков предпочитал не иметь никаких дел с автором этого произведения. Бэкон, публикуя в 1605 г. работу «О Прогрессе Учености», наверняка знал, как король всего лишь годом ранее оттолкнул от себя старика Ди. Но и те елизаветинские традиции, что были «экспортированы» в палатинат собственной дочерью Якова и ее супругом, не пользовались популярностью при английском дворе. Фрэнсис Бэкон был одним из тех, кому не нравился внешнеполитический курс Якова и кто пытался убедить короля оказать поддержку пфальцграфу. Но и тут автору английских манифестов о «прогрессе учености» приходилось действовать с большой осмотрительностью, не выказывая излишнего интереса к «подозрительным» идейным течениям, формировавшимся в Пфальце.
Бэкон придерживался осторожного курса, избегая подстерегавших его преград и ловушек, — ведь он выступил со своей программой содействия научному прогрессу в те самые годы начала XVII столетия, когда во всей Европе нарастала истерия «охоты на ведьм».
Вот и мы тоже с осторожностью продвигались через эту главу, завороженные идеей о возможном параллелизме между розенкрейцерством и бэконианством. Оба движения, казалось нам, хоть они и развивались независимо друг от друга, представляют собой как бы две части одной головоломки, и, сложив эти части вместе, мы узнаем что-то новое о каждом из них. До сих пор мы не предоставляли читателю информации о том, как сам Бэкон относился к розенкрейцерским манифестам. Теперь мы должны попытаться решить упомянутый вопрос, рассмотрев поразительные свидетельства, содержащиеся в утопическом романе «Новая Атлантида».
Бэкон умер в 1626 г. В 1627-м была опубликована найденная в его бумагах незаконченная и недатированная рукопись, в которой шла речь об идеальном религиозно-научном сообществе. Сочинение написано в форме аллегории и повествует о том, как застигнутые бурей моряки открыли неизвестную стран — Новую Атлантиду. Жители Новой Атлантиды сумели построить совершенное общество, осуществив свой эксперимент втайне от остального человечества. Они были христианами; христианство пришло к ним в незапамятные времена и приняло форму «евангелического» благочестия, подразумевающего, прежде всего, братскую любовь к ближнему. Они многого достигли и в научном познании мира. У них есть Великая Коллегия, именуемая Домом Соломона. Она представляет собой орден жрецов-ученых, которые осуществляют исследования во всех сферах искусства и науки и используют полученные результаты на благо людей. Сочинение, стало быть, подводит итог многолетним трудам Бэкона и посвящено проблеме, всю жизнь его интересовавшей: как обеспечить научный прогресс и извлечь из него максимальную пользу для человечества.
В этой фантазии, притче или ludibrium'e встречаются некоторые мотивы, памятные нам по розенкрейцерским манифестам, причем характер их использования не оставляет сомнения в том, что Бэкону был известен миф о Розенкрейце.
Прежде чем путешественники высадились на берег, чиновник из Новой Атлантиды вручил им свиток с инструкциями. «Свиток скреплен был печатью, изображавшей крыла серафимов, но не простертые, а опущенные книзу; а подле них крест»[329]. Розенкрейцерское «Откровение» тоже в конце как бы скреплялось печатью — девизом «В тени крыл Иеговы», и вообще, как мы видели, крылья украшали (в качестве характерной эмблемы) многие розенкрейцерские публикации[330].
На следующий день путешественников со всей возможной любезностью препроводили в Дом чужестранцев, где, между прочим, оказали необходимую помощь их больным. Путешественники хотели заплатить за медицинское обслуживание, но денег у них не взяли[331]. Читатель помнит, что одно из правил устава розенкрейцерской Братии, изложенного в «Откровении», обязывало лечить больных безвозмездно.
Через несколько дней гостей, нашедших приют в Доме чужестранцев, посетил еще один чиновник из Новой Атлантиды. На голове он носил белую чалму, «украшенную маленьким красным крестом»[332] — эта деталь еще раз подтверждает, что бэконовские моряки, потерпев кораблекрушение, попали в страну розенкрейцерских Братьев.
На следующий день чиновник в белой чалме, оказавшийся управителем Дома чужестранцев, явился к ним снова и любезно объяснил все то, что они пожелали узнать об истории и обычаях страны, о том, как здесь была принята христианская вера, а также о Доме Соломона — здешней коллегии мудрецов. После этого он предложил путешественникам спрашивать обо всем, что еще казалось им непонятным. Тогда гости заговорили об одном странном обстоятельстве, более всего поразившем их воображение: из рассказа управителя следует, что жители Новой Атлантиды говорят на всех европейских языках и, по всей видимости, прекрасно осведомлены и о делах «внешнего мира», и о достигнутом европейцами уровне научных знаний; о них же самих за пределами их родной страны никто никогда не слышал[333].
Но как могут островитяне знать языки, книги и историю тех, кто отделен от них таким расстоянием, — вот что кажется нам непостижимым и представляется свойством и особенностью божественных существ, которые сами неведомы и незримы, тогда как другие для них прозрачней стекла. Выслушав это, управитель добродушно улыбнулся и сказал, что мы недаром просили прощения за подобный вопрос; ибо, как видно, считаем его землю страной чародеев, посылающих во все концы света незримых духов, которые доставляют им сведения о чужих краях. На это все мы ответили с подобающей почтительностью, но, однако, показав, что поняли его шутку: «Да, мы действительно склонны думать, что остров имеет в себе нечто сверхъестественное, но скорей ангельское, нежели колдовское».
Далее управитель объясняет, каким образом мудрецы Новой Атлантиды узнают все, что происходит во внешнем мире, сами оставаясь «незримыми» для него. Это возможно потому, что из Новой Атлантиды периодически отправляют путешественников для сбора информации; они носят платье той страны, в которой пребывают, во всем следуют ее обычаям — и таким образом не привлекают к себе ничьего внимания. Вспомнив о первом розенкрейцерском манифесте, мы можем сказать, что посланцы Новой Атлантиды придерживаются одного из правил, обязательных для розенкрейцерских Братьев: те тоже не носили специальной одежды или каких-либо отличительных знаков, но подражали в платье и внешнем обличье обитателям той страны, где им случалось оказаться. В Новой Атлантиде действует такое установление: раз в двенадцать лет два корабля, на каждом из которых находится «по три члена Соломонова дома», отправляются в экспедицию для сбора сведений о состоянии искусств и наук. Возвращаясь, посланцы доставляют на остров книги, инструменты и свежие новости. Подобные экспедиции организуются не ради торговли заурядными материальными ценностями, «но единственно ради того, что создано Господом раньше всех других вещей, т. е. света — чтобы обрести свет, в каком бы конце земли он ни забрезжил»[334].
Итак, хотя Бэкон нигде в «Новой Атлантиде» не употребляет словосочетание «Розовый Крест», мы собрали достаточно подтверждений тому, что он был знаком с розенкрейцерским мифом и использовал его в своей притче. Новой Атлантидой управляют розенкрейцерские Братья; это они незримо путешествуют в качестве «купцов света» по всему миру, направляемые своей «незримой коллегией», которая у Бэкона именуется Домом Соломона. Они следуют уставу розенкрейцерского Братства: лечат больных безвозмездно, не носят специальной одежды. Более того, свиток, доставленный из Новой Атлантиды, был скреплен печатью с «крылами серафимов» — подобно тому, как розенкрейцерское «Откровение» «запечатано» словами о «крылах Иеговы». Вообще остров кажется порождением скорее ангельских, нежели колдовских сил, недаром один из представителей тамошней администрации носит чалму с красным крестом.
Современные исследователи творчества Бэкона не знакомы с розенкрейцерской литературой: она не входит в университетскую программу и до сих пор не привлекала к себе внимания историков философской или научной мысли. Однако читавшие «Новую Атлантиду» во времена, когда «Откровение» и «Исповедание» были у всех на устах, без труда узнавали в бэконовских персонажах розенкрейцерских Братьев и их Незримую Коллегию. Один из таких читателей оставил письменное свидетельство о своих впечатлениях. Я имею в виду Джона Хейдона, чья книга «Священноводитель», опубликованная в 1662 г.[335], в значительной мере представляет собой вариацию на темы «Новой Атлантиды». Когда человек в белой чалме с красным крестом приходит навестить больных, в передаче Хейдона он произносит следующие слова: «Я по должности управитель Дома чужестранцев, а по сану христианский священник, из Ордена Креста-Розы»[336]. Там, где Бэкон упоминает «мудреца из числа членов Соломонова дома», Хейдон говорит о «мудреце из числа членов Общества Розенкрейцеров»[337]. Хейдон прямо отождествляет Дом Соломона в Новой Атлантиде с «Храмом Розового Креста»[338]. В его книге достаточно и других рассуждений, связывающих «Новую Атлантиду» с «Откровением»; по сути, он воспринимает роман Бэкона как еще один розенкрейцерский манифест.
Многочисленные «розенкрейцерские» вставки, внесенные Хейдоном в текст «Новой Атлантиды», заслуживают специального подробного рассмотрения, которым сейчас мы заниматься не будем. И все же я не могу не упомянуть еще одну характерную деталь. Бэкон говорит, что в Новой Атлантиде хранятся некоторые из работ Соломона, которые в Европе считались утраченными. Хейдон дополняет это сообщение, утверждая, что на острове имеется «книга М», написанная Соломоном[339]. Согласно же «Откровению», «Книга М.» была обнаружена, в числе других сакральных реликвий, в гробнице Христиана Розенкрейца.
Конечно, судя по «Новой Атлантиде», Бэкон был знаком с текстом «Откровения», а интерпретация бэконовского романа у Хейдона позволяет говорить и о параллелизме обоих произведений; однако упомянутые обстоятельства вовсе не доказывают принадлежности английского философа к некоему тайному обществу — розенкрейцерскому или масонскому. Необоснованные гипотезы подобного рода суть искажение исторических фактов, насилие над ними. К сожалению, вполне понятное неприятие таких фантастических теорий[340] помешало серьезным историкам заметить неоспоримые свидетельства, доказывающие факт влияния «Откровения» на «Новую Атлантиду».
В будущем историки философской мысли должны будут очень серьезно исследовать этот факт в контексте развития немецкого розенкрейцерского движения. Религиозный настрой «Новой Атлантиды» имеет много общего с тем, что знаком нам по розенкрейцерским манифестам. Это интенсивное христианское благочестие, но ориентированное не на разработку доктринальных вопросов, а на практическую благотворительность в духе розенкрейцерских братьев. Религия Новой Атлантиды пропитана иудаистско-христианским мистицизмом, подобно христианской каббале. Местные жители с уважением относятся к евреям; свою коллегию они нарекли именем Соломона и ищут Бога в природе. Их великая коллегия, занимающаяся научными изысканиями, есть порождение герметико-каббалистической традиции. Мир Новой Атлантиды кажется не совсем реальным. Хотя он являет собой как бы воплощенное в жизнь пророчество о грядущей научной революции, сама эта революция мыслится отнюдь не в современном смысле, а в какой-то иной системе координат. Похоже, что жители острова осуществили «Великое восстановление наук» и в результате вернулись к состоянию Адама до грехопадения и изгнания из Рая — ведь именно таким образом и Бэкон, и авторы розенкрейцерских манифестов представляли себе конечную цель человеческого прогресса. Пожалуй, суть «Новой Атлантиды» яснее всего раскрывает тот эпизод, где путешественники обобщают свои впечатления об услышанном в вопросе: не находятся ли они в присутствии неких божественных существ, не заключается ли в самой «незримости» Братьев (которые, как мы знаем, были розенкрейцерами) нечто сверхъестественное, «но скорей ангельское, нежели колдовское». И хотя далее рассказывается, что управитель в ответ «добродушно улыбнулся» (восприняв слова чужеземцев как ludibrium?), а затем указал рациональную причину «незримости» посланцев коллегии, все же автор «Новой Атлантиды» сильно рисковал, можно сказать, балансировал на грани успеха и провала: ведь читатель мог принять его рассуждения о науке как не что «почти ангельское», но мог и отвергнуть их, сочтя «наущением диавола». А реакция последнего рода была далеко не исключена — достаточно вспомнить об «Ужасающих соглашениях», напечатанных в Париже несколькими годами ранее.
X. Итальянские вольнодумцы и розенкрейцерские манифесты
Гравюры Дж. Бруно (?) из его книги «Сто шестьдесят тезисов против… математиков» Слева направо: «Фигура всеединого ума» (figura mentis), «Фигура рассудка» (figura intellectus), «Фигура любви» (figura amoris). Прага, 1588.
Желание раскрыть все тонкости темы, которой посвящена эта книга, темы по масштабам скорее европейской, нежели национальной, вынуждает нас постоянно переноситься из одной страны в другую. Мы распрощались с Германией в тот момент, когда там закончился «розенкрейцерский фурор», переместились, вместе с волной антирозенкрейцерских преследований, во Францию, а затем отправились в Англию, дабы разобраться во взглядах Фрэнсиса Бэкона. Теперь мы еще раз обратимся к Германии кануна Тридцатилетней войны, чтобы понять, каким образом новые идейные течения, формировавшиеся вокруг фигуры пфальцграфа, взаимодействовали с духовной атмосферой современной им Италии. Нам придется вернуться к розенкрейцерским манифестам и к содержащейся в них любопытной «зацепке» на этот счет, в свое время намеренно оставленной нами без внимания.
В одной из предыдущих глав, рассказывая об «Откровении», мы упомянули, что в первом издании тексту манифеста предшествовал — в немецком переводе — отрывок из некоего итальянского сочинения, посвященного «всеобъемлющей и всеобщей реформации всего… мира». Мы в тот раз отложили рассмотрение этой итальянской интерполяции в немецкое издание до более поздней стадии нашего исследования. Теперь, наконец, настало время выяснить, как соотносился столь странный факт (публикация в одном томе с «Откровением» призыва итальянского автора ко всеобщей реформации) с событиями, имевшими место в самой Италии.
Тогдашняя ситуация в Италии (точнее, в Венеции) привлекала к себе пристальное внимание всех немцев, надеявшихся обрести нового политического лидера в лице Фридриха V, курфюрста Пфальцского, и уповавших на помощь его тестя, короля Якова. Дело в том, что в Венеции еще были живы антипапские настроения, сохранявшиеся с начала века, когда Паоло Сарпи возглавил оппозиционное антиримское движение, весьма заинтересовавшее и Якова, и английского посла в Венеции сэра Генри Уоттона[341].
В конфликте Венеции с папской курией, кульминацией которого стал папский интердикт 1606 г., позицию венецианского правительства отстаивал монах-сервит[342] Паоло Сарпи, действовавший строго в рамках законности и благодаря этому ставший известной и влиятельной фигурой для всех тех, кто желал сохранить в Европе дух вольномыслия. Что касается Якова, то его интерес к венецианским делам подогревался еще и кажущимся сходством между политикой Венеции по отношению к Риму и независимой позицией англиканской церкви. Сэр Генри Уоттон, чрезмерно восторженный для своей должности посла, одно время даже всерьез надеялся убедить венецианцев провести в своей республике преобразования в духе англиканской церковной реформы. Английский молитвенник был переведен на итальянский язык, и в посольстве стали совершать регулярные богослужения.
Наметившееся англо-венецианское сближение привело, между прочим, и к тому, что великий труд итальянского вольнодумца Сарпи впервые увидел свет не в Италии, а в Англии. Речь идет о знаменитой «Истории Тридентского собора», во всеуслышание объявившей о том, что протестантов на Собор не пригласили, что предложения более либерально настроенных французских католиков ни к чему не привели и что истинной целью собора было введение ужесточенного папского контроля над делами Церкви, а вовсе не поиски способов осуществления либеральной реформы. Борьба вокруг папского интердикта, пробудившая во многих сердцах симпатии к англиканской церкви, возымела неожиданные отклики в следивших за ее перипетиями европейских странах. Сенсационное событие — обращение в англиканскую веру в 1616 г. католического священника Антонио де Доминиса, архиепископа Спалатского[343], — было воспринято как предвестие грядущих перемен, благоприятных для тех кругов в Германии, что возлагали свои надежды на пфальцграфа и его царственную супругу — англиканку. Именно этот человек, де Доминис, впервые опубликовал «Историю Тридентского собора» Сарпи — в 1619 г., в Англии, на итальянском языке. Книга вышла с посвящением Якову I, где говорится, что итальянцы, неудовлетворенные положением религии у себя на родине, доверчиво обращают взоры к английскому монарху. В следующем году в Лондоне вышел латинский перевод труда Сарпи, выполненный бывшим наставником принца Генриха. Для тех лет было характерно волнующее ощущение постепенного сближения между Венецией и Англией на почве религиозного и политического взаимопонимания, обоюдного желания противостоять притязаниям посттридентского католичества и тем крайностям Контрреформации, за которые ратовали иезуиты и габсбургские державы.
Никто из историков, кажется, до сих пор не пытался исследовать связь этого движения с движением сторонников курфюрста Пфальцского[344]. А ведь князь Анхальтский поддерживал контакт с Сарпи, да и главный дипломатический представитель Пфальца барон Кристиан фон Дона в те годы часто посещал Венецию. Венецианское правительство, как и многие государи Европы, пыталось получить достоверную информацию касательно отношения Якова к богемскому предприятию его зятя. Венецианский посол писал в донесении дожу, помеченном ноябрем 1619 г., что возможное поражение приверженцев старой Империи в Богемии, скорее всего, отодвинет на неопределенный срок план подчинения Италии, вынашиваемый державами испано-габсбургского союза, и вообще повлечет за собой ослабление этих держав, «коего Ваша Светлость имеет все основания желать». Таким образом, «наше общее процветание зависит от успехов пфальцграфа»[345]. Оказывается, Пфальц, полностью выпавший из поля зрения историков, изучающих англо-венецианские отношения начала XVII столетия, в глазах современников тех событий, следивших за делами Венецианской республики, являлся весьма существенной частью общей картины. Наличие сильного правительства в Пфальце, княжестве, располагавшемся так близко от Венеции, на материковом пути в Англию, укрепляло позиции республики, помогало ей сопротивляться папству, сохраняя внутри своих границ — дольше, чем это было возможно в других государствах Италии, — режим относительной религиозной терпимости. А если бы Фридриху удалось убедить своих сторонников в наличии хоть каких-то реальных шансов на успех богемского предприятия, это должно было привести к усилению «либеральных» движений во всей Европе. Но случилось так, что надежды на помощь Якова на поверку оказались химерой, а поражение Фридриха под Прагой в 1620 г. прозвучало похоронным звоном для всех вольнодумцев Венеции, не говоря уже о Богемии и Пфальце[346]. Пересказывали язвительную реплику венецианского дожа: мол, если английский король собственную дочь не пожелал защитить, то другим и вовсе нечего от него ждать. Привилегированное положение, которым пользовался Генри Уоттон при доже и сенате республики, после 1620 г. было им утрачено. Венеция больше не ориентировалась на Англию; она погружалась, вместе с остальной Италией, в состояние безразличной покорности католическим властям.
Помещенный выше очень краткий обзор отношений Венеции с Англией и палатинатом должен послужить введением к анализу того переведенного с итальянского языка отрывка, что был опубликован в одном томе с «Откровением» и придал этому розенкрейцерскому документу и содержащемуся в нем призыву ко всеобщей реформе особое звучание: создавалось впечатление, что составители манифеста как бы оглядываются на Венецию, жители которой, как и они, не удовлетворены современным состоянием христианской веры.
Текст о «Всеобъемлющей и Всеобщей Реформации всего этого пространного Мира», напечатанный вместе с «Откровением»[347], представляет собой перевод на немецкий язык главы из сочинения Траяно Боккалини «Парнасские ведомости»[348], опубликованного в Венеции в 1612–1613 гг. Книга еще воспринималась как литературная новинка, одно из последних поступлений с книжного рынка Италии, когда в 1614 г. отрывок из нее, переведенный на немецкий язык, был включен в первое издание «Откровения». Боккалини разделял взгляды итальянских вольнодумцев, придерживавшихся радикальной антигабсбургской ориентации, дружил с Сарпи и другими итальянскими интеллектуалами из его окружения, в том числе и с Галилеем. Соответственно и книга «Парнасские ведомости» имеет ярко выраженную антигабсбургскую направленность: автор оплакивает порабощение Италии иноземными тиранами и скорбит о воспоследовавшем упадке итальянской культуры. Боккалини умер в 1613 г. Ходили слухи, что он был убит двумя неизвестными, вошедшими в его дом ночью и забившими его до смерти мешками, наполненными песком; однако новейшие исследования показали, что это предание не соответствует действительности[349]. Возможно, молва перенесла на самого Боккалини тот способ убийства, которым, как описано в его книге, воспользовались враги Евклида[350].
В «Парнасских ведомостях» сатира или горькая шутка обретают форму аллегории. Аполлон вершит свой суд на горе Парнас, и к нему являются различные персонажи, древние и современные, с жалобами на нынешний порядок вещей. Боккалини не протестант (Пико делла Мирандола в одном из эпизодов книги жалуется Аполлону на реформаторов, поднявших такой гвалт, что он не может больше предаваться размышлениям)[351]. Но он, во всяком случае, — сторонник религиозной толерантности: защита Бодена[352], обвиненного перед судом Аполлона в излишней веротерпимости, построена на обыгрывании того обстоятельства, что даже магометане более терпимы, нежели католики. Представляет интерес и другой эпизод, где Томас Мор жалуется Аполлону на распространение ересей и спрашивает, когда это наконец кончится. Это кончится, слышит он в ответ, когда рухнет мощь Габсбургов, ибо именно их тирания, по мнению Аполлона, порождает протестантский мятеж[353]. Сатира написана весьма тонко, но смысл всех эпизодов одинаков: конфронтация известных мыслителей, поэтов, ученых с миром реакции; жалобы на «Испанскую монархию», претендующую на гегемонию в Европе, и оплакивание судьбы порабощенной этой державой Италии.
В книге Боккалини изображен и Генрих IV Французский — как великий герой. В одном из самых удивительных эпизодов описывается скорбь, охватившая участников суда Аполлона при известии о смерти этого короля[354]. Аполлон безутешно рыдает, его сияние меркнет, он боится, что с кончиной столь великого человека утрачена последняя надежда на исправление существующего порядка вещей. Но из других глав мы узнаем, как стойко держатся Нидерланды. Не все еще потеряно, и людям доброй воли следует объединить свои усилия.
Глава из этой работы, которую сочли уместным напечатать (в немецком переводе) вместе с розенкрейцерским «Откровением», повествует о попытке Аполлона произвести всеобщую реформу земного мира[355]. Мир, как обнаруживает Аполлон, пребывает в отвратительном состоянии. Он узнает, что люди измучены ужасающими условиями существования и многие, находя жизнь непереносимой, отваживаются на самоубийство. Аполлон, испустив глубокий вздох, решает обратиться за советом к мудрецам и вместе с ними изыскать средства исправления сего удручающего положения. Мудрецы не скупятся на предложения, но все расхваливаемые ими способы исцеления отвергаются Аполлоном как непрактичные. Дело кончается тем, что реформаторы, увлекшись всякими пустяками, напрочь забывают о своем первоначальном намерении произвести глубокие и всеобъемлющие преобразования. Увечья эпохи кое-как маскируют старыми лохмотьями, но в итоге она остается столь же отвратительной, как была.
Автор, что вполне очевидно, пародирует в этом эпизоде Тридентский собор. Для каждого, кто входил в окружение Сарпи, Тридентский собор воплощал неудавшуюся реформацию, попытку произвести серьезные преобразования, вылившуюся в усиление церковной дисциплины, но не решившую основных стоявших перед эпохой проблем. У Боккалини были собственные идеи о том, чем болен его век и в чем должна заключаться истинная реформация. Выразителем этих идей в своей книге он сделал мудрейшего из людей, Солона. По мнению Солона, основной изъян нынешней эпохи — отсутствие любви:
Что повергает Век сей в великую смуту, так это лютая ненависть и злобная зависть, кои в наши дни, как все видят, безраздельно царствуют меж людей. Единственное же исцеление от нынешних зол, на которое возлагаем упования, состоит в научении рода человеческого Милосердию, взаимной привязанности и той освященной свыше любви к Ближнему, что есть главнейшая заповедь Божия; а посему нам подобает трудиться, употребляя все свои умения, ради искоренения причин, от которых возгорается сия ненависть, царствующая ныне в человеческих сердцах.
Если отвлечься от заметных стилистических различий, становится очевидным, что отрывок из Боккалини заключает в себе идеи, весьма близкие содержащимся в «Откровении»: необходимо осуществить новую реформацию, поскольку все прежние попытки такого рода провалились; возглавить эту реформацию должно некое движение, вдохновляемое, прежде всего, христианской любовью и милосердием. Вымышленная история о суде Аполлона содержит в себе тот же призыв ко взаимной доброте, что и миф о Христиане Розенкрейце и его Братстве. Правда, Боккалини ничего не говорит об интеллектуальном просвещении, которому придается столь большое значение в «Откровении», да и тон его повествования — печальный и безнадежный, в отличие от брызжущего оптимизмом розенкрейцерского манифеста.
Факт публикации отрывка из Боккалини под одной обложкой с «Откровением» показывает, что автор, или авторы, розенкрейцерского манифеста, составляя свое послание, имел(и) в виду и Италию, точнее, Венецию. И, уж конечно, политико-религиозная ориентация Боккалини, его антигабсбургские взгляды были понятны и близки тем кругам, откуда вышли розенкрейцерские манифесты. А от идей Боккалини тянется прямая нить к воззрениям Джордано Бруно. Боккалини, скорее всего, испытал влияние Бруно[356]: ведь его взгляды так похожи на взгляды великого философа, а умение воплотить в слове гигантскую картину (такую, например, как «Суд Аполлона»), наполненную мифологическими персонажами и заключающую в себе сложный политико-религиозный смысл, напоминает мощную «словесную живопись» в бруновском «Изгнании торжествующего зверя»[357] (Spaccio della bestia trionfante).
В молодости Джордано Бруно тоже «ожидал великих свершений» от Генриха IV[358]. Он много путешествовал по Европе[359], пытаясь отыскать те силы, что могли бы поддержать Италию в ее борьбе против испано-австрийской гегемонии. Такую поддержку он рассчитывал получить от французской монархии, которую олицетворял тогда Генрих III, но искал ее и в елизаветинской Англии, стране рыцарей и поэтов, и в лютеранской Германии. Бруно вернулся в Италию, когда обращение Генриха IV в католичество, казалось, сулило его стране скорое наступление новой эры большего «либерализма» и веротерпимости. За свой преувеличенный оптимизм ученый поплатился жизнью: в 1600 г. он был сожжен на костре.
В те годы, о которых идет речь, отношение Генриха IV к основным задачам, стоявшим перед его эпохой, так привлекавшее и Бруно, и Боккалини, во многом совпадало с позицией Кристиана Анхальтского и Пфальцского княжества вообще. Князь Анхальтский и правители Пфальца были готовы поддержать вторжение французского короля в Германию, но поход не состоялся: в 1610 г. Генрих был убит. Боккалини в своей книге сумел выразить отчаяние, охватившее всех итальянских вольнодумцев, когда эти планы провалились. Напечатав отрывок из Боккалини вместе с «Откровением», авторы розенкрейцерского манифеста тем самым показали, что помнят об Италии, подчеркнули связь розенкрейцерства с тайными мистическими, философскими и антигабсбургскими идейными течениями итальянского происхождения.
Джордано Бруно, странствуя по Европе, провозглашал грядущую всеобщую реформацию мира, основанную на возвращении к «египетской» религии герметических трактатов. Обновленная вера преодолеет религиозные различия посредством любви и магии и будет основываться на новом видении природы, достигаемом путем герметических медитативных упражнений. Бруно проповедовал эту религию, облекая ее суть в мифологические одежды, во Франции, Англии и Германии. По его словам, он организовал в Германии секту «джорданистов»[360], имевшую большое влияние среди лютеран. В другом месте я уже высказывала предположение, что между бруновскими «джорданистами» и розенкрейцерским движением могла существовать связь, что, возможно, идеи Бруно косвенным образом воздействовали на формирование концепции той реформы, к которой призывали розенкрейцерские манифесты. Использование издателями «Откровения» отрывка из Боккалини как будто подтверждает мою догадку, ведь этот автор — представитель бруновского направления политико-религиозной мысли.
В одной из предыдущих глав настоящей книги мы рассматривали подход Михаэля Майера к мифологии, и пришли к выводам, вроде бы указывающим в том же направлении. Мышление Майера насквозь пропитано «египетским духом», или, говоря другими словами, крайне мистическим герметизмом, что сближает этого философа с Бруно. Правда, Майер в одной из своих работ, высказываясь непосредственно по поводу «Всеобщей Реформации Мира» (то есть боккалиниевского отрывка, включенного в публикацию «Откровения»), делает все возможное, чтобы принизить значимость упомянутого текста. Он, к примеру, недвусмысленно утверждает, что «Всеобъемлющая и Всеобщая Реформация» ничего общего не имеет с «Откровением» и была напечатана вместе с этим манифестом по чистой случайности[361]. Заявление очень странное, поскольку отрывок из Боккалини был включен не только в первое, но и в два последующих издания розенкрейцерского документа, и трудно поверить, будто подобное могло получиться случайно. Возможно, Майер попытался отмежеваться от имени Боккалини потому, что был напуган реакцией на появление манифестов, тем, как в определенных кругах намеренно искажали вложенный в них смысл.
А вот Иоганн Валентин Андреэ, знавший, пожалуй, больше других о розенкрейцерских манифестах, свидетельствует, что Боккалини пользовался значительным влиянием в близких к нему, Андреэ, кругах. В своей работе 1619 г. «Христианская мифология… в трех книгах» Андреэ посвятил «Бокалину» целый раздел, где, между прочим, упоминает об ополчившихся на итальянца «злобных глупцах»[362]. Поток используемых им в этом месте яростных выражений напоминает бруновские обличения «педантов»[363]. Вообще же, по моему мнению, во всей «Христианской мифологии» прослеживаются следы влияния Боккалини: Андреэ обращается к образам знаменитых деятелей, древних и современных, чтобы обиняком намекнуть на злободневные события — в сатирическом ключе, весьма близком к тону Боккалини. Таким образом, «Христианская мифология» вроде бы подтверждает неслучайность включения отрывка из Боккалини в публикации «Откровения».
Андреэ и лица из его окружения пристально следили за тогдашней обстановкой в Италии — это доказывает, среди прочего, их интерес к работам Томмазо Кампанеллы[364]. Кампанелла, подобно Бруно, был превратившимся в бунтаря доминиканским монахом. В 1600 г. он возглавил в Южной Италии выступление против оккупационных испанских сил. Как раз в том году в Риме окончил свою жизнь на костре Джордано Бруно. Мятежники под водительством Кампанеллы потерпели поражение; сам он попал в плен, подвергся пыткам и почти всю оставшуюся жизнь провел в узилище неаполитанского замка[365]. В тюрьме он создал свой «Город Солнца» — книгу об идеальном городе, управляемом жрецами-герметиками, которым удалось благодаря использованию благой научной магии сделать жизнь горожан счастливой и добродетельной. «Город Солнца» продолжает ряд великих утопий, фантазий об идеальных обществах, пользовавшихся популярностью и в розенкрейцерских кругах. Эта книга оказала глубокое влияние на Андреэ, которому самому предстояло стать автором одной из наиболее значительных утопий.
Кампанелла имел двух учеников-немцев, навещавших его в неаполитанской тюрьме. Звали их Тобиас Адами и Вильгельм Вензе, и оба были близкими друзьями Андреэ. Они привозили в Германию, для Андреэ, рукописи Кампанеллы, и среди них — «Город Солнца», изданный в переводе на латинский язык во Франкфурте в 1623 г. (Как и «История Тридентского собора» Сарпи, «Город» Кампанеллы пополнил список великих и прославленных итальянских сочинений той эпохи, опубликованных за пределами своей страны; подобный «культурный экспорт» ясно свидетельствует, сколь пагубные последствия имело для Италии установление режима тирании.) Вензе и Адами находились в Тюбингене и общались с Андреэ примерно в то самое время, когда издавались розенкрейцерские манифесты. А поскольку Андреэ и люди из его окружения всерьез интересовались Кампанеллой, да к тому же (благодаря Адами и Вензе) были прекрасно осведомлены об итальянских делах, их желание опубликовать вместе с «Откровением» отрывок из Боккалини, отражающий антигабсбургские настроения в Италии, выглядит достаточно естественным.
Чтобы вырваться из тюрьмы, Кампанелла решился на отречение от своих прежних революционных идей и стал писать работы, доказывающие, что у кормила универсальной мировой монархии должны стоять ортодоксальные силы. В сочинении «Об Испанской Монархии», созданном в тюрьме и опубликованном в 1620 г., он прямо предлагает Испании возглавить мировую державу[366]. Бунтарь, воплотивший свое видение всемирной герметической реформы в «Городе Солнца», в итоге капитулировал перед теми, кто обладал реальной властью. Заслуживает внимания и дата публикации «Испанской Монархии» — 1620, роковой год.
Врата, которые, согласно пророчеству «Откровения», должны были открыться в Европе, в 1620 г. наглухо захлопнулись. Суд над Галилеем в 1633-м прикрыл последнюю лазейку и для Италии.
До того, как 1620 г. подвел черту под целой эпохой, в Европе можно было наблюдать сосуществование многих, переплетавшихся между собою потенциальных линий развития, но после упомянутой даты все они оборвались, и самая память о них была изглажена — в результате современному историку даже и в голову не приходит, что некоторые события в Рейнском Пфальце были далеко не безразличны венецианцам. Зато просвещенные англичане, благочестивые приверженцы англиканских принципов, наблюдавшие из своей страны за тем, что происходит в Европе, видели в венецианском движении сторонников Сарпи и наметившемся сближении между Англией и Венецией линию развития, очевидным образом связанную с пфальцским движением, которое в свою очередь находилось в тесном родстве с английскими идейными течениями — через посредство супруги курфюрста, англиканки. Мы можем проследить, как упования на Пфальц и на Венецию (или, лучше сказать, на пфальцскую и венецианскую концепции религиозной реформы) сливаются воедино в умах двух поэтов и близких друзей, Джона Донна и Генри Уоттона. Поклонение Донна Елизавете Стюарт доходило до религиозного экстаза — еще во время свадебных торжеств он заклинал ее стать «новой звездой»:
В то же время Донн был страстным почитателем Сарпи: в зрелом возрасте он даже повесил в своем кабинете портрет великого венецианца[367]. Уоттон также сочетал дружбу с Сарпи и глубокую личную заинтересованность в религиозной политике Венеции с лелеемым на протяжении всей жизни культом Елизаветы. Знаменитое стихотворение Уоттона, посвященное «моей госпоже королеве Богемии» (то, где Елизавета сравнивается с розой, королевой цветов), было написано в Гринвичском парке в июне 1620 г. — как раз накануне обрушившейся на нее катастрофы.
Однако в задачи настоящей главы вовсе не входит рассмотрение вопроса, как отражались в литературе или поэзии те ситуации, о которых в ней шла речь. Нас эти ситуации интересуют лишь в одном аспекте — с точки зрения их связи с темой розенкрейцерства. Предпринятый нами анализ розенкрейцерского «Откровения» остался бы не завершенным, если бы мы не попытались изучить и тот переведенный на немецкий язык отрывок из Боккалини, что был опубликован вместе с ним.
Теперь, когда мы это проделали, у нас появилась возможность составить несколько более отчетливое представление о смысле розенкрейцерского манифеста. Его авторы так настойчиво призывают ко всеобщей реформации именно потому, что две другие реформации провалились. Протестантская реформация постепенно слабеет, она раскололась на обособившиеся друг от друга направления. Католическая Контрреформация вообще избрала неверный путь. Следовательно, необходимы новые всеобъемлющие преобразования мирового масштаба, третья реформация, что обретет свою силу в евангелическом христианстве, основанном на идее братской любви, а также в эзотерической герметико-каббалистической традиции, нацеленной на познание творений Божиих в Природе и потому поощряющей дух научных исканий и научающей использовать науку и магию (или, выражаясь точнее, магическую науку и научную магию) на благо человека.
XI. Розенкрейцерское братство и христианские союзы
План Христианополя. И.В. Андреэ. Описание Христианопольской Республики. Страсбург, 1619.
Где-то около 1617 г., то есть за несколько лет до взрыва всеевропейской войны, Иоганн Валентин Андреэ как будто бы изменил свое отношение к «Христиану Розенкрейцу» и его Братии. Миф, к которому сам Андреэ вначале отнесся с восторженным энтузиазмом, как к средству осуществления всеобщей реформации и прогресса человеческого знания, теперь, похоже, вызывает у него лишь пренебрежение, кажется суетным ludibrium'ом. Отказавшись от сего «измышления», он стал горячим поборником идеи создания «христианских союзов», или «христианских сообществ». Эти сообщества, или союзы, должны были вдохновляться целями, весьма близкими тем, к которым призывали розенкрейцерские манифесты. Предполагалось, что они станут действенным выражением религиозного обновления, то есть новой реформации, что они будут способствовать — посредством наставлений и личного примера — распространению христианского милосердия и братской любви и, наконец, что они всерьез займутся интеллектуальной и научной деятельностью во благо человечества. Однако подобные объединения, хотя и воспроизводили в общих чертах модель религиозного сообщества, описанного в манифестах, отличались от последней в двух существенных аспектах. Во-первых, они не облекали свои цели в покровы розенкрейцерского мифа, а излагали их более прямо и открыто. И, во-вторых, они вышли из тумана «незримости» (а может быть, и «небытия») на осязаемую, реальную почву. По крайней мере, одна из таких групп, «Христианское Общество» (Societas Christiana), доподлинно существовала. «Общество» было основано Андреэ между 1618 и 1620 гг., действовало какое-то короткое время накануне войны, но очень скоро — в те страшные годы, что последовали за 1620-м, — прекратило свое существование. Исчезновение, однако, не было бесследным, ибо группа Андреэ оказала непосредственное влияние на создание другого общества, которому, в отличие от нее, было суждено большое будущее.
Теперь нам предстоит детальнее разобраться в том, что мог иметь в виду Андреэ, называя розенкрейцерское Братство ludibrium'ом, то есть «(театральной) игрой», проследить изменения в его отношении к подобному «театрализованному» способу коллективного самовыражения и сравнить «игру» в розенкрейцерское Братство с реальной деятельностью «Христианского Общества».
В сознании людей того времени подлинные подмостки и театральные здания каким-то смутным образом соединялись со всеобъемлющим уподоблением мира театру, а человеческой жизни — играемой на сцене роли[368]. Шекспир не был первым, кто заявил, что «весь мир — театр»; этот образ прочно входил в ментальность эпохи и, между прочим, постоянно встречается в работах Андреэ. В юности, как мы помним, Андреэ с восторгом воспринял уроки драматургии, преподанные ему заезжими труппами английских актеров, и использовал полученные знания, придав драматическую форму своей блистательной «Химической Свадьбе» 1616 г. Интерес Андреэ к театру, присущий ему истинно драматургический склад мышления следует непременно учитывать, если мы хотим понять, почему так часто в своих работах он отзывается о розенкрейцерской Братии как о ludibrium'e. Может быть, этот латинский термин не всегда выражает пренебрежение к определяемому им объекту? В самом деле, анализируя высказывания Андреэ, мы обнаруживаем, что, хотя во многих случаях он как бы умаляет достоинства розенкрейцеров, называя их простыми актерами, комедиантами, легкомысленными и глупыми людьми, в других местах своих сочинений он, напротив, высоко оценивает значимость профессии актера, пьес и драматического искусства как такового, считая последнее весьма полезным средством для поддержания социального и морального здоровья общества. Как же соотносятся между собой столь противоречивые оценки? Чтобы ответить на этот вопрос, посмотрим на нескольких примерах, в каких контекстах использует Андреэ «театральные» метафоры.
В сочинении «Менипп, или Сотня сатирических диалогов», опубликованном в 1617 г. (в качестве места издания указан «Геликон близ Парнаса»), Андреэ не скупится на резкие выражения в адрес Братства Креста-Розы, называя его «не более чем игрой — ludibrium'ом — для любопытствующих, обманувшей тех, кто попытался свернуть на извилистую и неторную тропинку вместо того, чтобы следовать истинным и простым путем Христовым»[369]. В этих словах определенно слышится осуждение. В другом сочинении, «Странники в отечестве заблуждений», якобы напечатанном в «Утопии» в 1618 г., можно найти пессимистические высказывания о том, что мир подобен лабиринту и взыскующие истинного знания не находят в нем ничего, кроме суетных измышлений[370]. В рассуждении о «подмостках» мир сравнивается с амфитеатром, где ни один актер не предстает в своем истинном облике, но все они — ряженые[371]. В данном случае, употребляя «театральную» метафору, автор явно стремится убедить читателя в том, что земной мир — юдоль обмана.
«Христианская мифология» 1618 г., сочинение, демонстрирующее прекрасную осведомленность Андреэ о последних событиях политической и культурной жизни (правда, намеки на эти события отрывочны и намеренно затемнены), содержит множество рассуждений о драме и театре. Эта работа разделена на книги (а те в свою очередь — на коротенькие главки) и в своей совокупности поражает воображение читателя разнообразием затронутых тем. В главке «Трагедия»[372] автор весьма одобрительно отзывается о драматических представлениях. В другой главке, «Представление» (Representatio)[373], он утверждает, что Комедия научает людей подобающей им скромности и знанию правды. В отдельной главе[374] излагается сюжет «морализующей» комедии в пяти актах (эту главу было бы интересно сравнить с описанием пятиактной пьесы в «Химической Свадьбе»). В главке «Мимы»[375] Андреэ с большой симпатией отзывается об актерах, а в главе «Игрища» (Ludi)[376] приходит к совсем уже неожиданному для нас заключению, что сооружение публичных театральных зданий для показа пьес (ludos) и обеспечение их пышными декорациями и костюмами является истинным проявлением христианского благочестия. Ведь театр чрезвычайно полезен как средство обучения молодежи и воспитания всего народа, он обостряет ум, доставляет удовольствие старикам, позволяет женщинам увидеть себя со стороны, развлекает бедняков. Он признает, что суровые основоположники церковной догмы не одобряли театральных зрелищ, однако их «более близкие к нынешним временам (recentiores)» восприемники вполне допускают существование «пристойной комедии». Этот отрывок представляет собой своеобразную оправдательную речь в защиту театров как полезных просветительских и социальных институтов, которым истинные христиане должны оказывать всяческую поддержку.
Разумеется, говоря о «более близких к нынешним временам» теологах, одобряющих «высокоморальные и благочестивые» театральные постановки, Андреэ имеет в виду иезуитов. Но был ли готов сам Андреэ с такой же благосклонностью отнестись к иезуитскому «драматическому действу»?
Во всяком случае, высокая оценка общественного значения пьес, комедий, «игрищ» (ludi) в «Христианской мифологии» Андреэ должна быть непременно принята во внимание при рассмотрении тех мест упомянутого сочинения, где самое Братство Креста-Розы характеризуется как ludibrium, то есть «комедия». В главке «Братство» определенно идет речь об обществе розенкрейцеров. Именно оно названо «достойным восхищения Братством, разыгрывающим комедии по всей Европе»[377]. Высказывания подобного рода ставят современного читателя в тупик — а ведь они проскальзывают во многих работах Андреэ, постоянно возвращавшегося к теме театра и драматургии, страстно увлеченного ею, но так и не выработавшего ясной и окончательной точки зрения на этот счет.
Не углубляясь далее в совершенно новые и непривычные вопросы, связанные с театральными увлечениями Андреэ, я все же упомяну, в качестве «приманки» для тех, кто пожелал бы заняться более детальным изучением литературы «розенкрейцерского фурора» в Германии, что, возможно, им удастся обнаружить связь между гастрольными поездками английских актеров и распространением розенкрейцерских идей. Кстати, Бен Джонсон в одной из своих «масок» («Счастливые острова», 1625 г.) по не совсем понятным для нас причинам тоже ассоциирует розенкрейцеров с актерами — в том эпизоде, где он с поразительной точностью описывает малодоступное розенкрейцерское издание и при этом остроумно обыгрывает тему «незримости» розенкрейцерских Братьев[378].
Итак, частое обращение к «театральной» образности в рассуждениях Андреэ о розенкрейцерских Братьях, возможно, было обусловлено некими фоновыми составляющими его творчества, подлинную значимость которых мы только сейчас начинаем смутно понимать. Андреэ обладал талантом и воображением, он легко воодушевлялся новыми впечатлениями, полученными извне. Особенно сильное влияние, как я уже говорила, оказали на него гастролирующие английские актеры, послужившие источником вдохновения для его первых литературных опытов. Андреэ всерьез увлекался драматическим искусством, и это обстоятельство наводит на мысль, что «игра» с легендой о Христиане Розенкрейце и его Братстве была не злонамеренным или легкомысленным розыгрышем читающей публики, а своеобразной театрализованной презентацией очень интересно го религиозного и интеллектуального движения. Сам же Андреэ являет собой печальный пример человека, родившегося «не в ту эпоху», — человека высокоодаренного и самобытного, оказавшегося в некотором смысле предшественником Гёте (я имею в виду драматургически-философский склад его ума), но которому, тем не менее, пришлось отречься от собственного призвания и жить в постоянной изматывающей душу тревоге, вместо того чтобы спокойно пожинать плоды успеха, казалось бы, заранее предопределенного благородством его натуры, замечательным интеллектом и творческим воображением.
Без сомнения, Андреэ был чрезвычайно обеспокоен «розенкрейцерской шумихой», тем направлением, в котором стали развиваться связанные с ней события после 1617 г.; он видел, что общественный ажиотаж, вместо того чтобы способствовать делу «всеобщей реформации», становится все более опасным для зачинщиков «игры», а посему попытался приостановить поток откликов на розенкрейцерские воззвания или, по крайней мере, направить его в другое русло.
В самом конце «Христианской мифологии» помещен диалог между Филалетом и Алетеей (то есть «Правдолюбцем» и «Правдой»). Как считают Уэйт[379] и Арнольд[380], этот текст доказывает, что Андреэ перешел в лагерь противников розенкрейцерского движения, быть может, испугавшись тех туч, которые начали сгущаться над «Невидимым Братством». «Правдолюбец» спрашивает у «Правды», что она думает о Братстве Креста-Розы, входит ли она сама в это сообщество или, быть может, имеет с ним какие-то общие дела. «Правда» отвечает твердо: Planissime nihil («Абсолютно никаких»). То есть она, по существу, отвечает только на последнюю часть вопроса, и потому ответ получается уклончивым. Но давайте посмотрим, что она говорит дальше[381]:
Абсолютно никаких [общих дел с Братством Креста-Розы не имею]. Когда, не так давно, некоторые литераторы, работающие для театра, занялись постановкой пьесы, в которой действовало несколько не совсем обычных персонажей, я оставалась в стороне, подобно всякому, кто следит за происходящим, отдавая должное веяниям века сего, столь жадно хватающегося за все новомодные изобретения. Как зритель, я, надо сказать, не без удовольствия созерцала битву книг, не сразу заметив, что произошла полная смена актеров. Однако ныне, видя, что театр полнится препирательствами, что мнения сталкиваются слишком непримиримо, что противоборствующие стороны не гнушаются туманных намеков и умышленных оговоров, я поспешила со всей решимостью отстраниться от всего этого, дабы не оказаться замешанной в столь сомнительное и скользкое дело.
Итак, Андреэ, судя по процитированному отрывку, отрекся от розенкрейцерского Братства вовсе не потому, что считал его «театром» или «пьесой», поставленной «литераторами». Нет, он воспринимал с одобрением и удовольствием «театральный», «комедийный», «игровой» антураж розенкрейцерского «действа»: недаром он сам признает, что был в числе «зрителей», прекрасно понимал сюжет «спектакля» и видел, как все начиналось. Поскольку же он считал театр достойным и имеющим воспитательное значение институтом, ничто не мешало ему отнестись к ludibrium'y розенкрейцерского Братства как к драматургической «презентации» благотворных, полезных для общества предложений. Настораживает Андреэ совсем другое: тот факт, что в первоначальное движение влились новые люди, новые актеры, в результате чего все «действо» оказалось испорченным.
Когда в 1618 г. вышла в свет «Христианская мифология», «розенкрейцерский фурор» был в самом разгаре. Предприняв более тщательное исследование тогдашней литературы, мы, возможно, даже смогли бы выяснить, какие именно «губительные новшества» и «умышленные оговоры» (вероятно, речь идет о начале «охоты на ведьм») так сильно встревожили Андреэ, что он поспешил отмежеваться от розенкрейцерского мифа.
Однако самая пикантная и любопытная часть всей этой странной истории заключается в том, что предполагаемое отречение Андреэ от Христиана Розенкрейца тоже было своего рода ludibrium'ом, мистической шуткой (в понимании почитателей сего вымышленного персонажа). Это с очевидностью обнаруживается при внимательном изучении предисловия к самому важному произведению Андреэ, описывающему идеальный, иначе говоря, утопический град Христианополь.
«Описание Христианопольской Республики» (Republicae Christianopolitanae Descriptio), опубликованное постоянным издателем Андреэ Лазаром Цетцнером в Страсбурге в 1619 г., — произведение достаточно известное, занимающее почетное место в европейской литературе; его автора по праву относят к «младшим классикам» утопической традиции, ведущей свое происхождение от Томаса Мора. Публикация перевода этого сочинения на английский язык[382] не только сделала его доступным для широких кругов англоязычных читателей, но и подсказала идею сопоставления книги Андреэ с современной ей «Новой Атлантидой» Бэкона; в результате «Христианополь» превратился в своего рода «наземный ориентир», хорошо известный всем исследователям культурного ландшафта начала XVII столетия. Мы, однако, открываем для себя сей ландшафт, двигаясь по непроторенной тропинке, петляющей в розенкрейцерских дебрях; а посему и андреэвский град-«ориентир» предстанет перед нами в несколько ином ракурсе, чем перед читателем хрестоматийных исторических монографий: ведь мы увидим его не с комфортабельной и надежной автомагистрали, а после долгого пешего пути, не успев забыть об ужасах «розенкрейцерского фурора».
Предисловие к «Христианополю» начинается с оплакивания церкви Христовой, которую угнетает антихрист; при этом автором движет твердая решимость восстановить былой свет и рассеять тьму[383]. За реформацией Лютера ныне должна последовать новая реформация. Лютеровскую драму можно и должно сыграть еще раз, уже в наши дни, ибо «свет более чистой религии воссиял на нас».
«Мужи ревностного духа» (к которым он причисляет Иоганна Герхарда, Иоганна Арндта, Маттеуса Моллера)[384] уже призвали народ к покаянным размышлениям и духовному обновлению, провозвестили, что христианское благочестие вновь изольется широким потоком и что срок сему уже близок. «Некое Братство» тоже выступило с подобными обещаниями, однако, вместо того чтобы преуспеть в осуществлении своих благих намерений, лишь повергло народ в сильнейшее смущение. Андреэ, конечно, имеет в виду «фурор», разразившийся вслед за публикацией розенкрейцерских манифестов[385]:
Некое Братство (по моему мнению — в шутку, но, если верить богословам, — вполне всерьез) ‹…› сулило ‹…› величайшие и необыкновеннейшие вещи, притом именно те, к которым обычно стремятся люди; оно также внушало преувеличенную надежду на исправление существующего ныне извращенного миропорядка и ‹…› возможность подражания деяниям Христовым. Какое смятение умов воспоследовало за сообщением об этом деле, какие распри среди ученых мужей, как были взбаламучены и потрясены мошенники и шарлатан — о том нет нужды и говорить. Некоторые ‹…› охваченные слепым ужасом, пожелали сохранить свои прежние, устаревшие и ложные позиции в неприкосновенности и защищать их силой. Другие поспешили отказаться от своих мнений и ‹…› потянулись к свободе. Третьи ‹…› выдвигали обвинения против самих основ христианской жизни, объявляя их ересью и фанатизмом ‹…› Пока все они ссорились между собою и толпились на торжищах, многим другим представился случай взглянуть на происходящее и вынести собственное суждение об этих вопросах.
Итак, по мнению Андреэ, «фурор» имел, по крайней мере, одно благое следствие: он заставил людей задуматься и осознать необходимость реформ. Андреэ предлагает предпринять дальнейшие шаги к их осуществлению. Кажется, здесь он впервые высказывает идею образования христианских союзов или христианских обществ, которые будут действовать прямым путем[386]:
Ведь мы, конечно же, не совершим такого прегрешения против Христа и Слова Его, как если бы мы стали узнавать путь спасения ‹…› от некоего общества (если таковое в действительности существует), никому толком не известного, о чьем всезнании говорят лишь его собственные самовосхваления, использующего в качестве эмблемы лоскутный щит и запятнавшего себя множеством дурацких обрядов, вместо того, чтобы обратиться непосредственно к Нему, который сам есть Путь, Истина и Жизнь…
Автор, как кажется, осуждает (вероятно) не существующее на самом деле, придуманное розенкрейцерское Братство с его странными эмблемами и церемониями и предлагает в качестве замены основать реальное, а не вымышленное христианское общество. В действительности такое общество уже было основано Андреэ — я имею в виду «Христианское Общество» (Societas Christiana), к которому мы вернемся позже.
Однако резкая (на первый взгляд) характеристика розенкрейцерского Братства, содержащаяся в этом предисловии, теряет свою негативную однозначность, едва мы переходим к заключительному абзацу, где читателя приглашают взойти на палубу корабля и отправиться в Христианополь[387]:
Надежнее всего будет ‹…› для тебя подняться на палубу твоего корабля, отмеченного знаком Рака, самому, дождавшись благоприятных погодных условий, отправиться в Христианополь и там весьма тщательно все исследовать в страхе Божием.
В ходе этого путешествия, после кораблекрушения, и был открыт остров, на котором располагался описанный в книге идеальный град Христианополь.
Христиан Розенкрейц и его друзья тоже поднялись на палубы кораблей, отмеченных знаками зодиака, и отправились в путь в поисках новых духовных открытий — об этом рассказывается в конце «Химической Свадьбы». Завершая свое предисловие аллюзией на другое произведение, героем которого был Христиан Розенкрейц и которое Цетцнер издал всего лишь тремя годами ранее, Андреэ тем самым устанавливает связь между «Христианополем» и «Химической Свадьбой».
Остров, на котором располагался Христианополь, открыл не кто иной, как Христиан Розенкрейц — во время того самого путешествия, в которое он отправляется в финале «Химической Свадьбы».
Таким образом Андреэ, этот благочестивый любитель мистических розыгрышей, попытался, оставаясь в стороне от «фурора», продолжать проповедовать розенкрейцерский «символ веры», не упоминая имени самого Христиана Розенкрейца. В конце концов, как сказал Шекспир: «Что в имени? То, что зовем мы розой, и под другим названьем сохраняло б свой сладкий запах!»[388]
Планировка Христианополя основана на квадрате и круге. Все дома выстроены по периметрам квадратов, причем самый большой внешний квадрат заключает внутри себя квадрат, меньший по размерам, тот в свою очередь — другой еще меньший, и т. д. вплоть до центрального квадрата, в центре которого высится доминирующий над городом круглый в плане храм (см. илл. перед гл. XI). Многие городские чиновники носят имена ангелов: Уриэль, Габриэль и пр., а в символическом плане город воплощает каббалистико-герметическую концепцию гармонии между макро- и микрокосмом, между вселенной и человеком. В описании города мистика причудливым образом переплетается с практицизмом. Так, например, в городе предусмотрено прекрасное искусственное освещение; и это важно с гражданской точки зрения, так как свет обескураживает преступников, привыкших совершать свои злодеяния в глухую ночную пору. В то же время яркое освещение улиц имеет мистический смысл, ибо символизирует свет Божественного присутствия.
Несмотря на то, что в городе царит глубочайшее благочестие и общественная жизнь его граждан зиждится на началах набожности, культура Христианополя является по преимуществу научной. Большое внимание уделяется теоретической и прикладной механике, а ремесленники составляют обширный и образованный класс. «Их мастеровые почти все люди образованные», и это способствует развитию изобретательства, ибо «людям рабочим предоставлена возможность развивать свои способности и в полной мере проявлять свой смекалистый дух»[389]. Преподаются и естественные науки, химия, алхимия, особенным почетом пользуется медицина. Специальное здание выделено для занятий анатомией и прозекцией. В процессе обучения широко используются иллюстративные материалы. Так, в лаборатории для занятий по естественной истории стены расписаны изображениями природных феноменов: животных, рыб, драгоценных камней и пр. Преподается также искусство живописи, и ему учатся с величайшим рвением. В курс живописи входят такие дисциплины, как архитектура, перспектива, фортификационное искусство, устройство механизмов, механика и (как объединяющее звено) математика. Вездесущее присутствие математики, во всех ее разновидностях, — пожалуй, самая яркая черта культуры Христианополя. В математической лаборатории изучается гармония небесных тел, и украшают ее изображения многих инструментов и механизмов, а также геометрических фигур. Цикл обучения математике и числу завершается изучением «мистического числа»[390].
Помимо этого в городе преподается дисциплина, сочетающая в себе богословие и философию. Она именуется теософией и представляет собой нечто вроде естественной истории, рассматриваемой через призму христианской веры и совершенно противоположной учению Аристотеля, изучение трудов которого некоторые недалекие умы, к сожалению, предпочитают изучению творений Божиих. Теософия подразделяется на «ангельское служение»[391] (дисциплину, высоко ценимую в городе) и «мистическую архитектуру». Жители города веруют, что Великий Зодчий вселенной не мог создать столь могучий механизм без всякого плана — нет, он, в своей величайшей мудрости, использовал меры, числа, пропорции, не говоря уже о таком элементе, как время, чьим свойством является чудная гармоничность. Секреты Великого Зодчего следует искать, прежде всего, в его мастерских и «образцовых постройках», однако к подобным «каббалистическим» поискам рекомендуется подходить с особой осмотрительностью[392].
Горожане пытаются осмыслить творения Божии, прежде всего путем углубленных астрономических и астрологических штудий; они признают, что человек может управлять звездами и что существует некое «новое небо», на котором источник движения есть Христос. Изучение естественных наук вменяется в религиозную обязанность — «ибо не затем мы были посланы в сей мир, этот наиблистательнейший театр Божий, чтобы, подобно зверям, лишь поедать корм на пастбищах земных»[393].
Огромное значение придается также и музыке, но в музыкальные школы допускаются только те из горожан, кто уже прошел обучение арифметике и геометрии; не случайно музыкальные инструменты развешаны на стенах «математического театра». Преподается и практикуется религиозное хоровое пение. Горожане видят в нем подражание хору ангелов, чье «служение» они столь высоко ценят[394]. Хоровые выступления устраивают в Храме, и там же разыгрывают сакральные драмы.
Обитатели Христианополя — глубоко набожные христиане. Но, несмотря на это, они остаются весьма практичными людьми, заинтересованными в улучшении сельского хозяйства, уличного освещения, канализации (сточные воды отводятся из домов в искусственно созданную подземную реку) и просвещения, которому уделяют особенно много заботы и внимания. Их культура в высоком смысле научна; можно даже сказать, что в одном из своих аспектов Христианополь напоминает высший технический колледж (с упором на слово «колледж»). Их религия — христианизированная форма герметико-каббалистической традиции, подчеркивающая значимость «ангельского служения». В самом деле, они, как кажется, живут в постоянном сознании ангельского присутствия, а на улицах города всегда можно услышать вокальные имитации ангельских хоров.
Рассмотренное произведение, что вполне очевидно, не одиноко в европейской традиции, но продолжает ряд утопий, начатый знаменитым творением Томаса Мора. Непосредственным прообразом Христианополя послужил Город Солнца Кампанеллы, круглый в плане, с солнечным храмом посередине, — его описание прямо из Неаполя было доставлено в кружок единомышленников Андреэ Тобиасом Адами и Вильгельмом Вензе. Герметико-каббалистическая, магико-научная атмосфера Города Солнца[395] воспроизведена в описании Христианополя, а многие детали жизни обоих городов (например, обучение посредством настенных изображений)[396] совпадают до мелочей.
Но, кроме очевидного влияния Кампанеллы, в произведении Андреэ ощутимы и иные влияния. Так, важная для Андреэ тема значимости математических наук, в их связи с архитектурой и изящными искусствами, без сомнения, присутствовавшая и у Кампанеллы, с гораздо большей прямотой и точностью была раскрыта во втором томе Фладдовой «Истории Макро- и Микрокосма», опубликованной в Оппенхайме в 1619 г. — в том самом году, когда в Страсбурге был издан «Христианополь» Андреэ. Сам же Фладд следовал концепции математических наук, изложенной в предисловии Ди к Евклиду[397]. Представляется весьма вероятным, что влияние Ди-Фладда сказалось на трактовке у Андреэ темы математических наук в их связи с изящными искусствами, прежде всего с искусством архитектуры (которое само в высшей степени математично), — а тема эта занимает заметное место в описании Христианополя.
В этой связи знаменательны и настойчивые призывы Андреэ поощрять развитие изобретательства в среде мастерового люда. Хотя важность введения новых технологий постепенно осознавалась во всей Европе, эта тема специально рассматривалась только в предисловии к Евклиду Джона Ди, обращенном, между прочим, непосредственно к лондонским ремесленникам[398]. Утопический город Андреэ с его сильным, образованным ремесленным классом и восторженным отношением к математическим наукам наверняка вызвал бы у Ди одобрение.
И, конечно, не может не напомнить о Ди интерес Андреэ к «ангельскому служению». Именно Ди, как мы знаем, пытался заставить ангелов служить человек — посредством практической каббалы или каббалистической магии[399]. Поэтому, когда Андреэ в своей ориентированной на математику утопии открыто и настойчиво говорит об «ангельском служении», это наводит на мысль о том, что он не боялся признать Джона Ди ее главным идейным вдохновителем.
Андреэ, как мы помним, поместил знак «монады» Ди в начале «Химической Свадьбы», таким образом ясно указав источник своего вдохновения. Мы также видели, что «монада» Ди во всей совокупности ее значений была той самой сокровенной философией, что стояла за розенкрейцерскими манифестами, — именно ее символизировали мистико-математические диковины, обнаруженные в гробнице Розенкрейца. А посему вполне естественно предположить, что и Христианополь Андреэ был задуман как своего рода город-символ, воплощающий философию, неразрывно связанную со знаком «монады», то есть философию Ди с ее практически-утилитарным подходом к технике, математической ориентацией, эзотерически-магическим мистицизмом и мистической магией, с ее верой в возможность повелевать ангелами.
Выходит, в «Христианополе» Андреэ воспроизводит (на этот раз в замаскированной форме) сокровенные идеи розенкрейцерских манифестов и своей собственной «Химической Свадьбы». Причем для маскировки этих идей он использует мнимо критические высказывания в адрес розенкрейцеров, помещая их не только в предисловие, но и в другие места книги.
Так, у восточных ворот Христианополя стоит страж, производящий досмотр странников, желающих войти в город. Некоторым категориям лиц из низших сословий вход в Христианополь запрещен. Не пускают в город, к примеру, «чересчур досужих актеришек» и «самозванцев, лживо именующих себя братьями-розенкрейцерами»[400]. Тут от нас, современных читателей, требуется внимание — Андреэ в очередной раз шутит. В Христианополь не пускают самозваных, а не истинных розенкрейцерских братьев. И тот, кто знаком с «Химической Свадьбой», прекрасно поймет, что к герою романа, пытающемуся войти в Христианополь, запрет не относится, ибо он-то как раз — самый что ни на есть настоящий розенкрейцер, Христиан Розенкрейц собственной персоной, открывший этот остров во время путешествия, в которое отправился в конце «Химической Свадьбы».
Если мы теперь попытаемся заняться неминуемым сравнением Христианополя Андреэ и Бэконовой Новой Атлантиды, мы сразу же обнаружим, что в утопии Андреэ гораздо большее внимание, чем у Бэкона, уделено математическим наукам и ангелологии. Утилитаризм, стремление использовать научное познание для улучшения участи человеческого рода присущи обеим утопиям, хотя в утопии Андреэ эти идеи выражены с большим практицизмом и «технической сметкой». В самом деле, идеология, которую обычно называют «вульгарным бэконианством», подразумевая под этим ориентацию на практические достижения научного прогресса, в Христианополе, как кажется, предстает уже в достаточно развитом виде. Не потому ли, что в утопии Андреэ сильнее сказывается влияние Ди? Конечно, проблему такого рода нельзя решать походя, и лучше оставить ее будущим исследователям. Я же в данном случае придерживаюсь чисто исторического подхода, и для меня достаточно осознания того факта, что бэконианское движение в Англии следует изучать в комплексе с континентальным розенкрейцерским движением, ибо то и другое были каким-то образом связаны между собой.
«Подлинное» общество (или группа), ставящее перед собой задачи христианского и интеллектуального обновления, на существование которого Андреэ, как кажется, намекает в предисловии к «Христианополю», возможно, уже начало формироваться в то время, когда он писал свой труд. План или программа деятельности этого «Христианского Общества» была изложена в двух маленьких брошюрах, опубликованных в 1619 и 1620 гг. Долгое время брошюры считались утраченными, но несколько лет назад экземпляры обеих публикаций были обнаружены в бумагах Хартлиба[401]. В английском переводе Джона Холла, опубликованном в 1647 г., латинские названия этих сочинений звучат как «Образец Христианского Общества» и «Протянутая Десница Христианской Любви». Обращение к Сэмюэлу Хартлибу, предпосланное переводу Холла, относится к числу немногих источников, из которых мы узнаем, что описанное в памфлетах общество было «подлинным», что оно существовало на самом деле — причем не призрачным существованием «незримых» коллегий и «невидимых» розенкрейцерских Братьев, но как вполне реальное учреждение. Переводчик обращается к Хартлибу с такими словами[402]:
Вы сами (познакомившись в свое время в Германии с некоторыми членами сего Общества) можете засвидетельствовать, что оно представляет собой нечто большее, нежели просто Идею; весьма прискорбно как то, что война прервала его деятельность, едва оно было впервые учреждено, так и то, что оно не возродилось вновь…
Несмотря на столь ясное утверждение Холла, что «Христианское Общество» действительно просуществовало какое-то краткое время перед войной (это по крайней мере не вызывает сомнений), мне не удалось найти сколько-нибудь четких сведений о месте его функционирования. В «Образце» сообщается только, что возглавлял Общество некий немецкий князь[403]:
Главою общества является один Германский Князь, муж весьма славный благочестием, ученостью и неподкупностью, у коего под началом имеется двенадцать Соработников, его тайных Советников, каждый из которых отмечен особым даром Божиим.
В письме, написанном гораздо позднее, в 1642 г., и адресованном принцу Августу, герцогу Брауншвейгскому и Люнебургскому (см. илл. 28), Андреэ вроде бы намекает, что принц Август и был тем немецким князем, о котором говорится в «Образце». Хотелось бы, однако, получить дальнейшие подтверждения в пользу такого отождествления. Месту, в котором зародилось Общество, где бы оно ни находилось, вскоре суждено было превратиться в театр военных действий: Андреэ в том же письме вспоминает, что группа была уничтожена в начальный период войны, все экземпляры книги о ее деятельности сожжены и обращены в пепел, а члены Общества, рассеянные по всей стране и не имеющие возможности сноситься между собой, либо умерли, либо потеряли веру в прежние идеалы[404].
Ничто не приближает нас к Господу больше, нежели Единство, утверждается в обращении, открывающем «Образец», отсутствие же единства и разногласия среди людей могут быть исцелены «свободным обменом мнениями обо всех вещах между добродетельными мужами». По этой причине мудрые мужи всегда объединялись в общества, однако антихрист сему противиться. Кажется странным, продолжает Андреэ, что в нынешние времена, когда мир «вроде бы обновился, а все его несовершенства постепенно исправляются под Солнцем Религии и благодаря расцвету Знания», столь многие из лучших и мудрейших людей довольствуются одной лишь мечтою о некоей «Коллегии или обществе наивысшего блага», не предпринимая каких бы то ни было шагов для основания подобного учреждения[405].
Двенадцать «соработников» германского князя, возглавлявшего Общество, являлись экспертами в разных областях знания, хотя компетенции первых троих были, по существу, всеобъемлющими: они отвечали за Религию, Добродетель и Знание. Остальные, объединенные в группы по трое, имели следующие специальности: Богослов, Цензор (наблюдавший за нравственностью), Философ; Политик, Историк, Экономист; Лекарь, Математик, Филолог[406]. «Переведя» все это на язык «Откровения», мы легко обнаружим соответствия между вышеописанной организацией экспертов и построением розенкрейцерского общества при Христиане Розенкрейце.
Под Философом автор брошюры подразумевает по преимуществу натурфилософа, «который пристально вглядывается в оба мира». Описание математика стоит процитировать целиком[407]:
Математик [есть] муж чудесной сообразительности, умеющий применять инструменты всех Искусств и изобретений человеческих: ведь его дело связано с числом, мерой и весом, и он знает взаимосвязь между небом и землей; все это представляет столь же обширную ниву для приложения усердия человека, каковой является природа: потому что каждый раздел математики требует особого, притом весьма трудолюбивого, Мастера, но, тем не менее, все эти мастера должны стремиться к одной цели, а именно к созерцанию Единства Христова среди столь многих замечательных изобретений, сопряженных с исчислением, измерением и взвешиванием, к тому, чтобы видеть в устройстве этой Вселенной мудрое зодчество Господа. Сему желают помочь Механики с их поверхностными знаниями и техническими умениями (последние вовсе не столь низки и презренны, как пытаются доказать Софисты, но скорее нацелены на использование и практическое применение Искусств, а потому, оценивая их ниже собственного суесловия, судьи лишь доказывают свою пристрастность). Однако роль истинного Математика состоит в том, чтобы украшать и обогащать эти технические умения Правилами Искусства, тем самым труды человеческие преуменьшая, а Преимущества трудолюбия, могущество и суверенные права разума делая более очевидными для всех…
Культура «Христианского Общества» оказывается очень похожей на культуру Христианополя: это научная культура, основанная на математике и ориентирующаяся на технический прогресс и практическую пользу. Поскольку предполагалось, что главным двенадцати «соработникам» будут помогать другие («врачи, хирурги, химики, металлурги…»), полностью сформированное «Общество» должно было представлять собой, как и город Христианополь, общину мистически настроенных христиан, посвятивших себя «созерцанию» творений Божиих в природе, но сгруппированных вокруг весьма практичного руководящего ядра, состоящего из экспертов в разных областях науки и техники. Примечательно, что основные интересы членов Общества устремлены не к «суесловию», то есть обычным для той эпохи риторическим дебатам, а к прикладной математике, «преуменьшающей труды человеческие».
Как и в случае с «Христианополем», я склонна считать Джона Ди главным источником влияния на выраженную в «Образце Христианского Общества» концепцию математических наук, тем более что философия Ди, символически обобщенная в знаке «монады», стоит и за розенкрейцерскими манифестами, и за написанной тем же Андреэ «Химической Свадьбой». Конечно, некоторое влияние на эту концепцию могло оказать и «параллельное» ей бэконианское движение, однако такие моменты, как выдвижение математика на одну из ведущих общественных ролей или отповедь суесловию ученых-софистов, плохо согласуются со взглядами Бэкона.
Наука, по убеждению членов «Общества», неотделима от христианского милосердия, и потому в общине царит атмосфера глубокого благочестия. Эта сторона движения особенно полно отражена в трактате, который, как кажется, был написан в дополнение к «Образцу Христианского Общества» и называется «Протянутая Десница Христианской Любви». Трактат почти целиком посвящен проблеме благочестия, умственные же занятия в нем вообще не упоминаются. Автор протягивает «эту десницу веры и христианской любви всем и каждому из тех, кто, испытав на себе узы Мира сего и устав от их тягости, всей душой возжелал обрести Христа как своего избавителя…»[408]. Вполне возможно, что dextera porrecta, то бишь Протянутая Десница, стала знаком принадлежности к этому обществу.
Итак, когда ludibrium незримого, вымышленного розенкрейцерского Братства «перевели» на язык действительности, возникло «Христианское Общество» — как реальная попытка соединить расцветающую новую науку с новым направлением христианского благочестия.
Нам мало что известно о членах «Общества», как, впрочем, и о других сторонах его жизни. В него входили Тобиас Адами и Вильгельм Вензе, старинные друзья Андреэ; по слухам, «христианскими союзами» Андреэ интересовался Иоганн Кеплер[409]. Андреэ изучал математику в Тюбингене, под руководством Местлина, Кеплерова учителя, и наверняка был знаком с Кеплером.
Хотя «Христианское Общество» столь печальным образом погибло в начале Тридцатилетней войны, его история имела и продолжения, и ответвления. Примерно в 1628 г. Андреэ попытался начать все сначала, на сей раз в Нюрнберге. Вполне возможно, что это возрожденное общество просуществовало достаточно долго и что именно благодаря ему через много лет после описываемых событий Лейбниц познакомился с идеями розенкрейцерства. Если верить упорно распространявшимся слухам, Лейбниц вступил в Розенкрейцерское Общество в Нюрнберге в 1666 г.[410]; согласно другому, более достоверному источнику, он знал, что Розенкрейцерское Братство было фикцией, ибо ему рассказал об этом «Гельмонт»[411] (возможно, имеется в виду Франциск Меркурий ван Гельмонт). Понимание того, что розенкрейцерство было лишь «шуткой», не могло помешать Лейбницу усвоить ряд стоявших за этой шуткой идей, и он их, бесспорно, усвоил. Как я уже показала в другом месте, Лейбниц, излагая правила Ордена Милосердия, который он предложил учредить, практически цитирует «Откровение»[412]. Вообще труды Лейбница предоставляют обширный материал для дальнейшего исследования вопроса о влиянии на его творчество идей, восходящих к Андреэ, но мы сейчас вынуждены ограничиться простым упоминанием этой очень важной темы.
Таинственное слово «Антилия»[413] (название вымышленного острова)[414], кажется, служило своего рода паролем для самых разных групп, усвоивших взгляды Андреэ и пытавшихся в годы Тридцатилетней войны построить свои «образцы» христианского общества — в Германии или за ее пределами. В глазах мистически настроенных энтузиастов подобные «образцы» были лишь приготовлением к великой и всеобщей реформации, надежды на которую, вопреки всему, были еще живы. Одним из самых пылких приверженцев «образцовых» обществ, веривших в возможность их безграничной экспансии, был Сэмюэл Хартлиб. Как бы ни называл Хартлиб свой идеал — Антилией, Макарией[415], другими именами, — его неустанные усилия осуществить этот идеал на практике всегда вдохновлялись одним и тем же: мыслями Андреэ о необходимости сочетания евангельского благочестия с наукой и использования последней для облегчения жизни людей.
Вместе с Хартлибом, а также его друзьями и помощниками Джоном Дюри и Яном Амосом Коменским реформационное движение вернулось в Англию, потому что именно в парламентской Англии, вновь, как во времена прежней королевы Елизаветы, принявшей на себя роль заступницы протестантской Европы, сложились (так, по крайней мере, думали многие) наилучшие условия для осуществления новой реформации. Некогда розенкрейцерское Братство воплощало надежды протестантов на союз с Англией, залогом которого, по их мнению, была женитьба пфальцграфа Рейнского на английской принцессе. Тогдашние надежды не оправдались, но, когда позже Англия вернулась к политической линии королевы Елизаветы, Хартлиб с друзьями обратились именно к этой стране, рассчитывая обрести там поддержку своим планам всеобщей реформации и возрождения «розенкрейцерского» общества — пусть под другим именем. Мои слова о «возвращении» движения в Англию неслучайны: я думаю — и попыталась это доказать, — что странный розенкрейцерский миф уходит корнями в английскую почву и что определяющую роль при «пересадке» английских влияний в Германию сыграла богемская миссия Ди. Это, конечно, упрощенная схема, за пределами которой остаются подпитывавшие розенкрейцерское движение многочисленные и сложные европейские влияния. Но я намеренно упрощаю картину, желая привлечь внимание к тому факту, что движение вышло из Англии и возвратилось в нее: об этом забыли, поскольку многие свидетельства были утрачены в смутные времена Тридцатилетней войны, однако мы должны попытаться восстановить истину, если хотим разобраться в запутанном переплетении обстоятельств, приведших в конечном итоге к образованию английского Королевского общества.
XII. Коменский и восприятие розенкрейцерства в Богемии
Я.А. Коменский (1592–1670) в возрасте 64 лет. Гравюра работы Венцеслава Холлара. Jan Arnos Komensky. Ill. 109.
Ян Амос Коменский, или Комений, родившийся в 1592 г., был на шесть лет моложе Иоганна Валентина Андреэ, чьи произведения и взгляды оказали на него сильнейшее влияние. По вере Коменский принадлежал к Богемским братьям — мистическому ответвлению старейшей в Европе реформационной традиции, восходящей к Яну Гусу. Коменского и Андреэ объединяло многое. Оба отличались глубоким благочестием и были священниками реформированной церкви; оба интересовались новыми идейными движениями и пытались привить их к древу отечественной религиозной традиции (только в одном случае такой традицией было германское лютеранство, а в другом — воззрения гуситов). Обоим, наконец, довелось жить в одну и ту же страшную эпоху и работать на пределе своих возможностей в условиях непрекращающихся войн и преследований инакомыслящих. Коменский получил начальное образование в родной Моравии, а затем поступил в кальвинистский университет Херборна, в Нассау. Весной 1613 г. он покинул Херборн и перебрался в Хайдельберг, чтобы продолжить занятия уже в тамошнем университете[416]. В Херборне и Хайдельберге учились, помимо Коменского, и другие богемцы. Он был зачислен в Хайдельбергский университет 19 июня 1613 г., через двенадцать дней после торжественного въезда в город принцессы Елизаветы, новобрачной супруги курфюрста Рейнского. По всей вероятности, Коменский, будучи юным студентом, тоже вышел на улицы Хайдельберга, чтобы полюбоваться столь пышным зрелищем, и среди прочего видел триумфальные арки, воздвигнутые университетскими факультетами.
Коменский посещал лекции хайдельбергских профессоров Давида Парея, Иоганна Генриха Альстеда, Абрахама Скультета и Бартоломея Скопения[417]. Парей увлекался идеей объединения лютеран и кальвинистов[418]; и он, и другие профессора, учившие Коменского, входили в близкое окружение курфюрста Фридриха. Скультет служил у Фридриха капелланом и впоследствии сопровождал его в Прагу; Альстед, или Альтингий, в свое время был наставником курфюрста и остался ему верным другом, невзирая на все удары судьбы; ориенталист Скопений, как многие полагают, был неофициальным советником Фридриха по религиозным вопросам[419]. Молодой Коменский, таким образом, мог получать информацию о религиозных и интеллектуальных движениях в Хайдельберге из первых рук. Невольно напрашивается вопрос: не из-за слухов ли о будущих связях между Пфальцем и Богемией Коменский и его чешские друзья избрали местом учебы именно Хайдельберг и приехали туда как раз в то славное время, когда женитьба курфюрста на дочери Якова I, казалось, предвещала великие и удивительные события?
Время, проведенное в Хайдельберге, оказалось для Коменского важным еще и потому, что там он познакомился с Джорджем Хартлибом[420], братом Сэмюэла Хартлиба, с которым позднее, в Англии, он будет много и плодотворно сотрудничать.
В 1614 г. Коменский, вероятно, вернулся в Богемию. За несколько следующих лет он стал человеком огромной, энциклопедической по своему характеру, культуры и разработал систему «пансофии», то есть универсального знания. «Пансофия» Коменского зиждется на философии макро- и микрокосма; как он сам утверждал, его идейным вдохновителем был Андреэ. Свою первую пансофическую энциклопедию, начатую в 1614 г., Коменский называл «театром (или амфитеатром) всего сущего в мире».
В Хайдельберге Коменский мог лично познакомиться с Андреэ или просто, как читатель, воспринять некоторые идеи той философии, что стояла за розенкрейцерскими манифестами. Нельзя полностью исключить и третий вариант: а вдруг на духовное содержание розенкрейцерских манифестов наложилась, среди прочих влияний, и какая-то богемская краска? Богемские братья славились своим человеколюбием и благотворительностью — не были ли использованы эти их качества (наряду с другими, отобранными под влиянием источников иного характера) при создании образа Христиана Розенкрейца?
Мирная жизнь на родине закончилась для Коменского в 1620 г., когда Фридрих потерпел поражение в битве у Белой Горы: для Богемии это событие обернулось потерей национальной религии. Богемские братья были объявлены вне закона. В 1621 г. городок, где жил Коменский, захватили испанские войска. Дом Коменского сожгли, библиотека и рукописи пропали. Сам Коменский укрылся в Брандисе, во владениях Карела, графа Жеротинского (см. илл. 30). Карел из Жеротина[421] был патриотом и даже состоял в организации, называвшейся «Богемское единство», но, когда разразилась война, не пожелал становиться на сторону Фридриха Пфальцского, предпочтя сохранить верность дому Габсбургов. Поэтому поместья графа не были конфискованы сразу же после поражения чехов, и он на какое-то время смог предоставить убежище Коменскому и другим подобным ему беглецам. Путешествие в Брандис оказалось не только опасным, но и горестным: в дороге Коменский лишился жены и одного из своих детей и добрался до места лишь в конце 1622 г., совершенно нищим[422].
За время пребывания в Брандисе Коменский написал «Лабиринт мира» — произведение, которому суждено было стать классикой чешской литературы и одной из величайших книг общечеловеческого значения. В этой книге имеется поразительное описание «розенкрейцерского фурора», существенным образом дополняющее сведения, содержащиеся в розенкрейцерских документах.
Однако, прежде чем мы перейдем к рассмотрению «Лабиринта мира», стоит попытаться выяснить отношение Коменского к Фридриху, курфюрсту Пфальцскому, как к королю Богемии. Прожив некоторое время в Хайдельберге, Коменский наверняка хорошо представлял себе характер и идеи Фридриха; не мог он не знать и об исторической подоплеке коронации Фридриха и Елизаветы в Богемии, имевшей место в Пражском кафедральном соборе 4 ноября 1619 г. Коменский, как известно, присутствовал на коронационной церемонии[423], ставшей последним публичным актом Богемской церкви, к которой он принадлежал[424], вскоре после этого запрещенной.
Некоторый свет на отношение Коменского к Фридриху как к богемскому суверену проливает весьма странная книжица, которая так и называется: «Свет во тьме»[425] (Lux in tenebris)[426]. В ней собраны откровения трех пророков-визионеров о грядущих апокалиптических событиях, конце царства антихриста и свете, который вернется в мир на смену мраку антихристова правления. Один из пророков, Кристофер Коттер, предсказывал, среди прочего, и восстановление суверенной власти Фридриха в Богемии. В 1626 г. Коменский привез иллюстрированную рукопись с пророчествами Коттера в Гаагу и показал ее Фридриху. Но и через много лет после смерти Фридриха Коменский сохранил столь высокое мнение о Коттере и его пророчествах, что в 1657 г. опубликовал рукопись, включив ее в книгу «Свет во тьме» и снабдив гравированными иллюстрациями, видимо, воспроизводившими миниатюры первого — рукописного — издания. В предисловии к этой книге, представляя читателю трех пророков, Коменский и обмолвился о том, что показывал рукопись Коттера Фридриху[427].
Коттер принадлежал к богемскому духовенству, пострадавшему в ходе жестоких гонений, обрушившихся на его родину после 1620 г. Он указывает даты своих видений, охватывающие промежуток времени между 1616 и 1624 гг. В видениях 1620 г., предшествовавших роковой битве, Коттеру было велено предостеречь Фридриха от применения силы. В более поздних видениях имелись указания на то, что судьба вновь вознесет Фридриха на вершину славы. Ниже приводится образец такого пророчества[428]:
Фридрих из Рейнского Пфальца есть Богом венчанный Король.
Фридрих из Рейнского Пфальца, Король Богемии, венчанный Богом, Царем Царей, в 1620 г. подвергся опасности, но ‹…› воспрянет вновь во всем ранее бывшем у него и много большем изобилии и блеске славы.
Коттеровы видения, как он веровал, были ниспосланы ему ангелами, которые внезапно становились видимыми для него, показывали ему некую картину, а затем вновь обретали свою незримость. На иллюстрациях ангелы предстают перед нами как отроки, не имеющие крыльев, но облаченные в длинные одеяния. Фридрих обычно изображается в образе льва — это, конечно же, Лев Пфальца, знакомый нам по про-Фридриховым и анти-Фридриховым пропагандистским листкам. Знаменитая гравюра, на которой Фридриха и Елизавету окружают четыре льва, символизирующие Пфальц, Богемию, Великобританию и Нидерланды[429], в одном из Коттеровых видений странным образом преображается в образ льва о четырех головах. В других видениях Коттер зрит львов, повергающих ниц имперского орла; или богемского льва с раздвоенным хвостом, обнимающего Фридриха; или Фридриха в образе льва, стоящего на луне (что символизирует переменчивость его фортуны) и обнимающегося с шестью другими львами[430]. Видения, таким образом, представляют собой своеобразную перелицовку картин жестокого триумфа Габсбургского Орла над Пфальцским Львом, распространявшихся в лубках после разгрома Фридриха. Унижение, которое Коттер когда-то испытал, разглядывая подобные картины, он теперь компенсирует тем, что — с помощью ли ангелов или усилием собственной взыскующей мысли — встречается в видениях с победоносными львами.
В одном из самых поразительных видений Коттер, мирно сидящий в тени дерев с двумя ангелами, видит победоносного льва, вокруг головы которого сияет нимб, а вся фигура излучает царственное достоинство. За его спиной другой лев яростно нападает на змею, и уже изрубленное на куски змеиное тело застыло в небе, ниже большой звезды. Здесь может иметься в виду новая звезда из созвездия Змееносца, появление которой истолковывалось в розенкрейцерском «Откровении» как провозвестив грядущих перемен. Лев из Коттерова видения, видимо, решил покарать Змееносца за то, что интерпретация новой звезды как благоприятного для Фридриха знака не оправдала себя.
Однако самым поразительным из всех представляется, несомненно, то видение, в котором Коттер узрел трех отроков, или, скорее, ангелов, сидящих за столом и защищающих своими руками миниатюрную фигурку льва, гуляющего по столу. Из столешницы вырастают три розы, а спереди, на подставке стола, изображен крест. Символика розы и креста отсылает нас к розенкрейцерам, и, как знать, не присутствуют ли таинственные братья здесь же, будучи незримыми ангелами, на мгновение представшими во плоти пред очи пророка? Не являются ли именно розенкрейцеры теми ангелами-хранителями, что защищают Льва Пфальца, которому Коттер предрек возвращение на богемский престол?
Атмосфера патетических видений Коттера, столь избыточно населенных львами, заключает в себе и нечто алхимическое: она напоминает эмблемы из произведений Майера и его последователей (те самые, в которых находил утешение беженец из Богемии Даниэль Стольций). Видения Коттера порождены миром, который нам трудно даже представить: миром, где надежды основывались на чудных ангельских обетованиях, а являвшиеся в видениях Львы и Розы возвещали новую зарю; где даже обманувшиеся в своих ожиданиях, покинутые и отчаявшиеся люди продолжали жить теми же видениями.
Для нас же видения Коттера важны потому, что позволяют составить некоторое представление об отношении Коменского к Фридриху как к суверену Богемии. Вернемся еще раз к сатирическим лубкам, распространявшимся врагами Фридриха после его поражения, и вспомним ту карикатуру, на которой пфальцграф изображался стоящим на заглавной букве «ипсилон» — Y. В стишках под рисунком говорилось, что богемцы «обручили» Фридриха с миром, ожидая от его правления всемирной реформации, что они и в самом деле попытались реформировать — под его началом — общество и систему образования и что во все эти дела было каким-то образом замешано «высокое общество Розенкрейцеров». А нельзя ли предположить, что среди богемцев, приступивших в правление Фридриха к проведению неких реформ, был и молодой Коменский?
Здесь в наших знаниях зияет большой пробел, и преодолеть сей рубеж гораздо сложнее, чем те трудности, с которыми мы сталкивались до сих пор. Мы ничего не знаем о том, какое влияние имели в Богемии реформационные идеи Джона Ди, были ли они восприняты Богемскими братьями, получили ли новую окраску в Праге (тогдашнем всеевропейском центре алхимических и каббалистических штудий), прежде чем попали в Германию и приобрели широкую известность благодаря «розенкрейцерским манифестам». Ответов на перечисленные вопросы мы не нашли, но по крайней мере установили, что Фридрих Пфальцский произвел глубокое впечатление на молодого Коменского — как фигура, способная сыграть значительную роль в судьбах Богемии.
Держа эту информацию в уме, обратимся теперь к рассмотрению сцен «розенкрейцерского фурора» в «Лабиринте мира»[431]. Коменский описывает «фурор» весьма пространно, повествуя и о «трубных гласах» двух манифестов, повлекших за собой чрезвычайное возбуждение умов, и об ужасной смуте, возникшей из-за того, что множество людей по-разному реагировало на взбудоражившие всех призывы. Два обстоятельства следует иметь в виду, если мы хотим понять высказывания Коменского о «розенкрейцерском фуроре». Во-первых, Коменский, конечно же, разыгрывает читателя, устраивает своего рода ludibrium, притворяясь, будто не понимает, почему никто так и не получил ответа от розенкрейцерских Братьев, почему они предпочли остаться невидимыми. Во-вторых, он писал свою книгу в 1622 г., впав в крайнюю нищету, уже после разгрома фридрихианского движения, и вспоминал происшедшее, находясь в состоянии глубокой депрессии, ибо сторонники Фридриха навлекли гибель не только на себя самих, но и на его — Коменского — родину.
«Лабиринтом мира» в романе называется город, разделенный на множество кварталов и улиц, в котором представлены все человеческие науки, знания и профессии. Его можно причислить к архитектурным мнемоническим системам, подобным Городу Солнца Кампанеллы. Вообще, «Город Солнца» оказал несомненное влияние на замысел «Лабиринта» — возможно, и «Христианополь» Андреэ тоже.
По идее подобный град должен был бы являть собою утопическое, идеальное образование, «эскиз» реформированного мира будущего. Но Коменский в своем сочинении сводит счеты с обманчивыми иллюзиями прошлых лет; его лабиринт есть нечто противоположное утопии, потому что в нем все искажено. Любые науки ведут человека в никуда, любые занятия оказываются тщетными, любые знания — ложными. Книга отражает душевное состояние человека думающего и не лишенного идеалов, но застигнутого врасплох внезапно разразившейся Тридцатилетней войной.
Вместе с тем эта книга может быть прочитана как хроника разочаровывающего опыта, ввергшего ее автора в столь горькое отчаяние, и, между прочим, как хроника розенкрейцерского движения. Все, что Коменский говорит по поводу розенкрейцерства, должно быть процитировано целиком. Глава 13 имеет заголовок: «Странник наблюдает розенкрейцеров», а под ним пометку: Fama fraternitatis anno 1612, Latine ас Germanice edita[432]. Тем самым Коменский определенно дает понять, что имеет в виду первый розенкрейцерский манифест, хотя датирует его двумя годами ранее первого известного нам печатного издания[433].
И тут же на площади услыхал я глас трубы, на него оглянувшись, вижу всадника на коне, и созывает он философов, которые уже толпами отовсюду валят, и начинает им на пяти языках о несовершенстве свободных искусств и всей философии рассказывать. И о том, что все же некоторые славные, от Бога на то побужденные, мужи таковые все недостатки уже обследовали и восполнили и мудрость человеческую на ту ступень, на которой в раю она до грехопадения была, привели. И что злато делать у них из сотни дел почитается за самое незначительное: и что это потому, что вся природа перед ними обнажена и открывается им, и всякому творению образ придать или образ у того же творения отнять могут они по нраву своему и для удовольствия своего. И что языками всех народов они говорить умеют, и что все происходящее на окружности земной, равно даже и в Новом свете, ведают и между собой, пусть даже расстояние будет в тысячу миль, разговаривать умеют. И что lapidus[434] у них есть, и им они всяческие немощи совершенно исцеляют и людей долголетием наделяют. И что Хуго Альварда[435], praepositus[436] их, достиг будто бы уже возраста в 562 года, а коллеги его не намного его моложе. И хотя столько сот лет таились они, потому что только сами (а семеро их) над исправлением философии трудились, ныне, когда уж все к совершенству приведено, а сверх того известно им, что в мире вот-вот произойдет реформация, более скрываться не желают; посему явно объявляются, со всяким и каждым драгоценными тайнами своими готовые делиться, коль только сочтут человека того достойным. Объявили они, что ежели кто из какого бы то ни было языка и народа к ним обратится, то все получит, и никто без любезного ответа от них не отыдет. Ежели же кто не будет сочтен достойным, который из алчности либо лишь из суетности своей их побеспокоить осмелится, то таковой ничего не дознается.
(Varia de Fama Judicia)[437]
Произнеся все это, посланец тот исчез; я же, на собравшихся ученых мужей глядя, всех их новостию тою напуганными вижу. Начинают между тем, головами друг к другу склонясь, кто шепотом, кто в голос, суждение свое выносить. Так же и я, то здесь, то там, то туда, то сюда подойду, чтобы послушать: и ах! одни только что на головах не плясали, радость свою куда деть, не ведая. Жалели предков своих, кои в их время за всю их жизнь подобного ничего не получали; себя же благословляли, ведь им совершенная философия уже в полноте своей предлагалась. А также без огреха все знать, без нехватки все в достатке иметь, без недугов и седин столько сот лет жить, сколько захочется, они смогут. И все время повторяли: «Счастлив, о, очень счастлив наш век!» Наслушавшись их, начал и я в веселие приходить: а ну как, Бог даст, и мне хотя малая толика из того, что им уготовано, достанется — надежда такая у меня появилась. Но тут углядел я других, глубоко задумавшихся, которые, как можно было догадаться, весьма великое смущение испытывали. Будь верно то, что слыхали они объявленным, радовались бы и они тоже: но вещи те очень уж темны были и много превышали разумение человеческое. Иные еще открыто возражали: мол, все это — мошенничество и обман. Коль уж они столько сот лет якобы были, то почему раньше не объявились? Коль уж они в правоте своей столь уверены, почему смело на ясный свет не покажутся? Чего из-за угла темного, что нетопыри какие, свистят? Что же до философии, то она и так хорошо обустроена и реформации никакой не требует: дай только волю, выпусти только из рук философию, и вообще без философии останемся. Еще были иные, что страшно их ругали и проклинали, волхвами, колдунами и воплощенными бесами объявляя.
(Fraternitatem Ambientes)[438]
Шум и гомон стояли на всей площади, и почти каждый желанием получить эти блага пылал. С этой целью многие из них суппликации[439] писали (одни тайно, другие открыто) и отсылали их, и плясали радостно: мол, уж теперь-то их в сообщество примут. Но углядел я, что ко всякому суппликация его, все уголки обегав, без ответа возвращалась, и веселое упование сменялось тоской: да еще и от маловеров тех насмешки сносить приходилось. Некоторые писали вновь, и во второй, и в третий раз, и больше, прибегая к поддержке всех Муз, как можно униженнее моля, кто как только мог и умел просить (да что там! заклинать!), доказуя, что нельзя его душу лишать желанного искусства и умения. Некоторые, оттяжки не перенеся, в нетерпении сами с одного конца света в другой носились, на свое несчастие сетуя, потому что счастливых людей тех найти не могли. Один винил в том недостоинство свое, другой непорядочность и нерасторопность тем людям приписывал: а в итоге один в отчаяние впадал, другой же озирался кругом в поиске новых путей к нахождению тех мужей и вновь обманывался в надеждах своих, пока самому мне тоскливо не стало, потому что конца всему этому видно не было.
(Continuatio Famae Roseaeorum)[440]
И вот, ага, опять начали трубить: на звук же сей многие побежали, и я тоже, и увидел какого-то человека, а он товар свой раскладывает, людей зазывает, показать и продать им преудивительные тайны суля, которые будто бы из сокровищницы новой философии взяты и всех тайной мудрости взыскующих напитать смогут. И была радость оттого, что уже святое братство Розы объявилось и щедро богатствами своими делиться намерено; подходили к тому купцу и приобретали предлагаемое им многие. Все же, что им продавалось, заключено было в шкатулках, раскрашенных и имевших на себе красивые всякие надписи: Portae Sapientiae; Fortalitium Scientiae; Gymnasium Universitatis; Bonum Macro- micro-cosmicon; Harmonia utriusque Cosmi; Christiano-Cabalisticum; Antrum Naturae; Arxprimaterialis; Divino-magicum; Tertrinum catholicum; Pyramis Triumphalis; Halleluja[441] и т. д.
Каждому при этом из тех, кто покупал, заповедано было отворять шкатулку. Будто бы тайные те мудрости таковую силу имеют, что и через крышки шкатулок действуют, но ежели шкатулка отворена будет, то эта мудрость из нее выветрится. Тем не менее, те из них, что полюбопытнее, не удержались от того, чтобы отворить свои шкатулки, а обнаружив, что внутри совсем пусто, показывали это другим; когда же и те тоже в свои шкатулки заглянули, то ни единый так ничего внутри и не обнаружил. И закричали: «Обман, обман!» — и яростно на человека того накинулись; но он их успокаивал, говоря, что вещи эти — наитаинственнейшие таинства и что они, кроме Filiae scientiae[442], незримы ни для кого; а коли одному из тысячи и то ничего не досталось, то он им ничего не должен, и не его тут вина.
(Eventus Famae)[443]
И они, в большинстве своем, позволили успокоить себя этим; после чего он убрался, а зрители, всяк в своем расположении духа, стали расходиться кто куда: а когда я у них допытываться начал, смог ли кто из них тайны те новые познать, то так ничего и не понял. Только то и знаю, что все потом как то затихло, и которого сам я поначалу самым торопливым и больше других бегавшим видал, того же потом замечал сидящим в каком-нибудь укромном уголке с замкнутыми устами; либо подобных им к тайнам допустили-таки (как полагали некоторые), и за то они присягнуть должны были, что станут хранить молчание, либо же (как мне безо всяких очков показалось) они стыдились былых упований своих и столь тяжких трудов, напрасно потраченных. И вот, все это как то рассеялось и затихло, как бывает, когда вслед за бурей тучи рассеиваются, не пролив дождя. А я к провожатым своим обратился: «Что же, из этого всего так ничего не вышло и не выйдет? Ах, надежды мои! Я ведь и сам тоже, такие упования вокруг себя наблюдая, обрадовался, что обрел пищу, подобающую моему разуму!» Отвечал переводчик: «Кто знает? Может, кто из них что-то и получил. Может, мужи сии час свой знают, когда им перед кем-то иным открыться можно?» «А мне-то чего тут надо? Неужто я дожидаться этого часа буду? — сказал я. — Ведь мне не известен ни единый случай, чтобы из стольких тысяч людей, более ученых, нежели я, хотя бы кому-то повезло. Не хочу после этого продолжать глазеть на происходящее здесь: пошли отсюда!»[444]
Таким предстает «розенкрейцерский фурор» в изображении Коменского. Сначала раздается трубный зов «Откровения» (и произведенное им впечатление описывается в романе с потрясающей выразительностью). Потом второй манифест обещает открыть людям тайные знания, извлеченные из сокровищниц новой философии (здесь, возможно, содержится намек на брошюру, излагающую содержание «Иероглифической монады» Ди и опубликованную вместе с «Исповеданием»). Вслед за призывами двух первых манифестов на публику обрушивается целый поток других розенкрейцерских сочинений. Надписи на «шкатулках» (под которыми имеются в виду «бестселлеры» розенкрейцерской литературы) легко узнаваемы: это либо названия действительно издававшихся розенкрейцерских книг, либо пародии на таковые. Например, брошюра «Твердыня Знания» (Fortalitium Scientiae), якобы написанная Хуго де Альварда, вымышленным розенкрейцерским персонажем (о котором говорится, что он очень стар), была опубликована в 1617 г.[445] Книга «Гавань Спокойствия» (Portus Tranquillitatis)[446] вышла в свет в 1620 г.[447] Заглавия, связанные с макро- и микрокосмической тематикой, почти наверняка намекают на Фладда, а название «Гармония Макро- и Микрокосма» явно отсылает читателя к серии сочинений Фладда, выходившей в Оппенхайме в 1617–1619 гг. Молодой Коменский, надо думать, был знатоком такого рода литературы и ожидал от нее многого. Но наступило время реакции; всякое общественное движение прекратилось; люди, лишь недавно полагавшие, что стоят на пороге новой эры, разочаровывались в прежних идеалах и болезненно расставались с несбывшимися иллюзиями.
Вероятно, Коменский наблюдал этот процесс, живя в Богемии, и описывает он, как откликнулась на «розенкрейцерский фурор» именно его страна.
Дальнейшие впечатления Странника по Лабиринту мира оказываются однообразно-тягостными. Особенно это относится к посещению улиц, где живут приверженцы разных религий и сект, жестоко конфликтующие друг с другом. Но более всего встревожил его следующий эпизод[448]:
Случилось в моем присутствии, что выскользнул из-под одного [королевский трон], расползся и опал на землю[449]. И вот, зашумела толпа народу, я же оглянулся и увидел, ан они уж себе другого ведут и сажают, заявляя, что тут теперь все по-иному будет, не так, как прежде; и приплясывая, всяк, как только может, подпирает и укрепляет [трон]. И понял я, что общему благу помощь в том верная (ибо так в толпе толковали), и потому тоже [к трону] приблизился, и клин или два подставил, чтобы его укрепить[450], за что меня некоторые хвалили, другие же враждебно на меня глядели. Вдруг тот другой [из-под которого трон выпал][451] своих собирает и с палицей на нас кидается, прет на толпу, да так, что все бегут, а у некоторых и головы с плеч попадали[452]. Я страхом задушен был, никак опамятоваться не мог, пока Всевыведыватель мой, услыхав, как спрашивают: «А кто еще его сажать и утверждать [на троне] помогал?», дернул меня, давая знать, что мне тоже бежать надо.
В примечании к английскому переводу «Лабиринта» отмечается, что в этом эпизоде отразились воспоминания Коменского об изгнании австрийцев из Богемии и кратковременном правлении там Фридриха Пфальцского. По прочтении отрывка становится совершенно очевидным, что Коменский в той или иной мере поддерживал режим Фридриха, ведь он утверждает, что «тоже [к новому трону] приблизился» и даже «клин или два подставил, чтобы его укрепить».
Разгром Фридриха, по свидетельству «Лабиринта мира», был для Коменского сокрушительным ударом, ввергнувшим его в пучину депрессии и разочарования, — как, впрочем, и провал розенкрейцерского движения, иссякновение возлагавшихся на него надежд. Между двумя событиями, конечно же, существовала связь: недаром в видениях Коттера «розы» и «львы» так легко соединяются воедино. Создавая свой «Лабиринт», Коменский еще раз мысленно пережил годы, озаренные розенкрейцерской надеждой, и поражение Фридриха, имевшее столь гибельные последствия для его сторонников. Этот выстраданный опыт оставил в душе философа неизгладимый след, привел его к неприятию земного мира с его запутывающимися в лабиринты стезями.
Зрелища, которые Странник зрит в Лабиринте, ужасны. Перед его глазами прокатывается неисчислимое войско, а недавних бунтовщиков подвергают тошнотворным наказаниям. Он видит смерть и разрушения, мор и голод, презрение к человеческой жизни и человеческому комфорту (вместо действенной заботы о жизни и комфорте человека, которой мечтали посвятить себя Коменский и его былые друзья). Короче, он наблюдает начало Тридцатилетней войны[453].
И тогда, не в силах будучи долее ни глядеть на то, ни переносить боль сердца моего, я убежал: же лая в пустынь куда-нибудь удалиться, а лучше, если бы можно было, и вовсе с этого света убраться прочь.
Не видя вокруг себя ничего, кроме мертвых и умирающих, исполненный жалостью и ужасом, Странник не смог удержаться от горьких слов:
О, наиничтожнейшие, бедные, несчастные люди! Такова, значит, последняя ваша слава?! Таков итог стольких ваших возвышенных деяний? Такова цель, к которой устремлены ваши, столь наполняющие вас гордостью, искусства и премудрости?[454]
И тут он услыхал голос, воззвавший к нему: «Вернись!» Оглянувшись, он не увидал никого, но голос вновь позвал: «Вернись!» А потом еще раз: «Вернись туда, откуда вышел, вернись в дом сердца своего, и затвори за собою двери!»[455]
«Затворившись в сердце своем», Странник слышит там добрые и любящие слова и всецело предает себя Иисусу.
Коменский чрезвычайно близок к Андреэ по своим взглядам и религиозным убеждениям, и даже линии их судеб кажутся параллельными. Я объясняю это тем, что оба они разделяли надежды, воплощенные в розенкрейцерских манифестах: надежды на новое вселенское реформационное движение и прогресс человеческого знания. Оба с тревогой наблюдали за нездоровым возбуждением умов, последовавшим вслед за публикацией манифестов; оба видели, как новое движение сначала вышло из-под контроля своих зачинателей, а затем стало попросту опасным для них. Интерпретация описанного процесса у Коменского очень напоминает беспокойство Андреэ по поводу того, что на подмостках, где игрался розенкрейцерский ludibrium, появилось слишком много новых актеров. Движение свернуло совсем не на тот путь, который имели в виду его инициаторы, и оказалось пагубным для тех целей, которым должно было послужить. Мы узнаем об этом и от Андреэ, и от Коменского. Они оба, оставаясь в душе религиозными идеалистами, были потрясены бедствиями войны и крахом Фридриха в Богемии. И в Германии, и в Богемии происходило одно и то же: гибли библиотеки и научные центры, жесточайшие испытания выпали на долю ученых. В этой ситуации и Андреэ, и Коменский нашли последнее прибежище в евангелическом благочестии. Андреэ, разочаровавшись в розенкрейцерском ludibrium'е, увлекся идеей создания «Христианского Общества». Коменский «затворился в сердце своем», чтобы обрести там Иисуса. Тип благочестия, изначально присущий розенкрейцерству и выразивший себя в девизе Jesus mihi omnia («Иисус для меня — все»), окончательно возобладал над душами обоих, но от «игры» в Христиана Розенкрейца и его филантропическое Братство им пришлось отказаться — она вызывала слишком много кривотолков. Увы! Через мучительные духовные искания и горький исторический опыт, описанные в «Лабиринте мира», прошел не один Коменский, но и Андреэ, и все его единомышленники.
Философскую систему, которую Коменский начал разрабатывать сразу же по своем приезде в Хайдельберг, но которая получила достаточно полное развитие в более поздний, изгнаннический период его жизни, сам он называл «пансофией». Слово «пансофия», впервые введенное в научный оборот ренессансным неоплатоником и герметиком Франческо Патрицци[456], подразумевает доктрину универсальной гармонии, связи между «внутренним» миром человека и «внешним» миром природы — короче говоря, философию макро- и микрокосма. Фладд называл свое учение «пансофией» и утверждал, что, по его мнению, розенкрейцерские манифесты тоже выражали подобные воззрения. Коменский и его «пансофия», как мы теперь видим, вышли непосредственно из розенкрейцерского движения (в том расширенном понимании, что предлагается в настоящей книге).
Последним (или одним из последних) переживаний Странника, описанных в «Лабиринте мира», было видение ангелов[457]:
Хотя, казалось бы, нет ничего на свете более беззащитного и для всяческих опасностей уязвимого, чем собрание людей благочестивых (на которых и дьявол и мир сей со злобою взирают, а то и нападают и бьют), — я их увидал надежно укрытыми. Все их сообщество окружено было как бы огнем, но сия огненная стена, когда я приблизился к ней, на глазах моих колебаться стала: ибо была она не чем иным, как кольцом из тысяч и тысяч ангелов, окружившим благочестивых; ни единый враг, значит, не мог подступиться к ним. Всяк из них имел также своего собственного ангела, приставленного к нему Господом и призванного быть его хранителем.
Еще я увидал ‹…› другое достоинство этого священного, незримого содружества: ведайте же, что ангелы те — не только стражи им, но и наставники. Ангелы часто посвящают их в тайное знание о различных вещах и научают глубинно сокровенным таинствам Божиим. Ибо, поелику ангелы сии извечно зрят лик всеведущего Бога, ничто из того, что пожелал бы узнать человек благочестивый, от них не сокрыто, и по соизволению Божию они охотно открывают то, что ведают сами…
Последовать за Странником до конца (до последних страниц «Лабиринта мира» с их удивительным описанием «ангельского служения») — это значит увидеть розенкрейцерское движение, столь живо описанное в первой части романа, под совершенно иным углом зрения.
Ангелология была важной отраслью ренессансной науки. Каббалисты, претендовавшие на то, что умеют вызывать ангелов, подробнейшим образом описали ангельские иерархии и их функции. Христианские каббалисты отождествили ангелов каббалы с христианскими ангельскими иерархиями Псевдо-Дионисия Ареопагита. Герметические трактаты, с их подчеркнутым интересом к божественным силам, проповедовали эманационную философию, которая легко могла быть — и была — включена в христианскую каббалу. В эпоху Ренессанса ангелология имела огромное значение — ее роль еще не оценена по достоинству современными исследователями.
Жизнь Джона Ди, в которой ангельские видения перемежались с занятиями естествоиспытателя и математика, вполне укладывалась в рамки эпохи, столь настойчиво подчеркивавшей наставническую роль ангелов; для него ангелология была одной из научных дисциплин — правда, наиболее значимой. Ди может показаться забавным чудаком только тому, кто рассматривает его творчество в отрыве от ренессансной ангелологической традиции. На самом деле все розенкрейцерское движение было пропитано герметико-каббалистической христианской ангелологией. Андреэ в «Христианополе» уделяет огромное внимание науке, технике, благотворительности, однако в основе его утопии лежит идея «ангельского служения». Коменский в «Лабиринте мира» предлагает свою интерпретацию «ангельского служения», особо выделяя в нем наставнический аспект.
Хотя Андреэ и его последователям, одним из которых был Коменский, в годы войны пришлось отказаться от внешних атрибутов дискредитировавшего себя розенкрейцерства, утопический идеал просвещенного филантропического общества, поддерживающего контакт с небесными сферами, не был утрачен. Напротив, утопизм того типа, к которому можно отнести христианские общества Андреэ, превратился за время Тридцатилетней войны в весьма значительную подспудную силу; его пропагандировали такие люди, как Коменский, Сэмюэл Хартлиб, Джон Дюри (все трое в той или иной степени испытавшие на себе влияние Андреэ), а также прямые наследники того реформаторского движения, что скрывалось под маской «розенкрейцерства» и потерпело сокрушительную катастрофу в 1620 г.
XIII. От «Незримой коллегии» к Королевскому обществу
Фронтиспис книги Т. Спрата «История Королевского Общества». Лондон 1667.
За несколько лет после тех роковых событий соединенным силам Габсбургской монархии и католической Контрреформации удалось одержать почти полную победу. Реформация в Европе, казалось, вот-вот угаснет, и в мире не находилось места для проигравшего свою партию Льва — бывшего некогда королем Богемии, но потерявшего земли, лишившегося права избрания императора и ныне коротавшего дни в Гааге в качестве нищего и зависимого эмигранта. Орел воистину восторжествовал. Фридрих предпринял несколько попыток вернуть Пфальц вооруженным путем, но все они закончились неудачно. И все же этот человек являл собой достаточно заметную фигуру. Даже в своем унижении и отчаянии он оставался воплощением униженной и отчаявшейся протестантской Европы. Для многих же англичан он был еще и живым укором, напоминанием о том, как Стюарты, наследники королевы Елизаветы, позорно предали ее дело, сложив с себя ответственность за сохранность европейского протестантизма.
Разобраться в характере Фридриха не так просто, как кажется на первый взгляд. Он, конечно, был никудышным полководцем, наивным политическим деятелем, малоэнергичным лидером. Как личность, он представляется слабым человеком, зависимым от жены и князя Анхальтского, не имеющим собственных стремлений и суждений. Но что можно сказать, к примеру, о его религиозной или интеллектуальной индивидуальности? Никто, я думаю, не задавался подобными вопросами. Все видевшие Фридриха в Хайдельберге, перед войной, поражались его искренности. В искренности курфюрста, слава Богу, никто никогда не сомневался, но ярлыки, выдуманные пропагандистами из вражеского лагеря, желавшими выставить своего противника этаким слабохарактерным дураком, накрепко прилепились к его образу. Нечто подобное произошло и с Генрихом III Французским, человеком глубоко религиозным, интеллектуальным, артистичным, созерцательным по своей натуре, чей подлинный образ был, однако, совершенно искажен современной ему враждебной пропагандой.
Портрет Фридриха кисти Хонтхорста[458] (см. илл. 37), написанный в Гааге уже после всех постигших курфюрста несчастий, кажется несколько идеализированным, но, быть может, мы ошибаемся, и художник просто правдиво запечатлел итог духовной трагедии, пережитой этим человеком. Мы видим перед собой представителя старинного германского императорского рода, отпрыска ветви Виттельсбахов, более древней, чем ветвь Габсбургов; и человек этот (как подсказывает воображение), постигнув религиозный и мистический смысл имперской судьбы, пережил нечто большее, нежели личную трагедию, — добровольное мученичество. Лицо его не соответствует расхожим представлениям об облике кальвиниста, но ведь пфальцский кальвинизм впитал в себя многие мистические традиции, и прежде всего герметико-каббалистическую традицию Ренессанса, в том виде, в каком она существовала в здешних краях. Фридрих выбрал своим духовным наставником ученого-ориенталиста; быть может, подобно Рудольф II, он искал эзотерический путь решения сложных религиозных вопросов. Лицо на портрете выражает душевную мягкость и благородство. И какие бы другие качества (справедливо или ошибочно) ни вычитывали в его чертах, могу сказать одно: любой, кому доводилось видеть портреты германских князей времен Тридцатилетней войны, сразу же поймет, что Фридрих был человеком совершенно иного, более высокого склада.
Война бушевала уж добрых десять лет, а протестанты несли страшные потери, когда наконец с Севера явился новый Лев-освободитель. Благодаря победам Густава Адольфа, короля Швеции (см. илл. 32), дело протестантов было спасено. Хотя конца ужасной междоусобице еще не было видно, Густаву Адольфу удалось затормозить победоносное наступление Габсбургов и тем самым обеспечить условия для выживания протестантизма в Европе. В ту пору и Фридрих отправился в Германию, вновь повидал свой разоренный войной Пфальц и, между прочим, был очень тепло принят Густавом, признавшим за ним роль лидера немецких протестантских князей[459]. Лев побежденный и Лев победоносный встретились и приветствовали друг друга; странно сказать, но они и умерли почти одновременно, в ноябре 1632 г.: Фридрих пал жертвой эпидемии, свирепствовавшей в опустошенной стране, а Густав был убит в сражении под Лютценом. За короля Богемии и короля Швеции отслужили общую заупокойную службу — в Гааге[460]. Любопытно отметить еще одну черту, сближающую этих государей, числившихся «Львами»: оба сходным образом использовали в своей пропаганде явления новых звезд, благоприятные пророчества и пр., только один добился успеха, а второй потерпел неудачу. Наряду с культом Густава Адольфа в Англии жила и память о его предшественнике, другом Льве, причину поражения которого многие усматривали в предательстве Якова I[461].
Вдова Фридриха, королева Богемии, даже в большей степени, чем ее умерший супруг, олицетворяла для определенной части англичан ту политику поддержки протестантской Европы, которую, по их мнению, Яков I должен был продолжать хотя бы ради дочери и зятя. Королева Богемии, жившая в нищете и изгнании в Гааге, оставалась живым укором для всех тех, кто рассуждал подобным образом. По кончине Фридриха Елизавета продолжала жить в Гааге на правах овдовевшей королевы — королевы без королевства, очень бедной, существовавшей лишь за счет голландской благотворительности и нерегулярно поступавших английских субсидий; она не имела ни поместий, ни каких-либо иных источников дохода и могла найти нравственную опору лишь в своем королевском достоинстве и своих многочисленных детях, унаследовавших королевскую кровь. Как она выглядела в первые годы своего вдовства, мы можем судить по портрету, написанному Хонтхорстом в Гааге и запечатлевшему, хотя и уставшую от жизни, но все еще энергичную и властную женщину. Елизавету часто обвиняли в легкомыслии и чрезмерной любви к удовольствиям, в действительности же она обладала очень сильным характером. Она не сломалась под жестокими ударами судьбы. Без сомнения, ее поддерживала гордость, но также и то воспитание в духе принципов Англиканской «низкой» церкви[462], которое она получила в детстве у очень хороших людей — супругов Харрингтонов. Такой Елизавета и изображена на портрете Хонтхорста: печальная, но преисполненная достоинства, она стоит в саду, на холме, над протекающей внизу рекой (не должен ли этот пейзаж напомнить о Хайдельберге?), и держит в руке розы.
На протяжении всех последних лет царствования ее отца, Якова I, в правление ее брата, Карла I, во все время гражданских войн и Английской республики, вплоть до Реставрации и восшествия на престол Карла II, приходившегося ей племянником, Елизавета сохраняла свой гордый и нищий двор в Гааге, и все эти годы ее помнили в Англии. О ней, о ее царственной крови просто невозможно было забыть. Ведь умри ее брат Карл молодым — а он был болезненным юношей, так что особенно долгую жизнь ему не пророчили, — и она могла бы стать королевой Великобритании. Если бы у Карла не было детей или его дети умерли бы раньше его, она унаследовала бы престол брата, а не доживи она сама до этого, королевский престол унаследовал бы ее старший сын. В противоположность отцу и брату, королева Богемии отличалась многочадием. И те англичане (а их было не мало), которых не удовлетворяла непарламентская и антипуританская, можно даже сказать, потенциально папистская политика Якова I и Карла I, с надеждой обращали свои взоры на это протестантское королевское семейство, обитавшее в Гааге и имевшее законные права на английский престол. На протяжении многих последующих лет все, кто желал передачи престола своей страны наследник — протестанту, искали и обретали чаемых государей среди потомков Елизаветы Богемской. Ее младшая дочь (двенадцатый ребенок в семье), родившаяся в Гааге в 1630 г., со временем стала именоваться Софи Брауншвейгской, курфюрстиной Ганноверской, а ее сын, Георг I, был возведен на престол Великобритании и основал Ганноверскую династию[463].
Все англичане, посещавшие Гаагу, считали своим долгом нанести визит богемской королеве. Вот, к примеру, запись из дневника Джона Ивлина, помеченная июлем 1641 г.[464]:
Прибыв в Гаагу, я первым долгом отправился ко двору королевы Богемии, где имел честь быть допущенным к руке ее Величества и лобызал ручки нескольких принцесс, ее дочерей. ‹…› У королевы этот день был постным, в память о прискорбия достойной кончине ее супруга, а приемная (палата) остается затянутой черным бархатом с самого дня его преставления…
Елизавета пользовалась популярностью не только у убежденных монархистов, сочувствовавших протестантскому делу, но и у сторонников парламента. Парламентаристы и при Якове, и при Карле относились к Елизавете Богемской с большой симпатией, да и потом, когда парламент сбросил монархию, не утратили уважения к ней. Невольно задаешься вопросом: а произошла бы вообще революция, если бы Елизавета унаследовала от отца английский трон? Ни парламентаристы, ни сам Оливер Кромвель в действительности не возражали против монархии как таковой. Оливеру наилучшей формой правления представлялась монархия елизаветинского образца. Недовольство вызывали конкретные монархи, пытавшиеся править без парламента и не ориентировавшиеся в своей внешней политике на задачу поддержания европейского протестантства. К Елизавете Стюарт подобные претензии, предъявлявшиеся ее царственной родне, никакого отношения не имели. Напротив, она и ее супруг олицетворяли собой именно ту внешнеполитическую линию, которую парламент желал бы навязать Якову и Карлу. Посему неудивительно, что революционный парламент признал право королевы Богемии на его — парламента — помощь. Она получала денежное содержание от Карла I и продолжала получать его от парламента. Живя со своим двором в Гааге, Елизавета, таким образом, оставалась в курсе бурных английских событий, не порывая полностью связей ни с одной из противоборствующих сторон. И хотя она всегда с абсолютной твердостью выказывала сочувствие делу своего брата Карла и была страшно потрясена его смертью, все же некоторые аспекты программы парламентаристов и Кромвеля были не так уж далеки от ее собственной позиции.
Подобная широта традиций пфальцского княжеского дома, позволявшая примирить в рамках одной семьи самые разные точки зрения, особенно отчетливо проявилась в судьбах двух сыновей Елизаветы, людей поразительно яркой индивидуальности. Принц Карл Людвиг, старший из ее сыновей (если не считать тех, что умерли во младенчестве), мог претендовать на права императорского выборщика и Пфальцское княжество — и был частично восстановлен в этих правах Мюнстерским мирным договором 1648 г., положившим конец Тридцатилетней войне[465]. Интеллектуал, глубоко интересовавшийся новыми концепциями просвещения и развития прикладных наук, он склонялся на сторону английских парламентариев, потому что они были заинтересованы в новых идеях, и потому что в этой среде у него имелось много доброжелателей, желавших видеть его восстановленным в своих наследственных правах. Принц Руперт, напротив, был убежденным роялистом, сражался на стороне короля и прославился своей доблестью в кавалерийских атаках. Но и он не чуждался умственных запросов: именно ему, например, молва приписывала изобретение меццо-тинто (нового способа гравирования).
Двор Елизаветы Богемской в Гааге — тема, которая еще ждет серьезного исторического исследования. Хотя М.А. Грин собрала большой документальный материал (и в этом смысле ее книга сохраняет свою ценность до сих пор), в плане содержания она ограничилась тем, что пересказала романтическую историю венценосной вдовы. Г. Тревор-Ропер, насколько я знаю, первым из историков наметил более глубокий подход к проблеме, кратко упомянув, что главным светским покровителем «трех иностранцев» — Хартлиба, Дюри и Коменского — была[466]:
Елизавета, королева Богемии, сестра короля, в силу своих королевских кровей ставшая знаменем оппозиции и получавшая пособие от парламента на всем протяжении гражданских войн. Не последнюю роль играли и поддерживавшие ее дипломат — сэр Уильям Босуэлл, в прошлом душеприказчик Фрэнсиса Бэкона, а ныне посол в Гааге, где обитала со своим двором королева-изгнанница, и сэр Томас Роу, бывший посол при дворе Густава Адольфа.
Этих немногих слов достаточно, чтобы наметить контуры нового исторического подхода к материалам о жизни елизаветинского двора в Гааге. Надо будет собрать имена значительных по своему общественному положению и влиянию англичан, с которыми королева Богемии поддерживала тесную связь и для которых являлась символом «елизаветинской» монархической традиции. Надо будет иметь в виду, что как вдова Фридриха Елизавета по-прежнему представляла интерес и для Европы, и для Англии. Беженцы из Пфальца, из Богемии, со всех концов разоренной войною Европы, когда-то стекавшиеся к Фридриху в Гаагу, устремлялись теперь к его вдове, хотя в финансовом плане она ничем не могла им помочь. Зато она была, так сказать, идеологическим передаточным звеном, и это благодаря ей идеи трех «иностранцев» — Хартлиба, Дюри и Коменского — получили признание в Англии, боровшейся против монархического деспотизма.
Сэмюэл Хартлиб приехал в Англию в 1628 г., после того, как католики захватили Эльблонг, город в польской Пруссии, в котором он возглавлял некое мистическое и филантропическое общество. Хотя мы не располагаем почти никакими данными о фактической истории этой группы, а сохранившиеся сведения весьма невразумительны, похоже на то, что она называлась «Антилией». Иначе говоря, она была одним из андреэвских христианских союзов — обществом, отказавшимся от розенкрейцерского ludibrium'a, но сохранившим розенкрейцерские идеалы. В качестве «пароля» товарищи Хартлиба употребляли слово «Антилия», а не «Розенкрейц», и все же Хартлиб всю свою жизнь трудился так, как будто бы он был розенкрейцерским Братом — если можно вообразить такового не «незримым», но представшим во плоти.
Прибыв в Англию, Хартлиб собрал беженцев из Польши, Богемии и Пфальца и учредил школу в Чичестере, а оттуда в 1630 г. вернулся в Лондон[467]. К тому времени он уже имел четкое представление о своей жизненной миссии, заключавшейся, по его мнению, в том, чтобы предпринимать неустанные попытки организации филантропических, просветительских и научных обществ, спаянных между собой интенсивным, хотя и «незримым» (в смысле его несектантского характера) религиозным чувством.
Джон Дюри[468], шотландец по происхождению (но тоже почти «иностранец», так как большую часть жизни провел за границей), познакомился с Хартлибом в Эльблонге и всерьез увлекся идеалистическими проектами в духе своего нового друга. Он поддерживал тесную связь с Елизаветой Богемской и Томасом Роу, негласным советником королевы, и (как и Хартлиб) был активным сторонником восстановления суверенных прав ее сына, Карла Людвига, в Пфальце[469].
Коменский, самый знаменитый и плодовитый из всех троих, в 1628 г. (после пережитых на родине испытаний, о которых мы кое-что узнали в предыдущей главе) навсегда покинул Богемию и поселился в Польше, где организовал чешских беженцев в общину Богемских братьев и приступил к изданию педагогических сочинений. В Польше же он начал обучать учеников своей «пансофии».
Все трое принадлежали к одному поколению, прошедшему через увлечение розенкрейцерством, слухами о всеобщей реформации и «прогрессе учености», — и, наверное, лучше нас разобрались в тайне розенкрейцерского Братства и его Незримой Коллегии. Это были люди, которых бедствия 1620 и последующих годов лишили родины и превратили в кочующих эмигрантов. И вот, добравшись до Англии, они пытаются проповедовать там идеи всеобщей реформации, «прогресс учености» и прочие утопические идеалы. Они как бы воплощают собой эмигрантскую диаспору Богемии и Германии, а если мы присовокупим к этой троице Теодора Хаака, выполнявшего поручения Коменского в Англии, — то еще и диаспору Пфальца (ибо Хаак был пфальцским беженцем)[470].
В 1640 г. собрался наконец Долгий Парламент. Его члены были возмущены тем, что на протяжении многих лет их отстраняли от государственных дел, недовольны внутренней политикой монархии и — в еще большей степени — политикой внешней, ориентировавшейся на «бесчестный мир, в то время, как протестантизм за рубежом клонился долу»[471]. Добившись казни Страффорда[472], этот парламент, как тогда думали, нанес окончательный удар «тирании». Людям показалось, что начинается новый период человеческой истории. В воцарившейся атмосфере восторженного энтузиазма мысли легко обращались к самым смелым проектам — подумывали и о всеобщей реформации образовательной системы и религии, и о «прогрессе учености», который можно будет использовать на благо человека.
Именно Долгому Парламенту Сэмюэл Хартлиб адресовал свою утопию, «Описание Славного Королевства Макария»[473]. Он сам именовал это произведение «вымыслом», как бы уподобляя его «Утопии» Томаса Мора (из которой заимствовано название «Макария») и «Новой Атлантиде» Фрэнсиса Бэкона. «Вымысел», или ludibrium, Хартлиба (последний термин он никогда не употреблял) представил вниманию читающей публики еще одну из тех фантастических стран, особенно популярных в эпоху розенкрейцерства, где все разумно организовано, чаемый «прогресс учености» уже произошел, повсюду, как в раю до грехопадения, царят мир и счастье. Однако рекомендации Хартлиба отличались куда большим практицизмом, чем все, что предлагали более ранние утопии. Он думал не только о грядущем Тысячелетнем царстве, но, например, о законодательной реформе, к осуществлению которой парламент мог бы приступить непосредственно по прочтении его труда. И даже выразил уверенность в том, что ныне действующий парламент «еще до окончания своих полномочий ‹…› заложит краеугольный Камень мирового счастья»[474].
В тот волнующий исторический момент, когда Англия представлялась многим избранной страной Иеговы, призванной восполнить изъяны всего сущего, когда впервые забрезжила надежда, что именно здесь вымышленные республики и незримые коллегии обретут реальность, Хартлиб написал Коменскому, настойчиво приглашая его приехать и вложить свою лепту в великий общий труд. И хотя это приглашение исходило не от парламента, государственные мужи отнеслись благосклонно к идее вызова в Англию Коменского и Дюри (ему тоже было послано аналогичное письмо). В проповеди, прочитанной перед членами парламента в 1640 г., священник упомянул Коменского и Дюри как двух философов, чьи советы могли бы оказаться полезными для будущих реформаторов. Коменский в далекой Польше отнесся к этому предложению с восторгом: он уже видел себя специальным уполномоченным парламента, перестраивающим английское общество в некое подобие Бэконовой Новой Атлантиды.
В Англии Коменского встречал Хаак, пфальцский эмигрант, очень хорошо и тепло его принявший, а из официальных властей — Джон Уильяме, епископ Линкольнский, устроивший в его честь роскошный банкет[475] и предложивший бывшему беженцу и религиозному диссиденту руку дружбы. Это произошло в 1641 г., в том самом, когда Хартлиб опубликовал «Макарию», а Джон Дюри — свое столь же оптимистическое произведение, в котором пропагандировал «прогресс учености» и протестантское единство, заодно убеждая своих читателей в необходимости вернуть Пфальц старшему сыну королевы Богемской[476]. В тот год всеобщего ликования и больших надежд энтузиасты верили, что в Англии новая всеобщая реформация вот-вот свершится — бескровно, без войны, без тех страданий, которые испытала и все еще испытывала Германия. В ту пору и Мильтон увлекся идеей универсальной реформы — в образовании и во всех иных сферах жизни.
Как будто бы люди с радостью ухватились за вновь предоставленный им шанс, упущенный много лет назад, — шанс добиться всеобщей реформации и прогресса, обещанных розенкрейцерскими манифестами и не осуществившихся в Германии по причине краха фридрихианского движения. Те, для кого этот крах стал горьким разочарованием, теперь приехали в Англию, а англичане, стыдившиеся, что когда-то не поддержали немецкое движение, тепло их приветствовали. Произошел новый взрыв «розенкрейцерской» эйфории; новая эра мировой истории, казалось, была не за горами. Идеи и восторги начальной стадии этого общественного подъема отразились — с поразительной достоверностью — в книге Коменского «Путь Света», написанной в Англии в 1641 г., но опубликованной значительно позднее.
Мир, говорит Коменский в начале своей книги, подобен комедии, коею забавляется мудрость Господня, а актеры в ней — люди разных стран. Пьеса еще идет, сюжет не исчерпан, и нас ждут новые достижения человеческого познания. Бог обещает нам: величайший свет будет в самом конце[477]. Как мы видим, Коменский использует театральную метафору, столь глубоко укоренившуюся в сознании Андреэ, наставника его юношеских лет, для раскрытия темы мира, который должен перед своим концом пережить эпоху всеобщего просвещения.
Когда все частные случаи и законы будут собраны воедино, продолжает Коменский, можно будет надеяться овладеть во всей полноте «некиим Искусством Искусств, Наукой Наук, Мудростью, что превыше всех Мудростей, Светом Светов»[478]. Изобретения прошлых эпох, навигация и книгопечатание, открыли путь к распространению света. Мы, как можно ожидать, стоим на пороге еще больших достижений[479]. «Всеобщие книжки» (речь идет об упрощенных учебниках для начального образования, которые собирался издавать Коменский) помогут каждому обучиться грамоте и присоединиться к общему прогрессу. Книга Пансофии будет завершена. Будут основаны училища всемудрости, за которые ратовал Бэкон. А учители всемудрости из всех стран должны свободно общаться друг с другом. «Ибо хотя и правда, что мир сей не совсем лишен есть общения, однако тем способам общения, к коим он прибегает, недостает всеобщности». А потому желательно, чтобы «агентов общего счастия и благополучия» было много. Они должны руководствоваться неким порядком, «дабы всякому из них было ведомо: что именно надлежит ему делать, кому, когда и с чьей помощью; и дабы он мог устроить дело свое наилучшим для общего блага образом»[480]. Следует создать Коллегию, или священное общество, которое посвятит себя общему благу человечества и будет скрепляться определенными законами и правилами[481]. Для распространения света весьма необходим также универсальный язык, который был бы понятен каждому. Этой проблемой займутся ученые мужи из нового ордена. И, в конце концов, свет Евангелия, вместе со светом знания, распространится по всему миру.
Здесь явственно ощущается влияние Бэкона с его замыслами коллегий и организаций, «распространяющих свет» («купцы света» в «Новой Атлантиде»). Все три друга — Коменский, Дюри и Хартлиб — страстно увлекались работами Фрэнсиса Бэкона и признавали его великие заслуги в деле научного прогресса. Приехав в Англию, они вступили в контакт с возродившимся бэконианским движением, в начале 40-х гг. переживавшим буйный расцвет. Но в рассмотренном нами отрывке прослеживается и иной источник влияния. Бэконовы «купцы света» здесь как бы слились с розенкрейцерскими Братьями: от последних они переняли видение мира, который, перед своим апокалиптическим концом, продолжает двигаться к свету (эта идея с большой выразительностью была запечатлена в «Откровении»), а также интенсивное евангелическое благочестие розенкрейцерских манифестов. Мы уже говорили, что сам Бэкон, вероятно, осознавал свои связи с розенкрейцерством; во всяком случае, отдельные компоненты его мифа о Новой Атлантиде явно «смоделированы» по образцу другого мифа — о незримых розенкрейцерских Братьях, посвятивших себя служению общечеловеческому благу, и об их великой коллегии, неведомой остальному миру.
Мне трудно ясно выразить свою мысль, но я пытаюсь показать, что с приездом в Англию «трех иностранцев», пропагандировавших свой, «иноземный» вариант «прогресса учености», слились в одно русло два потока одного, в сущности, движения — английское бэконианство и немецкое розенкрейцерство; более того, какая-то связь между этими потоками существовала и до момента их встречи. Авторы розенкрейцерских манифестов и некоторых других сочинений времен «розенкрейцерского фурора» вполне могли быть знакомы с идеями Бэкона, а уж Бэкон определенно знал розенкрейцерский миф — по крайней мере, когда писал «Новую Атлантиду».
1641 г. оказался ложной зарей. Великий прогресс учености, Свет Тысячелетнего царства были отнюдь не так близки, как многие полагали. Да и не могла новая эпоха утвердиться в Англии мирным путем, без тех бедствий, что выпали на долю Германии. Англичанам предстояло пережить долгие годы анархии и кровопролития. К 1642 г. стало совершенно очевидно, что страна скатывается в гражданскую войну, что парламенту хватает иных забот, кроме как выдумывать законодательство грядущего «золотого века», и что «всеобщую реформацию» придется отложить на неопределенный срок.
Три друга-энтузиаста тоже это поняли. Коменский и Дюри в 1642 г. покинули Англию, чтобы продолжить свою деятельность в иных местах: Коменский — в Швеции, Дюри — в Гааге. Но Хартлиб никуда не уехал и, оставаясь в Англии, описывал, планировал и организовывал все новые общества, которые, как он считал, могли бы послужить моделью для будущего.
Возможно, дойдя до этого места, внимательные читатели испытают (как испытываю и я) странное ощущение déjà vu[482]. Возбуждение, охватившее англичан в 1641 г., очень напоминает «фурор», вызванный розенкрейцерскими манифестами: всем кажется, что вот-вот наступит «прогресс учености», что человечество стоит в преддверии неких высших сфер и новых возможностей. Начало гражданских войн положило конец их легкомысленным мечтам, подобно тому, как Тридцатилетняя война охладила розенкрейцерские упования. Да и средство, к которому обратились самые упорные умы, не отказавшиеся от своего идеала, — создание маленьких «моделей» будущего общества — в обоих случаях было одним и тем же. Хартлиб, учреждая в Англии различные группы (под именем ли «Макария», или под иными именами), участвовал в том же процессе, что и Андреэ, занявшийся организацией «модельных» групп (христианских обществ) после того, как утратил веру в скорое осуществление «всеобщей реформации». И, кстати, Хартлиб увлекся подобным «моделированием» еще до того, как переехал в Англию, — во времена эльблонгской «Антилии».
Хартлиб всерьез разрабатывал планы образовательной реформы, филантропической и благотворительной деятельности, использования науки в практических целях[483]. Он прекрасно понимал значение математики для прикладной науки, и потому его модель усовершенствованного общества больше напоминает Христианополь, чем Новую Атлантиду. Мы помним, что «христианопольская» модель будущего общества, предложенная Андреэ, базировалась, как и философия Джона Ди, на таком видении математики, которое предполагало одновременно и практический, утилитарный подход к этой науке (ориентированный на технические достижения), и подход возвышенно-абстрактный, уводящий в «ангельские сферы».
Традиция Ди сохранялась в Англии главным образом в форме увлечения математикой и возможностями ее утилитарного (технологического) использования. Хартлиб, возможно, впервые познакомился с этой традицией именно в Англии, и — как знать — не соединилась ли она в его сознании с «христианопольской» (андреэвской) моделью христианского общества, оказавшей на него глубокое влияние еще в юности? В самом деле, некоторые факты как будто указывают на то, что Хартлибово понимание научного прогресса сложилось в значительной мере под воздействием Ди. Хартлиб восхищался «Предисловием к Евклиду» Ди: это совершенно очевидно, потому что в 1655 г. он настойчиво добивался переиздания сего сочинения на латинском языке[484]. А среди тех помощников и соратников, которых Хартлиб подобрал себе в Англии, привлекают внимание фигуры Джона Пелла и Уильяма Петти — оба были математиками и механиками, последователями Ди. В «Идее Математики» Пелла (1638) явственно ощутимо влияние «Предисловия к Евклиду»[485]; что же до Петти[486], то он, в силу своих увлечений топографией и навигацией[487], несомненно учился более у Ди, чем у Бэкона.
А посему я рискну предположить, что «вульгарное» (или «утилитарное») бэконианство Хартлиба обязано своим происхождением вовсе не Бэкону. Скорее, оно вышло из традиции, связанной с именем Ди, хотя сам Хартлиб, как и его друзья, был склонен считать любое усилие, направленное на научный прогресс, проявлением бэконианства. Но, конечно, сказанное не отрицает того всеми признанного факта, что истоки утопизма Хартлиба в значительной мере восходят к «Новой Атлантиде».
И все же интенсивное христианское благочестие «Христианополя», вдохновленного идеями Джона Ди, вероятно, в большей степени соответствовало натуре Хартлиба (который сам был глубоко верующим христианином и мистиком), нежели холодновато-сдержанный настрой Бэконовых сочинений.
Мы теперь переходим к многократно обсуждавшейся теме, предыстории английского Королевского общества[488], — ради чего, собственно, и была задумана настоящая глава. Может быть, нам повезет, и знакомые фрагменты головоломки сложатся в какой-то новый, более связный узор.
Если верить Джону Уоллису, Королевское общество ведет свое начало от нескольких собраний, организованных лондонскими учеными в 1645 г., в самый разгар гражданских войн, на которых обсуждались проблемы натурфилософии (в особенности новой экспериментальной философии) и других областей человеческого знания[489]. Рассказывая об участниках этих встреч, Уоллис вспоминает «Доктора Джона Уилкинса, впоследствии принявшего сан Епископа Честерского, а тогда исполнявшего должность капеллана Князя-Выборщика Пфальцского в Лондоне, ‹…› Мистера Теодора Хаака (одного немца из Пфальца, который в те времена проживал в Лондоне и был, как мне кажется, первым устроителем и организатором сих собраний), и многих других». Достоверность уоллисовского отчета о возникновении Королевского общества оспаривалась многими исследователями, больше полагавшимися на официальную историю этого учреждения, написанную Томасом Спратом, в которой лондонские собрания 1645 г. не упоминаются.
Как бы то ни было, в свете интересующей нас проблематики рассказ Уоллиса представляется весьма любопытным, так как явно подчеркивает решающую роль пфальцского влияния. По мнению Уоллиса, Хаак, никому не известный немец из палатината, был организатором первых собраний, положивших начало Королевскому обществу. Уоллис также не забывает упомянуть, что Джон Уилкинс (впоследствии одна из главных фигур в Королевском обществе) во времена этих первых собраний служил капелланом при «Князе-Выборщике Пфальцском» (старшем сыне короля и королевы Богемии). Таким образом, весь рассказ о происхождении Королевского общества приобретает несколько странный «пфальцский» колорит: первые собрания организуются немцем из палатината, в качестве представителя Церкви на них присутствует капеллан пфальцграфа Рейнского.
Следующим по времени кусочком «головоломки» о происхождении Королевского общества являются упоминания «Незримой коллегии» в письмах Роберта Бойля[490] (см. илл. 34) 1646–1647 гг.
В октябре 1646 г., обращаясь к своему бывшему учителю, молодой Бойль сообщает, что, следуя принципам «нашей новой философской коллегии», решил посвятить себя занятиям натуральной философией и просит присылать ему полезные книги, оговаривая, что в благодарность за это его корреспондента ожидает «самый теплый прием в нашей Незримой Коллегии».
Несколькими месяцами спустя, в письме другому своему другу, датированном февралем 1647 г., Бойль пишет[491]:
Лучше всего то, что столпы Незримой, или (как они сами именуют себя) Философской, Коллегии время от времени оказывают мне честь, удостаивая своим обществом ‹…› мужи столь вместительного и испытующего духа, что обычная философия «школы»[492] составляет лишь самую низшую область их познаний; однако, хотя они намерены прокладывать путь для всякого благородного замысла, их гений до такой степени смирен и готов учиться у каждого, что они не пренебрегают советом даже и самого низкого (по званию и образованию) человека, лишь бы он обосновал свое мнение; особы, стремящиеся устыдить себялюбие своим действенным и глубоким милосердием, которое достигает каждого существа, еще могущего именоваться человеком, и не удовлетворится прежде, нежели облагодетельствует весь мир. Они и в самом деле настолько тревожатся из-за недостатка добрых начинаний, что готовы принять на себя заботу обо всем роде человеческом.
В мае 1647 г. (в письме, адресатом которого предположительно был Хартлиб) Бойль снова пишет о «Незримой Коллегии» и ее планах, вдохновленных идеей общественного блага.
Эта «Незримая Коллегия» дала пищу для многих спекуляций, поскольку в ней видели возможный прообраз Королевского общества. Что она собой представляла, где проходили ее собрания, кто входил в число членов? Можно ли отождествить ее с одной из тогдашних групп, занимавшихся натуральной философией? Например, с группой Хаака, образовавшейся в Лондоне примерно в то же самое время? Или с группой Хартлиба?[493] Описание благотворительных устремлений Коллегии вполне подошло бы к Хартлибу. Само же название «Незримая Коллегия» звучит для нас знакомо. Оно как бы обыгрывает давнюю шутку или игру — ludibrium, прочно связавшую понятие «незримости» с розенкрейцерскими Братьями и их коллегией. Помните? Декарту пришлось специально доказывать свою «зримость», чтобы избежать подозрений в причастности к розенкрейцерству. Бэкон тоже знал эту шутку: благонамеренные братья из Новой Атлантиды и их великая коллегия оставались «незримыми» для остального мира. Свойство «незримости» для окружающего мира можно, с некоторым основанием, отнести и к «Антилии», и к группам под иными наименованиями, ведущим свое происхождение от Андреэ.
Выражение «Незримая Коллегия», выбранное Бойлем для обозначения группы, с которой он недавно познакомился, позволяет предполагать, что и он, и его корреспонденты были в той или иной степени наслышаны о розенкрейцерской истории: ведь, хотя слово «розенкрейцеры» ни разу не прозвучало, в переписке явно обыгрывается давешний розенкрейцерский ludibrium. Итак, переписка Бойля оказывается немаловажным звеном в цепи свидетельств, связующих розенкрейцерское движение с предшественниками Королевского общества.
Свидетельства эти сами по себе давно известны, но весь вопрос в том, как из известных кусочков головоломки сложить осмысленную картину. Для начала я предлагаю подумать еще над одним «фрагментом»: тем фактом, что Джон Уилкинс (см. илл. 35) — капеллан пфальцграфа и фигура первого плана в движении, приведшем к образованию Королевского общества (а затем и в самом Обществе), — ссылается в своей книге на розенкрейцерское «Откровение».
В «Математической Магии» (1648), описывая конструкцию какого-то особого светильника для подземных работ, Уилкинс попутно отмечает, что такого рода лампу «видели, как говорят, в гробнице Фрэнсиса Роузикросса, о чем подробнее рассказано в Исповедании носящего его имя Братства»[494]. И неважно, что Уилкинс именует Розенкрейца Фрэнсисом, а не Христианом (возможно, ошибочно приняв часто встречающееся в манифестах написание Fra[ter], «Бр[ат]» за сокращение имени Fra[ncis]), к тому же переиначивая фамилию Розенкрейц на английский лад. Неважно, что он утверждает, будто обнаружение гробницы с лампой внутри (речь идет о знаменитом склепе Розенкрейца) описано в «Исповедании», тогда как на самом деле об этом говорится в «Откровении». Гораздо важнее иное: приведенная выше цитата ясно показывает, что содержание розенкрейцерских манифестов было ему известно.
Как я уже отмечала в другом месте[495], «Математическая Магия» Уилкинса в большой мере базируется на разделе о механике из Фладдовой «Истории Макро- и Микрокосма», опубликованной в Оппенхайме (Пфальц) в 1619 г. Для самого же Фладда источником вдохновения послужил тот краткий обзор математических, или «витрувианских», дисциплин, который Ди опубликовал в качестве предисловия к сочинениям Евклида (1570). Уилкинс вовсе не скрывает, сколь многим он обязан и Ди, и Фладду, — наоборот, он часто ссылается на труды обоих ученых. Интересно, что в своей книге Уилкинс уделяет большое внимание различным автоматам, говорящим статуям и другим подобным творениям «механической магии». Он, в частности, описывает говорящую статую Мемнона, порожденную совместными усилиями магии и науки. Пристрастия Уилкинса в механике очень напоминают увлечения хайдельбергского двора в период, предшествовавший богемской катастрофе; а его ссылка на перечисленные в «Откровении» диковины из гробницы Христиана Розенкрейца свидетельствует, по моему мнению, о том, что он воспринял этот манифест как аллегорию (или ludibrium), прославляющую чудотворную силу науки.
В своей книге Уилкинс часто упоминает и лорда Веруламского (Фрэнсиса Бэкона), из чего следует, что, по крайней мере, в период ее написания, он не придавал большого значения различиям между Бэконовым подходом к науке и традицией Ди — Фладда. А название «Математическая Магия», по словам самого автора, было заимствовано им у Корнелия Агриппы, именно так именовавшего тот раздел механики, связанный с изобретением диковинных механизмов, которому в основном посвящена книга Уилкинса.
Книга важна для нас, прежде всего потому, что показывает мировоззрение и интересы Уилкинса в 1648 г. — в том году, когда в Оксфорде состоялись первые собрания, положившие начало Королевскому обществу (как утверждает Томас Спрат, автор «официальной» истории этого учреждения)[496]. Спрат не упоминает более раннюю лондонскую группу, описанную Уоллисом. Оксфордские же встречи проводились в апартаментах Уилкинса в Уодхэмском колледже, приблизительно между 1648 и 1659 г., после чего группа перебралась в Лондон, где и составила ядро Королевского общества, официально учрежденного в 1660 г. Членами Оксфордской группы были, наряду с другими известными учеными, Роберт Бойль, Уильям Петти и Кристофер Рен[497]. Вспоминая о «раритетах», виденных им в уодхэмских апартаментах Уилкинса в 1654 г., Ивлин говорит, что Уилкинс изобрел полую статую со скрытой внутри длинной трубкой, умевшую произносить слова, и что у него было много других «искусно сделанных математико-магических диковин»[498], — рассказ любопытен как своего рода «жанровая картинка», иллюстрация, соответствующая и тематике «Математической Магии», и самому духу этого произведения.
За годы «оксфордских собраний» (1648–1659) было издано много книг, и в некоторые из них нам стоит заглянуть, чтобы лучше представить себе ту атмосферу, в которой зарождалось Королевское общество.
Одна из тогдашних литературных новинок имеет прямое отношение к истории розенкрейцерства. В 1652 г. Томас Воан опубликовал (под псевдонимом «Евгений Филалет»)[499] английский перевод «Откровения» и «Исповедания»[500]. Публикация Воана стала воистину эпохальным событием. Конечно, рукописные переводы розенкрейцерских манифестов на английский язык ходили по рукам уже задолго до этого, да и перевод Воана нельзя назвать в полном смысле слова новым, так как он основывается на более ранней рукописной версии[501]. Но то, что розенкрейцерские манифесты появились теперь «в типографском исполнении», к тому же на английском языке, сделало их доступными для значительно более широких кругов читающей публики. Почему их сочли уместным опубликовать именно в тот момент, я не знаю. Воан, между прочим, кроме этого перевода издал несколько собственных мистических сочинений, в которых ссылается на розенкрейцерский миф. Он был братом поэта Генри Воана и имел какой-то конфликт с Генри Мором[502], кембриджским платоником. По слухам, ему покровительствовал сэр Роберт Марри[503], впоследствии сыгравший весьма важную роль в формировании Королевского общества.
Возможно, именно широкий интерес английской общественности к публикации «Откровения» и «Исповедания» побудил пуританского богослова Джона Уэбстера написать замечательный труд, главная идея которого состоит в том, что в университетах необходимо преподавать «философию Гермеса, возрожденную к жизни Парацельсовой школой»[504]. Уэбстер весьма глубоко постиг суть розенкрейцерских доктрин и, подобно авторам манифестов, призывает заменить Аристотелеву схоластику натуральной философией герметико-парацельсистского толка: это, по его мнению, позволит изучать язык природы, вместо того чтобы зубрить искусственный язык, выдуманный магистрами «школы». «Высокопросвещенное братство Креста Розы» он упоминает только один раз: в связи с «языком природы», который, как он считает, есть тайна, ведомая только «боговдохновенному тевтону Бёме», да еще, пожалуй, «в некоторой мере признаваемая братством Розового Креста»[505]. Это интересное (и, без сомнения, правильное) рассуждение подчеркивает наличие определенного сродства между идеями Бёме и розенкрейцерскими манифестами.
К «философии Гермеса» Уэбстер относит и математические науки, понимая последние в духе концепции Ди, изложенной в «Предисловии к Евклиду». Уэбстер приводит пространные цитаты из этого предисловия, сопровождая их восторженными славословиями в адрес самого Ди[506]. Он также глубоко почитает «высокоученого мужа доктора Фладда»[507]; и хотя его книга представляет собою как бы сплав идей Парацельса, Агриппы и иных ренессансных магико-научных направлений, все-таки любимыми авторами Уэбстера остаются Ди и Фладд. По его мнению, если бы учения этих и подобных им философов преподавались в университетах, то человеческое знание о «тайнах и „магналиях“[508] природы»[509], на которые указывал Фрэнсис Бэкон, было бы доведено до совершенства. Иначе говоря, Уэбстер относит Бэкона к мыслителям розенкрейцерского толка, но считает, что его учение должно быть дополнено — главным образом теми идеями, что содержатся в «математическом» предисловии Ди.
Живя в самом сердце пуританской Англии, этот человек, священник и сторонник парламента, написал труд, который стал прямым продолжением ренессансной магико-научной традиции, достигшей кульминации в творчестве Ди и Фладда. Мало того, он думает, что именно эта традиция должна изучаться в университетах — вкупе с бэконианством, которое само по себе (без включения концепций Ди, Фладда и подобных авторов) представляется ему несколько ущербным. Уэбстер игнорирует резкие выступления Бэкона против макро-микрокосмической философии парацельсистов, почем — то полагая, что Бэкон легко помирится со своими противниками. Но он, как кажется, пытается привлечь внимание к тому факту, что Бэкон упустил из виду математическую концепцию Ди.
Сет Уорд, один из членов Оксфордской группы (той, которая впоследствии образовала ядро Королевского общества, а пока время от времени собиралась в оксфордских апартаментах Уилкинса), дал резкую отповедь Уэбстеру в своей книге «Притязания Академий» (Vindiciae Academiarum)[510], опубликованной в 1654 г. Раздражение Уорда вызвано, прежде всего, тем, что Уэбстер попытался слить в одно целое учения Бэкона и Фладда: «Нет в мире двух путей, более противоположных друг другу, нежели те, коими следуют лорд Веруламский и доктор Фладд, ибо один основывается на эксперименте, а другой — на мистических отвлеченных рассуждениях…»[511]. Уорду кажется омерзительным, что Уэбстер «поет дифирамбы языку природы, подражая в этом высоко просвещенному братству Розенкрейцеров»[512]. Уорд даже подозревает Уэбстера в принадлежности к нищенствующей Братии и сравнивает его восторги по поводу «математического» предисловия Ди с причитаниями «нудного монаха»: «он [Уэбстер] молится (как какой-нибудь нудный монах — Богородице в Лоретте, или в другом святом месте) племяннице Королевы Фей[513] и возглашает перед ней речь, сочиненную Джоном Ди в его предисловии…»[514]. В устах представителя Оксфордской группы такие выражения звучат более чем странно, тем более что глава группы, Уилкинс, всего лишь шестью годами ранее открыто ссылался на работы Ди и Фладда в своей книге о «математической магии».
Что же происходило в Оксфордской группе? Рискну предположить, в порядке возможного объяснения, что часть ее участников сочла нужным возможно более решительным образом отмежеваться от «магов», поскольку подозрения в занятиях магией все еще представляли серьезную опасность для любого научного сообщества. Чтобы достигнуть своей цели, они стали усиленно пропагандировать ту часть учения Бэкона, которую можно отнести к «экспериментальной философии», замалчивая все, что не укладывалось в эти рамки и могло вызвать нежелательные ассоциации. В то же время они тщательно избегали в своих работах и выступлениях ссылок на «математическое» предисловие Ди и восходящую к Ди «математическую» традицию (которую теперь сравнивали с «восторженным энтузиазмом» поющего псалмы пуританина или нудного монаха).
Все это подготовило почву для развязывания «охоты на ведьм» — феномена, уже достаточно нам знакомого по предыдущим главам. На сей раз «охота» приняла форму публикации, которая не просто на триста лет вперед опорочила доброе имя Ди, но исказила всю историю западной мысли, навесив ярлык не заслуживающего внимания шарлатана на одного из самых ярких ее представителей.
Я имею в виду публикацию в 1659 г. так называемого «духовного дневника» Ди, то есть записей его (якобы имевших место) бесед с ангелами. Книга вышла с разгромным предисловием Мери Казобона, обличающим Ди в занятиях дьявольской магией[515]. Похоже, у Казобона были личные мотивы для этой публикации, посредством которой он надеялся доказать ортодоксальность собственных взглядов, а также дискредитировать тех, кто претендовал на «чересчур большую Боговдохновенность», то есть «энтузиастов». Правительство было против издания этой книги и попыталось наложить запрет на ее тираж, но опоздало, поскольку книгу распродали очень быстро: за ней охотились, как за «важной и прелюбопытнейшей Новостью». Без сомнения, потребуется еще немало времени, прежде чем все закулисные мотивы, скрывавшиеся за публикацией «духовного дневника», будут полностью раскрыты. Примечательна сама дата публикации: 1659. Оливер Кромвель уже умер, и под властью его слабовольного сына[516] страна все более погружалась в хаос; никто не знал, что произойдет дальше. Дальше, разумеется, произошла Реставрация: в 1660 г. Карл II стал английским королем. Кто же были те «энтузиасты», которых Мери Казобон намеревался посредством своей публикации дискредитировать и лишить влияния на годы вперед?
Публикация дневника Ди наверняка была частью разжигавшейся в то время более широкой кампании, направленной против «энтузиастов» и «иллюминатов»[517]. В своем предисловии Казобон утверждает, что Ди, подобно Тритемию и Парацельсу, черпал вдохновение у дьявола. Упоминание Парацельса в таком контексте позволяло заодно разделаться и со всем розенкрейцерским движением. Репутация Ди, во всяком случае, пострадала так сильно, что в течение нескольких последующих столетий его важные научные достижения вообще не принимались в расчет. Правда, Роберт Гук (который, будучи одним из лучших математиков Королевского общества[518], определенно знал концепцию Ди) впоследствии попытался реабилитировать этого философа, охарактеризовав «духовный дневник» как «сокровенную историю искусства и природы», имеющую непосредственное отношение к событиям современной эпохи[519].
Уже почти вплотную приблизившись к своей цели (учреждению Королевского общества), философы природы продолжали вести себя крайне осторожно. Религиозные страсти все еще бушевали, и они боялись, что «охота на ведьм» может разразиться в любой момент, разом обесценив все затраченные ими усилия. Так что о Ди они и не помышляли, стараясь придерживаться бэконианства в его наиболее безобидном варианте.
Хотелось бы знать, как они объясняли наличие многочисленных намеков на «незримых» розенкрейцерских Братьев и их Коллегию, рассыпанных по всему тексту «Новой Атлантиды»? Ведь должны же они были заметить, что сквозь вымысел о Новой Атлантиде просвечивает другой вымысел — о Христиане Розенкрейце и его филантропическом ордене! А «забыть» о сходстве двух вымыслов им просто-напросто не позволил один очень странный персонаж, Джон Хейдон, вопреки всем традициям объявивший себя розенкрейцером и напечатавший — между 1658 и 1664 гг., то есть как раз в годы Реставрации и учреждения Королевского общества, — целую серию книг, в которых утопизм розенкрейцерского толка был доведен до беспрецедентных высот. Хейдон был одновременно астрологом, геомантом и алхимиком, причем во всем придерживался самых крайних воззрений. Так вот, этот человек (в книгах «Путешествие в Страну Розенкрейцеров», 1660, и «Священноводитель», 1662) нагляднейшим образом продемонстрировал близкое сходство между идеями «Новой Атлантиды» и «Откровения Братства», отождествив мудрецов из описанного Бэконом Дома Соломона с мудрецами «Общества Розенкрейцеров».
Указанные им параллели между Бэконовой «Новой Атлантидой» и розенкрейцерским «Откровением», вне всякого сомнения, существуют, о чем уже говорилось в одной из предыдущих глав. Но то, что Хейдон занялся этими параллелями и взялся доказывать их наличие именно в начале 60-х гг., вызывает некоторое недоумение. Как мне кажется, позицию Хейдона можно понять только в контексте кампании против «иллюминатов» и опороченного Ди.
В сущности, Хейдон пытался сказать сторонникам Бэкона примерно следующее: «Ваш Фрэнсис Бэкон сам был розенкрейцером!»
Реставрация Карла II (см. илл. 33) в 1660 г. прошла на удивление гладко: армия парламента безо всяких эксцессов самораспустилась[520]; люди жаждали поскорее забыть о прошлом и вернуться к своим мирным заботам. В этой атмосфере всеобщего примирения и было основано Королевское общество, официальным патроном которого стал Карл II. Общество включало в себя и недавних сторонников парламента; любовь к науке объединила их с роялистами в совместном мирном труде, но обстановка оставалась сложной[521]. «Опасных» тем старательно избегали: так, утопические планы реформ принадлежали революционному прошлому, о котором теперь не стоило вспоминать. В первые годы существования Общества у него было много врагов; его религиозной позиции не хватало четкости; «охоты на ведьм» еще не отошли в область воспоминаний, оставаясь весьма реальной угрозой.
Введенное в Обществе правило, согласно которому на его собраниях не обсуждались вопросы веры, а только научные проблемы, вероятно, казалось в тогдашней ситуации необходимой и разумной предосторожностью; Общество, особенно на первых порах, руководствовалось в своей деятельности Бэконовой концепцией экспериментальной науки, тщательно собирающей и анализирующей исходные данные. Было, наконец, сформировано постоянно действующее естественнонаучное Общество, реальное и зримое учреждение, а не «незримый» плод вымысла, — но только цели его оказались весьма ограниченными в сравнении с тем, к чему стремились породившие его движения. В отличие от них, Королевское общество не разрабатывало планов научной деятельности в обновленном, реформированном социуме, в ситуации всемирной универсальной реформации. Члены Общества не обременяли себя заботами об исцелении больных (тем более бесплатном) или об образовательной реформе. Они, возможно, и не задумывались о будущем движения, инспирированного их усилиями. Для них слабости этого движения были более очевидны, чем его сильные стороны, а угроза гибели всего начинания представлялась достаточно серьезной. И все-таки они победили; они сделали Незримую Коллегию зримой и реальной, но теперь, чтобы поддержать ее хрупкое существование, требовалась большая осторожность. Такие или подобные им доводы казались — и были — вполне разумными. И хотя экспериментаторство в духе Бэкона само по себе вовсе не является единственно правильным и свободным от ошибок путем к научному прогрессу, все же Королевское общество — такое почтенное, так хорошо организованное — ясно продемонстрировало всем, что наука победила. И что ее уже ничто не остановит.
Книга Коменского «Путь Света», созданная им в Англии в пору надежд и увлечения идеями просвещения, была опубликована в Амстердаме в 1668 г. — через двадцать шесть лет после того, как она была закончена, и через восемь лет после учреждения Королевского общества. В предисловии, написанном с чувством восторженного подъема, Коменский посвящает свой труд Королевскому обществу. При этом уже престарелый Богемский брат (см. илл. 29) по странной ошибке или по недоразумению обращается к членам Общества так, как мог бы обратиться к «иллюминатам»[522]:
Носителям Света сего Просвещенного века, Членам Королевского Общества в Лондоне, способствующего ныне счастливому рождению Подлинной Философии, — Приветствия и пожелания доброй удачи!
Прославленные мужи,
Не представляется неподобающим, чтобы книжица «Путь Света» была послана Вам, служителям Света, коих труды по извлечению Натуральной Философии из глубочайших рудников Истины известны по всей Европе. Это уместно еще и по той причине, что помянутый труд был задуман там, где поприще, выпавшее нам на долю для поисков Света и Истины, перешло ныне в Ваше попечение по слову Христа, смысл коего и здесь приложим: Другие трудились, а вы вошли в труд их[523].
Коменский, видимо, считал Королевское общество восприемником более ранней традиции, которую представляли он сам и его друзья. Он не завидует новому поколению, но с радостью вслушивается в звуки вновь зазвучавших труб[524]:
Трубные звуки ко всеобщей радости возвещают роду человеческому достойную зависти участь, ибо трудами Вашего сообщества человеческая мудрость и одаренность во власти над природой нигде в будущем не останутся делом несовершенным и ненадежным.
Коменский включает в свою хвалебную речь и слова предостережения. Да, действительно, новые исследования природы заложили некий фундамент — но задумывался ли кто-нибудь над тем, что будет выстроено на этом фундаменте? Ведь коли не ставить перед собой иных целей, кроме развития естественных наук как такового, то все труды могут обернуться этакой «перевернутой Вавилонской башней, устремленной не ввысь, к небесам, но вниз, к земному»[525].
Многим казалось смешным, что Коменский не понял, сколь разнились цели Королевского общества от старых пансофических идеалов. Но я думаю, что он это понимал. И думаю, что с исторической точки зрения он был прав, усматривая связь между Королевским обществом и более ранними попытками создать организацию, которая могла бы способствовать прогрессу науки, — попытками, предпринимавшимися самим Коменским и людьми его поколения[526]. И в предостережении своем он тоже, возможно, проявил подлинную дальновидность.
В 1667 г. был опубликован официальный отчет о зарождении и развитии в Англии великого научного начинания — «История Королевского Общества» Томаса Спрата. В отчете говорится, что Общество выросло из собраний, имевших место в Оксфорде и организованных группой лиц, интересовавшихся естественной и экспериментальной философией; группа собиралась в Уодхэмском колледже, начиная с 1648 г. и впоследствии образовала ядро Королевского общества. Спрат ничего не сообщает о более ранней лондонской группе, как и о мнении Уоллиса, считавшего, что сама идея подобных встреч принадлежала Теодору Хааку, выходцу из Пфальца. Рассказ о той первой группе мог бы завести Спрата чересчур далеко (вынудил бы, к примеру, вспомнить о крайних революционных идеях периода парламентского правления), а ему хочется создать у читателя совсем иное впечатление: что Общество началось с благочинных заседаний Оксфордской группы.
Но, тем не менее, Истина — великая вещь, и, вопреки всем препятствиям, она, как правило, рано или поздно всплывает на поверхность. Прощаясь с этой главой, посмотрим на знакомый фронтиспис книги Спрата (см. илл. перед гл. XIII). В центре мы видим бюст Карла II, официального учредителя Общества; слева от него — фигуру Фрэнсиса Бэкона, справа — Уильяма Браункера, первого президента[527]. На заднем плане — книжный шкаф, наполненный трудами членов Общества, и инструменты, которыми они пользуются в своих научных занятиях. Рисунок фронтисписа был выполнен Джоном Ивлином, а гравировал его Венцеслав Холлар, художник из Богемии, покинувший свою родину в 1627 г. (возможно, по религиозным соображениям) и затем учившийся во Франкфурте у Маттеуса Мериана[528]. Не правда ли, упомянутые подробности заставляют с новым интересом вглядеться в гравюру, и теперь мы замечаем, что на ней присутствует еще один персонаж: крылатый ангел с трубой, венчающий главу Карла II, основателя сего знаменитого Общества, лавровым венком. Ангельское крыло осеняет Бэкона. Теперь мы просто не можем не заметить всего этого, как не можем не спросить себя: а не хотел ли художник намекнуть на выражение «в тени крыл Иеговы»? Не должен ли был ангел с трубой напомнить читателям о розенкрейцерском «Откровении», о давних надеждах, осуществление которых столько раз откладывалось, но ныне наконец сбылось?
XIV. Элайас Ашмол и традиция Ди
Исаак Ньютон и розенкрейцерская алхимия
Э. Ашмол (1617–1692). Английская гравюра. 1707 г.
Члены недавно созданного Королевского общества старались обходить опасные темы, придерживаться не внушающего подозрений бэконианства и избегать любых упоминаний о розенкрейцерских манифестах (разве что позволяли себе завуалированный намек — как на фронтисписе книги Спрата). Тем более опасались поминать имя Джона Ди, только что позорно ославленное в публикации Казобона. И все-таки был в Обществе, по крайней мере, один человек, в котором традиция Ди нашла своего продолжателя. В глазах Элайаса Ашмола Ди оставался заслуживающим всяческого почитания магом, чьи писания он собирал в своей библиотеке, а алхимические и магические идеи надеялся опробовать на практике. Ашмол входил в число учредителей Королевского общества[529], а значит, лазейка для «розенкрейцерства» (или, что то же самое, для учения Ди) в этой организации все-таки сохранилась — пусть даже как для «приватного» увлечения одного из ее членов.
Элайас Ашмол (1617–1692) был убежденным роялистом; в годы гражданских войн и Республики он вел уединенную жизнь частного лица, занятого своими многочисленными увлечениями. Алхимик, астролог, антиквар, страстный собиратель древних рукописей — он как бы вышел из мира философов-герметиков, в котором правили законы магии, и рождалась современная наука. Будет неточным сказать, что его взгляды устарели: на самом деле интерес Ашмола к алхимии связан с возрождением, можно даже сказать, с ренессансом этой дисциплины в XVII столетии, оказавшим влияние на целый ряд известных научных деятелей. Парацельсова алхимия во многом определила облик современной медицины; химия Роберта Бойля была порождена алхимическим движением; и даже в сознании Исаака Ньютона имелись удивительные алхимические пласты.
«Алхимический ренессанс» как исторический феномен едва ли получил до сих пор адекватную историческую трактовку. Алхимия, будучи герметическим искусством par excellence, бесспорно относится к герметической традиции, но в ренессансной Италии возрождение алхимии не повлекло за собой возрождения интереса к герметизму. Парацельс преобразовал алхимию, придав ей поистине ренессансный характер, и именно эту — Парацельсов — традицию продолжил в своих трудах Джон Ди. Три потока — магия, каббала и алхимия — соединились в розенкрейцерских манифестах, включивших алхимию в герметико-каббалистическую традицию.
Выдающуюся роль в распространении идей новой алхимии сыграл Михаэль Майер, который не только всю жизнь собирал и публиковал алхимические тексты, но и пропагандировал в своих сочинениях собственную алхимико-религиозную философию. Мы видели, что Михаэль Майер оказал значительное влияние на движение, сформировавшееся вокруг фигуры Фридриха, курфюрста Пфальцского, и что алхимическая «тональность» этого движения немало способствовала его успеху в Богемии. Очень может быть, что беженцы из Германии и Богемии в той или иной мере стимулировали и английское алхимическое движение XVII столетия. Мы знаем о Даниэле Стольции, богемском изгнаннике, приехавшем в Англию и искавшем забвения своих горестей в Майеровых эмблемах; наверняка были и другие, подобные ему.
Всем заинтересовавшимся этой темой я советую взять за отправную точку исследования фигуру Элайаса Ашмола — главного представителя английского алхимического движения XVII в. Обширные собрания рукописей, составляющие архив Ашмола, — не просто коллекция антиквара, человека, живущего в прошлом (хотя прошлое действительно его очень увлекало). В бумагах Ашмола содержится множество свидетельств о новом, можно даже сказать, самом новейшем алхимическом движении его эпохи.
Тот, кто станет искать в этих бумагах розенкрейцерские манифесты, столкнется с любопытным феноменом: Элайас Ашмол, не пожалев труда, собственноручно переписал (в английском переводе) «Откровение» и «Исповедание». Мало того, он приложил к копиям двух манифестов изыскано-учтивое письмо (написанное по-латыни и тоже собственной рукой), в котором обращается к «наипросвещеннейшим Братьям Розового Креста», испрашивая позволения присоединиться к их Ордену[530]. Тон письма — восторженный и одновременно туманный; в нем много цитат из «Откровения» и «Исповедания». Оригинал английского перевода манифестов, которым пользовался Ашмол, тоже сохранился в его архиве[531]: он написан почерком, характерным для начала XVII века, и не мог быть выполнен позднее, чем в правление Карла I. Он отличается от перевода, напечатанного Воаном, представляя собой принципиально иную версию.
Итак, Ашмол переписал своей рукой имевшуюся у него рукопись с английским переводом манифестов, приложив к копии им же написанное послание к розенкрейцерским Братьям, в котором выражал глубокое восхищение этими «просветленными» людьми и желание присоединиться к их ордену. Я не верю, что Ашмол обращался к какой-то реальной, действовавшей в его время группе розенкрейцеров. Скорее, он проделал всю операцию в порядке, так сказать, благочестивого ритуала. Ашмол знал, что когда-то люди, разделявшие провозглашенные в манифестах цели, почитали за долг попытаться связаться с орденом. Желая проникнуться атмосферой манифестов, он пишет молитвенное послание воображаемым Братьям. Переписывание манифестов и письма само по себе было молитвой, сугубо личным ритуалом, о свершении которого, по всей видимости, никто не подозревал.
Мы как бы заглянули во внутреннюю жизнь Ашмола, а это очень важно для понимания изданной им и очень популярной в то время книги «Британский Химический Театр» (1652)[532], к рассмотрению которой мы теперь переходим. Книга, представляющая собой сборник алхимических трактатов разных авторов, оказала сильное стимулирующее воздействие на английское алхимическое движение. Она относится к тому же типу изданий, что и «театры», то есть сборники алхимических материалов, публиковавшиеся в Германии начала XVII века. Отчасти (разумеется, только отчасти) «мода» на алхимические штудии возникла благодаря сочинениям Михаэля Майера и была одним из проявлений «розенкрейцерского» движения. Ашмол включил в свой сборник только английских авторов, но ведь и Майер испытывал особый интерес к английской алхимии и даже издал, в переводе на латинский язык, «Устроение Алхимии» (OrdinallofAlchemy)[533] — поэму знаменитого средневекового алхимика Томаса Нортона. (Кстати, по-английски ее впервые опубликовал именно Ашмол, в «Театре» 1652 г.)
Внимательный читатель «Театра» Ашмола не мог не заметить, что эта книга — розенкрейцерская по своим симпатиям, что она, по существу, продолжает дело Майера, возродившего для немецкого розенкрейцерского движения английскую алхимию. В первом же абзаце Ашмол ссылается на «Откровение» и рассказывает о том, как много Майер сделал для популяризации английской алхимической литературы. Он говорит буквально следующее[534]:
Наши Английские Философы обыкновенно (подобно Пророкам) получали мало чести ‹…› в своем Отечестве: да и не свершали они великих дел среди нас, разве только тайно оказывали помощь своей Медициной немногим болящим и исцеляли их…
Так поступил I.O. (один из первых четырех членов Братии Р.К.), излечивший юного Графа Норфолкского от Проказы ‹…› Однако в уделах зарубежных они встречали более благородное Обхождение, и там все жаждали заиметь их труды; и не просто желали созерцать оные, но были довольны тем, что могут постигать их через посредство Перевода, кстати, вовсе не столь уж несовершенного. Свидетельство тому — соделанное Майерусом ‹…› и многими иными; первый [из поименованных мужей] уехал из Германии и поселился в Англии; он сделал это намеренно, стремясь в такой степени овладеть нашим Английским Языком, чтобы суметь переложить «Устроение» Нортоново на латинские стихи, каковое дело с величайшей рассудительностью и ученостью и исполнил. Только вот (к нашему позору да будет сказано) столь достойного ученого ожидало здесь слишком плохое Гостеприимство.
История о легендарном розенкрейцерском Брате, который излечил от проказы юного английского графа, заимствована из «Откровения», и после нее Ашмол сразу же переходит к рассказу о Михаэле Майере, страстном пропагандисте английской алхимии: Майер приехал в Англию, желая выучить английский язык и перевести Нортона, но его усилия не нашли должной поддержки.
«К нашему позору да будет сказано», научное начинание Майера было встречено без особого энтузиазма. Когда пытаешься читать это сообщение «между строк», в свете наших сегодняшних знаний о розенкрейцерском движении в Германии, создается впечатление, что Ашмол — с полным на то основанием — видел в Майере посредника между Англией и Германией, для которого пропаганда алхимических знаний была одним из средств укрепления англо-пфальцско-богемского альянса. Только вот Якова I подобные идеи не вдохновляли. Майер действительно жестоко пострадал из-за своей легкомысленной веры в возможность союза с англичанами; он погиб (мы даже не знаем, при каких обстоятельствах) в самом начале Тридцатилетней войны. Теперь мы начинаем понимать, что «Британский Химический Театр» Ашмола был одной из многих попыток возродить (или продолжить) то самое движение, катастрофическим концом которого стало поражение короля и королевы Богемии.
«Британский Алхимический Театр» открывается «Устроением алхимии» Нортона, за которым следуют писания многих других английских алхимиков, включая Джорджа Рипли, также весьма почитавшегося в близких к Майеру кругах[535]. В сборник Ашмола вошли и труды более современных английских алхимиков — вплоть до алхимической поэмы, приписываемой Эдуарду Келли[536], и нескольких стихотворных строк, представленных как «Завещание» Джона Ди[537].
Комментируя поэму, приписываемую Келли, Ашмол попутно пересказывает биографию Ди[538]. Он отзывается о Ди как о выдающемся математике, блистательно работавшем и в других областях науки. Несмотря на это, к Ди относились с предубеждением, и дело даже дошло до покушения на его личную библиотеку. Ди уехал на континент вместе с Келли и поселился в Тршебоне, в Богемии, где Келли будто бы показывал «трансмутации», чем вызвал большой ажиотаж среди местного населения. Затем Ди поссорился с Келли и вернулся в Англию. По словам Ашмола, королева Елизавета благоволила к Ди и после его возвращения. О новых попытках обвинить вернувшегося философа в колдовстве и о том, что Яков I предпочитал не иметь с ним ничего общего, автор комментариев почем — то забыл. Ашмол не верит кривотолкам и выражает твердую уверенность в том, что Ди заслужил «высшие похвалы всех Ученых и Изобретательных Умов и того, чтобы о нем помнили по причине его замечательных дарований». Заслуги Ди особенно велики в математике, «во всех областях которой он достиг абсолютного и совершенного мастерства»[539].
Коротенькое стихотворение, представленное в «Британском Химическом Театре» как «Завещание» Доктора Ди, описывает в туманных выражениях знаменитую «монаду».
Ссылаясь в своей книге на Ди и Майера, Ашмол, как мне думается, хотел подчеркнуть наличие связи между германским розенкрейцерским движением и идеями английского философа. И он прекрасно представлял себе все опасности, с которыми могло столкнуться подобное движение[540]:
Сие воистину и абсурдно, и странно: наблюдать, как некоторые Мужи ‹…› не гнушаются того, чтобы приравнивать Истинных Магов к Заклинателям, Чернокнижникам и Ведьмам ‹…› кои нагло вторгаются в Магию (как если бы Свинья вошла в прекрасный и изысканный Сад) и, будучи в сговоре с Диаволом, употребляют его помощь в деяниях своих, дабы подделать и извратить всепочитаемую мудрость Магов, в действительности разнящихся от них столь же сильно, как разнятся между собою Ангелы и Бесы.
Ашмол защищает Ди как «благого» мага, причем защищает, прекрасно зная, что человек этот подвергался гонениям и опале.
Разумеется, когда Ашмол в 1652 г. публиковал свою книгу, он не мог быть членом Королевского общества, тогда не существовавшего. Но книга была широко известна и позже, в 1660 г., когда Ашмолу предложили вступить в Общество на правах члена-учредителя: следовательно, выраженные в ней идеи нисколько не повредили его репутации.
Ашмола, скорее всего, привлекала алхимия розенкрейцерского толка. Я имею в виду алхимию, реформированную Джоном Ди и мистически воплощенную в изобретенном им символе «иероглифической монады». Такого рода алхимия означала возрождение старинных алхимических традиций, теперь каким-то образом соединявшихся в одно целое с понятиями и практическими процедурами, заимствованными из каббалы, — причем считалось, что обновленное учение может быть выражено и на языке математических формул. Овладевший подобными формулами адепт научился бы двигаться вверх и вниз по лестнице мироздания: от земной материи — через все небесные сферы — к ангелам и Богу. Эта очень древняя концепция, вобрав в себя каббалистические и математические идеи, в некотором смысле обрела новую жизнь. Но Ашмол не обладал блестящим математическим умом и не уловил главного: что для гениального Ди «монада» была, прежде всего, символом единства вселенной, прозрением Единого Бога за пестрым «тварным» миром.
Ашмол-алхимик имел еще и вторую ипостась — он был антикваром, собирателем исторических документов и страстным коллекционером памятников ушедших эпох. Подобной двойственностью интересов отличался и его герой, Джон Ди, придававший антикварным исследованиям[541] (особенно в области британских древностей) почти столь же большое значение, что и математическим или естественнонаучным изысканиям.
Ашмола как антиквара тоже привлекала английская история, точнее, история английского рыцарского ордена — ордена Подвязки[542]. Он начал собирать материал по этой теме в 1655 г., а книгу опубликовал в 1672-м, посвятив ее Карл II. Один экземпляр был передан Королевскому обществу и официально «представлен» Джоном Уилкинсом[543]. Книга стала важной вехой в развитии антикварных штудий, и до сих пор остается лучшим исследованием об ордене Подвязки. В предисловии Ашмол сетует на то, что честь ордена была поругана в «недавние несчастливые времена» гражданских войн. Он намерен «реставрировать» истинный образ этой организации и тем самым внести свой вклад в дело реставрации монархии. Когда сей великий труд вышел в свет, несколько экземпляров было сразу же послано за рубеж, в подарок иностранным государям, как если бы сама книга приняла на себя функции наносящего дружеские визиты посла.
Слова Ашмола о «Блистательности Посольств, отправлявшихся с [орденским] Облачением к иноземным Королям и Принцам»[544] представляют собой цитату из отчета Целлия, в котором описывается миссия английского посольства 1603 г., доставившего регалии Подвязки Фридриху, герцогу Вюртембергскому. Это событие, очевидно, произвело на Иоганна Валентина Андреэ огромное впечатление, впоследствии сказавшееся и на мифе о «Христиане Розенкрейце» и на замысле «Химической Свадьбы». Кроме того, как сам орден Подвязки, так и вступление Фридриха Пфальцского в его ряды, сыграли немаловажную роль в становлении фридрихианского движения, но зато крах Фридриха навлек бесчестие и на пожалованный ему отличительный знак. «Подвязка» воплощала в глазах пфальцграфа (несбывшиеся) надежды на союз с англичанами — и потому стала объектом осмеяния во враждебных ему пропагандистских листках. Мне кажется, что задача реабилитации рыцарей Подвязки и задача возрождения английской алхимической традиции (решенная посредством издания «Британского Химического Театра») в сознании Ашмола были каким-то образом связаны, представлялись двумя частями одной и той же миссии.
Многие вспомнили о тех давних печальных событиях, когда в Лондон приехал принц Карл (пфальцграф Рейнский и внук злосчастного короля Богемии). Молодой человек был представлен Ашмолу, после чего «имел с ним большую беседу об Ордене Подвязки»[545]. Это случилось в 1690 г. (см. илл. 36). Пфальцграф только что принял наследство своего отца (Карла Людвига, покровителя Хартлиба), вступил во владение Пфальцем и теперь путешествовал по Англии. Ашмол подарил юному государю экземпляр своей книги, а тот ему — отцовскую золотую медаль, на которой был изображен Карл Людвиг с орденским «Георгием» на груди. По возвращении пфальцграфа в Хайдельберг многие его придворные прочли книгу Ашмола: однажды даже собралась группа, которая несколько часов подряд обсуждала включенные в это издание «редкостные» изображения[546].
Выходит, что Ашмол, и как алхимик, и как антиквар, не забыл о давно разгромленном розенкрейцерском движении и пытался напомнить о нем своим современникам. И сам продолжал «розенкрейцерскую» традицию Ди — опять-таки и в своих алхимических увлечениях, и как антиквар, интересовавшийся британскими древностями.
Королевское общество довольно быстро переросло «экспериментализм» Бэкона: доминирующей фигурой среди второго поколения его членов стал грандиозный Исаак Ньютон, один из величайших математических гениев. Как известно, Ньютон, помимо поразительных научных открытий, изложенных в его опубликованных трудах, занимался и иными вещами, о которых предпочитал умалчивать, — свидетельства тому сохранились в его огромном неопубликованном архиве. Одним из таких «приватных» увлечений была алхимия. В последние годы эта сторона личности Ньютона привлекает все большее внимание исследователей и читающей публики. Трудно поверить, что кумир рациональной науки втайне оставался алхимиком. Был ли его интерес к алхимии кратковременной причудой? Или он объясняется более вескими причинами?
Свои мысли по этому поводу я собираюсь изложить с максимальной скромностью. Я не изучала неопубликованные бумаги Ньютона. Мне просто кажется, что к проблеме «Ньютоновой алхимии» можно найти и исторический подход — включив ее в контекст процессов, исследуемых в настоящей работе.
Ньютон, вне всякого сомнения, читал розенкрейцерские манифесты. У него был английский перевод манифестов, изданный Томасом Воаном в 1652 г. Этот экземпляр, со вписанной от руки заметкой Ньютона и его автографом, хранится в Библиотеке Йельского университета[547]. В заметке Ньютон цитирует то место из «Откровения», где рассказывается об обнаружении тела Христиана Розенкрейца, и излагает содержание двух работ Михаэля Майера, к которым обратился в поисках дальнейших сведений. В «Законах розенкрейцерского Братства» (так он называет «Златую Фемиду») Ньютона заинтересовало изложение устава Братства, по сути повторяющее сведения, содержащиеся в «Откровении». В «Златом Алтарном Приношении Двунадесяти Языков» — все упоминания манифестов и даты их публикации. Свою историческую заметку, основанную на изучении манифестов и работ Майера, Ньютон заканчивает словами: «Такова история сего прельщения (imposture)». Фраза не обязательно заключает в себе пренебрежительный оттенок; Ньютон мог просто иметь в виду, что розенкрейцерская история — миф, ludibrium.
Фрэнк Э. Мэньюэл включил в свою биографию Ньютона главу «Ньютон и алхимия», написанную на основе неопубликованных архивных материалов[548]. В ней говорится, что Ньютон переписывал от руки многие алхимические труды, даже весьма темные по смыслу алхимические поэмы. Сами тексты он находил в печатных алхимических сборниках, чаще всего — в «Британском Химическом Театре» Ашмола, который «изучил вдоль и поперек»[549]. Относясь к этой книге с таким вниманием, Ньютон просто не мог не заметить, что Ашмол начинает свой труд цитатой из «Откровения», а далее упоминает о попытке Майера возродить интерес к английским алхимическим авторам и о том, что, «к нашему стыду», его инициатива не была поддержана. Ньютон, наверное, понял, что сборник Ашмола представляет читателю тех самых английских алхимиков, которыми восхищался Майер (включая знаменитого Ди и Келли). Познакомившись с Ашмоловыми комментариями к поэме Келли, он мог найти там биографические сведения о Джоне Ди и высокую оценку его блестящих математических и естественнонаучных трудов. А «Завещание» Ди, опубликованное в той же книге, вероятно, заставило его задуматься о тайнах «монады», которым посвящено это короткое стихотворение.
Михаэль Майер, кажется, особенно интересовал Ньютона — судя по тому, что Ньютон делал большие выписки из его сочинений[550] и даже иногда словесно описывал Майеровы алхимические эмблемы (например, так: «Две женщины в облачениях, верхом на двух львах; каждая держит в руке сердце…»)[551]. Майеров «алхимический ренессанс» не был для Ньютона чуждым миром: ведь Ньютон читал «возрожденные» Майером алхимические источники и размышлял над алхимическими эмблемами, странным образом воплощавшими в себе целое мировоззрение.
Но, как мы видели, в эмблемах Майера совершенно четко прослеживается воздействие идей Ди; да и вообще, вся Майерова концепция алхимического возрождения (в особенности возрождения английской алхимической традиции) была разработана не без влияния Ди. А отсюда следует, что, желая найти к алхимии Ньютона исторический подход, мы должны, прежде всего, выяснить его отношение к германскому розенкрейцерскому движению и к той алхимической школе (обозначим ее условно как «традиция Ди» или розенкрейцерская алхимическая традиция), которая оказывала на это движение непосредственное воздействие.
Будучи глубоко религиозным человеком (как и Ди), Ньютон считал своим главным долгом поиски единого Начала, единого Бога, божественного Единства, являющего себя в природе. Изумляющие нас физические и математические открытия Ньютона его самого не вполне удовлетворяли. Быть может, он надеялся (или хотя бы допускал такую мысль), что «розенкрейцерский», алхимический подход к природе позволит ему достичь большего.
Как бы то ни было, в алхимических увлечениях Ньютона немаловажную роль сыграл «Британский Химический Театр» Ашмола — книга, вдохновленная традицией Джона Ди и Майеровым алхимическим движением. А посему предположение о том, что «Ньютонова алхимия» заимствовала (без сомнения, в переработанном и видоизмененном виде) некоторые идеи розенкрейцерской алхимии, мне, как историку, вовсе не кажется фантастичным. Но, разумеется, его следует воспринимать именно в качестве гипотезы, отправной точки для будущего исследования.
В порядке послесловия к этой главе хотелось бы упомянуть о небольшом собрании «розенкрейцерских» текстов из собрания рукописей Харли, ныне хранящегося в Британском музее. Человек, написавший эти тексты, конечно, не сопоставим по своему значению с великими личностями, о которых мы только что говорили, однако и он тоже копировал документы, относящиеся к германскому розенкрейцерскому движению.
Кодексы Harley 6485 и 6486 написаны одним и тем же почерком и, похоже, приблизительно в одно время; один из них датирован 1714 г. Поскольку в кодексах довольно часто упоминается «доктор Радд», можно предположить, что переписчик был каким-то образом связан с Томасом Раддом, издавшим в 1651 г. «математическое» предисловие Ди[552]. Сам переписчик, вне всякого сомнения, был пылким почитателем Ди.
Кодекс Harley 6485 открывается трактатом «Розенкрейцерские тайны», авторство которого обычно приписывают Ди — на основании примечания в упомянутой рукописной книге. На самом деле составитель кодекса вовсе не утверждает, что автор этого труда — Ди; он просто говорит, что скопировал его с «листов», по его мнению, написанных Ди[553]. Внутренний анализ текста ясно показывает, что «Розенкрейцерские тайны» не могут быть произведением Ди. Тот же кодекс содержит еще два произведения, тоже якобы скопированных с «листов доктора Ди». Одно из них называется «О Законах и Таинствах Розенкрейцеров». Большая часть его текста переписана с английского перевода «Златой Фемиды» Михаэля Майера, опубликованного в 1656 г. (с посвящением Ашмолу)[554].
Ничего удивительного в этом нет: составитель кодекса принадлежал к алхимической традиции, а для таковой вообще была характерна крайняя небрежность в установлении авторства тех или иных текстов, и считалось в порядке вещей, когда хорошо известному лицу приписывались работы, которые он никогда не писал (например, под именем Раймунда Луллия распространялось огромное количество алхимических трактатов, большей частью созданных уже после его смерти). То же, что действительно интересно, что привлекло наше внимание к кодексу Harley 6485 и заставило уделить некоторое время его анализу, можно вкратце сформулировать так: кодекс свидетельствует, что в алхимической традиции (в начале XVIII столетия еще живой) «отцом» литературы германского розенкрейцерского движения считался Ди. Предполагалось, что человек, желающий предаться благочестивым размышлениям о законах розенкрейцерского ордена (изложенных в «Откровении» и, в несколько расширенном варианте, в «Златой Фемиде» Майера), должен переписать их с «листов доктора Ди» (в действительности не существовавших), хотя на самом деле он делал выписки из переведенной на английский язык книги Майера.
Непосредственным продолжением кодекса Harley 6485 является кодекс Harley 6486, включающий только одну работу, название которой (с сокращениями) звучит так: «Славная Свадьба Трижды Величайшего Гермеса… Сочиненная Х.Р., Немцем из Ордена Креста Розы… и ныне с латинской рукописи правдиво переведенная на английский язык Питером Смартом, 1714». На следующей странице помещено разъяснение: «На полях — краткие заметки покойного доктора Радда».
Манускрипт почти дословно воспроизводит английский перевод «Химической Свадьбы» Андреэ, выполненный Изикьелом Фокскрофтом и опубликованный в 1690 г.[555] «Питер Смарт», по всей видимости, лжет, утверждая, что это оригинальный перевод, сделанный им самим; насколько я знаю, латинского текста «Свадьбы» вообще не существует, она издавалась только по-немецки; более того, заметки на полях рукописи тоже целиком скопированы с перевода Фокскрофта и, следовательно, не могут принадлежать «покойному доктору Радду».
Тем не менее «Питеру Смарту» можно найти частичное оправдание: не он один допускал недомолвки и сеял путаницу — это было свойственно всей алхимической традиции, которую вообще бессмысленно оценивать с точки зрения непреклонного правдолюбия. А для нас кодекс Harley 6486 интересен, прежде всего, тем, что в нем имеется большой рисунок «иероглифической монады» Ди, тоже скопированный из издания «Свадьбы» в переводе Фокскрофта (где знак на полях гораздо ближе к «монаде», чем его аналог в немецкой публикации). О «Свадьбе» не говорится, что она скопирована «с листов доктора Ди», но ясно, что составитель кодексов Harley считал ее произведением, пропитанным влиянием Ди, и что это обстоятельство казалось ему немаловажным.
Выходит, составитель кодексов Harley смотрит на розенкрейцеров примерно под тем же углом зрения, что и Ашмол: по мнению обоих, немецкое розенкрейцерство восходит в конечном итоге к идеям Ди. Разумеется, Ашмол, как человек науки, не допустил бы путаницы в вопросе об источниках и авторстве (в отличие от составителя кодексов, следовавшего более примитивной алхимической традиции), но и он тоже объединяет розенкрейцерские манифесты, Майера с его алхимической школой и Ди в один исторический ряд. Возможно, Ашмол видел еще дальше этого ряда, прозревал за ним все «историческое полотно»: формирование «розенкрейцерского» движения вокруг фигуры Фридриха, курфюрста Пфальцского; мечты о всеобщей реформации и союзе Пфальца с Богемией, не только не осуществившиеся, но навлекшие беду и на Фридриха, и на орден Подвязки, кавалером которого был несчастный государь.
Настоящая глава предлагает скорее фрагменты гипотезы, нежели полную разработку конкретной темы. Сама гипотеза состоит в следующем: за великим экзотерическим движением, наивысшим достижением которого были математические и физические открытия Ньютона, скрывалось движение эзотерическое — тоже, как и первое, придававшее большое значение числу, но выработавшее иной, алхимический подход к природе. Ньютон с его великими открытиями как бы воплощает собой экзотерический подход, тогда как Ашмол был продолжателем и хранителем алхимической (эзотерической) традиции. Знаменательно, что оба они стали членами Королевского общества.
Два подхода к природе в принципе могли сочетаться друг с другом — их пересечением была «розенкрейцерская» алхимия, то есть алхимическая традиция Ди, получившая дальнейшее развитие в немецком розенкрейцерстве. Я предполагаю, что мировоззрение Ньютона было достаточно близким к «розенкрейцерскому»: потому ему и удавалось «наводить мосты» между своими многочисленными интересами. Последние исследования показали, что научные успехи Ньютона во многом определялись ренессансным складом его мышления; что он верил в традиции древней мудрости, зашифрованные в мифе, и полагал, что открыл в мифологии истинную философию. В статье «Ньютон и флейта Пана» Дж. Э. Мак-Гуайр и П.М. Раттанси привлекли внимание к тому факту, что, по убеждению Ньютона, семиструнная лира Аполлона являла собою модель вселенной[556]. Подобные музыкально-космические аналогии лежат в основе «монады» Ди и эмблем Майера, комбинирующих музыкальные и алхимические средства выразительности. Розенкрейцерская алхимия (соединение музыки, математики, алхимии и глубокой религиозности, в духе еврейско-каббалистического благочестия) представлена визуально на той гравюре из «Амфитеатра» Кунрата, что изображает алхимика, самозабвенно молящегося Иегове (см. илл. 12). Разложенные на столе музыкальные инструменты, архитектурное убранство комнаты (как бы демонстрирующее итоги развития математических наук) и алхимическая печь намекают на иные возможные способы приближения к Богу, связанные с постижением Его проявлений в природе. Эту гравюру (если забыть об отразившихся в ней приметах конкретной исторической эпохи) можно было бы счесть символическим портретом, запечатлевшим главные качества Исаака Ньютона: страстную устремленность к Богу и готовность искать Его на разных путях.
Цель настоящей главы — как, впрочем, и всей книги — весьма проста: мне хотелось сложить фрагменты исторической головоломки таким образом, чтобы прояснился ход развития идей, «маршрут» их движения по путям истории. Получившаяся «картинка» (на мой взгляд, вполне достоверная) такова: идеи, стоявшие за розенкрейцерским движением и восходившие, в конечном счете, к философии Ди, после разгрома движения были подхвачены в Англии — теми людьми, которые оплакивали крах Фридриха Пфальцского и сожалели, что их страна не оказала ему поддержки. Между прочим, Ньютон, увлекавшийся историей и в еще большей степени апокалиптическими пророчествами, вряд ли остался безучастным к апокалиптической перспективе близкой гибели европейского протестантства, возникшей в связи с поражением Фридриха. Так что предложенный здесь новый подход к творчеству Ньютона, предполагающий выяснение его связей с розенкрейцерской алхимией, быть может, не только поможет найти общую подоснову естественнонаучных и алхимических интересов этого мыслителя, но и объяснит, как те и другие сочетались с иудео-ветхозаветным благочестием, которым пропитаны его исторические труды[557].
XV. Розенкрейцерство и франкмасонство
Аллегория Геометрии. М. Майер. Убегающая Аталанта. Оппенхайм, 1617.
До сих пор серьезные исторические исследования о розенкрейцерских манифестах и их влиянии на последующее развитие общественной мысли почти полностью отсутствовали. Без сомнения, главными виновниками сего обстоятельства являются пламенные приверженцы тайных обществ, внесшие страшную путаницу в саму постановку проблемы. Существует огромное количество книг о розенкрейцерстве, авторы которых исходят из предпосылки, что тайное общество розенкрейцеров было основано Христианом Розенкрейцем и просуществовало без всяких перерывов до наших дней. В смутном и недостоверном мире так называемой «оккультной» литературы это допущение породило работы такого сорта, что они — совершенно заслуженно — просто не попадают в поле зрения профессионального историка. А когда, как нередко случается, к невразумительным рассуждениям о розенкрейцерах и их истории примешиваются вопросы, связанные с масонскими мифами, читатель вообще теряет ориентацию и начинает ощущать под собой какую-то бездонную трясину.
Тем не менее, каждый, кто занимается розенкрейцерством, неизбежно сталкивается с подобными вопросами, и хотя цель настоящей работы — выявление исторического фона розенкрейцерских манифестов и оказанного ими влияния, а вопрос о тайном обществе розенкрейцеров в ней до сих пор не затрагивался, теперь настало время предпринять кое-что для прояснения и этого аспекта розенкрейцерской проблемы. Мы вряд ли получим однозначные ответы, но, по крайней мере, сможем поразмышлять над туманными и разноречивыми показаниями источников, достаточно хорошо представляя себе ту историческую ситуацию, в которой возникло розенкрейцерское движение.
«Эти розенкрейцеры, они действительно существуют? А Вы, случайно, не из их числа? — Нет. — А хоть одного из них Вам доводилось видеть? — Нет». Как часто мне приходилось сталкиваться с подобными бесплодными рассуждениями, пока я разбиралась с литературой «розенкрейцерского фурора»! А ведь такого рода диалоги продолжаются до сих пор. Один историк масонства поделил всех людей, рассуждающих о розенкрейцерах, на три категории: тех, кто верит в безусловную правдивость истории о Христиане Розенкрейце и возникновении розенкрейцерского Братства (в том виде, как она изложена в «Откровении»); тех, кто считает и само розенкрейцерское общество, и его основателя чистой выдумкой, мифом; тех, наконец, кто, не полагаясь на историческую достоверность рассказа о жизни Христиана Розенкрейца, все же признает существование тайного общества розенкрейцеров[558]. Сегодня ни один серьезный человек не верит в буквальную истинность биографии Розенкрейца; что же касается той версии событий, согласно которой тайное общество розенкрейцеров существовало, но камуфлировало свою деятельность покровами мифа, то она была оспорена Полем Арнольдом — в книге, опубликованной в 1955 г.[559]
Мои собственные разыскания по этому вопросу не носили исчерпывающего характера. Я не изучала досконально все печатные издания времени «розенкрейцерского фурора» и не предпринимала целенаправленных поисков новых свидетельств в рукописных собраниях или архивах. Могу сказать одно: за время работы над интересующей меня темой я не обнаружила никаких данных, подтверждающих существование реального тайного общества, которое называло бы себя «розенкрейцерским» и действовало как организованная группа в период публикации манифестов и последовавшего затем «фурора». Доказательств тому, что люди упорно искали розенкрейцеров, имеется множество; однако ничто не подтверждает предположения, что хоть ком — то удалось их найти. Более того: розенкрейцерские манифесты рассчитаны на широкий общественный резонанс; их публикация была своего рода провокацией. А поскольку любое тайное общество, естественно, стремится сохранить вокруг себя покров тайны, представляется весьма неправдоподобным, чтобы реальное тайное розенкрейцерское общество столь драматично и открыто объявило вдруг о своем существовании. Скорее, манифесты следует понимать как призывы к просвещению, заключенные в оболочку утопического мифа — мифа о мире, в котором просвещенные создания, почти неотличимые от духов, творят добро, оказывают благотворное влияние на простых смертных, знакомят их с достижениями естественных наук и искусств и тем самым возвращают человечество назад, к состоянию до грехопадения. То, что, прочтя манифесты, люди приняли описанное в них тайное общество за реальность, было простым недоразумением: создатели манифестов, как кажется, не ожидали такого поворота событий и пришли в замешательство. Во всяком случае, Иоганн Валентин Андреэ неоднократно пытался объяснить, что Христиан Розенкрейц и его Братство — не более чем вымысел.
Однако, как мы помним, призывы манифестов вызвали к жизни нечто вполне реальное. Розенкрейцерские Братья были вымыслом, но вымысел этот послужил моделью для христианских союзов — объединений единомышленников, которые пытались самоорганизовываться в общества.
Может быть, правильный подход к проблеме заключается в том, чтобы перестать охотиться на «реальных» розенкрейцеров и вместо этого задаться вопросом: не послужило ли розенкрейцерское движение моделью для образования тайных обществ. Мы видели: в рассуждениях автора «Откровения» о том, что ученые мужи должны делиться сделанными открытиями и объединять свои усилия в совместном труде, содержалась идея общества, способствующего научному прогрессу, — идея, которая позднее материализовалась в Королевском обществе. Вправе ли мы считать, что в манифестах содержалась также первоначальная идея или проект международного тайного общества, действительно существовавшего и существующего до сих пор, а именно франкмасонства?
Историческое изучение проблемы «розенкрейцерство и масонство» началось в Германии в XVIII веке. Основные результаты немецких исследований, обобщенные в работе И.Г. Буле, увидевшей свет в 1804 г., были пересказаны на английском языке в статье Томаса Де Куинси, опубликованной в 1824 г.[560] Хотя немецких историков времени Буле отделяла от изучаемого ими прошлого пропасть Тридцатилетней войны, безвозвратно поглотившая множество свидетельств, по времени они были ближе к розенкрейцерам, чем мы, и уже потому нам стоит прислушаться к их теориям (пусть в пересказе Де Куинси) и оценить эту первую попытку разобраться в столь сложной проблеме. Вот какое суждение выносит Де Куинси о книге Буле[561]:
Читатель обнаружит, что — вплоть до розыгрыша, затеянного в начале семнадцатого столетия одним молодым человеком весьма незаурядных дарований (правда, с целями много более возвышенными, чем преследуются при большинстве розыгрышей) — все таинства Франкмасонства, ныне, по прошествии более чем двух веков, распространившегося по всему цивилизованному свету, тут [в книге Буле] точно прослежены: такова уж сила величественного и всеохватного философического человеколюбия, побуждающего [автора] сохранить на века даже самые суетные мимолетности — подобно тому, как янтарь спасает от тления соломинки и насекомых.
Под «молодым человеком весьма незаурядных дарований» имеется в виду Андреэ, которому Буле приписывал авторство всех розенкрейцерских манифестов; «розыгрыш» — это миф о розенкрейцерском Братстве, породивший, по мнению Буле, франкмасонство. Последняя (в процитированном отрывке) фраза Де Куинси в некотором роде пародирует стиль Буле.
Де Куинси, излагая своими словами и частично дополняя выводы немецких исследователей, утверждает следующее: «Исторические источники не дают основания говорить, что в Германии когда бы то ни было учреждалась ‹…› коллегия или ложа Розенкрейцерских братьев». Однако он убежден, что после «пересадки» на английскую почву розенкрейцерство стало масонством. Он торжественно объявляет свой «символ веры»: «Франкмасонство есть не более и не менее чем Розенкрейцерство, лишь слегка видоизмененное теми, кто трансплантировал его в Англию» (откуда, уже в новом обличье, масонство распространилось по другим странам Европы). По мнению Де Куинси, главная роль в этой «трансплантации» (и в присвоении движению нового имени) принадлежала Роберту Фладду. Прообразы масонских верований и ритуалов, связанных с мистической интерпретацией строительства Иерусалимского храма, можно, как он считает, обнаружить уже в розенкрейцерских писаниях, но после перенесения движения в Англию франкмасоны объединили две традиции: «розенкрейцерскую» и традицию гильдий каменщиков. А потому он с полной уверенностью делает окончательное заключение[562]:
Первоначальное Франкмасонское общество возникло из розенкрейцерской мании — определенно в течение тринадцатилетнего промежутка между 1633 и 1646 годами, а скорее всего — между 1633 и 1640-м.
Эту теорию, конечно же, не следует воспринимать как истину в последней инстанции, но то, что она подразумевает наличие некоего сообщения или контакта между Германией и Англией, в результате которого что-то было «трансплантировано» из одной страны в другую, не может не показаться интересным в свете наших сегодняшних знаний об идейных течениях начала XVII века, «перемещавшихся» из Англии в Германию и обратно.
Проблема происхождения масонства до настоящего времени остается одной из наиболее дебатируемых — и трудных — проблем во всей исторической науке[563]. По сути, она представляет собой две отдельных проблемы: проблему интерпретации легендарной истории франкмасонства и вопрос о том, когда это движение сложилось как реальный организованный институт. Согласно масонской легенде, масонство столь же старо, как сама архитектура; оно восходит к строителям Соломонова храма[564], к гильдиям средневековых каменщиков, создававших соборы. В какой-то момент «оперативное» масонство (каменщичество), то есть строительное ремесло как таковое, превратилось в масонство «спекулятивное»[565] (умозрительное), в нравственную и мистическую интерпретацию строительного ремесла, в тайное общество с эзотерическими ритуалами и эзотерическим учением. А вот когда именно это произошло, когда возникло масонское общество со своей специфической иерархией и организацией, в точности не известно.
К числу очень немногих достоверных фактов о ранней истории масонства относится дата вступления Элайаса Ашмола в масонскую ложу. Запись в дневнике Ашмола свидетельствует о том, что он был принят в масонскую ложу в Уоррингтоне (в Ланкашире) 16 октября 1646 г.[566] Ложа, следовательно, возникла раньше — ведь Ашмол не говорит, что был ее учредителем. Ашмол упоминает некоторых других лиц, принятых в ложу одновременно с ним, среди них — своего кузена Генри Мэнуоринга, который, между прочим, был «круглоголовым»[567]. Поскольку сам Ашмол разделял взгляды роялистов, мы вправе сделать вывод, что в период гражданских войн в масонское общество могли принимать приверженцев противоположных политических партий.
Запись Ашмола о его посвящении в масоны считается «самым ранним из известных свидетельств о существовании английской ложи спекулятивного масонства»[568]. Важно, что это раннее свидетельство связано с именем человека, чьи познания в сфере розенкрейцерства мы обсуждали в предыдущей главе — когда говорили, что Ашмол собственноручно переписал розенкрейцерские манифесты, присовокупив к получившимся копиям тщательно составленное послание, также написанное его рукой, в котором он восхищался целями розенкрейцеров и просил позволения присоединиться к их ордену. Мы тогда истолковали его действия как формальное «упражнение в благочестии», имитацию обычая, распространенного среди первых приверженцев розенкрейцерской идеи, а не как обращение к какой-то реальной группе людей, называющих себя розенкрейцерами. Однако теперь возникает вопрос: как соотносится факт принадлежности Ашмола к масонскому обществу с его «розенкрейцерским» упражнением? Вправе ли мы предположить, что человек, цитировавший в середине XVII столетия розенкрейцерские манифесты и разделявший выраженные в них взгляды, скорее всего, принадлежал если не к розенкрейцерской (видимо, никогда в действительности не существовавшей), то к какой-то иной тайной организации?
Хотя посвящение Ашмола в масоны в октябре 1646 г. обычно считается первым письменно зафиксированным событием такого рода, на самом деле имеется еще одно, более раннее свидетельство, подлинность которого не вызывает сомнений. Я имею в виду запись Роберта Марри о его приеме в масонскую ложу Эдинбурга — церемония состоялась 20 мая 1641 г.[569] Марри, как кажется, приложил больше усилий, чем кто-либо иной, чтобы ускорить учреждение Королевского общества и убедить Карла II стать его официальным патроном. Он глубоко интересовался алхимией и химией. Итак, Марри и Ашмол, два человека, оставивших самые ранние достоверные свидетельства о масонских ложах, впоследствии стали членами-учредителями Королевского общества.
Масонская организация, стало быть, старше Королевского общества (основанного в 1660 г.) по крайней мере, на двадцать лет. Источников по более раннему периоду ее деятельности практически нет.
Имеется, правда, одно косвенное свидетельство, подтверждающее, что уже в 1638 г. люди как-то ассоциировали розенкрейцерскую идею с идеей масонства. Это — стихотворение, опубликованное в Эдинбурге в 1638 г., в котором впервые упоминается «Слово» масонов. Оно представляет собой поэтическое описание Перта и его округи, а интересующее нас место звучит так[570]:
Возможно, под «братьями по Кресту Розы» здесь следует понимать неких волшебников, существ, обладающих даром «второго зрения», но тот факт, что эта (скорее всего, чисто поэтическая, литературная) характеристика розенкрейцерских братьев встретилась нам в самом раннем печатном тексте, упоминающем «Слово» масонов, безусловно, заслуживает внимания.
Впервые «принятые Масоны»[572] упоминаются в печати в 1676 г., в одной масонской брошюре[573]:
Сим извещаем, что новая Партия Зеленой ленты вкупе с Древним Братством Розового Креста, а также Адепты Герметизма и содружество Принятых Масонов намереваются все вместе устроить банкет 31 ноября сего года…
Далее приводится шуточное меню и всем, кто намеревается присутствовать на банкете, дается рекомендация захватить с собой очки, «ибо иначе, как мы думаем, упомянутые Общества могут пожелать (по своему давнему обыкновению) сделаться Незримыми». Интересно, что процитированный документ предполагает наличие целой группы эзотерических обществ, включающей франкмасонов и розенкрейцеров, — они, очевидно, различались по составу своих членов, но, тем не менее, имели достаточно общих интересов, чтобы, например, вполне естественным образом собраться на одно застолье. Старая шутка о «незримости» связывает этот документ с розенкрейцерской традицией.
Много позднее, в 1750 г., в одном письме было сделано следующее заявление: «Английские Франкмасоны переняли кое-какие обряды у розенкрейцеров и утверждают, что сами произошли от них и ничем от них не отличаются»[574]. Мы, таким образом, добрались уже до середины XVIII столетия, когда (первоначально, очевидно, во Франции) во франкмасонстве появилась новая степень инициации и соответствующие ритуалы[575]. Эта степень получила название «розенкрейцерской»[576]; ее мистика была ближе к христианству, нежели деистическая мистика других степеней, и, возможно, испытала на себе влияние мистицизма рыцарства. Возникновение новой степени свидетельствует, по всей видимости, о том, что идея связи розенкрейцерства и масонства была признана самой масонской традицией, хотя и достаточно поздно.
Однако столь поздние факты и традиции, как бы ни были они интересны сами по себе, не могут служить надежным свидетельством для интересующего нас периода начала XVII столетия, когда розенкрейцерская идея впервые — благодаря манифестам — стала достоянием широкой гласности. Мы так и не ответили на поставленный ранее вопрос: существовали ли в то время розенкрейцеры как реальная тайная организация?
Вопрос этот можно сформулировать теперь несколько по-иному, не так, как в начале настоящей главы, когда мы ответили на него отрицательно. Теперь мы можем его расширить: пусть розенкрейцеров не было, но не стояло ли за публикацией манифестов некое движение, которое можно было бы охарактеризовать как раннемасонское или протомасонское?
Легендарная история «масонства» (каменщичества, каменного зодчества) излагается в нескольких средневековых поэмах, написанных около 1400 г., которые весьма ценятся франкмасонами как памятники древнего, «оперативного» масонства ремесленных гильдий, породившего, по их мнению, масонство «спекулятивное», или франкмасонство. В «Рукописных Конституциях Масонов»[577], как принято называть эти поэмы, «масонство» (то есть строительное ремесло и искусство архитектуры) отождествляется с геометрией. В одной поэме говорится, что геометрия была открыта еще до Потопа; в другой — что Авраам научил геометрии египтян. Согласно третьей версии, явно восходящей к античному источнику (Диодору Сицилийскому), геометрию изобрели египтяне, чтобы можно было разумно использовать нильские разливы[578]. Само изобретение приписывается Тоту — Гермесу, называемому также Гермесом Трисмегистом, которого эта версия отождествляет с Евклидом. Таким образом, происхождение геометрии или, что то же самое, «масонства» (а следовательно, и франкмасонства) уходит корнями в глубочайшую древность — еврейскую или египетскую — и окутано покровом тайны. Подобное представление явно связано с ренессансной концепцией «древней мудрости», которой обладали «prisci theologi» («древние богословы») и к которой восходят все истинные знания[579]. Согласно масонским мифам, истинная древняя мудрость нашла свое воплощение в геометрии Храма, построенного Соломоном при поддержке Хирама, царя Тирского. Главным архитектором Храма, по верованиям масонов, был некий Хирам Авий[580] (не путать с царем Хирамом!), чья мученическая смерть символически воспроизводится в масонских ритуалах[581].
Официальным источником по мифологии и мистической истории масонства считается книга «Конституции Франкмасонов», опубликованная Джеймсом Андерсоном в 1725 г. и, как я понимаю, до сих пор признаваемая в масонских кругах наиболее авторитетным документом по истории их движения. В ней приводится напутствие, произносимое при приеме в ложу нового брата, которое начинается так[582]:
Адам, первопрародитель наш, сотворенный по образу Божию, по образу Великого Зодчего Вселенной, должен был иметь Вольные Науки, особенно Геометрию, запечатленными в Сердце Своем; ибо во все времена после Грехопадения мы обнаруживаем Начала таковых в Сердцах его Отпрысков…
Далее следует обзор истории геометрии на протяжении ветхозаветной эпохи, достигающий кульминации в рассказе о строительстве Соломонова Храма.
В «Конституциях», как и в большинстве других «историй» франкмасонства, рассказ о строительном искусстве, зодчих и знаменитых постройках ветхозаветных времен переходит в историю позднейшей архитектуры. Первыми «царственное искусство архитектуры» переняли у евреев греки. Затем это искусство перешло к Риму, превратившемуся в центр наук и имперской власти и достигшему расцвета при кесаре Августе, «в правление которого родился Божий Мессия, Великий Архитектор Церкви». Август покровительствовал «великому ВИТРУВИЮ, Отцу всех истинных Зодчих до сего дня»[583]. Сам Август был Великим Мастером масонской ложи в Риме и разработал «Августов» архитектурный стиль.
Далее Андерсон коротко рассказывает об утрате «римского строительного искусства» в эпоху варварских вторжений и о появлении готического стиля, попутно отмечая, что в те «невежественные времена» геометрия подчас «клеймилась как колдовство»[584].
Переходя затем к новой, более близкой к нему по времени, эпохе, он утверждает[585], что королева Елизавета не слишком благоволила к архитектуре, зато король Яков возродил английские ложи и вызволил римскую архитектуру из-под гнета готического невежества. Блестящие итальянские архитекторы вернулись к классическому стилю, в чем наибольшая заслуга принадлежит великому Палладио. В Англии же достойным соперником Палладио был «наш великий Мастер-Масон Иниго Джонс»[586]. Карл I покровительствовал «мистеру Джонсу», который представлен в книге как несомненный франкмасон. К франкмасонам Андерсон причисляет и Карла II, а о сэре Кристофере Рене, архитекторе собора св. Павла, он высказывается с большим одобрением.
Книга Андерсона, к сожалению, не проясняет одного вопроса, относительно которого нам хотелось бы иметь достоверную информацию: когда именно возникло современное франкмасонство как организованное тайное общество? Но и в большинстве других книг о масонстве описания древнееврейских архитектурных сооружений, легенды, всеобщая история архитектуры и история собственно франкмасонства соединены без всякого порядка — точно так же, как в «Конституциях» Джеймса Андерсона, опубликованных в 1725 г. Все же складывается впечатление, что отделение «спекулятивного» масонства от масонства «оперативного» было каким-то образом связано с возрождением интереса к Витрувию и классической архитектуре (не случайно этот момент в развитии зодчества отмечается почти всеми историками-масонами). Хотя Андерсон не говорит ничего определенного о подобной связи, Иниго Джонс играет в его истории весьма важную роль — не потому ли, что франкмасонство как институт (а не как масонская легенда) начиналось в Англии параллельно с распространением «Августова» архитектурного стиля, впервые введенного Иниго Джонсом?
В масонской истории имеется странный пробел. Чем можно объяснить, что историки-масоны никогда не упоминают имени Джона Ди, выдающегося герметического философа, автора знаменитого предисловия к английскому переводу трудов Евклида, в котором он превозносил «великого ВИТРУВИЯ»[587] и настойчиво призывал к возрождению евклидовой геометрии, архитектуры и всех математических искусств? Английское издание Евклида с предисловием Ди было опубликовано в 1570 г. и, без сомнения, являло собой замечательный памятник священного для масонов искусства геометрии, не говоря уже о том, что оно задолго до Иниго Джонса провозвестило возрождение в Англии классической архитектуры. Трудно поверить, что предисловие Ди, с его многочисленными цитатами из Витрувия, оказалось вне поля зрения масонов, осталось не замеченным ими. И действительно, Андерсон, по всей видимости, этот текст знал: ведь несколько раз он почти дословно его цитирует. Сравним, к примеру, андерсоновскую характеристику правления Августа как эпохи, когда родился «Божий Мессия, великий Архитектор Церкви», с упоминанием того же Августа у Ди — как государя, «во дни которого был рожден наш Небесный Архимастер»[588]. Невольно в голову приходит мысль, что Ди был намеренно исключен из анналов масонской истории[589]. Но по какой причине? Быть может, по той же самой, что столь часто удерживала людей от упоминания его имени, — по причине его репутации «колдуна», окончательно утвердившейся после выхода в свет злобной публикации Мери Казобона. Кстати, Ди уже в «Предисловии» жаловался на обвинения в колдовстве, выдвигавшиеся против него «невеждами», — по иронии судьбы Андерсон воспроизводит ход его рассуждений в своих «Конституциях», заявляя, что «в невежественные времена» геометрия «клеймилась как колдовство».
Итак, перед нами встает еще одна проблема. Как она соотносится с проблемой связи розенкрейцерства и масонства?
У меня нет готовых ответов ни на этот, ни на другие, поставленные ранее, вопросы. Как я уже говорила в начале главы, решение проблемы тайного общества не входит в число первоочередных задач настоящей работы. Все, что я могу сделать, — это попытаться показать, что понимание исторического характера описанных в книге движений открывает перед будущими исследователями новые (подобающие именно исторической науке) пути, двигаясь по которым они, возможно, найдут не замеченные ранее свидетельства.
Предположим — в порядке чистой гипотезы, ориентира для возможных исторических исследований, — что та идея, из которой позднее могло развиться масонство, зародилась в елизаветинской Англии и что она была каким-то образом связана с культом королевы и движением Ди (и с деятельностью Филипа Сидни, который был причастен и к тому, и к другому). В елизаветинской Англии, сплотившейся вокруг возрожденного рыцарства и ренессансных эзотерических движений, духовно готовой к длительному противоборству с опасным врагом, вполне могли возникать тайные группы единомышленников. А когда влияние таких групп начало распространяться за границей (в значительной степени благодаря курфюрсту Пфальцскому и его молодой супруге из дома Стюартов), не несло ли оно с собой, помимо английской рыцарственности и английской алхимической традиции, еще и некую «протомасонскую» идею? В числе творцов подобной идеи легко представить себе Джона Ди, к которому, в конечном счете, восходят многие новые концепции того времени. Следовало бы поискать масонские мистические идеи в трудах розенкрейцерских авторов, особенно Майера и Андреэ, — но только грань между масонской и розенкрейцерской мистикой для того времени провести будет очень трудно[590].
Проблема еще более осложняется тем, что, хотя существование тайных обществ, ввиду сложности тогдашней политической обстановки, представляется весьма вероятным, мы не знаем, ни сколько их было, ни какие отношения их связывали (если вообще они поддерживали между собой какую-то связь).
Как мы уже говорили, представители всех тайных движений конца XVI века имели основания желать успеха тому движению, что формировалось вокруг фигуры курфюрста Пфальцского. Одним из таких движений была «Семья Любви» — тайное общество, несомненно реально существовавшее и имевшее свою организацию, порожденную особой политической ситуацией, сложившейся в Нидерландах к концу XVI столетия. Мы знаем, что многие известные люди были членами этой секты или общества, допускавшего, чтобы его приверженцы внешне придерживались любого исповедания, лишь бы в душе они разделяли взгляды «Семьи». Такой подход к религиозным вопросам напоминает идеи франкмасонства. Тайными членами «Семьи» были, как известно, многие издатели, например знаменитый антверпенский печатник Плантен, распространявший идеи секты путем публикации работ сочувствовавших ей авторов. Ранее я уже высказывала предположение о том, что семья издателей Де Бри, имевшая связи с фирмой Плантена, также принадлежала к этой секте и что переезд фирмы Де Бри в Пфальц, в Оппенхайм, где она занялась изданием работ розенкрейцерских авторов (Фладда и Майера), возможно, объясняется ее тайными симпатиями к пфальцскому движению.
В одной из предыдущих глав мы говорили о влиянии на розенкрейцерское движение идей Джордано Бруно. Бруно был подлинно герметическим философом; в конце XVI века он проповедовал по всей Европе свое эзотерическое учение о всеобщей всемирной реформации, предполагавшей возвращение человечества к «египетской» религии и благой магии; он, по некоторым данным, основал в Германии тайное общество «джорданистов», популярное в лютеранских кругах. Бруно побывал в Англии и, вероятно, познакомился там с Сидни — во всяком случае, он проявлял интерес к эзотерическим аспектам культа рыцарственного служения Елизавете[591]. Но, разумеется, учение Бруно — лишь одно из тех смутно угадываемых нами течений, которые, смешиваясь воедино, образовали, в конце концов, розенкрейцерский «поток».
Можно сказать и так: секта «Семья Любви», имевшая последователей в разных странах, представляла собой тайное течение, зародившееся в Нидерландах; учение Бруно было связано с тайными движениями в Италии; приблизительно в то же время сформировалось английское эзотерическое движение, испытавшее значительное воздействие идей Джона Ди; и все эти течения мощным потоком устремились к одной цели — «либерализации» Европы, цели, которая казалась вполне достижимой при условии возведения Фридриха Пфальцского на богемский престол.
Конечно, все вышесказанное — блуждание в потемках, гипотеза, выстроенная на многих «если…» и «возможно…»; но я намеренно уделила столько места недоказанным предположениям, чтобы показать трудности темы, которой посвящена эта глава. Мы знаем, что период конца XVI — начала XVII века был эпохой расцвета тайных обществ, однако не представляем себе, ни какие отношения связывали эти общества, ни чем они отличались друг от друга. В уже упоминавшемся английском документе 1676 г. речь идет о совместном банкете Партии Зеленой ленты[592], Братства Розового Креста, Адептов Герметизма и Принятых Масонов, причем всем этим сообществам приписывается свойство «незримости». Быть может, этот эпизод свидетельствует о давно сложившейся практике контактов между тайными обществами — хотя в суровые времена первой половины столетия такие контакты были делом смертельно опасным и, наверное, обусловливались куда более серьезными причинами, нежели желание вместе пообедать.
Мы видели, что розенкрейцерское движение возникло в очень сложной обстановке, в атмосфере секретности, и если действительно на него оказало влияние английское эзотерическое масонское движение, ассоциировавшееся с именем Ди (быть может, усвоившее в какой-то мере традицию английского рыцарства и заимствовавшее у нее образ «Креста Розы»), то за таинственными розенкрейцерскими манифестами и вправду могла стоять какая-то реальная организация протомасонского типа.
Хочу подчеркнуть еще раз: все вышесказанное следует воспринимать только как предварительные гипотезы; однако эти гипотезы открывают перед будущими исследователями такой исторический подход к проблеме, который еще ни разу не был опробован специалистами по раннему масонству, потому что до публикации настоящей работы никто, насколько мне известно, не писал об английском влиянии на немецкое розенкрейцерское движение.
Влияние английских идей, как я попыталась показать, распространилось на Германию в начале XVII столетия (в результате богемской миссии Ди). Когда же эти идеи, уже впитавшие в себя иные влияния, могли вернуться в Англию? Скорее всего, после катастрофы 1620 г.: ведь ужасные события, обрекшие короля и королеву Богемии на долгие годы изгнаннической жизни в Гааге, не могли не оживить в Англии и в других странах чувства симпатии к несчастной монаршьей чете.
И тут-то как раз предложенный мною исторический подход открывает совершенно новую область возможных исследований. В Гааге, по крайней мере, с 1622 г., существовало розенкрейцерское движение: это подтверждают некоторые известные источники[593], а со временем могут обнаружиться и новые свидетельства. Так вот, представляется весьма вероятным, что организованное масонство также нашло в Гааге благоприятную почву для своего роста: независимо от того, возникло ли оно из розенкрейцерства или развивалось параллельно с ним, этому развитию способствовала сама атмосфера верности проигранному делу, которое воплощала, после смерти экс-короля Богемии, его вдова, королева Богемии, многие годы остававшаяся со своим двором в Гааге.
Стюарты вообще покровительствовали масонству. Достаточно вспомнить о яковитской эпохе и тогдашних масонах из окружения претендентов на престол. Пожалуй, только один представитель дома Стюартов не попал в поле зрения историков, изучавших королевское окружение именно с этой точки зрения, — Елизавета Стюарт, экс-королева Богемии. А ведь она обладала сильным характером и пользовалась огромным влиянием — может быть, потому, что ее понимание королевской власти оказалось приемлемым даже для парламентаристов, привлекло даже богемского изгнанника Коменского и, очевидно, так или иначе способствовало той легкости, с какой осуществилась Реставрация Карла II. Легкость перехода от революции к роялизму всегда удивляла исследователей, и многие подозревали, что на характер этого перехода какое-то влияние оказали масоны.
Итак, проведенное нами исследование отчасти подтверждает правоту И.Г. Буле (во всяком случае, по существу дела): европейский феномен франкмасонства почти наверняка был связан с розенкрейцерским движением.
Подобное заявление, конечно, носит предварительный характер и сформулировано очень туманно. Но дело даже не в этом. Оно в любом случае не решает проблему тайных обществ — ведь ясно, что франкмасонское и розенкрейцерское движения, хотя, скорее всего, как-то соотносились друг с другом, не были идентичны. Франкмасонство сочетает эзотерический подход к религии с особым этическим учением и ориентацией на благотворительность, и в этом оно следует примеру розенкрейцерских Братьев; но, как показал А.Э. Уэйт, масоны, в отличие от розенкрейцеров, не интересуются ни реформой искусств и наук, ни научными исследованиями, ни алхимией и магией, ни многими другими вещами[594]. Из богатейшего резервуара духовной и интеллектуальной энергии, нравственных воззрений и реформационных идей, каковым являются розенкрейцерские манифесты, масонство приняло и вобрало в себя лишь одну струю; другие струи влились в Королевское общество, в алхимическое движение, растеклись и по многим иным направлениям. Цель настоящей работы — представить Розенкрейцерское Просвещение как целостный феномен, имевший многочисленные и многообразные проявления; более узкая и специальная проблема образования тайных обществ интересовала меня в значительно меньшей степени. Стремление во что бы то ни стало отыскать следы тайных обществ, увело бы нас слишком далеко от основной темы. Мы, к примеру, никогда не узнаем, принадлежал ли Фрэнсис Бэкон к одному из раннемасонских обществ. На самом деле, нам и не нужно этого знать, это не так уж важно. Поверьте: гораздо важнее проследить влияние розенкрейцерской идеи, нежели приписать тому или иному известному лицу членство в тайном обществе.
И все же тема настоящей главы, тема тайных обществ, достаточно значима, поскольку она как бы перебрасывает мост между эпохой Ренессанса и эпохой начала «научной революции». Великие математики и естествоиспытатели XVII века еще не утратили ренессансных традиций эзотерического мышления, еще ощущали свою мистическую связь с древнееврейской и «египетской» мудростью, в их подсознании еще присутствовали образы Моисея и «Гермеса Трисмегиста», столь притягательные для мыслителей эпохи Возрождения. Ренессансные традиции дожили до их дней благодаря деятельности тайных обществ, главным образом франкмасонских. И мы, к примеру, не постигнем в полном объеме научные и философские концепции первых членов Королевского общества, пока не поймем, что эти люди воздвигали свои интеллектуальные построения на фундаменте ренессансных эзотерических учений. За внешней обрядностью религии, за «нормальной» догматикой той или иной конфессии они прозревали Великого Архитектора вселенной — как всеобъемлющую религиозную идею, которая и вдохновляла их на научный поиск, на постижение всего созданного Творцом. Этот никогда не выходивший на поверхность (потому ли, что и не может быть выражен в словах, или потому, что намеренно сохранялся в тайне) эзотерический фундамент их мышления был наследием Ренессанса, наследием магических и каббалистических традиций, герметической и еврейской мистики — всего того, что вобрал в себя ренессансный неоплатонизм, достигший наивысшего расцвета в Италии.
Теперь мы понимаем, что «Откровение» было в своем роде совершенным манифестом, в котором не только излагалась программа научного развития для новой, просвещенной эпохи, но и содержался едва различимый намек на преимущества «незримости» — качества, ставшего «опознавательным знаком» розенкрейцерских Братьев.
XVI. Розенкрейцерское просвещение
Заря просвещения. Гравюра Иоганна Теодора Де Бри. Р. Фладд. История Макро- и Микрокосма. Оппенхайм, 1617.
Несколько лет назад, в Соединенных Штатах, я выступала с лекцией, которая начиналась так[595]:
Мне бы хотелось убедить всех разумных людей и всех разумных историков, что им не следует опасаться слова «розенкрейцерский». Действительно, оно вызывает дурные ассоциации из-за безответственных высказываний оккультистов о существовании некоей секты или тайного общества, называющего себя розенкрейцерским, историю и состав участников которого они якобы могут реконструировать ‹…› В отличие от них, я думаю, что это слово следовало бы использовать для обозначения определенного стиля мышления, исторически легко узнаваемого, — безотносительно к вопросу о том, принадлежал ли человек, мысливший «розенкрейцерскими» категориями, к какому-нибудь тайному обществу.
Теперь, заканчивая книгу, я повторяю мое тогдашнее предложение использовать термины «розенкрейцерский» и «розенкрейцеры» как историческое обозначение определенного стиля мышления, выяснению характеристик которого и посвящена настоящая работа.
В только что упомянутой лекции я попыталась определить историческое место мыслителя розенкрейцерского типа, показав, что он представляет собой фигуру переходного периода между Ренессансом и первой фазой (пришедшейся на XVII век) так называемой «научной революции». Я сказала, что розенкрейцера можно с полным правом считать продолжателем ренессансной герметико-каббалистической традиции; единственно новое, что его отличает, — это интерес к алхимии, не засвидетельствованный на более ранних стадиях движения. Однако, несмотря на это отличие, розенкрейцерское мышление в основе своей остается «оккультной философией» (в том понимании этого термина, которое сложилось после выхода в свет труда Корнелия Агриппы)[596]. Я сослалась на Джона Ди, философа, сочетавшего алхимические и каббалистические интересы, как на пример типично розенкрейцерского мыслителя, добавив, что, по моему мнению, какие-то следы розенкрейцерского мировоззрения можно обнаружить и у Фрэнсиса Бэкона, и даже у Исаака Ньютона.
В этой книге я попыталась реконструировать исторический контекст розенкрейцерского мышления, и я бы хотела, чтобы ее оценивали именно как историческую работу. Будучи историком, я задалась целью обнаружить и отворить те давно закрытые (и скрытые от наших глаз) шлюзы, сквозь которые некогда двигался розенкрейцерский идейный «поток». Понимая, что, занимаясь подобной темой, невозможно обойти стороной таинственные розенкрейцерские манифесты с их провозвестиями нового откровения, я отважилась углубиться в обескураживающе зыбкую область розенкрейцерской литературы, и там меня ждало подлинное открытие: несомненным и главным источником влияния на немецкое розенкрейцерское движение оказался не кто иной, как Джон Ди.
Сразу даже трудно полностью осознать, что влечет за собой подобное утверждение. Джон Ди неожиданно для нас приобретает значение фигуры первого плана на тогдашней европейской сцене. Его жизнь и деятельность условно можно разделить на два периода. Первую часть своей жизни Ди провел в Англии: он был магом, то есть одним из закулисных «властителей дум» елизаветинской эпохи, магом-математиком, чьи идеи вдохновляли сторонников технического прогресса, в то время как более эзотерическая и мистическая часть его учения оказала немалое влияние на Сидни и его друзей, а, следовательно, и на все елизаветинское поэтическое движение, которое они возглавляли. Затем, в 1583 г., Ди уехал за границу, и там, в Центральной Европе, по существу, начал свою карьеру заново: на этот раз — как лидер алхимико-каббалистического движения, получившего сенсационную известность благодаря успеху «трансмутаций», которые демонстрировал Эдуард Келли. Сейчас мы знаем, что это движение отчасти носило религиозную окраску и что творческая мысль Ди в период его пребывания в Богемии достигла «наивысшего накала»[597]; однако второй, «богемский» этап биографии Ди не был в достаточной степени исследован. А пока он остается в тени, мы не можем оценивать жизнь и деятельность Ди в их целостности.
Розенкрейцерское движение в Германии испытало на себе влияние обоих упомянутых направлений творчества Ди. С одной стороны, оно многим обязано «экспортированной» елизаветинской культуре и вдохновлявшим эту культуру идеям — научным, мистическим, поэтическим. Образ «Креста-Розы» имеет английскую окраску и восходит, как я полагаю, к красному кресту Святого Георгия и к традициям английского рыцарства. А старое толкование имени «Розенкрейц» как слова, производного от алхимических терминов ras («роса») и crux («крест»), основывается на «Иероглифической Монаде» Ди: на титульном листе этого сочинения изображена падающая в чаши роса, символ же «монады» в числе других элементов включает и знак креста, несущий очень сложную смысловую нагрузку. Таким образом, само слово «розенкрейцер» выдает влияние и английских рыцарских традиций, и стоявших за этими традициями идей Ди. В любом случае название розенкрейцерского движения явно имеет английское происхождение.
Второй период деятельности Ди имел еще большее значение для розенкрейцерского движения, поскольку, по моему твердому убеждению, движение, инспирированное Ди в Богемии, было использовано Кристианом Анхальтским в ходе пропагандистской кампании, которая должна была обеспечить избрание пфальцграфа Рейнского королем Богемии.
Итак, различные политико-религиозные течения, поддерживавшие курфюрста Пфальцского и его притязания на богемскую корону, соединившись с двумя ответвлениями традиции Ди, проникавшими в Германию из Англии и Богемии, произвели вспышку «розенкрейцерского фурора». Однако эта историческая схема накладывается на розенкрейцерское движение, так сказать, только с внешней стороны: она не объясняет происхождения розенкрейцерства, да и вообще движение как бы выплескивается за пределы вышеописанной конкретной ситуации.
В чем же тогда заключалась суть розенкрейцерства?
Для истинного розенкрейцера религиозная сторона движения всегда оставалась наиболее значимой. Розенкрейцер стремился получить доступ к глубинным слоям коллективного религиозного опыта, чтобы таким образом оживить и обогатить свой личный религиозный опыт, приобретенный в рамках определенного вероисповедания. Движение, в понимании Ди (а может быть, и Фладда), должно было быть открыто для представителей всех религиозных исповеданий, а следовательно, антикатолическая направленность изначально не была ему присуща. Однако позже, в Германии, движение получило антикатолический или, если выражаться точнее, антииезуитский уклон. В Германии же оно впитало в себя интенсивный пиетизм евангелического (в широком понимании этого термина) толка, благодаря чему стало весьма привлекательным для всех немецких протестантов, к какой бы конфессии они ни принадлежали.
Манифесты подчеркивают значимость каббалы и алхимии как сквозных «лейтмотивов» всего движения. Увлечение алхимией в свою очередь обусловило интерес розенкрейцеров к медицине. Розенкрейцерские Братья — целители. Самые крупные теоретики движения (Фладд, Майер, Кроллий) были врачами-парацельсистами. Но в «Монаде» Ди и в алхимическом движении Майера был и другой аспект, который не так просто уловить. Он заключался в особом подходе к природе, при котором алхимические и каббалистические традиции, сочетаясь с математикой, порождали нечто совсем новое. Быть может, именно эта часть розенкрейцерского учения, таившая в себе ростки нового мировидения, привлекла к движению некоторых крупнейших ученых времен «научной революции».
Но в целом «научная революция» противопоставляла себя розенкрейцерскому миру: этой бабочке не терпелось выпорхнуть из своего кокона. Наиболее известный пример такого отношения — полемическое выступление Иоганна Кеплера против Роберта Фладда. Хотя сам Кеплер всю жизнь оставался во власти герметических представлений[598], в книге «Гармония Мира» (1619) он заявляет, что его подход к астрономии — чисто математический, а не герметический, как у Фладда. Он упрекает Фладда в том, что тот основывает свои числовые и геометрические доказательства на макро-микрокосмических соответствиях, а кроме того, смешивает истинных математиков с «алхимиками, герметиками и парацельсистами». Сходные претензии, разумеется, можно предъявить и Джону Ди, да и всей вообще розенкрейцерской школе мышления. А когда Кеплер осуждает Фладдову манеру использовать математические схемы в качестве неких «иероглифов», на ум сразу же приходит «монада» Ди и все с нею связанное.
Подобные взгляды, однако, не помешали Кеплеру вращаться в близких к Андреэ кругах, а позже, по некоторым данным, даже вступить в контакт с христианскими союзами. И он, подобно Фладду, посвятил свой великий труд о небесной гармонии Яков I Английскому. Кеплер, как известно, служил императору[599], то есть в политическом смысле он был противником розенкрейцеров (которых, кстати, упоминает в своей «Апологии» 1622 г. — в туманных и, кажется, не очень уважительных выражениях). И все же связи Кеплера с розенкрейцерским миром были настолько тесными, что я испытываю искушение назвать его еретиком в рамках этого движения. Материалы, собранные в настоящей книге, открывают возможность нового, исторического подхода к творчеству Кеплера, но этой обширной теме следовало бы посвятить специальное исследование.
А мы возвращаемся к рассмотрению розенкрейцерского мировоззрения в его целостности. Главным способом воздействия на мировое устройство считалась магия, выступавшая в нижнем мире в обличье математики и механики, в небесном мире — как «небесная математика», и, наконец, в мире занебесном — как искусство заклятия ангелов. Подобное мировоззрение не могло обойтись без ангелов, как бы далеко оно ни продвинулось по пути научной революции. В религиозном плане оно исходило из идеи, что человечество начало проникать в высшие, ангелические сферы, где религиозные различия теряют значение, и что именно ангелы отныне будут направлять идейное развитие человека.
Маги эпохи раннего Ренессанса сознательно ограничивали свою деятельность только теми видами магии, которые действуют в мире элементов и небесных сферах: с помощью талисманов и различных ритуалов они пытались использовать в своих целях благоприятное влияние звезд. В отличие от них, дерзновенный Ди устремлялся далее звезд, жаждал овладеть занебесной математической магией, магией заклятия ангелов. Ди твердо верил, что добился контакта с благими ангелами и что именно они раскрыли перед ним перспективу научного прогресса. Чувство близкого контакта с ангелами или иными духами — отличительная черта любого розенкрейцера. А потому даже технические идеи розенкрейцеров, как бы ни были они практичны, утилитарны и рациональны (благодаря новому пониманию единства математики и техники), несли на себе отсвет чего-то неземного — и часто навлекали на своих авторов подозрения в контактах не с ангелами, но с дьяволами.
Время появления розенкрейцерских манифестов и разразившегося вслед за тем «розенкрейцерского фурора» можно охарактеризовать как период, когда ренессансная культура умирала в судорогах «охот на ведьм» и опустошительных войн, чтобы потом, через много лет (уже утратив память о пережитых ужасах), возродиться под именем Просвещения. Я полагаю, предпринятое нами исследование достаточно убедительно показало, что манию «охоты на ведьм», распространившуюся в этот мрачный период, нельзя целиком объяснить, если подходить к ней с этнографической точки зрения, как к феномену, встречающемуся во всех странах и во все века. Правда, и в интересующее нас время ревнители веры, как правило, действовали по давно известным сценариям, так что в некотором смысле мы вправе говорить об «охотах на ведьм» как о почти повсеместно распространенном феномене человеческого поведения. Однако не всем векам и не всем странам довелось пережить тот опыт, через который в начале XVI столетия проходила Европа. Тогдашняя Европа стояла на пороге неслыханных научных достижений, направивших ее в скором будущем по совершенно уникальному историческому пути. До этих достижений было уже рукой подать. Рассуждая о том, что «монада» Ди наделит человечество громадными возможностями и могуществом, розенкрейцеры лишь конкретизировали повсеместно распространенные ожидания: вот-вот в Европе отверзнутся врата, свершатся великие научные открытия и люди обретут сокровища знаний — подобные тем, что были найдены в гробнице Христиана Розенкрейца.
К оптимистическим ожиданиям примешивалось чувство тревоги. Многим грядущий прогресс казался не ангельски-лучезарным, но, напротив, дьявольски опасным. Ведь пока вместо обещанной новой зари все видели лишь грозовые тучи истерической ведьмобоязни, отчасти спровоцированной противниками розенкрейцерского движения. Те «охоты на ведьм», от которых с такой предусмотрительностью уклонялся Декарт, о которых никогда не забывал Фрэнсис Бэкон, имели несколько иную природу, чем аналогичные феномены в менее развитых странах: они были оборотной стороной научного прогресса.
В розенкрейцерстве сочетание религиозного и научного мировидения приняло форму необычайно интенсивного алхимического движения, использовавшего свойственные алхимии средства выразительности главным образом для передачи религиозного опыта. Койре видел в этом движении естественное продолжение анимистических и виталистских философий эпохи Ренессанса; по его мнению, алхимический символизм открывал более широкие возможности для выражения живого религиозного опыта, нежели аристотелевско-схоластическое учение о материи и форме. «Тех, кто превыше всего взыскует возрождения духовной жизни, естественно, привлекают учения, основанные на идее жизни и предлагающие виталистскую концепцию вселенной. А алхимические символы столь же пригодны для выражения (в символической форме) реалий религиозной жизни, как и символы, используемые в учении о материи и форме. Пожалуй, даже более пригодны, поскольку не столь избиты и затасканы, не столь рассудочны, более „символичны“ по самой своей природе»[600]. Койре в этом отрывке имеет в виду Бёме, но его слова можно с полным правом отнести и к розенкрейцерскому алхимическому движению, по духу очень близкому Бёме.
В этих словах Джордж Херберт выразил свой христианский религиозный опыт. Подобно ему, немецкие розенкрейцеры тоже искали «духовное злато». Как и в его стихах, в литературе «розенкрейцерского фурора» проповедовалась идея подражания Христу, восходившая к Фоме Кемпийскому и считавшаяся истинной «магналией», алхимическим откровением.
Участники розенкрейцерского движения знали, что совсем скоро свершатся грандиозные новые открытия и человечество поднимется на новую ступень прогресса, оставив где-то далеко внизу все достигнутое им ранее. Образ человека, приподнявшегося на цыпочки, чтобы первым увидеть нечто новое, весьма точно передает розенкрейцерское мировидение. Розенкрейцеры верили, что их знания таят в себе огромные потенциальные возможности, и именно потому стремились включить эти знания в целостную религиозную философию. Таким образом, розенкрейцерская алхимия сочетала научный взгляд на мир, предполагающий существование неведомых прежде областей знания, с чувством религиозного ожидания, прозрением новых сфер религиозного опыта.
Исследователи часто спорят о том, какая из конфессий, какая разновидность христианства в наибольшей степени благоприятствует научному прогрессу. Католичество или протестантство? А если протестантство, то лютеранский или кальвинистский его вариант?
Вопрос следовало бы сформулировать по-иному. В книге «Джордано Бруно и герметическая традиция» я высказала предположение о том, что переход науки на путь служения человечеству в значительной мере был обусловлен особым религиозным мировидением, сформировавшимся в русле герметико-каббалистической традиции. Если дело обстояло именно так (а все мои последующие изыскания лишь подтверждали правильность этой гипотезы, ныне принятой многими историками европейской мысли), мы можем сделать следующий вывод: в наибольшей степени благоприятствовала научному прогрессу та религиозная конфессия, в сфере влияния которой сложились оптимальные условия для развития герметической традиции.
В эпоху раннего Ренессанса Римско-католическая церковь не препятствовала герметическим и каббалистическим штудиям, хотя к магии всегда относилась с большим подозрением. Один из первых (и самых значительных) христианских каббалистов, Эгидий из Витербо, был кардиналом. К концу XVI века, как кажется, более благоприятными для герметической традиции оказались некоторые формы протестантства. Рассуждая теоретически, оптимальные условия для развития науки должны были сложиться в такой протестантской стране, где допускалось существование герметизма и не слишком преследовались занятия магией. Все эти условия наличествовали в елизаветинской Англии, и когда королева Елизавета обещала Джону Ди материальную поддержку и защиту от всяческих преследований, она тем самым сделала первый шаг по пути научного прогресса.
Возьмем для сравнения другую страну, Богемию, и посмотрим, что произошло там. В этой стране традиция, ориентированная на научный прогресс (герметико-каббалистическая традиция, представленная каббалистами и алхимиками Праги), была особенно сильна. В Богемии доминировало протестантство в его гуситской разновидности. Сочетание религиозной веротерпимости гуситско-протестантского толка с наличием весьма влиятельной герметико-каббалистической традиции могло породить интересные и своеобразные явления. Когда же вместе с идеями Джона Ди в Богемию стали проникать и традиции елизаветинского герметизма, страна оказалась на пороге феноменальных научных и религиозных прозрений. Но, увы, здесь не было своей королевы Елизаветы, готовой гарантировать свободу дерзновенным мыслителям, а Яков I не собирался принимать на себя подобную роль. Будущее несло оккупацию, уничтожение материальных и духовных ценностей и жесточайший террор. Вот почему Богемия смогла внести лишь косвенный, опосредованный вклад в культуру новой эпохи.
Что касается вопроса о том, какой тип протестантства более благоприятствовал научному прогрессу, то вывод, к которому подводит настоящее исследование, таков: имел значение не столько тип протестантства, сколько наличие или отсутствие герметико-каббалистической традиции. Пфальц был страной кальвинистской, но разве мы обнаружили хоть какие-то следы влияния кальвинистских теологических доктрин на интересующее нас движение? Напротив, именно стремление избежать религиозных споров и вместо них заняться подлинно благочестивым делом изучения природы породило в Пфальце ту особую атмосферу, в которой могла бы расцвести наука — и, без сомнения, расцвела бы, не помешай тому разразившаяся война.
Часто говорят, что пуританство способствует научному прогрессу. Отчасти это так: ведь пуританское (и кальвинистское) благочестие несет в себе сильную иудаистскую, ветхозаветную струю — а потому как бы изначально предрасположено к слиянию с каббалой, мистическим ответвлением иудаизма. Очевидно, что пуританский культ Иеговы сам по себе может пробудить интерес к каббалистическим штудиям. А кроме того, в Англии в период парламентского правления и протектората Кромвеля сложилась атмосфера духовной свободы и терпимости к любым научным и религиозным взглядам — за исключением римско-католической доктрины. Но, поскольку сами католики отличались крайней нетерпимостью к инакомыслящим, запрет на их веру не представлял никакой опасности для научного прогресса в пуританской Англии[602].
Тот подход, который (как мне думается) необходим для решения подобных вопросов, начал разрабатываться совсем недавно. Франсуа Секре в своей книге о христианской каббале[603] собрал большой материал, характеризующий отношение к каббале различных христианских церквей. Сам Секре не делает никаких выводов, но его работа, хотя и была задумана скорее как источниковедческий, нежели как исторический труд, наводит на интересные размышления. Тридентский собор включил в индекс запрещенных книг многие каббалистические сочинения, считавшиеся вполне «легальными» в эпоху Ренессанса (например, Рейхлина) и попытался если не полностью запретить, то по возможности ограничить каббалистические исследования. В протестантских странах, где, разумеется, постановления собора никакой силы не имели, каббалисты чувствовали себя более свободно.
Говоря о влиянии каббалы, то есть мистических традиций иудаизма, на европейскую мысль XVI–XVII веков, очень важно иметь в виду, что сама иудаистско-каббалистическая традиция к этому времени претерпела значительные изменения. Центром той ранней каббалы, что оказывала влияние на Пико делла Мирандолу и всю вообще культуру итальянского Ренессанса, была Испания. После изгнания евреев из Испании в 1492 г. возникла каббала нового типа, и ее центром стала Палестина. Формирование новой каббалистической традиции связано с деятельностью Исаака Лурии[604] (XVI век) и его учеников, собравших в Сафеде, в Палестине, группу своих единомышленников. Европа познакомилась с этим движением в конце XVI — начале XVII веков. Лурианская каббала культивировала и развивала религиозное воображение — посредством мистических медитаций, особых магических приемов, культа Божественных Имен, экстатической молитвы. В ее апокалиптике равное значение имели Начало и Конец: возвращение к первоначальному райскому состоянию рассматривалось как обязательная стадия развития человечества, предваряющая Конец мира. Прага была крупнейшим в Европе центром еврейской каббалы, и там в конце XVI столетия выдвинулась на первый план весьма примечательная фигура — рабби Лёв[605] (умерший в Праге в 1609 г.). Этот человек, между прочим, однажды имел личную беседу с Рудольфом II, в ходе которой император испрашивал у него духовного наставления.
Так вот, представляется весьма вероятным, что Джон Ди испытал на себе не только влияние более старой, испанской каббалистической традиции, уже давно ставшей частью ренессансной культуры, но и влияние новой, лурианской каббалы, открывавшей перед ним мир не изведанных ранее, экстатически-ярких религиозных переживаний. Можно предположить, что и в богемской миссии Ди, вылившейся в ряд каких-то странных и «буйных» эпизодов, отчасти сказались такого рода влияния. В «Откровении», кстати, тоже говорится о том, что «Христиан Розенкрейц», побывав на Востоке, заимствовал там новую магию и каббалу, а затем включил эти учения в собственное христианское мировоззрение.
Для понимания интересующего нас периода, без сомнения, кое-что даст и изучение позднейшей истории религиозного алхимико-каббалистического движения. Так, например, Франциск Меркурий ван Гельмонт[606] (см. илл. 38), сын великого алхимика и химика Я.Б. ван Гельмонта, современник и друг Карла Людвига (сына Фридриха V), был весьма примечательной, типично розенкрейцерской по своему складу личностью. Врач и целитель, алхимик и маг, Франциск Меркурий ван Гельмонт кажется розенкрейцерским братом, наконец решившимся сбросить покровы «незримости» и предстать перед своими современниками. Интересно, что в его случае, несомненно, обнаруживается влияние лурианской каббалы — в христианизированной форме, проповедовавшейся Кристианом Кнорром фон Розенротом, лютеранским пастором из Силезии. Возможно, стоило бы тщательно проследить, как сочетались религиозная алхимия и каббала в творчестве Франциска ван Гельмонта — это дало бы ценную параллель к аналогичным явлениям у Ди и других розенкрейцерских авторов более раннего периода.
Мне кажется, для герметико-каббалистической традиции конца XVI — начала XVII веков вообще было характерно нарастание интереса к каббалистическим штудиям, хотя в католических странах таковым изысканиям препятствовали постановления Тридентского собора. В католических странах отнюдь не поощрялась и парацельсистская алхимия. Неудивительно, что движение, выразившее себя в розенкрейцерских манифестах, с самого начала имело антикатолическую направленность. Мы помним, что в манифестах отразились и сильные антииезуитские настроения.
Цели габсбургско-иезуитского альянса, против которого выступали розенкрейцеры, разделяли далеко не все католики. Иезуиты поддержали Габсбургов, стремившихся установить свою гегемонию в Европе, потому, что надеялись таким образом приблизить окончательную победу католичества над Реформацией, о которой мечтали самые рьяные сторонники Контрреформации и которая в 1620 г. казалась почти достигнутой. Однако тогдашний папа Урбан VIII никогда не одобрял подобной политики[607]. Отчасти потому, что, как политический деятель, придерживался профранцузской и антииспанской ориентации, но главное — из-за своей убежденности в том, что союз Церкви с Габсбургами может оказаться для нее пагубным и вообще интересы Церкви не следует слишком тесно связывать с какой-то одной, пусть и сильнейшей, династией. Сговор иезуитов с Габсбургами не нравился многим католикам, особенно французским. Во Франции в XVI веке он уже погубил Генриха III (хотя отдельные иезуиты выступили тогда на стороне короля и против Испании). В Италии — действовал как сила, искореняющая ренессансные традиции (против которой боролся венецианец Сарпи, и которая обрекла на сожжение Джордано Бруно).
Розенкрейцеры же вообще считали сближение Габсбургов с иезуитами делом антихриста. Как мы помним, вымышленный орден Розового Креста был почти зеркальным отображением иезуитского ордена. Розенкрейцерские Братья, с их девизом Jesus mihi omnia («Иисус для меня — все»), с их миссией, ориентированной не на разрушение, а на целительство, выставлялись в манифестах истинными иезуитами (Адам Хазельмайер так прямо их и называет) — в противоположность членам Ордена Иисуса, «ложным» последователям Христа.
И все-таки из всех ответвлений Римско-католической церкви именно иезуиты более всего походили на розенкрейцеров. Вопрос о влиянии ренессансных эзотерических традиций на формирование Общества Иисуса еще не достаточно изучен. Известно, однако, что иезуиты широко использовали герметические идеи и образы, когда обращались в своих проповедях к протестантам и к приверженцам многих иных религий, с которыми сталкивались в своей миссионерской деятельности. Потрясающим памятником герметической и оккультной философии иезуитов является объемистое псевдоегиптологическое сочинение Афанасия Кирхера[608] о герметизме, опубликованное в 1652 г. (в котором постоянно и с большим почтением цитируются высказывания Гермеса Трисмегиста — по мнению Кирхера, древнеегипетского жреца)[609]. Трудом Кирхера пользовались многие поколения миссионеров. Кстати, Кирхер, очевидно, кое-какие идеи заимствовал у Ди — во всяком случае, на иллюстрации в одном из его сочинений приведен «египетский» вариант знака «монады».
Итак, и иезуиты, и розенкрейцеры были последователями герметической традиции, их связывало некоторое родство интересов, да и вражда их скорее напоминала пресловутый комплекс «любви-ненависти». Мы помним, как в период «розенкрейцерского фурора» иезуиты пытались присвоить некоторые элементы розенкрейцерской символики, чтобы создать видимость тождества двух орденов и, кстати, запутать вопрос о том, какое издание кем было выпущено.
Но важнее другое. Иезуиты всегда уделяли самое пристальное внимание наукам и искусствам. Их обширные просветительские проекты были направлены на то, чтобы удовлетворить — в рамках допустимого Католической церковью — свойственную человечеству жажду знаний. Были ли они подлинными новаторами или только пытались держаться «на уровне» своей эпохи, то есть перенимать у новых движений все ценное, одновременно тем или иным способом устраняя то, что им не нравилось? Надо бы тщательно сопоставить труды Роберта Фладда и Афанасия Кирхера, прежде чем решать, какая из двух «обработок» герметической традиции больше способствовала развитию науки: розенкрейцерская или иезуитская. Кажется, Фладд все-таки в большей мере, чем Кирхер, испытал на себе влияние каббалы, и этот фактор может оказаться достаточно значимым.
В любом случае, как бы мы ни понимали и ни интерпретировали противостояние между розенкрейцерами и иезуитами, оно было знаком наступления новых времен, свидетельствовало, что Европа покидает старый мир с его застывшими категориями и вступает в эпоху, когда все привнесенные из прошлого понятия будут переосмыслены и обретут новые формы. В конфронтации розенкрейцеров и иезуитов мы уже провидим антииезуитскую направленность масонского движения, которое — вплоть до Французской революции — останется одним из главных подспудных факторов политического развития Европы.
Эту книгу можно оценивать еще и с той точки зрения, что она открывает «потерянный» период европейской истории. Подобно археологам, снимающим слой за слоем, мы обнаружили под поверхностной историей начала XVII столетия, кануна Тридцатилетней войны, целую культуру, целую цивилизацию, о которой ранее ничего не знали, но которая не становится менее значимой оттого, что просуществовала так недолго. Мы можем назвать ее розенкрейцерской культурой и исследовать во многих направлениях. Например, подойти к ней как к елизаветинской культуре (точнее, той ее части, что была связана с розенкрейцерством и традицией Ди), распространившейся вширь, за пределы Англии. «Елизаветинский век» отправился на континент вместе со свитой пфальцграфа и его юной супруги (сразу же после их незабвенной свадьбы, блиставшей всеми красками английского Ренессанса), но, миновав Германию и Богемию, трагически погиб в катастрофе 1620 г. Мы можем проследить за фигурами, хорошо знакомыми нам по более «освещенным» эпизодам английской истории и литературы, — Генри Уоттоном, Джоном Донном, и увидеть, как они «смотрятся» в контексте этой только что открытой культуры. Или попытаться выяснить, каким образом английские актеры и английские рыцарские ритуалы повлияли на генезис немецкого аллегорического романа, «Химической Свадьбы» Андреэ, который в свою очередь послужил образцом для Гёте, когда тот создавал свою алхимическую аллегорию. Следуя этим путем, мы обнаружим неожиданные переплетения европейских традиций, связи между ними, которые ранее ускользали от нашего взора только потому, что из истории выпало одно звено — розенкрейцерская эпоха в Пфальце. Дальнейшая реконструкция этой эпохи выявит, без сомнения, новые связи. А пока, например, мы узнали, что Михаэль Майер в своем творчестве сознательно воспроизводил или развивал систему символов, сложившуюся в Англии. Метафизическая поэзия Джона Донна во многих смыслах кажется «двойником» Майеровых эмблем: она выражает (пользуясь другими средствами) философские и религиозные взгляды, которые при ближайшем рассмотрении могут оказаться весьма близкими Майеровым. Так, в свадебной эпиталаме Джона Донна, написанной по случаю венчания «Леди Елизаветы и Графа Пфальцского», используются образы соединения двух фениксов, бракосочетания Солнца и Луны — то есть образы, заимствованные из алхимической символики (которая станет характернейшей чертой культа этих государей в континентальных розенкрейцерских кругах). Мы еще не поняли в достаточной мере, что означал для Донна и его друга Уоттона 1620 год, с каким чувством они следили за цепью катастрофических событий, о которых не смели даже заговорить вслух — из-за отношения к происходящему короля Якова.
Или же мы можем подступиться к этому забытому куску исторического пространства совсем с другой стороны, гораздо менее нам знакомой: со стороны Богемии. Традиции пражского двора Рудольфа II проникали в Пфальц через посредство Майера и его трудов, но что происходило на самой богемской окраине «розенкрейцерской цивилизации», мы плохо представляем: многие из участников тамошнего движения погибли. Правда, большая часть работ специалистов по чешской истории и культуре того периода недоступна англоязычному читателю. Получив новые данные, мы, вероятно, сумели бы разобраться в особенностях богемского алхимического движения, в биографиях и взглядах людей, подобных Даниэлю Стольцию, и в том, как эти люди использовали розенкрейцерские алхимические идеи для укрепления (увы! столь недолговечной) власти короля и королевы Богемии. Движению, искорененному на своей родине, суждено было обрести вторую жизнь в английском алхимическом движении XVII века, и того, кто всерьез заинтересуется его дальнейшей судьбой, тоже ждут удивительные открытия.
А еще стоит задуматься о значении розенкрейцерского движения для Германии, о том, например, как оно соотносилось с идеями Якоба Бёме, посвятившего свою жизнь задаче обновления лютеранской духовности и создавшего оригинальную алхимико-религиозную философию[610]. Дальнейшее изучение розенкрейцерского движения и сопутствовавших ему публикаций, несомненно, прольет новый свет и на творчество Бёме. Однако хочется надеяться, что внимание исследователей наконец обратится к самому «розенкрейцерскому фурору», этому сложному и неоднозначному явлению, в котором проявила себя (как бы «выплеснувшись» на поверхность) очень важная фаза европейской истории.
Самый поразительный аспект розенкрейцерского движения — его ориентация на грядущее Просвещение — отразился в названии этой книги. Мир, приближаясь к своему концу, получит новое просветление, благодаря чему человеческие познания, приобретенные большей частью в предыдущую, ренессансную, эпоху, безмерно расширятся. Новые открытия вот-вот свершатся, заря новой эры уже занимается. Ее просветляющие лучи будут проникать «внутрь», а не только во внешний мир; внутреннее духовное просветление откроет человеку новые возможности, таящиеся в нем самом, научит понимать собственное достоинство, ценность своей личности, ту роль, которая была приуготована для него в Божественном замысле.
Мы видели, что Розенкрейцерское Просвещение и в самом деле осветило своими лучами путь научному прогрессу XVII столетия и что многие прославленные ученые новой эпохи, по всей видимости, отдавали себе в этом отчет. Уже сейчас многие понимают (а со временем, можно надеяться, поймут все), что герметико-каббалистическая традиция, «потайная пружина» научного прогресса эпохи Ренессанса, не утратила своего значения с приходом «научной революции», что она все еще присутствовала в сознании творцов новой науки, которых мы привыкли считать полностью освободившимися от подобных влияний. Но в чем конкретно заключался вклад розенкрейцерской науки, и в частности розенкрейцерской математики, в великие достижения XVII столетия? На подобные вопросы мы даже не пытались ответить.
Неотъемлемой частью Розенкрейцерского Просвещения была убежденность в необходимости реформирования общества (особенно системы образования), в необходимости третьей религиозной реформации, которая затронула бы все стороны человеческой деятельности, — такая реформация представлялась обязательным дополнением к новой науке. Розенкрейцерские мыслители предвидели опасности, которые могут возникнуть в связи с научным прогрессом, осознавали, что наука несет в себе и «дьявольские», а не только «ангельские» потенции; именно потому они считали, что вступление в новый век должно сопровождаться «всеобъемлющей и всеобщей реформацией всего ‹…› мира». Эта сторона розенкрейцерского учения, пожалуй, лучше всего была понята в Англии времен парламентского правления, но тогда обстоятельства помешали ее воплощению в жизнь, а после реставрации Стюартов наука могла развиваться лишь при условии полного отречения от утопических идей[611] (в том числе и от идеи создания реформированного общества, достаточно просвещенного, чтобы безнаказанно пользоваться плодами прогресса). Социально-педагогический потенциал розенкрейцерского движения оказался почти невостребованным, и, разумеется, это обстоятельство неблагоприятно сказалось на его дальнейшей судьбе.
Итак, по моему убеждению, Розенкрейцерское Просвещение действительно было «Просвещением», то есть движением, которое — несмотря на всю непривычную для нас атрибутику, магическую символику и апелляцию к ангелическим силам, пророчества и апокалиптические видения — в основе своей оставалось просветительским. И, кстати, хотя той эпохе, которую мы привыкли называть «Просвещением» (Aufklärung), как будто бы была свойственна совсем иная атмосфера, к ее рационализму тоже примешивался «иллюминизм», учение о внутреннем «просветлении» человека. Поэтому слова Коменского из книги «Путь Света» (по праву названной «Откровением» Коменского) могли бы быть произнесены в любую из двух эпох[612]:
Если бы удалось возжечь Свет Всемудрости, он распространился бы по всему миру рассудка человеческого (подобно тому, как блеск восходящего солнца простирается от востока до заката), и возбудил бы радость в людях и преобразил бы стремления их. Ибо ведь если собственную свою участь и участь всего людского рода явственно узреют они благодаря этому горнему свету и получат средства, безошибочно ведущие к благим целям, то что помешает им их применить?
Приложение I
Розенкрейцерские манифесты
Сотворение мира: свет и мрак. Гравюра Иоганна Теодора Де Бри. Р. Фладд. История Макро- и Микрокосма. Оппенхайм, 1617.
В библиографии первых изданий манифестов разобраться непросто, тем более что хороших современных исследований на эту тему нет. Библиографическую информацию можно найти в следующих изданиях:
F. Leigh Gardner, A Catalogue Raisonne of Works on the Occult Sciences, vol. I: Rosicrucian Books, privately printed, 1923, items 23–29.
«Eugenius Philalethes» (Thomas Vaughan), The Fame and Confession of the Fraternity of the R.C… 1652, facsimile reprint, ed. F.N. Pryce, privately printed, 1923. Во введении (с. 12 сл.) Прайс приводит список изданий манифестов с указанием всех вошедших в эти издания отдельных работ.
De Manifesten der Rosenkruisers, ed. Adolf Santing, Amersfoort, 1913. Это переиздание перевода «Откровения» и «Исповедания» на голландский язык, напечатанного в 1617 г., воспроизводит также предисловие к «Откровению», изданному в 1614 г., немецкий текст «Откровения» издания 1615 г., латинский текст «Исповедания» 1615 г. и его немецкий перевод. Во введении, написанном Сантингом (с. 13 сл.), приводится список изданий манифестов.
Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz, ed. F. Maack, Berlin, 1913. Это переиздание немецкого текста «Химической свадьбы» содержит также перепечатки немецких текстов обоих манифестов. На введение и примечания полагаться не стоит.
Цель настоящих заметок — дать краткий обзор (не рассчитанный на специалистов) первых изданий манифестов. Нижеприведенный список не претендует на полноту.
1. Первым в библиографии манифестов должен быть упомянут «Ответ» на «Откровение», опубликованный Адамом Хазельмайером в 1612 г. То, что «Ответ» вышел в свет уже в 1612 г., доказал У. Бегеман, см.: Monatsheften der Comeniusgesellschaft, Band VIII (1899). «Ответ» был перепечатан в первом издании «Откровения». Английский перевод «Ответа», выполненный Прайсом, включен в Прайсовское переиздание «Откровения» и «Исповедания», с. 57–64. Хазельмайер утверждает, что видел рукопись «Откровения» в 1610 г.
2. Первое издание «Откровения»:
Allgemeine und General Reformation, der gantzen weiten Welt. Beneben der Fama Fratemitatis, dess Loblichen Ordens des Rosenkreutzes, an alle gelehrte und Haupter Europae geschrieben: Auch einer kurtzen Responsion von des Herm Haselmeyer gestellt, welcher desswegen von den Jesuitem ist gefanglich eingezogen, und auffeine Galleren gesch — miedet: Itzo offentlich in Druck verfertiget, und alien trewen Hertzen comuniceret worden. Gedrucht zu Cassel, durch Wilhelm Wessel, Anno MDCXIV.
В этот том вошли следующие сочинения:
• «Письмо к Читателю»;
• «Всеобъемлющая и Всеобщая Реформация» (то есть немецкий перевод отрывка из книги Боккалини «Парнасские ведомости», о которой см. выше);
• «Откровение»;
• «Ответ» Хазельмайера.
3. Первое издание «Исповедания».
Secretioris Philosophiae Consideratio brevis a Philipp a Gabella, Philosophiae St (studioso?) conscripta, et nunc primum una cum Confessione Fratemitatis R.C. in lucem edita Cassellis, Excudebat Guilhelmus Wessellius Illmi. Princ. Typographus. Anno post natum Christum MDVXV. На обороте титульного листа: — Gen. 27. De rare Caeli et Pinguedine Terrae det tibi Deus.
В том входят:
• «Краткое рассмотрение» Филиппа Габелльского, с посвящением Бруно Карлу Уффелю, в девяти главах, с молитвой в конце. Сочинение основано на «Иероглифической Монаде» Джона Ди;
• Предисловие к «Исповеданию»;
• «Исповедание Братства Р.К.» в четырнадцати главах.
4. Более поздние издания манифестов. (Я не буду приводить длинные немецкие названия, которые почти полностью совпадают с названиями первых изданий — небольшие разночтения объясняются изменениями в составе сборников.)
В кассельском издании Весселя 1615 г. весь вспомогательный материал, который был включен в два первых издания, не воспроизводится; перепечатаны только оба манифеста с предисловиями. «Откровение», как всегда, напечатано по-немецки; «Исповедание» — по-латыни, как в оригинале, но с присовокуплением немецкого перевода (который, как и латинский текст, поделен на главы).
Во франкфуртское издание Иоганна Брингера 1615 г. вошли «Откровение», «Исповедание» (в другом немецком переводе, без деления на главы), «Ответ» Хазельмайера и некоторые другие анонимные ответы на «Откровение», а также «Всеобъемлющая и Всеобщая Реформация» (отрывок из Боккалини).
Кассельское издание Вильгельма Весселя 1616 г. воспроизводит франкфуртское издание 1615 г., с добавлением некоторых новых ответов и пр.
Франкфуртское издание Брингера 1617 г. начинается с «Откровения» и немецкого перевода «Исповедания»; «Всеобъемлющая и Всеобщая Реформация» не воспроизводится, но зато в том включены некоторые новые материалы, например защитительное писание «Юлиана Кемпийского». Насколько мне известно, после 1617 г. и до конца XVII в. манифесты в Германии не переиздавались.
5. Английские переводы манифестов.
В обоих манифестах, «Откровении» и «Исповедании», говорится, что «Откровение» было опубликовано «на пяти языках» (см. ниже). Однако, кроме голландского перевода, изданного, возможно, в Амстердаме в 1617 г. (и перепечатанного Сантингом), никакие другие ранние печатные переводы не известны. Если переводы на другие языки и существовали, то они, вероятно, распространялись в рукописных списках.
Английские рукописные переводы, во всяком случае, ходили по рукам задолго до публикации перевода Воана в 1652 г. Воан в своем предисловии утверждает, что пользовался более ранним переводом, выполненным «неизвестной рукой». Прайс во введении к «Откровению и Исповеданию» показал (с. 3–8), что перевод, опубликованный Воаном, текстуально очень близок к рукописному переводу на шотландский диалект, сохранившемуся среди бумаг лорда Кроуфорда и датируемому 1633 г. Прайс полагает, что и рукопись Кроуфорда, и та рукопись, которую копировал Воан, восходят к общему оригиналу, возникшему ранее 1633 г.
Тот английский рукописный перевод, которым владел и который переписал от руки Ашмол, возможно, был выполнен еще ранее, чем только что упомянутый.
Чтобы облегчить работу по изучению манифестов, было бы очень желательно выпустить репринты книг, содержащих их первые издания (со всеми сопутствующими материалами и их переводом на английский язык). Тогда специалисты смогут детально изучить контекст, в котором впервые появились манифесты. Мы же пока публикуем только перевод «Откровения» и «Исповедания». Перевод, разумеется, далек от совершенства, но мы надеемся, что мелкие неточности и отдельные темные места не помешают читателю ознакомиться — хотя бы в общих чертах — с содержанием и стилем этих документов.
Вождям, племенам и ученым Европы.
Мы, братья ордена R.C., шлем всем и каждому, в христианском разумении читающим наше откровение, наш привет, любовь и молитвы.
После того как Единому Всеведающему и Всеблагому Господу Богу угодно было, в последние дни, столь щедро излить милость и благодать Свою на род человеческий, вследствие чего познание обоих, Сына Его и Натуры, все более и более распространяется, можно надеяться нам на близкое наступление лучших времен, в которые большая часть скрытого и неизвестного мира обнаружится, а также чудесные и доселе не проявленные дела и творения Натуры станут известны, восстанут высокопросвещенные умы и подымут павшее и несовершенное Искусство, благодаря которому человек постигнет, наконец, свое высокое и благородное происхождение, свое как Микрокосма образование и сколь далеко простирается в Натуре его Искусство.
Но вряд ли принесет все это большую пользу безрассудному миру, ибо насмешки, поругания и издевательства свирепствуют в нем более, чем когда-либо; среди ученых царит несогласие, гордость и тщеславие мешают им познать Истину, которая, по милости Божией, столь щедро открывается нам в нашем веке в книге Натуры или правилах всех Искусств, где ни одна частица не противоречит другой; они остаются при старых учениях и яркому Свету Откровения противопоставляют Папу, Аристотеля, Галена и др., чьи творения кодексу подобны, несмотря на то, что все эти авторы с радостью исправили бы свои ошибки, если бы жили в наше время. Но увещания тщетны, несмотря на то, что в теологии, физике и математике представлена Истина, старый враг в изобилии проявляет свое коварство и злобу, ибо через посредство различных мечтателей и проходимцев препятствует добрым стремлениям и делает их ненавистными.
К осуществлению замысла такого всеобщего преобразования долгое время стремился блаженной памяти высокопросвещенный и духовный отец Брат C.R., нашего братства глава и основатель. Немец по происхождению, сын бедных, но благородных родителей, воспитывался он в монастыре, куда был отдан, будучи еще пятилетним ребенком. Там приобрел он достаточное знание двух языков: греческого и латинского. В юных летах, по личному желанию своему и после усердных просьб, отправился он вместе с Братом P.A.L. в странствование ко Гробу Господню. Несмотря на то, что спутник его, не достигнув Иерусалима, скончался на Кипре, он не вернулся обратно, а решил продолжать странствие один, держа свой путь на Иерусалим через Дамаск. Болезнь задержала его, однако, на некоторое время. Благодаря своим познаниям в медицине приобрел он расположение турок, от которых узнал случайно о мудрецах, живущих в Дамаске Аравийском, их чудесном могуществе и глубоком проникновении в тайны Натуры. Под влиянием слышанного пробудился высокий и светлый дух Брата C.R.С. и достижение Иерусалима стало для него менее желанным, нежели посещение Дамаска. Желание было столь велико, что, не в силах совладать с ним, поручил он учителям Аравийским, за известное вознаграждение, переправить себя в Дамаск, куда прибыл едва шестнадцати лет от роду; здесь, по собственному его свидетельству, встретили его мудрецы, не как чужого, но как давно ожидаемого ими, причем назвали его по имени и, к немалому его изумлению, указали также на многие тайны его монастыря. Там изучил он арабский язык настолько, что смог, по прошествии одного года, передать правильной латынью librum M.[614], которую впоследствии взял с собой. Там же почерпнул он свои знания физики и математики, которые могли бы обогатить весь мир, если бы в нем было побольше любви и поменьше недоброжелательности. Через три года, с доброго согласия, отплыл он из Аравийского залива в Египет, где пробыл недолго, но зато с большим вниманием изучил растения и твари, переплыл затем все Средиземное море и прибыл в Фец, куда направили его Арабы; и в самом деле, не стыдно ли, что столь отдаленные мудрецы, вопреки клеветническим писаниям о них, не только между собой согласны, но к поучению и открытию своих тайн склонны.
Каждый год встречаются Арабы и Африканцы, чтобы узнать друг у друга, не найдено ли чего лучшего в Искусстве или не поколебал ли новый опыт их прежнее разумение; таким образом, ежегодно прибавляется нечто, посредством чего математика, физика и магия (ибо в них искуснее всего Фессийцы) становятся более совершенными, между тем как в Германии, где нет недостатка в ученых, магах, каббалистах, медиках и философах, вместо того, чтобы поддерживать друг друга, каждый из их большинства хочет один пожрать корм всего пастбища. В Феце посетил он элементарных (как их называть принято) обитателей, которые открыли ему много своего; также и мы, Германцы, могли бы много собрать своего, если бы у нас такое же согласие и большее и серьезное желание к исканию было. От этих Фессийцев узнал он, что их магия не вполне чиста, а также и каббала их религией искажена, но, тем не менее, мог он прекрасно воспользоваться ими, и нашел в них даже лучшую основу своей веры, которая как раз соответствовала Гармонии всего мира и чудесно запечатлевалась во всех периодах веков. И отсюда создалось прекрасное соединение: равно как во всяком семени заключены древо и плод, вся Вселенная заключена в малом человеке, религия которого, поступки, здравие, члены, натура, язык, слова и деяния — все звучит в одном тоне и одной мелодии согласно с Богом, небом и землею. Все, что противно этому, есть заблуждение, обман и от Дьявола, который есть первое средство и последняя причина мировой дисгармонии слепоты и невежества. И если бы кто-либо дал себе труд рассмотреть каждого отдельного человека на земле, он нашел бы, что все доброе и верное едино с ним всегда пребывает, все же прочее искажено множеством заблуждений.
Через два года, со многими ценными знаниями оставил Брат R.C. Фец и направился в Испанию, в надежде — ибо это путешествие начато было им столь удачно, — что все ученые Европы будут обрадованы возможности основывать свои дальнейшие изучения на таком достоверном фундаменте. Он вступил с учеными Испании в обсуждение, чего недостает нашим Искусствам и как помочь этому, откуда почерпнуть правильные указания для последующих веков и в чем они должны согласоваться с прошлым, как недостатки церкви и всю моральную философию исправить; он показал им новых животных, новые растения и плоды, которые не соответствовали старой философии, и дал им в руки новые правила, которые они приветствовали, но отнеслись ко всему с насмешкою; а также потому, что все это было ново, опасались они умалить значение своих славных имен, начав учиться и признав все свои прежние заблуждения; со своим они уже сжились, и оно принесло им немало. Пусть кто-нибудь другой, кому по душе беспокойство, занимается преобразованием.
Ту же самую песенку слышал он и от других наций, что еще больше побуждало его, ибо он ни в чем не ошибся, свои знания ученым благосклонно открыть, если они только пожелают взять на себя труд признать для всех факультетов, всех наук и искусств, а также и всей Натуры известные непреложные само-истины, которые, как он знал, подобно сфере, все к одному центру устремляются, и только для мудрецов, как это у Арабов в обычае, за правило служат; также должно создать в Европе общество, имеющее золото и драгоценных камней достаточно, чтобы их королям, как достойный дар, предложить и при котором воспитывались бы правители, дабы знать все, до чего Господу Богу человека допустить угодно было, и которых в нужде (подобно языческим оракулам)[615] отчасти вопрошать могли бы. Воистину должны признать мы, что Вселенная тогда уже таким великим переворотом была чревата, созидала рождение, производя славных и безупречных героев, — что мощно сломили мрак и варварство и нам, слабейшим, лишь настойчиво вперед двигать заповедали, — бывших, несомненно, вершиною огненного треугольника, чей пламень, чем дальше, тем ярче светит, и воистину последний пожар в мире зажжет. Подобный, по призванию своему, был и Теофраст[616], хотя он в братство наше и не вступил, но книгу М. прилежно читал и тем свой острый ум воспламенил. Но прекрасному стремлению сего мужа препятствовало засилье ученых и умников настолько, что размышлениями своими о Натуре он никогда с другими мирно не делился и посему в писаниях своих больше над остроумцами издевался, нежели себя представил. Но все же должную Гармонию изрядно у него находим, каковую, несомненно, открыл бы он ученым, если бы их большого Искусства, а не мелкого издевательства достойными считал; так же как и жизнью своею, вольной и невоздержанной, время терял и миру его безрассудную радость оставил.
Вернемся, однако, к нашему возлюбленному отцу Брату C.R., который, после многих утомительных странствований и неосуществившихся благих предначертаний, вернулся снова в Германию, которую он (за близкогрядущие перемены и чудесную и опасную борьбу) сердечно любил. Там, несмотря на то, что он своим Искусством, особенно же превращением металлов, мог бы блистать, предпочел он небо и его граждан людям; затем, во всем блеске, построил себе все же уютное и чистое жилище, в котором он свои странствования и философию снова обдумал и им некий мемориал составил. В этом доме надлежало ему посвятить изрядное время математике и многие чудесные инструменты из всех частей этого Искусства изготовить, от которых нам, как это будет видно из дальнейшего, лишь очень немногое осталось. Через пять лет возвращается он снова к мысли о желанном преобразовании, и так как он помощи и содействия других был лишен, сам же трудолюбив, ловок и терпелив был, то и решается он с немногими помощниками и сотрудниками самостоятельно попытаться таковое предпринять. Для этого привлек он из своего первого монастыря (ибо к нему особое расположение питал) троих из своих собратий Бр. G.V., Бр. I.A. и Бр. I.O., которые, не более чем в то время обычно было, в Искусствах знаний имели. Этих троих обязал он быть в высшей степени верными, скромными и молчаливыми и все его указания с великим усердием записывать, чтобы потомки, которые в будущем через особое откровение к этому допущены будут, ни единым словом и ни единою буквою не были бы обмануты. Таким образом составилось братство R.С., вначале из четырех лиц, и их трудами были выработаны магический язык и письмо вместе с пространным словарем, ибо мы и сегодня ими, во славу и хвалу Божию, пользуемся и большую мудрость в них находим. Они исполнили также и первую часть книги М., но, так как работа стала для них слишком большой, и невероятный наплыв больных препятствовал им, а также и новое здание, Sancti Spiritus[617] названное, к тому времени закончено было, решили они еще других в свое общество и братство привлечь: для этого были избраны Бр. R.C., сын брата его покойного отца, Бр. В., искусный живописец, G. и P.O., их писцы, все Немцы, исключая I.A., всех общим числом восемь. Все они были хорошего происхождения и девственники согласно обета. Они собрали в один том все, что только человек для себя пожелать, на что надеяться и о чем мечтать может; хотя мы и охотно признаем, что мир в продолжение ста лет изрядно улучшается, все же мы твердо убеждены, что наши само-истины вплоть до последнего дня непоколебимы останутся, и ничего другого не узнает мир даже в самом высшем и последнем своем возрасте, ибо наши Круги[618] начали быть с того дня, когда Бог сказал: да будет, и кончатся, когда Он скажет: да погибни, но часы Божии бьют каждую минуту, тогда как наши — едва полные часы. Мы твердо верим, также, что если бы наши возлюбленные отцы и братья нашему настоящему яркому Свету причастны были, смогли бы они лучше прижать к стене Папу, Магомета, ученых писак, художников и софистов и свое помощи исполненное побуждение не только воздыханиями и пожеланиями свершения проявить. Когда эти восемь братьев все таким образом устроили и привели в порядок, что никакой особой работы более не требовалось, и каждый из них совершенного знания тайной и открытой философии достиг, не пожелали они дольше оставаться вместе, но, как это было уговорено с самого начала, отправились они в разные стороны не только для того, чтобы наши само-истины учеными пристальнее рассмотрены могли бы быть, но и для того, чтобы, в случае если их наблюдения в других странах какие-либо заблуждения обнаружат, они их друг другу сообщить могли бы.
Их уговор был таков: 1) никто не должен заниматься иной профессией, как только лечением больных, и все это безвозмездно; 2) никто не должен носить какого-либо особенного платья, указывающего на братство, но применяться к обычаю страны; 3) каждый из братьев должен ежегодно в Христов День явиться в S. Spiritus или известить о причине его отсутствия; 4) каждый из братьев должен искать достойного человека, который по кончине этого брата мог бы занять его место[619]; 5) слово R.C. должно быть их знаком, лозунгом и характером; 6) братство должно сто лет пребывать в тайне. Эти шесть положений обещали они соблюдать, и пять братьев удалились, только В. и D. оставались у отца Бр. R.C. еще один год, и когда они тоже удалились, остались у него двоюродный брат его и Бр. F.O.; таким образом, он до конца дней своих имел всегда двоих при себе. И, несмотря на то, что церковь еще не была очищена, знаем мы, какого они о ней мнения держались и чего с вожделением ждали. С радостью собирались они каждый год все вместе и давали обстоятельный отчет о всем свершенном ими. Тогда воистину было отрадно слышать повествование, правдиво и без прикрас изложенное, о всех чудесах, рассыпанных Богом здесь и там в мире. Также общеизвестно и достоверно, что такие личности, Богом и всеми небесными Силами вместе собранные и избранные из мудрейших мужей, которые в каких-либо веках жили, в величайшем единении, величайшей молчаливости и посильной благотворительности, как между собой, так и между другими живут. Таким похвальным образом протекала их жизнь, и, несмотря на то, что их тела от всех болезней и страданий свободны были, души их не могли перешагнуть назначенной грани растворения. Первым из этого братства был I.O., который умер в Англии, как ему предсказал задолго до этого Бр. С.; он был очень силен в каббале и особенно учен, о чем его книга, H. названная, свидетельствует. В Англии могут многое о нем рассказать, особенно потому, что он молодого графа Норфолка исцелил от проказы. Они решили, что, поскольку это будет возможно, гробницы их должны оставаться скрытыми; таким образом, нам до сего дня неизвестно, где таковые находятся, но место каждого из них занято достойным последователем. Все же должны мы, к славе Божией, открыто признаться, что, что бы нам в книге M. тайно ни открывалось (и несмотря на то, что мы Образ всего Мира и его искажения воочию видеть можем), для нас остаются неизвестными наши несчастья и наш смертный час, нам Великим Господом назначенный, к которому Он нас постоянно готовыми находить желает. Об этом, однако, подробнее в нашем Confiessio[620] [сказано], в котором мы также и 37 причин указываем, почему мы теперь наше братство обнаруживаем и такие высокие тайны добровольно, без принуждения и безвозмездно предлагаем, а также обещаем больше золота, нежели король Испании из обеих Индий добывает; ибо Европа чревата и родит сильное дитя, которое от восприемника большое богатство получить должно.
После смерти Бр. О. не бездействует Бр. R.C., но собирает, скоро, как только возможно, всех остальных вместе, что и заставляет нас предполагать, что тогда-то, должно быть, только и была построена его гробница. Хотя мы (младшие) до сих пор и не знали, когда умер наш возлюбленный отец R.C., и ничего другого, кроме одних имен основателей и всех последователей, до наших дней не имели, все же могли мы некую тайну припомнить, которую А., последователь D., последний из второго круга и со многими из нас живший, в скрытых речах о 100 годах, нам, третьему кругу, доверил. Все же должны мы признаться, что после смерти А. никто из нас ничего большего о Бр. R.C. и его первых собратиях не знал, чем об этом в нашей философской библиотеке сообщалось, среди которой наша Axiomata[621] за самую благородную, Rotae Mundi[622] за самую искусную и Proteus[623] за самую полезную нами почитались. Таким образом, достоверно не знаем, обладали ли те, второго круга, одинаковой мудростью с теми из первого и до всего ли допущены были. Должно, однако, благосклонному читателю еще раз напомнить, что все, что мы теперь о его, Бр. R.С., гробнице не только узнаем, но и открыто здесь объявляем, Богом предусмотрено, дозволено и связано, чему мы с такой верностью следуем, — и где нас со смирением и христианским ответом вновь встретят, мы не убоимся наше Крещение и Принятие содружества нашего и еще, что бы от нас ни захотели, в открытой печати объявить.
Истина и основательное повествование об обретении высокопросвещенного мужа Господня Бр. C.R.C. таковы: после того как А. в Галлии Нарбонской блаженно почил, место его занял наш возлюбленный брат N.N., который, прибыв к нам и священную клятву Веры и Молчания взяв, доверчиво поведал нам, что А. подал ему надежду, что это братство вскоре не таким тайным, но всей родине германской нации пособствующим, нужным и славным будет и которого он, в своем звании, нисколько не постыдится. В следующем году, выдержав школьное испытание и, сообразно обстоятельствам, с полным дорожным снаряжением или Сумою Фортуны отбыть намереваясь, задумал он (ибо был хорошим зодчим) кое-что в этом строении переделать и более приспособить. Работая над этим обновлением, дошел он и до памятных досок, из желтой меди вылитых, которые имена каждого из братства вместе с немногим другим содержали; их хотел он под другие, более приспособленные, своды перенести. В той же [с именем] Бр. R.C. — (где он умер и в какой стране мог бы быть погребенным, было оберегаемо старшими, нам же было неизвестно) — в ней торчал крепкий гвоздь, который был с усилием вырван вместе с изрядным куском тонкой стены или штукатурки, скрывавшей тайную дверь, которая теперь, неожиданно, стала видна. С радостью и нетерпением удалили мы оставшуюся штукатурку и очистили дверь, над которой большими буквами было написано:
Post CXX Annos patebo[624]
Внизу же стояла старая надпись года. Поблагодарив Бога, в тот же вечер (желая сначала получить указания в нашей Rota) прекратили работу. В третий раз ссылаемся мы на Confessio, ибо все, что мы здесь открываем, должно служить в помощь достойным, для недостойных же должно, по воле Божией, быть мало полезным, ибо, равно как наша дверь через много лет столь чудесным образом отверзлась, должна и Европе открыться дверь, которая уже видима (ибо штукатурка удалена) и многими с вожделением ожидается. Наутро отперли мы дверь и увидели склеп с семью сторонами и углами; каждая сторона длиною 5 локтей и высотою 8 локтей. Этот склеп, хотя никогда не бывал освещаем солнцем, был ярко освещен другим, как бы подражавшим солнцу, которое стояло в центре потолка; посередине, вместо могильного камня, был круглый престол, покрытый листом желтой меди, на котором стояла надпись: А.С.R.C. Hoc universi compendium vivus mihi sepulhrum feci[625], и вокруг первого обода или края стояло: Jesus mihi omnia[626]. В средине были четыре фигуры, заключенные в круге, над которыми стояли следующие надписи:
1. Nequaquam Vacuum.
2. Legis Jugum.
3. Libertas Evangelii.
4. Dei gloria intact[627].
Все это ярко сверкало, как семь сторон, так те и другие треугольники.
Тогда опустились мы все разом на колени и возблагодарили Единого Всеведающего, Единого Всемогущего и Вечного Бога, научившего нас большему, чем весь человеческий разум изобрести мог, да будет прославлено Его Имя.
Этот склеп разделили мы на три части: потолок, или небо, стены, или стороны, пол, или основание; о небе, на этот раз, вы больше от нас ничего не услышите, кроме разве того, что оно от каждой из семи сторон по направлению к светлому центру на треугольники разделено было (что же в них содержалось, должны вы сами (вы, благодать ожидающие) — если Господь сподобит — воочию видеть). Каждая сторона была разделена на десять квадратных пространств, каждое со своим изображением и изречением, которые, все прилежно и правильно срисованные, к нашей книжечке Concentration приложены. Основание в свою очередь было также разделено на треугольники, но, так как на нем низшего князя царство и сила описаны, не может быть оное для злоупотребления лицемерному и безбожному миру передано, но тот, кто небесное противоядие знает, может безбоязненно и безопасно попереть главу древнему злому змию, чему наш век весьма благоприятствует. Каждая сторона имела дверь в хранилище, где лежали различные вещи, особенно же наши книги, которые мы и прежде имели, и среди них Vocabulario Theoph: P: ab. Но:[628] и те, о которых мы ежедневно без лжи повествуем. В них нашли мы его «Путевые описания» и «Жизнеописание», из которых большая часть настоящего почерпнута. В одних хранилищах были зеркала различных свойств, в других колокольчики, горящие лампады, некие чудесные и искусные песнопения, все таким образом вместе собранное, что даже через много сотен лет, если бы весь орден, или братство, погибло бы, все могло бы, благодаря одному такому склепу, вновь быть восстановлено. Так как мы еще не видели останков нашего заботливого и мудрого отца, то отодвинули для этого в сторону престол, благодаря чему могла быть поднята тяжелая медная доска, и нам предстало прекрасное и славное тело, невредимое и без признаков разложения, как его здесь на изображении, весьма похожем во всем одеянии и принадлежащих знаках, видеть можно. В руке держал он книжку, золотом на пергаменте написанную, G. названную, что после Библии наше высшее сокровище составляет и, понятно, не должно мирскому рассмотрению легкомысленно подвергаться. В конце этой книжки находилось следующее свидетельство: «Семя, в сердце Иисусово посеянное. — Здесь пребывает тело C. Ros. C., на 120 лет от очей мира и друзей его Скрытое[629]. Он происходил из благородной и знатной фамилии Германии и был великим мужем своего времени. Благодаря божественному откровению, возвышенному обучению и неустанному стремлению нашел он доступ ко всему тайному и скрытому в небе и человеческой природе. Во время своих странствий по Аравии и Африке собрал он сокровище, превыше королевского и царского, что для его времени, однако, не было предназначено и потому им для более достойного потомства скрыто было. После того как он его правильно поставил, верных и друг с другом надежно связанных наследников своих высоких знаний и своего имени назначил, а также обновленный мир построил, что всем движениям Вселенной вполне гармонично соответствовал и, наконец, всему случившемуся, случающемуся и долженствующему в будущем случиться надежную сводку составил, после того как более ста лет длилось его паломничество, без предшествующих недугов и болезней, которых он на своем теле никогда не испытывал, и ни от чего другого не страдая, но по зову Духа Божия — приняв объятие и последнее лобзание от своих братьев — он, наш возлюбленный отец, дражайший брат, вернейший учитель и искреннейший друг, отдал свою просвещенную душу в руки Господа и Творца своего»[630].
Внизу подписались:
1. Бр. I.A., Бр. С.Н. тогдашний, по выбору, глава братства.
2. Бр. G.V., M.P.G.
3. Бр. R.C. младший, наследник Духа Святого.
4. Бр. В.М., Р.А., живописец и архитектор.
5. Бр. G.G., M.P.I., каббалист.
Из второго круга:
1. Бр. Р.А., последователь, Бр. I.O., математик.
2. Бр. D., последователь брата P.D.
3. Бр. R., последователь со Христом, торжествующего, отца С.R.C[631].
В конце стоит:
Из Бога рождаемся, во Иисусе умираем, Духом возрождаемся[632].
Значит, уже тогда скончались Бр. I.O. и Бр. D. Где же находятся их гробницы? Однако мы ничуть не сомневаемся, что старший брат Senior совершенно особо погребается или даже скрывается, мы надеемся также, что этот наш пример и других побуждать будет усерднее об их именах, которые мы с этой целью открываем, расспрашивать и их гробницы разыскивать, ибо они [имена] большей частью благодаря медицине старым людям еще известны и [ими] прославляются. Тогда, быть может, возрастут наши сокровища или, по меньшей мере, будут лучше пополнены. Что же до малого мира (minutum mundum) касается, то его нашли мы скрытым в другом престоле, значительно более прекрасным, чем самый разумный человек его себе мог бы представить; но оставляем мы несрисованным, до тех пор, пока нам на это наше искреннее откровение доверчиво отвечено не будет. Тогда покрыли мы все опять плитами, поставили на них престол, снова заперли дверь и запечатали нашей печатью.
Повинуясь указанию наших Rotae, обнародовали мы об этом некоторые книги, и в числе их М. принадлежащие (что вместо некоторых домашних забот славным М.Р. сочинены были), и, наконец, вновь расстались друг с другом, оставив наши сокровища во владение естественных наследников.
Ожидаем, таким образом, какой отзыв, суждение или приговор от ученых и неученых нам на это последует.
Хотя мы и прекрасно знаем, что независимо от нашего стремления или упования других всеобщее божественное и человеческое преобразование свершится, все же не безразлично, что солнце, перед своим восходом, бросит на небо яркий или темный свет, и между тем те немногие, что объявятся, соединятся, наше братство числом и достоинством умножат, желанному и Братом R.C. предписанному философскому уставу счастливое начало положат, или даже нашим сокровищем (что никогда не может быть истощено) в смирении и любви с нами вместе насладятся, тяготу этого мира усладят, и таким образом средь чудес Божиих слепо блуждать не будут. Дабы каждому христианину было известно, какой веры и религии мы придерживаемся: исповедуем и признаем мы Иисуса Христа, как это в последнее время, особенно в Германии, ярко и ясно сложилось и сегодня (исключая всех мечтателей, еретиков и ложных пророков) в известных и избранных странах сохраняется, защищается и проповедуется; также приемлем оба таинства, как они со всеми речениями и обрядами первой обновленной церковью установлены. В политике признаем мы Римское царство и четвертую монархию как за нашу, так и всех христиан главу. Хотя нам и известно, что за перемены предстоят и о них другим ученым Господним очень охотно сообщить желаем, ни один человек, кроме Единого Господа, эту нашу рукопись, что в наших руках находится, недостойным для пользования доступной сделать не заставит. Будем, однако же, при добрых обстоятельствах, скрытую помощь оказывать, после того как нам Господь позволит или предостережет, ибо наш Бог не слеп, как языческая Fortuna, но украшение церкви и честь храма [составляет], наша философия не есть нечто новое, но та же, что получил Адам после своего падения, в которой и Моисей и Соломон упражнялись, а посему не должна она весьма колебаться или опровергать противные мнения, но, ибо истина едина и всегда себе самой равна, особенно же с Иисусом во всех частях и всех членах сходна, подобно тому, как Он есть образ Отца, так и она есть Его отображение; из сего не должно следовать: верное в философии ложно в теологии, но в чем Платон, Аристотель, Пифагор и др. сошлись, чему Енох, Авраам, Моисей и Соломон начало положили, особенно же с чем великая и чудесная книга Библия согласуется, все это соединяется и образует сферу, или глобус, все части которого на равном расстоянии от центра отстоят, как об этом в Христианской Симфонии подробнее и пространнее [сказано]. Что же до безбожного и проклятого златоделания касается, которое, особенно в наше время, такую силу приобрело, что, во-первых, многим алчным виселицы достойным пройдохам дало возможность большое озорство учинить и любопытством и доверием многих злоупотреблять, а также многие почтенные особы отныне полагают, что превращение металлов есть вершина и могущество философии, всячески способствуют этому, и даже самый Бог им особенно любезен, поскольку Он большие куски и слитки золота творить может, к чему они необдуманной мольбой или же душу раздирающим кислым видом Всеведающего и в сердцах читающего Бога склонить уповают. И так мы открыто утверждаем, что сие ложно, и для истинных философов злато делание есть нечто неважное и побочное, ибо им ведомы тысячи подобных еще лучших вещей. И вместе с нашим дорогим отцом C.R.C. говорим мы: тьфу, золото, сколько бы ни было золота! ибо тот, кому открыта вся натура, радуется не тому, что он делать D [злато. — Прим. ред.] может, и не тому, как говорит Христос, что ему дьяволы послушны, но тому, что он небо отверстым и Ангелов Божиих восходящими и нисходящими видит и что имя его вписано в Книгу жизни. Также указываем мы на книги и фигуры под химическими названиями и в поругание славы Божией вышедшие, кои мы своевременно назовем и чистосердечно список их обнародуем. И просим всех ученых с такими книгами большую осторожность иметь, ибо враг не перестанет сеять свои плевелы до тех пор, пока их Сильнейший не истребит. И так приглашаем мы, согласно мнению Бр. C.R.C., мы, его братья, еще раз всех ученых в Европе, что наше Откровение (на пяти языках разосланное) вместе с латинским Confessio читать будут, с благорассудной душой нашу просьбу исполнить, искусства свои как можно точнее и зорче проверить, настоящее время с усердием обозреть и тогда свои соображения или в виде общего мнения, или порознь нам письменно, в печати объявить; тогда, несмотря на то, что мы не называем наше настоящее место собрания, все же дойдет до нас приговор каждого отдельного, на каком бы языке он ни был. Это, однако, говорим мы наверное: что всякий, кто отнесется к нам серьезно и искренно, в своей душе, теле и имени возрадуется; если же чье сердце лживо или только к наживе стремится, тот прежде всего не принесет нам вреда, себя же в сильнейшую и крайнюю погибель ввергнет. Здание же наше, если даже сотни тысяч людей его вблизи видеть будут, должно для безбожного мира вовеки нетронутым, неразрушенным, невидимым и даже совсем скрытым пребывать.
Под сенью крыл Твоих, Иегова!
Все то, касательно нашего Братства, что доведено до всеобщего сведения через прежде изданное «Откровение», да не будет никем принято и сочтено за безделицу и выдумку, а паче того — как возникшее будто бы по нашей собственной воле и усмотрению.
По достижении миром преддверия Субботы[634], завершении им своего периода, иначе — оборота, когда он спешит к своему началу, то не кто иной, как Господь Иегова, обращает ход Натуры, и тогда все, что было обретено ценою великих усилий и неустанного труда, открывается не имеющим о том ни сведения, ни даже простого понятия; тем, кто свободною волею того желает, бывает оно вчинено как бы силою, а равно и тем, кто тому противится, — дабы жизнь благочестивых облегчить от тягот и защитить от ударов непостоянной Фортуны, злым же — умножить и увеличить присущее им зло и следуемое за то наказание.
Хотя нас самих никто не может заподозрить в самомалейшей ереси или в злоумышлении на мировое Державство, мы обличаем раздающуюся с Востока и Запада (разумей: от Магомета и Папы) хулу на Господа нашего Иисуса Христа и по доброй воле вручаем и открываем верховному главе Римской империи свои молитвы, тайны и великие сокровища.
И все же сочли мы удобным и полезным ради всех ученых нечто разъяснить и прибавить к тому, что было изложено в «Откровении» через меру таинственно и темно либо, по известным причинам, вовсе опущено, — надеясь обрести в них еще больших приверженцев, сторонников и доброжелателей.
Что же принадлежит до изменения и усовершения Философии, то мы не однажды (а сколько потребно для настоящего) заявляли, что она именно больна и во многом ущербна, и хотя большей частью утверждается, будто бы она (уж не знаем почему) находится в крепости и здравии, мы нимало не сомневаемся, что она лежит при последнем издыхании и близка к своей кончине.
Но, как всем известно, на том самом месте, где возникает прежде неведомая болезнь, там Натура сама изыскивает надлежащее средство, и потому для уврачевания столь многих недугов, коими страдает Философия, найдутся подходящие и для нашего Отечества не чрезмерно отяготительные снадобья, через которые она обновится и явит себя.
Мы же исповедуем не иную какую Философию, как ту, которая есть глава, сумма, основание и предмет всех факультетов, наук и искусств и которая — если размыслить о нашем веке — имеет в себе много от Теологии и Медицины, но мало от Юриспруденции, и прилежно исследует Небо и Землю, а говоря кратко, в должной мере возглашает и являет Человека, — о чем всем ученым, которые пожелают братски к нам примкнуть, будут нами поведаны тайны, коих чудеснее они прежде не знали и не ведали, не имея для того ни веры, ни слов.
Посему, выражаясь кратко, мы намерены всячески стараться не о том только, чтобы удивлять всех нашим приглашением и увещеванием, но чтобы каждый знал, что, сколь истово ни почитаем мы свои секреты[635] и тайны, все же приемлем за должное довести до многих знания и сведения о них.
Ибо надлежит нам помнить и верить в то, что сие наше никем не чаянное предложение имеет возбудить многоразличные помыслы в людях, коим Miranda sextae aetatis[636] вовсе еще неизвестны и кои по причине, что мир течет, чтут вещи, имеющие быть, наравне с настоящими, и всякая нелепица нашего времени бывает им в преткновение, так что они бредут по миру как слепцы, которые даже и в ясный день могут различать и познавать вещи разве на ощупь.
Что касается до первой части[637], то мы думаем, что размышления, познания и исследования нашего возлюбленного Христианского Отца[638] о всем том, что от начала мира было измышлено, открыто, создано, улучшено и до сего дня распространено и привито, — будь то человеческим разумом, помощью Божественного Откровения, или служением Ангелов и Духов, или остротою рассудка, или путем продолжительного наблюдения, навыкания и опыта, — сии его труды столь прекрасны, превосходны и славны, что, исчезни все книги и, Божиим попущением, погибни все писания et totius rei literariae[639], то потомство лишь благодаря им смогло бы положить новое основание и возвести новую твердыню и крепость Истины, что и было бы исполнить удобнее, нежели, начав было рушить и покидать старое безобразное здание, приступить затем к расширению его преддверия, или прорубать окна в покои, или перестраивать двери и переходы, во всем повинуясь своей прихоти.
Кому же не придется по нраву, чтобы все сие было сообщено всем и каждому и не береглось бы и не хранилось отныне, наподобие некоего драгоценного убора, до назначенного срока?
Ужели не захотим всем сердцем приникнуть и прилепиться к единой истине (каковую люди столь много ищут на ложных путях и кривых дорогах), ежели бы Богу оказалось угодным возжечь для нас шестой светильник?[640] И не благом ли то сочтется, чтобы нам не страдать и не терпеть более от голода, нищеты, недугов и старости?
Не драгоценно ли было бы всякий час жить так, словно ты прежде жил от начала века и имеешь в будущем жить до конца оного?
Не прекрасно ли пребывать в таковом месте, чтобы народы, жительствующие в Индии по ту сторону реки Ганга, не могли бы скрыть от тебя ни единой тайны, ни населяющие Пер — держать в секрете свои советы?
Не драгоценно ли — читать в единой книге, и притом постигать и помнить, все то, что изо всех иных книг, прежде и ныне бывших, а также имеющих выйти, когда-либо было или будет извлечено и усвоено?
Сколь усладительно будет, если запоешь так, что не скалы увлекать будешь, но перлы и драгоценные камни, не зверей приманивать, но духов, и не Плутона растрогивать, но земных владык.
О, люди! Божий совет постановил совсем иначе, рассудив ныне умножить и увеличить наше Братство, к чему и приступаем мы с толикою радостью, с какою прежде получили сие великое сокровище, не имея ни заслуги, ни надежды, ни помышления о том, — и теперь с тою же верностию думаем пустить его в дело, от чего не может уклонить нас ни жалость, ни сострадание к детям нашим (коих иные между членами Братства у нас имеют), ибо мы знаем, что нечаянное имение ни унаследовано, ни как иначе присвоено быть не может.
Если же кто, с другой стороны, станет жаловаться на наш произвол, что мы свободно и без различия раздаем сокровища наши, не оказывая преимущества благочестивым, ученым и мудрым, ниже княжеским персонам перед простым людом, — таковым мы не станем ничего возражать, ибо это не простое и не легкое дело, скажем лишь, что наши секреты и тайны открыты и ведомы отнюдь не всем, хотя «Откровение» выпущено уже на пяти языках и доступно каждому, ибо мы отчасти знаем, что неучи и stupidaingenia[641] не подумают о том дознаться и озаботиться. Мы же судим и узнаем достоинства вступающих в Братство не человеческим тщанием, но мерою бывающих нам откровений и явлений, и потому тысячу раз могут недостойные звать и кричать, тысячу разбиться к нам и предлагать себя, — Бог замкнул наш слух, дабы нам их не слышать, и обернул нас облаками своими, дабы не учинили и не совершили над нами, рабами его, никакого насилия; и так мы остаемся никем не видимы и не знаемы, разве у кого глаза подобны орлиным.
Надлежало учредить «Откровение» доступным каждому на родном его языке, дабы не оказались обделенными и лишенными знания истины все те, коих Бог (невзирая на их неученость) не исключил из блаженства сего Братства, каковое следует разделить по степеням, подобно как жители ДАМКАРА[642] аравийского имеют порядок политический весьма отличный от остальных арабов, ибо управляются немногими мудрыми и разумными людьми, коим от царя дозволено издавать особые законы. По сему же примеру следует и нам в Европе установить правление (коего описание оставлено нам нашим Христианским Отцом) — когда должно будет тому случиться и совершиться; и от того дня Труба наша вострубит во всеуслышание зычно и громогласно, дабы то, о чем теперь тайно утверждают немногие, в образах и фигурах, было возвещено свободно и открыто и исполнило бы собою весь мир. И как прежде многие благочестивые люди, в отчаянии тайно язвившие папскую тиранию, с великой истовостью и небывалым пылом низвергли Папу с немецкого престола и растоптали его пятою[643], так последнее его падение отсрочено доныне, и удел его — быть разодранным в клочья когтями, и ослиный крик его заглушится новым гласом[644]. И о том, как мы знаем, достаточно известно и открыто многим ученым в Германии, чему свидетельством их писания и тайные поздравления.
Теперь могли бы мы изложить и рассмотреть все случившееся за время от 1378 года по Р. Х., в коем родился наш Христианский Отец[645], до сего дня, и рассказать, какие перемены в сем мире он видел за сто шесть лет своей жизни[646] и о чем завещал нашей Братии размыслить после своей блаженной кончины. Но краткость, которою мы обязались, удерживает нас от этого до более удобного времени. Теперь же — для всех тех, кто не презирает наше прошлое, — достаточно и того, что мы бегло упомянули, дабы облегчить им путь для более тесного знакомства с нами.
Если же кому дано видеть и, для собственного научения, использовать великие буквы и знаки, которые Господь Бог начертал на храмине Неба и Земли и не единожды обновлял через применение мирового Державства, — тот, хотя сам того не зная, уже принадлежит нам. А так как нам ведомо, что такой не пренебрежет нашим призыванием, то пусть он отложит всякий страх, ибо мы обещаем и говорим открыто, что ничья искренность и надежда не будут обмануты, если кто, под печатью тайны, обратится к нам и возжелает нашего братства.
Но лицемерам и ищущим чего-либо иного, помимо мудрости, мы теперь же не обинуясь заявляем и свидетельствуем, что невозможно нас объявить или предать, а тем паче погубить, без воли Божией, сами же они непременно подвергнутся каре, как о том сказано в нашем «Откровении», и падут жертвою собственных своих безбожников, наши же сокровища останутся невредимыми, покуда не придет Лев и не потребует их себе, дабы, взяв, использовать их для утверждения своего царства.
Здесь надлежит нам сказать и довести до всех, что Богом решено твердо и неотменно — даровать и послать миру перед его кончиной, которая не замедлит вскоре последовать, таковую истину, свет, жизнь и славу, каких Адам, первый человек, лишился еще в Раю, отчего потомство его, как и сам он, оказалось ввержено и погружено в страданье.
И тогда исчезнут и прекратятся всяческое раболепство, лицемерие, ложь и тьма, которые при обращении огромного мирового шара постепенно вникли в человеческие искусства, труды и державы, тем немало их омрачив, ибо породили столь великое множество разных ложных мнений и ересей, что даже и мудрейшие затрудняются в выборе и не могут распознать одно от другого, так как, с одной стороны, бывают удержаны и введены в заблуждение авторитетом философов и ученых, с другой же — утверждениями опыта. И как скоро взамен всего этого будут установлены верные и надежные правила, то свершившие сие сподобятся великой благодарности, однако весь указанный труд должно отнести на счет благословения, ниспосланного на наш век.
Так как мы охотно признаем, что многие достойные мужи своими писаниями весьма способствуют приближению Реформации, то не имеем желания приписать эту честь себе, словно бы нам одним был вверен и поручен столь великий труд. Но мы свидетельствуем и исповедуем открыто, вслед за Господом нашим Иисусом Христом, что скорее камни возлетят и предложат себя в помощники, нежели окажутся в недостатке делатели и исполнители Божественного совета[647].
К тому же Господь Бог уже посылал неких вестников, свидетельствующих Его волю, каковы суть новые звезды на небесах в созвездиях Serpentario и Cygno[648], явившие и показавшие себя всем как непреложная Signaculae[649] великих и важных событий. Так, сокровенные тайные письмена и символы служат для всех вещей, отысканных человеком, к тому, чтобы великая книга Натуры, открытая всем людям, лишь немногими могла бы быть прочитана и понята. Ибо, как человеку даны два органа для слышания, два — для видения и два — для обоняния и лишь один — для речи и напрасно было бы ожидать от ушей — слов, а от глаз — слышания, подобно тому и между времен и веков были такие, что видели, другие — что слышали, обоняли или осязали на вкус. Теперь же не в долгом времени предстоит то, что в чести окажется язык, которым высказано будет все, что еще прежде было увидено, услышано или почуяно обонянием, — но не раньше, чем мир очнется от своего тяжелого сна и с отверстым сердцем, непокрытой головой и босыми ногами выйдет на встречу восходящему Солнцу.
Те же самые письмена и буквы, что Бог повсюду рассеял в Священном Писании, запечатлел Он явно и на своем чудесном творении — на Небе, на Земле и даже на всех зверях, дабы как математики и астрономы загодя усматривают грядущие затмения, так же и мы могли бы верно предуказывать и распознавать помрачения Церкви и сколько им надлежит длиться; из тех же букв составили и мы свои магические письмена и придумали новый язык, удобный для выражения и изъяснения натуры всех вещей. Так что нет ничего удивительного в том, что мы не столь искусны в других языках, о коих знаем, что они не идут в сравнение с языком наших праотцев, Адама и Еноха[650], и были совершенно сокрыты после Вавилонского смешения.
Однако не станем забывать и того, что наш путь преграждают еще некие орлиные перья[651], и потому обращаемся ко всем с увещеванием — прилежно и неустанно читать Святую Библию, ибо кто полагает в том все свое удовольствие, пусть знает, что тем самым приуготовляет себе верный путь в наше Братство.
Ибо, так как вся сумма и все содержание нашего устава состоит в том, чтобы никакая буква мира не была бы упущена и оставлена без внимания, то все, сделавшие сию единственную книгу, Святую Библию, уставом своей жизни, целью и предметом своего учения, а также видящие в ней компендий и содержание всего мира, уже весьма нам близки и сродны. Но не из-за того, чтобы она всегда была у них на устах, а потому, что они умеют приложить и применить ее истинный разум ко всем временам и векам мира. Ибо у нас и самих нет в обычае, чтобы проституировать и опошлять Святое Писание, как делают это многие и многие толкователи, из коих одни перекраивают его по своему разумению, иные же возводят напраслину, злонамеренно сотворяя восковое чучело на потребу теологам, философам, врачам и математикам, против коих всех мы открыто свидетельствуем и исповедуем, что от начала мира у людей не было книги превосходнее, прекраснее, чудеснее и полезнее, чем Святая Библия. Блажен, кто имеет ее у себя, еще блаженнее — кто ее прилежно читает, но стократ блаженнейший тот, кто всю ее изучил и правильно понял, таковой более других приблизился к Богу и Ему уподобился.
Все то, однако же, что сказано в «Откровении» касательно мошенников, против превращения металлов[652] и о высшей в мире медицине, следует понимать так, что мы отнюдь не преуменьшаем и не пренебрегаем сей величайший дар Бога. Но поскольку она не всегда несет с собою знание Натуры, та же являет нам не одну только медицину, но и бесчисленное множество других тайн и чудес, то нам надлежит обратиться к усердному изучению Философии. И потому превосходнейшие умы не прежде должны обратиться к тинктуре металлов, чем изрядно натореют в познании Натуры.
Поистине ненасытный скаред был бы такой человек, который, зайдя столь далеко, что стал бы не подвержен нищете, напастям и немощам, и, возвысясь над остальными людьми, получил бы власть над тем, что всех мучает, язвит и тревожит, — и после того вновь предался бы таким ничтожным вещам, каково строительство домов, ведение войн и прочие дела гордыни, — и все лишь потому, что имел бы неисчерпаемый кладезь золота и серебра.
Богу же угодно совсем иное, ибо Он возвышает малых, а гордых с презреньем отвергает[653], тихим и немногословным посылает Он святых Ангелов, чтобы говорили с ними, а краснобаев изгоняет в глушь и пустыню, и сие есть достойная мзда римскому совратителю, изрыгающему хулу на Христа, да еще при ясном свете дня, ибо в Германии все его мерзости и отвратительные каверзы уже раскрыты. Он же не желает отречься от своей лжи — да исполнится мера его греха и постигнет его своевременная кара. Ибо придет день, когда уста сей гадины будут преграждены и тройной рог ее[654] — сокрушен, о чем при нашей встрече будет сказано более открыто и ясно.
Завершая наше «Исповедание», усердно вас увещеваем: отложить если не все, то хотя бы большую часть книг ложных Алхимиков, которые почитают простой забавой и шуткой — использовать всуе святую и всехвальную Троицу[655] или с помощью диковинных фигур и темных таинственных речей морочить людей и выманивать деньги у простецов, ибо вышло в свет уже немало подобных книг, которые враг человеческого благоденствия рассеивает среди добрых семян, дабы труднее было уверовать в Истину, ибо она проста, легка и незатейна, тогда как ложь — пышна, величава, горда и всегда бывает украшена как бы убором божественной и человеческой премудрости.
В ком есть разум, тот да бежит подобных книг и обратится к нам: мы не желаем ваших денег, но доброй волею хотим уделить вам от наших великих сокровищ, не ищем отнять ваше имение с помощью выдуманных ложных тинктур, но хотели бы разделить с вами наши богатства. Не иносказаниями говорим мы с вами, но обещаем привести вас к простому и понятному толкованию, объяснению и познанию всех тайн. Мы не набиваемся к вам, но сами приглашаем вас в свои дома и дворцы, что превыше царских хором, и все это — не по собственному побуждению, но (да будет вам известно) наущением Божьего Духа, Его увещеванием и по знамениям нынешнего времени.
О чем же помышляете вы теперь, добрые люди, и что взошло к вам на сердце, когда поняли и узнали, что мы ясно и открыто исповедуем Христа, проклинаем Папу, прилежим к истинной философии, ведем христианскую жизнь и что ни день приглашаем и приводим в наше Общество множество людей, коим также воссиял свет Бога? Не вознамеритесь ли, наконец, оставить одиночество и, взвесив дары, внутри вас заключенные, и опыт, вами почерпнутый из Божьего слова, по тщательном рассмотрении несовершенства всех искусств и множества других несообразных вещей, — приступить вместе с нами к у совершению оных, к умиротворению Бога и к лучшему согласованию себя с духом сего времени?
Поистине, когда все сие совершите, то извлечете для себя пользу, ибо все блага, чудесно рассеянные Натурой по всему миру, совокупно откроются вам и освободят от всего, что прежде затемняло человеческий разум и мешало его действию, как, например, различные эксцентрические и эпициклические теории[656].
Тех же, кто чересчур дерзок и ослеплен сверканием золота или (если сказать начистоту), будучи теперь скромен, легко может поддаться разврату безделья и соблазну роскоши и гордыни, едва свалится на него столь нежданное богатство, — таковых мы просим не тревожить нас своими неуместными криками, но лучше подумать о том, что, хотя бы и нашлось на свете лекарство, излечивающее все болезни, но те, кого сам Бог решил подвергнуть бичам и розгам болезней, никогда его не добудут. Так же и мы — хотя бы обогатили и наполнили своим учением весь мир, изгнав из него бесчисленные беды, — все же никогда не стали бы никому известны и ведомы, не будь на то Божие изволение, равно как и всякий, кто пожелает, без Божией воли и вопреки ей, извлечь для себя пользу из наших благих дел, тот лишь напрасно потратит жизнь в поисках и погоне за нами, так и не отыскав нас и не достигнув чаемого блаженства в Братстве Розового Креста.
Приложение II
Химическая свадьба Христиана Розенкрейца в году 1459
«Алхимическая Королевская Свадьба». Даниэль Стольций. Химический Цветник. Франкфурт, 1624.
Итак, блистательный, ставший почти легендой памятник европейской христианско-розенкрейцерской традиции, который одни считают талантливой мистификацией, другие — оперативным руководством по сокровенному алхимическому Великому Деланию, а третьи — тайным катехизисом розенкрейцеров, в символической форме отражающим ступени орденского посвящения.
Текст приводится по самиздатскому сокращенному переводу «Химической Свадьбы», опубликованному в журнале «Наука и религия».
Автор перевода неизвестен.
Примечания Е. Лазарева.
М.: 1991
В канун Пасхи я сидел за столом в своем доме на вершине холма, готовя свое сердце к празднеству следующего дня, как вдруг поднялась ужасная буря, казалось, весь холм, на котором стоял мой дом, вот-вот развалится на части.
Я испугался, подумав, что это, должно быть, еще один трюк дьявола, причинившего мне немало зла, и тут вдруг почувствовал, будто меня дергают сзади за платье. В ужасе я оглянулся и тут увидел прекрасную восхитительную Деву[657] в небесно-голубом одеянии, усеянном золотыми звездами и с большими красивыми крыльями, имевшими множество глаз. С помощью этих крыльев она могла подниматься вверх. В правой руке она держала золотую трубу, а в левой — большую пачку писем, на всех языках, которые она должна была разнести по всем странам.
Из этой пачки писем она выбрала одно и почтительно положила его на стол. Затем без единого слова она расправила крылья и улетела вверх, издав на своей трубе прекрасной такой могучий звук, что добрую четверть часа после этого весь холм отзывался на него эхом.
Со страхом и дрожью я взял письмо. Оно оказалось таким тяжелым, как будто все состояло из золота. Маленькая печать скрепляла его, а на ней был оттиснут необычный крест с надписью: «В этом знаке — победа»[658]. Это принесло мне величайшее утешение, так как я знал, что этот знак был мало приятен и менее того полезен дьяволу.
В письме я обнаружил стихи, написанные золотыми буквами на лазурном фоне:
По мере того, как я читал эти предостережения, волосы мои вставали дыбом. Семь лет тому назад я узнал, в видении, что буду приглашен на Королевскую Свадьбу, и теперь, когда я определил положение планет, то убедился, что в самом деле наступило указанное тогда время. Но когда я исследовал себя, как получившего приглашение, и узрел свое невежество в мистических вещах, свое угождение плоти, свои построения величавых дворцов в воздухе и тому подобные чувственные замыслы, то был так потрясен своим ничтожеством, что заколебался между надеждой и страхом. Непонятные слова о трех храмах также огорчили меня.
Наконец я обратился к моему доброму ангелу с просьбой, чтобы он во сне направил меня по правильному пути, и уснул.
Во сне я обнаружил себя в мрачной темнице, скованным одной цепью со множеством компаньонов, пытающихся разорвать свои цепи и карабкающихся как пчелы один на другого. Когда вскоре мы услышали звуки труб и литавр и в открывшуюся темницу проник маленький лучик света, я умудрился ускользнуть от своих компаньонов и приподнять себя на валун возле стены темницы.
Затем у края отверстия появился старик со снежно-белыми локонами. Призвав к тишине, он объявил, что по милости его Древней Матери[659] к нам будет семь раз спущена веревка. Если кто-нибудь из нас сможет ухватиться за нее, то он будет поднят наверх и получит свободу.
Когда слуги Древней Матери спустили веревку, я никак не мог дотянуться до нее, а на кутерьму остальных было жалко смотреть. Через семь минут зазвонил маленький колокольчик, и веревка была вытянута наверх с четырьмя человеками, уцепившимися за нее, Снова и снова спускалась веревка, и каждый раз еще несколько человек вытаскивалось наверх; уже освобожденные помогали слугам тянуть.
На седьмой раз веревка качнулась в сторону, и мне удалось схватиться за нее, но когда веревку потянули вверх, я ударился головой об острый камень и начал истекать кровью, однако, несмотря на безнадежное положение, меня все же вытянули.
Затем темница снова закрылась, и мы, поднятые наверх, были освобождены от наших оков, а наши имена были записаны на золотую табличку. Потом мы поблагодарили Древнюю Мать за свое освобождение и начали прощаться с ней, каждому из нас был дан для расходов кусок золота. На одной его стороне было изображено восходящее солнце, на другой стороне стояли буквы Д.Л.С.[660]
Что касается меня, то я едва мог двигаться из-за ран, оставленных на моих ногах цепями. Древняя Мать, видя это, сказала мне: «Сын мой, пусть эти раны не тревожат тебя, но благодари Бога, позволившего тебе даже в этом мире вступить в такой высокий свет. Сохрани эти раны в память обо мне».
Проснувшись, я обдумал свой сон и понял из него, что Бог удостоил меня правом присутствия на этой мистической и тайной Свадьбе. Я облачился в белые полотняные одежды, накинул на плечи кроваво-красный плащ, завязав его крестообразно, а к шляпе прикрепил четыре красных розы. Затем я взял хлеба, соли и воды, и радостный, отправился в путешествие.
Переполненный радостью окружающей природы, я шел, напевая, через лес, направляясь к зеленой степи, где стояли три высоких кедра. На одном из них была прикреплена табличка, предлагавшая выбрать один из четырех путей на Свадьбу.
Первый из них был описан как короткий, но опасный, ведущий в каменистые, едва проходимые места. Второй был длинный, но легкий. Третий путь был королевский, которым мог следовать лишь один из тысячи. Четвертым был путь, окруженный огнями и облаками, доступный только очищенным телам.
Табличка предупреждала также, что если однажды мы ступили на один из этих путей, то возврата уже не будет, и что если мы знаем за собой хотя бы маленький недостаток, то нам лучше не идти дальше.
Перед этими страшными предупреждениями я опустился на землю у основания дерева в большом волнении духа. Так я сидел, сбитый с толку, обдумывая, вернуться ли, а если нет, то какому пути следовать, и, вынув из сумки кусок хлеба, начал его есть.
Вдруг сидевший в ветвях снежно-белый голубь спорхнул вниз и очень смело приблизился ко мне. Я охотно разделил с ним свой кусок хлеба. Но на голубя ринулся черный ворон. Голубь пытался найти спасение в полете, ворон устремился за ним, а я за вороном.
Когда я прогнал ворона прочь, то вспомнил о сумке и хлебе, оставленных подле кедра. Но когда я обернулся, чтобы идти искать их, то поднялся такой сильный встречный ветер, что едва не свалил меня с ног. В то же время ничто не препятствовало мне идти вперед. Осматриваясь вокруг, я обнаружил, что уже ступил на один из четырех путей — на длинный окольный путь.
Так что весь этот день я шел этой дорогой, стараясь не сбиться ни влево, ни вправо. Путь сам по себе был настолько тернист, что я не раз сомневался в нем, но голубь летел прямо на юг и с его помощью я шел прямо по указанному пути. Наконец перед самым заходом солнца я заметил величественный портал, стоявший вдали высоко на холме. Я ускорил шаги, чтобы достичь его до наступления темноты.
Когда наконец я дотащился до портала, то от него навстречу мне выступил почтенный мужчина в небесно-голубых одеждах и представился мне как Страж Врат. Он спросил у меня письмо и Приглашение. С какой радостью я представил его!
Когда Страж услышал мое имя и узнал, что я брат Розы Креста, он удивился и, казалось, очень обрадовался. Он обошелся со мной с большим уважением и сказал: «Войди, брат мой, желанный гость ты для меня!»
В обмен на мою бутылку воды Страж дал мне золотой жетон и запечатанное письмо для Стража Вторых Врат. Он также попросил меня, чтобы я вспомнил о нем, когда это окажется для меня полезным.
Сгущались сумерки. Прекрасная Дева[661] в небесно-голубом одеянии и с чудесным факелом в руке начала зажигать фонари вдоль дороги к внутренним Вратам. Я поспешил дальше, но был напуган ужасным львом, сидевшим на цепи и загородившим мне дорогу. Как только он увидел меня, тут же поднялся и двинулся ко мне со страшным рыком.
Тут проснулся Страж, спавший на мраморной плите. Он отогнал льва и, прочитав запечатанное письмо, приветствовал меня с величайшим уважением, воскликнув: «Во имя Бога, добро пожаловать ко мне, человек, которого я уже давно рад видеть!»
В обмен на мою соль этот Страж дал мне другой золотой жетон.
К этому времени сумерки еще более сгустились, и в Замке зазвонил колокол. Страж посоветовал мне быстрее бежать дальше, иначе я не успею достичь Врат, лежащих глубоко внутри, до того, как они закроются на ночь. Огни вдоль тропы стали гаснуть, и я был благодарен факелу Девы, ведшему меня сквозь темноту. Как только я вошел в Третьи Врата, ступая почти по пятам Девы, они так быстро захлопнулись, что прищемили часть моей одежды. Она так и осталась там, потому что мне не удалось уговорить Стража вновь открыть Врата.
Третий Страж записал мое имя в маленькую книжечку из тонкого пергамента и дал мне третий золотой жетон и пару новой обуви, потому что пол в Замке был из чистого, сияющего мрамора. Свою старую обувь я отдал нищему, сидевшему рядом с Вратами.
Два пажа, держа по факелу в руках, ввели меня в Замок и оставили одного в маленькой комнатке, где, к моему ужасу, незримые парикмахеры срезали у меня на макушке волосы, оставив висеть остальные седые локоны. Срезанные волосы были аккуратно собраны и унесены невидимой рукой.
Зазвонил колокольчик. Два пажа, светя факелами, повели меня через множество дверей по вьющимся лестницам в просторный зал, где было множество гостей — императоры, короли, принцы, лорды, знатные и незнатные, богатые и бедные, люди всех сортов, среди которых кое-кого я хорошо знал и не имел никаких оснований уважать. Последние, когда я спросил их, каким путем они попали сюда, рассказали, что вынуждены были карабкаться по камням.
Вскоре, когда зазвучали трубы, приглашавшие нас на пир, именно эти люди захватили почетные места, так что для меня и еще нескольких огорченных остался лишь маленький уголок за самым нижним столом. Но зато возле меня сидел прекрасный спокойный человек, чудесно рассуждавший о великолепных предметах.
Затем было внесено мясо и невидимыми руками роздано гостям, причем сделано это было очень искусно. Когда один из гостей похвастался, что видит этих слуг, то один из них так славно съездил кулаком по его лживой морде, что не только он, но и многие примолкли как мыши.
Люди похотливого сорта, захмелев, начали хвастаться своими способностями — один слышал ритмы небес, другой видел идеи Платона, третий мог сосчитать атомы Демокрита. Один старался доказать это, другой — то, а в целом наиболее жалкие идиоты шумели громче всех.
Среди этого шума и крика я проклинал день, когда решился прийти сюда. Я подумал, что Новобрачный поступил бы благоразумно, выбрав других дураков вместо меня на Свадьбу. Но так было только сначала.
Вдруг послышались чудесные мелодии. Музыка заиграла громче и была так торжественна, как будто предшествовала выходу римского императора. Сама собой открылась дверь, и в зал вошли тысячи пажей, марширующих с зажженными тонкими свечками. За ними скользил по воздуху позолоченный трон, где сидела Дева, светившая мне факелом на пути к Замку. Вместо небесно-голубых на ней были белоснежные одежды, сверкавшие чистейшим золотом.
Она приветствовала нас от имени Невесты и Жениха и предупредила, что на следующее утро мы все будем взвешены для выявления достойных присутствовать на Свадьбе. Каждый, кто чувствует себя достойным, будет сейчас препровожден в свою спальню, все сомневающиеся должны провести эту ночь в зале.
Когда Дева отбыла на своем парящем в воздухе троне, свечи, несомые невидимыми руками, проводили уверенных в себе к их постелям. Только я и еще восемь человек остались в зале, среди них мой застольный компаньон. Часом позже в зал пришли пажи, связали всех девятерых веревками и оставили нас в темноте и беспокойстве, оплакивающими самонадеянность, с которой мы приняли приглашение на Свадьбу.
Ночью мне приснилось, что я стою на высокой горе, возвышающейся над обширной долиной, в которой было множество повешенных. Одни висели выше, другие — ниже на своих веревках. Глубокий старик летал среди них и перестригал ножницами веревки. Висящие низко над землей падали мягко, висящие высоко с позором летели вниз. Это зрелище развеселило меня до глубины души, и в приступе смеха я проснулся.
На рассвете все, считавшие себя достойными, снова пришли в зал, где мы лежали связанными. Фанфары возвестили о приходе Девы. Она явилась в красном бархате, опоясанная белым шарфом, и с зеленым лавровым венком на голове.
Ее сопровождали двести вооружённых рыцарей в красных и белых плащах. Она велела развязать нас и посадить на места, с которых будет хорошо видно все, что произойдет в дальнейшем. Увидев меня, она улыбнулась и воскликнула: «Бедняга! Вы тоже подчинили себя рабству? Я полагала, что вы уже достойно очистили себя!»
Затем были внесены огромные золотые весы и подвешены в середине зала. Возле них поместили маленький столик, накрытый красной скатертью. На столик поставили семь гирь: одну большую, четыре поменьше и две, каждая из которых была больше всех предыдущих. Рыцари разделились на семь групп, командиру каждой группы был поручен надзор за одной из гирь.
Полный достоинства император был первым, кто ступил на весы. Рыцари одну за другой положили гири. Первые шесть он выдержал, но когда положили седьмую, его чаша была перевешена, после чего его связали и передали с великой мукой шестой группе рыцарей. Один за другим были взвешены все остальные императоры, и их всех постигла участь первого, за исключением последнего, непоколебимо выдержавшего все до конца и, казалось, что если бы были еще гири, они все равно не смогли бы его перевесить.
Дева встала, поклонилась ему и дала мантию из красного бархата и лавровую ветвь, а затем посадила его на ступень у своего трона.
Затем все остальные были по очереди взвешены. Из каждой категории один, самое большее два, выдерживали испытание, а чаще ни одного. Каждый выдержавший награждался красной бархатной мантией и лавровой ветвью и садился на ступени у трона Девы.
Теперь настала наша очередь, — тех, кто спал в зале. Из нас только мой компаньон и я выдержали все гири. Мой компаньон держался так мужественно, что все даже зааплодировали ему, и Дева проявила к нему наиболее глубокое уважение. Когда наконец, весь дрожа, ступил на весы я, то мой компаньон, уже сидевший в мантии на ступени, дружески взглянул на меня, и сама Дева улыбнулась мне.
Я так легко перевесил все гири, что Дева велела встать на другую чашу весов троим рыцарям в полном вооружении. Тогда на нее влез один из пажей, и я выдержал их всех, и он громко крикнул: «Это он!»
Поскольку я оказался самым тяжелым, Дева позволила мне освободить по своему выбору одного из пленных. Я выбрал первого императора. Его тотчас же развязали и со всяческим уважением усадили возле нас. Между тем Дева заметила у меня в руках розы, которые я взял из своей шляпы, и через своего пажа любезно попросила их у меня. Я тут же охотно послал их ей.
К 10 часам утра мы все были взвешены. Затем последовал завтрак, во время которого мы в своих красных мантиях сидели за высоким столом, накрытым также красным бархатом и уставленным кубками из чистого серебра и золота. Тут же два пажа от имени Новобрачного подарили нам эмблемы Золотого Руна и Летающего Льва[662].
Невидимые раньше служители стали теперь видны для нас, что бесконечно радовало меня. Для остальных, не выдержавших испытание и теперь сидевших за нижними столами, служители по-прежнему были невидимы.
Когда с едой было покончено, и золотой кубок, присланный Новобрачным, обошел круг, мы, новые рыцари Золотого Руна, сидевшие на ступенях у трона Девы, были приглашены в сад, чтобы посмотреть на тех, кто потерпел неудачу. Дева повела нас по извивающимся лестницам в галерею. Но как там вел себя по отношению ко мне освобожденный мною император, я не могу поведать, остерегаясь злословия.
Теперь Дева, которая принесла мне приглашение, и которую я с тех пор не видел ни разу, выступила вперед. Она подняла трубу, протрубила один раз и объявила приговор тем гостям, которые были признаны недостойными: тем, кто был лишь с трудом перевешен гирями, разрешается выкупить себя золотом и драгоценностями и удалиться с достоинством, испив при выходе глоток Забвения. Те, кто оказались более легкими, будут раздеты и отосланы прочь голыми. Еще более легкие будут бичеваны розгами и кнутами. Те, кто оказались обманщиками и никогда не получали приглашения, будут лишены жизни мечом или петлей.
Наблюдая исполнение приговоров, я почувствовал, как мои глаза застилают слезы.
Наконец переполненный сад опустел, и наступила тишина. В этой тишине осторожно ступал снежно-белый единорог с золотым ошейником. Он преклонил колено перед львом, стоявшим в фонтане с обнаженным мечом в лапе. Лев сломал меч, и осколки его упали в фонтан, затем он заревел и ревел до тех пор, пока к нему не подлетел снежно-белый голубь с оливковой ветвью в клюве. Лев пожрал ветвь и успокоился. Единорог с радостью вернулся на свое место, а Дева в это время повела нас назад, вниз по извивавшимся лестницам[663].
Когда мы вымыли в фонтане головы и лица, то каждому из нас дали по богато одетому ученому пажу, способному вести разговор на любую тему. Они отвели нас снова в Замок и показали картины, сокровища и древности, имевшиеся в нем. Многие занялись копированием картин, а меня, кому был дан паж необычайной силы, повели с моим компаньоном в обычно хранимые в тайне комнаты Замка, ключи от которых были вверены моему пажу.
Там, в продолжении нескольких часов, мы созерцали сокровища — Королевскую Гробницу со знаменитым Фениксом[664] и великолепную библиотеку. Когда пробило семь, я все еще был захвачен увиденным, хотя и испытывал позывы голода.
Когда Король прислал своего пажа за ключами, нам показали ценный часовой механизм, отрегулированный в соответствии с ходом планет, а затем огромный земной глобус, на котором мы нашли наши родные земли отмеченными маленькими золотыми кружочками; мы увидели, что наша компания собрана со всех концов света.
Глобус внутри был пустой, и мы могли сесть в него и созерцать звезды. Они сверкали в такой гармоничной последовательности и двигались так величаво, что, засмотревшись на них, я не думал вылезать из глобуса, пока паж не сказал обо мне Деве, и она не упрекнула меня за опоздание к ужину — я сел за стол почти последним.
За ужином, когда все повеселели от вина, Дева стала каждому предлагать загадки, которые мы не могли отгадать. Например, она рассказала такую: «У нас с сестрой есть орел, за которым мы ухаживаем. Однажды мы вошли в спальню и увидели его с лавровой ветвью в клюве. У меня в руках тоже была лавровая ветвь, а у сестры не было. Орел подошел к ней и отдал ей свою, затем подошел ко мне и попросил, чтобы я отдала ему свою. Скажите, кого он любит больше, меня или мою сестру?»
Дева так просто вела себя, что я отважился спросить ее имя. Улыбнувшись на мое любопытство, она ответила:
— Моё имя содержит в себе 6 и 50, однако состоит только из 8 букв. Третья буква есть третья часть пятой, которая, будучи сложена с шестой, образует число, сумма цифр которого превышает третью ровно на величину первой и которое есть половина четвертой. Пятая и седьмая равны, так же как первая и последняя. Первая и вторая равны в сумме шестой, которая на четыре больше, чем утроенная третья. Теперь скажите, как меня зовут?
Такой вопрос был слишком сложным, но я не прекратил расспросов и сказал:
— О благородная и добродетельная Госпожа, не могу ли я узнать хоть одну букву?
— Да, — сказала она, — это можно.
— Тогда чему равна седьмая буква? — продолжал я.
— Она равна, — ответила она, — числу присутствующих здесь.
Зная это, я легко разгадал ее имя, чем она была весьма довольна[665].
Потом она пригласила нас на церемонию Подвешивания гирь. В сопровождении шести прекрасных дев со светильниками вошла величественная Герцогиня, еще менее земная, чем наша Дева. Она смотрела на небо больше, чем на землю. Мы все приняли ее за Новобрачную, но ошиблись, хотя по величию она намного превосходила невесту и впоследствии руководила всей Свадьбой[666].
Она сказала мне: «Ты получил больше, чем другие. Смотри, с тебя больше и спросится».
Это поучение показалось мне очень странным.
Хотя весы были уже вынесены из зала, гири все еще стояли на маленьком столике. Герцогиня велела каждой деве взять по одной гире, а нашей Деве — самую большую и тяжелую. Затем вся процессия удалилась в семь часовен. В первой из них повесила гирю Дева, а в шести других остальные девы. Во всех часовнях под руководством Герцогини мы пропели гимн и помолились за благословение Королевской Свадьбы.
Затем каждый из нас был отведен пажом в богато убранную спальню. Сами пажи, на случай, если нам что-нибудь понадобится ночью, улеглись на соломенные тюфяки подле наших кроватей. Это была первая ночь, когда я спал спокойно, хотя гнусный сон мешал мне отдохнуть: в тревоге я пытался открыть дверь, но не мог. Наконец мне это удалось.
На следующее утро я проспал завтрак. Меня не решились будить ввиду моего возраста. Но я быстро оделся и поджидал остальных в саду возле фонтана.
Лев в фонтане держал сегодня табличку вместо сломанного меча, где было написано, что водой фонтана принц Меркурий исцеляет все болезни и еще:
Когда мы все умылись в фонтане и напились воды из золотых чашек, нам дали золоченые одежды, расшитые прекрасными цветами, и новые эмблемы Золотого Руна с висящими на них золотыми дисками в виде солнца и луны на одной стороне и с золотыми надписями на другой:
Ведомые нашей Девой, в сопровождении еще шестидесяти дев и музыкантов, одетых в красный бархат, мы поднялись по вьющейся лестнице из 365 ступеней в Королевский зал, где увидели юных Короля и Королеву. Величественно восседали они в невыразимой славе. Весь зал так сиял чистым золотом одежд Королевы, что я был не в состоянии смотреть на это.
Наша Дева представила нас Королю как свадебных гостей. По этому случаю нам приличествовало сказать что-нибудь. Но у нас от страха поприлипали языки. Видя это, старый Атлант — Придворный Астролог, подошел к нам и приветствовал нас от имени Короля.
Юные Король и Королева сели под огромную арку в западном конце зала. На головах у них были лавровые венки, а над головами висели в воздухе большие и дорогие золотые короны. С одной стороны от них сел царствующий древний седобородый Король с прекрасной юной Королевой, с другой стороны — черный Король с изящной, покрытой вуалью пожилой матроной.
Купидон метался взад и вперед. Он то садился между влюбленными, то делал вид, что стреляет в нас. Он был переполнен шалостью и не жалел даже птиц. Девы тоже играли с ним.
Перед Королем и Королевой стоял алтарь, где лежало шесть предметов: книга в черном бархате и в золотой оправе, зажженная свеча в подсвечнике из слоновой кости, глобус, вращавшийся сам собой, часы со звоном, кристальный фонтан с красной водой и череп, в глазницах которого извивалась то наружу, то внутрь маленькая белая змейка.
Аудиенция окончилась. Заиграли музыканты, нас снова повели по вьющимся лестницам в прежний этаж, где девы исполнили вместе с нами светский танец. Потом мы сопровождали их Высочества к Дому Солнца смотреть комедию. Впереди шла Герцогиня, несшая жемчужное распятие в золотой оправе. Следом за ней шесть дев, несшие предметы с алтаря. Замыкал шествие Атлант — Придворный Астролог.
Комедия началась со сцены, где Король сидел на своем троне. Принесли сундук, найденный плавающим в море. В нем оказалась Принцесса, похищенная Маврами. Король воспитал ее, чтобы выдать замуж за сына, когда он подрастет.
Но Принцесса снова попала в руки Мавров, и на этот раз ее освободил рыцарь. Она была возвращена в родное королевство и там коронована. В третий раз по своей воле она снова попала в руки Мавров, которые раздели ее, бичевали и затем бросили в тюрьму.
Юный Король, обрученный с ней, пошел на войну с Маврами и победил. Он освободил юную Королеву и вернул ей королевство. Затем они поженились. Пьеса закончилась свадебным гимном, призывавшим благословение на Короля и Королеву и молитвой, чтобы от них пошло прекрасное потомство.
Потом мы вернулись на свадебный пир. Королевские персоны были одеты в снежно-белые сияющие одежды, но музыки не было. Юный Король вздыхал, старые Король и Королева были печальны. В воздухе парила гнетущая атмосфера беды, нависшей над всеми нами.
Юный Король взял с алтаря книгу в бархатном переплете с золотыми углами и спросил, кто решится доверить ему вписать свое имя в нее. Мы поднялись и дали согласие. Принесли хрустальный фонтан с красной водой и хрустальную чашу. Каждый из нас выпил из нее Глоток Молчания, как это делается при совершении Мистерий.
Под звон колокола белые одежды были заменены черными, стены также задрапированы черным бархатом. Дева принесла шесть черных шарфов и завязала глаза трем Королям и трем Королевам. В центре зала поставили шесть гробов, а рядом — низкие плахи. В зал вошел черный Мавр с обнаженным топором в руках.
Старого Короля торжественно и почтительно обезглавили. Голову завернули в черную тафту, кровь слили в золотую чашу, затем все это положили в первый гроб. За первым Королем два других Короля и три Королевы молча покорились той же участи. Черный палач, готовившийся было уйти, был тоже обезглавлен. Его голову и топор положили в небольшую раку[667].
Мы все рыдали. Дева просила нас сохранить мужество, сказав:
«Жизнь этих Королей и Королев находится теперь в ваших руках. Если вы будете следовать за мной, эта смерть произведет немало для жизни».
Она пожелала нам спокойной ночи, пажи проводили нас в спальню. Ровно в полночь я почувствовал яркий свет на воде и увидел в окно семь светящихся кораблей, плывущих к Замку. Над каждым из них вздымалось пламя. Я сразу понял — это духи обезглавленных.
Корабли причалили, к ним сквозь ночь прошла Дева с факелом в руках. За ней служители пронесли шесть гробов и раку, которые разместили на кораблях. Один за другим корабли отплыли, и огни исчезли за горизонтом. Дева вернулась в Замок. Затем я, крайне утомленный, заснул.
Рано утром я попросил своего пажа показать мне в Замке что-нибудь необычное. Он привел меня вниз по лестнице в подземелье, к железной двери, где были вырезаны из золота слова: «Здесь похоронена Венера, погубившая множество выдающихся людей».
Затем мы попали в великолепный склеп — Королевскую Сокровищницу, освещавшуюся огромным карбункулом. В центре склепа стоял надгробный памятник трехгранной формы, напоминавший алтарь. Он опирался на быка, орла и льва и был сделан из чистого золота и драгоценных камней. На нем в сосуде из полированной меди стоял ангел, с деревом в руках. С этого дерева в сосуд постоянно падали плоды и превращались в воду, а вода стекала в три золотые чаши.
Затем паж открыл медную дверцу в мозаичном полу и повел нас по темной лестнице. Мы увидели богатую кровать, окруженную прекрасными занавесями. Паж отдернул одну из них, и я увидел Венеру, совершенно обнаженную. Она лежала такая прекрасная, что я едва совладал с собой. Над головой Венеры висела табличка с золотыми буквами: «Когда все плоды с моего дерева растают, тогда я пробужусь и стану матерью Короля».
Потом мы снова поднялись в Королевскую Сокровищницу, и я увидел там свечи из пирита, горевшие чистым пламенем. От них шел жар, расплавлявший плоды, падавшие с дерева, которое держал ангел. Этот жар был причиной того, что вместо упавших плодов постоянно вырастали новые. Не успели мы вернуться в Сокровищницу, как прилетел Купидон. Он воскликнул, захлопнув медную дверь в усыпальницу Венеры: «Старый непоседливый дед, ты чуть не сыграл со мной гнусную шутку! Ты едва не наткнулся на мою мать!»
С этими словами он раскалил в пламени свечи стрелу и проткнул ею мне руку.
Потом я присоединился к своим собратьям в Зале, где Купидон попросил показать ему руку. Увидев на ней каплю крови, он велел ухаживать за мной, дабы я не окончил вскоре свои дни.
Дева в черном бархате повела нас в сад, где было шесть гробниц. Над ними развевался флаг с изображением Феникса. Мы присутствовали при положении шести гробов и маленькой раки в гробницы. Все гости думали, что присутствуют на Королевских похоронах, лишь я думал иначе.
Дева напомнила нам о нашей клятве верности Жениху и пригласила нас плыть на Остров Олимпийской Башни, для изготовления средства возвращения Королевских Персон к жизни. Мы последовали на берег, где стояло семь кораблей. Над пятью из них развивались знаки планет, над одним — изображение земного шара, и над одним — пирамиды. Мы отплыли в следующем порядке:
Впереди A-Пирамида — несущая голову Мавра. Здесь 12 музыкантов исполняли великолепную музыку.
Затем B, C, D — одним фронтом. Дева и я находились на C с изображением земного шара. За нами плыли два корабля без пассажиров. На замыкающем корабле были сорок дев. Мы вышли в море, где сирены, нимфы и морские богини встречали нас и умоляли разрешить спеть для нас.
Корабли перестроились в пятиугольник вокруг Солнца и Луны. Дева дала разрешение, сирены запели. Купидон трудился надо мной, но он имел мало успеха. Это и была та рана в голову, которую я получил во сне[668].
Через несколько часов показалась Олимпийская Башня. Ее Страж, древний человек, был в позолоченном плаще. Башня состояла из семи малых цилиндрических башен, одна возле другой. Средняя была самая высокая и от нее отходили остальные. Остров был в виде правильного квадрата, окруженный высокими стенами толщиной в 260 шагов.
В Башню внесли шесть гробов и раку, что видел только один я.
Мы спустились в подземную лабораторию, и промывали там растения, дробили драгоценные камни и отжимали соки и эссенции.
До темноты работа была закончена. Нам дали супа и вина, потом, постелив матрацы, все улеглись на полу в лаборатории. Но ко мне сон не шел. Я поднялся на стену, чтобы созерцать море и звездное небо.
Ровно в полночь я увидел семь огней далеко в море. Они приближались к острову.
Вдруг поднялся ветер. Облака закрыли луну. Я пошел в лабораторию и быстро уснул.
На следующее утро Страж Башни вошел в подземную лабораторию в сопровождении юношей, несущих лестницы, веревки и большие крылья. «Мои дорогие дети, — сказал он, — каждый из вас в течение всего сегодняшнего дня должен постоянно носить с собой одну из этих вещей. Выбор сделайте по жребию».
Мой жребий пал на лестницу 12 футов длиной и довольно увесистую. Я вынужден был носить ее, тогда как другие имели возможность красиво обвязаться веревками, а третьим Старец так искусно прикрепил крылья, будто они у них сами выросли.
Затем Старец ушел, забрав с собой плоды нашего вчерашнего труда, и запер за собой дверь. Мы уже стали подумывать, не сделали ли нас в этой Башне узниками, когда, примерно четверть часа спустя, в потолке открылось круглое отверстие, и мы увидели в нем Деву. Она пожелала нам бодрого хорошего утра и пригласила подняться наверх. Те, кому по жребию выпало носить крылья, последовали ее предложению тотчас же. Те, кто носил лестницы, полезли по ним, вытягивая их потом за собой. Те же, кто был с веревками, вынуждены были ожидать, пока вылезшие по лестницам не прикрепили для них железные крюки, но и тогда их подъем не обошелся без водяных мозолей на ладонях. Затем отверстие было снова закрыто, и мы оказались в лаборатории окруженной шестью ризницами, куда нас направили помолиться за жизнь Короля и Королевы. Двенадцать музыкантов, плывших на корабле с Пирамидой, внесли в лабораторию фонтан, а с ним большую овальную шкатулку, которая, как я подозревал, содержала в себе тела обезглавленных Королей и Королев. Затем, пока они исполняли особенно приятную музыку, вошла Дева, неся раку, содержащую голову Мавра. Ее сопровождали закрытые вуалью девы с лавровыми ветками и факелами в руках.
Все встали вокруг фонтана. Дева вынула из раки голову Мавра, завернутую в тафту, и положила ее в сосуд, куда были налиты эссенция и настойки, приготовленные вчера. Этот раствор, от того, что в него положили голову Мавра, стал быстро нагреваться, кроме того, девы положили на решетку под сосудом свои факелы, так что даже в фонтане забурлила и заиграла вода. Ветки лавра девы воткнули в отверстия вокруг фонтана, и брызги, летевшие на них, стекали затем в сосуд, окрашенные в густой желтый цвет.
Два часа играл фонтан, и дистиллят капал в овальную шкатулку, пока тела, находившиеся в ней, не растворились окончательно. Затем Дева принесла золотой глобус. Его поднесли к овальной шкатулке, и из нее побежала в него красная жидкость. После этого глобус снова унесли.
Мы, лаборанты, остались на четверть часа или около того, сидеть одни, пока я не почувствовал шаги над головой и не взглянул на свою лестницу. В потолке открылось отверстие, и мы снова полезли наверх с помощью крыльев, лестниц и веревок. Я нисколько не обижался на то, что Дева могла переходить другим путем, и, насколько я мог судить, кое-какую работу мы оставляли на долю Стража.
И на самом деле, когда мы попали на третий конклав, мы нашли золотой глобус уже висящим на толстой цепи в середине потолка. Стен у этой третьей лаборатории не было совсем, но между окнами висели зеркала таким образом, что всюду было видно только отраженное солнце: казалось, что в комнате нет ни одной свободной пяди, а только солнце.
Тепло от всех этих искусственных ослепляющих отражателей падало на золотой глобус до тех пор, пока Дева не нашла, что требуемая температура достигнута. Тогда она приказала закрыть зеркала, а когда глобус остыл, велела нам опустить его вниз и разрезать на части. После длительной дискуссии это было, наконец, сделано с помощью алмаза. Когда глобус распался на две части, то внутри его оказалось огромное снежно-белое яйцо. Оно было такое красивое, что мы стояли вокруг него радостные, как будто сами снесли его.
Как только наша Дева удостоверилась, что скорлупа у яйца достаточно затвердела, она тут же унесла его из комнаты, заперев за собой дверь. Что она делала с яйцом вне комнаты, я не знаю. Мы снова с четверть часа находились одни, а потом открылось третье отверстие в потолке и мы с помощью наших средств стали подниматься на четвертый этаж.
Там мы нашли огромный квадратный медный сосуд, наполненный серебряным песком, в который положили яйцо и стали подогревать на медленном огне. Когда оно было готово, его вынули из песка, но раскалывать его не потребовалось, потому что Птенец скоро освободился сам и выглядел при этом очень довольным.
Дева велела нам связать его, прежде чем его будут кормить. Когда мы это сделали и посадили Птенца на темный песок, ему принесли пить кровь обезглавленных Королей и Королев. Напившись, он стал расти у нас на глазах, покрылся черными перьями и стал чертовски энергично клевать и почесываться, что вздумай он кинуться на нас, он бы любого тут же отправил на тот свет.
Когда ему принесли еды еще, он сделался более покладистым и сговорчивым. Его черные перья полиняли и на их месте выросли снежно-белые. При третьем кормлении его перья стали так чудесно окрашиваться, что я никогда не видел подобной красоты. Теперь он вел себя по отношению к нам так дружелюбно, что Дева разрешила освободить его от пут.
За обедом мы большую часть времени развлекались нашей Птицей, а после обеда Дева и Птица покинули нас, и была открыта пятая комната, куда мы попали прежним способом.
Теперь мы нашли нашу Птицу поджидавшей нас в прохладной молочной ванне, в которой она с удовольствием развлекалась. Под ванной находились горячие лампы. Когда они нагрели молоко настолько, что оно стало горячим, нам пришлось немало потрудиться, чтобы удержать в нем Птицу. Мы покрыли ее покрывалом, в котором сделали дыру, куда она высунула голову.
В нагретой ванне у Птицы вылезли все перья, и жидкость растворила их, став от этого голубой, а Птица вышла голой, как новорожденный младенец. Затем мы продолжали нагревать ванну, пока вся жидкость из нее не испарилась, а на дне не остался голубой камень. Этот камень мы растерли в пудру и ею окрасили всю Птицу за исключением головы, которая осталась белой.
Дева снова ушла от нас вместе с Птицей, а мы сквозь потолок попали на шестой конклав, где нашли небольшой алтарь, установленный посредине комнаты. На алтаре лежали книга, зажженная тонкая свеча, небесный глобус, часы со звоном, хрустальный фонтан и череп с белой змеей, в том же порядке, как это было в Королевском Зале.
Птица стояла на алтаре и пила из кроваво-красного фонтана, потом она принялась клевать змею, пока та не стала истекать кровью. Небесный глобус вращался, пока не было достигнуто некоторое соединение, затем второе и третье. После каждого соединения звонили часы.
Затем бедная Птица покорно положила свою голову на книгу и охотно позволила отрезать ее одному из нас, выбранному по жребию. Пока не отрезали голову совсем, не пролилось ни единой капли крови, а потом она хлынула сразу свежим и чистым рубиновым фонтаном.
Мы помогли Деве сжечь дотла тело (вместе с подвешенной на нем маленькой табличкой) на огне, зажженном от пламени тонкой свечи, а прах положили в коробку из кипарисового дерева.
Тут я и еще трое со мной возмутились против этого обмана, в который мы были вовлечены.
«Господа, — сказала Дева, — мы уже в шестой комнате, и перед нами осталась только одна. Я вижу среди вас этих четверых (она указала на меня и остальных трех) — ленивых и вялых спутников и я намерена исключить их из седьмого и самого чудесного действа».
Дева умела так хорошо владеть собой, что наша печаль прорвалась потоками слез. Были приглашены музыканты, они кларнетами выдули нас с позором из комнаты, сами при этом будучи почти не в состоянии от смеха дуть в свои инструменты. Но как только мы оказались за дверью, они тут же привели нас в хорошее настроение и повели по вьющейся лестнице на восьмой этаж под самой крышей, где мы увидели стоящего Старца.
Он дружелюбно встретил нас и поздравил с тем, что мы были избраны Девой. Когда он узнал, как нас напугали, то у него чуть живот не лопнул от смеха. Ведь нас постигла такая удача и таким ужасным образом!
«Поэтому, — сказал он, — мои дорогие дети, запомните, что человек никогда не знает, какое добро Бог намеревается принести ему».
Пришла Дева с коробкой из кипариса, в которой был пепел Птицы, и тоже стала смеяться вместе с нами. Затем под руководством старого Стража мы приступили к работе: налили в пепел приготовленной воды и получившуюся пасту нагрели и разложили в две маленькие формочки.
Пока она остывала, мы наблюдали сквозь щель в полу наших остальных собратьев, занятых этажом ниже. Они усердно раздували горн, приготовляя золото и думая при этом, что их предпочли нам.
Когда мы открыли формочки, то там оказались два ярких, почти прозрачных маленьких слепка ангельски прекрасных младенцев мужского и женского пола, каждый не более 4-х дюймов ростом. Мы положили их на атласные подушечки и смотрели на них до тех пор, пока не одурели от их прелестного вида.
Под руководством Стража мы взяли золотые чашечки с кровью из груди Птицы и стали по капле вливать ее в ротики младенцев, пока они не достигли своего полного настоящего роста и у них не выросли кудрявые золотые волосы. После этого Старец велел нам положить их на длинный стол, накрытый белой тафтой, чтобы нам не стало плохо от непередаваемой красоты.
Наша Дева пришла с чудесными одеждами, которые выглядели, как хрусталь, но были мягкие и непрозрачные. Она положила их на стол, и пока музыканты играли, вместе со Старцем исполнила много церемониальных жестов, направленных к потолку. Потолок был в виде семи полусфер и в середине самой высокой я заметил небольшое отверстие.
Теперь вошли шесть дев с большими трубами, обернутыми яркой, почти пылающей, зеленой материей. Старец взял эти трубы одну за другой и приложил к губам спящих так, что расширяющиеся концы труб были направлены в потолок. Затем в каждый раструб из отверстия в потолке устремился яркий поток пламени и вошел в спящие изображения младенцев, которые тут же заморгали глазами, хотя сами еще едва шевелились.
Затем спящих младенцев аккуратно уложили в переносную кровать, которую задернули занавесками, и там они продолжали спать.
Мы, между тем, сидели очень тихо, ожидая, когда проснется повенчанная пара. Так прошло около получаса.
Потом влетел Купидон и принялся досаждать им, пока они не проснулись, а проснувшись, были крайне изумлены, так как думали, что они спали с того часа, когда были обезглавлены.
Дева обрядила их в новые одежды, и мы все поцеловали им руки. Потом мы проводили их вниз на королевский корабль, на котором они отплыли домой вместе с Купидоном и свитой дев. За ужином Дева снова свела нас с нашими прежними товарищами, но мы вели себя так, как будто оставались пребывать в своем плачевном состоянии. За этим ужином с нами был Старец. Я очень многому научился от него, и если бы люди присматривались к его образу действий, их дело не оборачивалось бы так часто неудачей.
После ужина Старец повел нас в свой кабинет редкостей, где мы увидели такие изумительные произведения Природы и другие вещи, которые человеческий разум изобрел в подражание ей, что нам и года не хватило бы, чтобы как следует осмотреть их. Так провели мы добрую часть ночи при свете свечей.
Затем мы разошлись по красивым спальням и, будучи утомлены продолжительным трудом, проспали беспробудно с 11 часов вечера до 8 часов утра следующего дня.
Следующее утро седьмого дня и последнего дня мы встретили в самой глубине подвалов Башни. Там нам дали желтые одежды и наши ордена Золотого Руна, так как мы были все еще одеты в черные погребальные одежды.
После завтрака Старец вручил каждому из нас золотую медаль, на одной стороне которой были слова: «Искусство — это жрица Природы», а на другой — «Природа — это дочь Времени».
Потом мы пошли к морю, где стояли наши богато снаряженные корабли. Их было двенадцать, — шесть, на которых приплыли мы, а другие шесть принадлежали Старцу, но он сел в наш корабль, на котором были мы все вместе. На первый корабль сели музыканты, которых у Старца было очень много. На всех двенадцати кораблях развевались флаги со знаком Зодиака — на нашем был знак Весов. Море было так спокойно, что плыть по нему было одно удовольствие. Старец во время этого плавания занимал нас беседой (он хорошо знал, как провести время), в которой рассказал такие удивительные истории, что я, кажется, мог бы плыть с ним всю жизнь.
В течение двух часов плавания мы пересекли море и узкий пролив, и вошли в озеро, на котором увидели 500 кораблей, плывущих от Замка встречать нас. Во главе их шел сверкающий золотом и драгоценными камнями корабль с юными Королем и Королевой на борту, от имени которых Старый Атлант приветствовал нас.
Остальные наши товарищи были крайне изумлены при виде Короля, так как думали, что только они должны вновь пробудить его. Мы вели себя так, будто бы тоже были удивлены. После речи Атланта выступил наш Старец. Он пожелал Королю и Королеве много счастья и потомства, а затем передал им удивительную маленькую шкатулку, но что было в ней, я не знаю. Затем эту шкатулку передали на хранение Купидону, который парил между Королем и Королевой.
Потом мы благополучно поплыли вместе, пока не причалили к берегу невдалеке от первых Врат, в которые я вошел когда-то.
На берегу нас ждали лошади. Когда мы сошли с кораблей, то Король, Старец и я сели верхом. Меня взяли только по причине преклонного возраста и потому, что у меня, как и у Старца, была длинная седая борода и волосы. На каждом из нас троих была снежно-белая Эмблема с Красным Крестом. Свою я прикрепил к шляпе. Юный Король, заметив это, спросил меня, не я ли выкупил эти Эмблемы у Врат. Со всей скромностью я ответил «Да», но он рассмеялся и сказал, что теперь не надо больше церемоний, ведь я был его Отцом.
Когда мы достигли первых Врат, их Страж в своих небесно-голубых одеждах поджидал нас с прошением в руках. Он протянул его мне и попросил использовать мое хорошее положение, излагая его просьбу перед Королем. Поэтому по пути ко вторым Вратам я спросил Короля о первом Страже. Король ответил, что он был в свое время очень известным астрологом, но совершил проступок перед Венерой, увидев ее в кровати во время отдыха. В наказание за это он должен был ждать у Врат, пока кто-нибудь не освободит его отсюда.
— Значит, он может быть освобожден? — спросил я.
— Да, если кто-нибудь другой совершит такой же грех, он должен будет занять его место.
Эти слова вонзились мне в сердце, сознание подсказывало мне, что я преступник, однако я сохранил спокойствие и передал Королю просьбу Стража. По мере ее чтения Король приходил все в больший ужас и когда мы сошли с коней, велел тут же прислать ему в кабинет Старого Атланта. Он показал ему написанное, но Атлант не стал ужасаться, а сел на коня и поскакал к Вратам, чтобы разузнать как следует, в чем дело.
Нам было объявлено, что после ужина каждый из нас может попросить у Короля, чего пожелает. Король и Королева, между тем, сели играть в игру наподобие шахмат, но фигурами в которой были добродетели и пороки. Из этой игры можно было увидеть, как пороки сидят в засаде против добродетелей и каким путем можно избежать неожиданной встречи с ними. Во время игры вернулся Атлант и по секрету сообщил Королю о результатах, однако я весь покраснел, так как мое сознание не давало мне покоя.
Король протянул мне просьбу, чтобы я ее прочитал. В ней Страж Первых Врат сообщал, что один из гостей Короля открыл Венеру, так что пришло время освободить его от обязанностей Стража, а также просил позволить ему присутствовать на вечернем банкете в надежде, что его преемник будет обнаружен.
Король послал пригласить Стража присоединиться к нам, а когда мы все сели за стол, он строго осмотрел нас. Затем были поставлены в круг прочные изящные стулья, и мы все сели на них вместе с Королем, Королевой, обоими Старцами, дамами и девами. Красивый паж объявил, что Король, в благодарность за нашу службу, избирает каждого из нас Рыцарем Золотого Камня и требует, чтобы мы дали пять клятв:
1. относить основание нашего Ордена только к Богу и Его служанке Природе;
2. возненавидеть всякое распутство и не осквернять Орден подобным злом;
3. использовать свои таланты для помощи всем, кто в них нуждается;
4. не стремиться к земному достоинству и высокому авторитету;
5. не желать жить дольше, чем Бог положил нам.
Последний пункт мы не могли встретить без улыбки.
С соответствующей церемонией мы были возведены в Рыцари, а затем процессией направились в небольшую часовню, где я повесил свое Золотое Руно и шляпу и, поскольку все писали там свои имена, я тоже написал:
Высшая мудрость — это не знать ничего.Брат Христиан РозенкрейцРыцарь Золотого Камня1459
Затем Король удалился в небольшой кабинет, в котором каждый из нас в частной с ним беседе излагал свои просьбы. Я решил на свой собственный риск освободить Стража Первых Врат от его работы, поэтому, когда меня позвали, я рассказал всю правду.
Король крайне изумился моему признанию и попросил меня отойти немного в сторону, а когда я был позван снова, Атлант объявил мне, что Их Королевскому Величеству крайне прискорбно, что я, кого он любил больше всех, впал в такое несчастье. Однако, поскольку он не может нарушить свои древние обычаи, то Первый Страж должен быть освобожден, а я поставлен на его место. Для меня не будет никакой надежды на освобождение до брачного пира его будущего сына. Этот приговор едва не стоил мне жизни, однако я сохранил мужество и осознал, что этот Страж был моим благодетелем, дав мне знак (жетон), с помощью которого я выстоял на весах и был сделан участником всех почестей и радостей, которые уже получил.
В это время добрый человек был объявлен свободным, а я подумал, что теперь мне придется окончить жизнь у Врат.
Кольцо служителя было одето мне на палец. Король обнял меня и сказал, что я вижу его в таком образе последний раз. Из этого я понял, что уже на следующее утро я должен буду сесть у моих Врат. Когда пришло время расстаться, и остальные Рыцари были отведены в свои спальни, я, самый несчастный, не имел никого, кто бы указал мне путь. Но тут подошли ко мне никто иные, как два Старца — Атлант и Страж Башни. Они отвели меня в чудесную комнату, где стояли три кровати, на которые мы и легли. Тут мы принесли еще почти два…
В этой точке повесть неожиданно обрывается посредине предложения, и далее приписана концовка:
«Здесь недостает двух листов. Насколько можно себе представить, — будучи вынужден стать на утро охранителем ворот, он вернулся домой».
Иллюстрации
«Химическая Свадьба» издания 1616 г. Титульный лист.
1. Иконографические параллели к «Химической Свадьбе»: «Алхимическая смерть»; «Алхимический процесс». Миниатюры из рукописной книги «Занимающаяся Заря». Германия, XV в.
2. Яков I. Портрет работы Даниэля Майтенса. Национальная портретная галерея (Лондон). Strong. Tudor and Jacobean Portraits. V. 2. Pl. 354.
3. Фридрих и Елизавета, король и королева Богемии. Гравюра, напечатанная в Праге по случаю их коронации. Jan Arnos Komensky. Ill. 38. 1619.
4. Филип Сидни. Рисунок Джорджа Вертю с портрета кисти Джона де Критца Старшего. Частная коллекция. Strong. Tudor and Jacobean Portraits. Pl. 571.
5. Иоганн Валентин Андреэ (1586–1654). Портрет работы неизвестного художника, 1639. Музей земли Вюртемберг в Штутгарте. Johann Valentin Andreae… Katalog. Фронтиспис.
6. И.В. Андреэ в 1616 г., в год издания «Химической Свадьбы». Гравюра из его книги «Вихрь…» (Turbo Sive moleste et frustra per Cuncta Divagans ingenium). Геликон близ Парнаса, 1616. A Christian Rosencreutz Anthology. P. 193.
7. Первая страница рукописи «Автобиографии» Андреэ. Библиотека герцога Августа в Вольфенбюттеле, Johann Valentin Andreae… Katalog. Ill. 63.
8. Портрет Генриха Кунрата (1560–1605). Гравюра из его кн.: Амфитеатр Вечной Мудрости. Ганновер, 1609. A Christian Rosencreutz Anthology. P. 196.
9. «Амфитеатр Вечной Мудрости». Титульный лист с портретом автора. A Christian Rosencreutz Anthology. P. 275.
10. «Алхимик-каббалист». Гравюра из кн. «Амфитеатр Вечной Мудрости». A Christian Rosencreutz Anthology. P. 277.
11. Знак монады на полях английского издания «Химической Свадьбы» (перевод Изикьела Фокскрофта). Лондон, 1690. A Christian Rosencreutz Anthology. P. 69.
12. Джон Ди. Иероглифическая Монада. Антверпен, 1564. Титульный лист. A Christian Rosencreutz Anthology. P. 196.
13. Фридрих V работает на барщине. Немецкая карикатура 1621 г. Надписи: «Барщина», «Хороший голландский сыр», «Корона потеряна», «Я строю на песке», «Я рою яму и сам в нее упаду», «Ах, как бы я хотел вырубить новый деревянный скипетр!»; над группой придворных в правом верхнем углу: «От нас тебе малая польза…» Scheible. Die Fliegenden Blätter. Zwischen S. 278 und S. 279.
14. Торжествующий Габсбургский Орел и поверженный Пфальцский Лев на вращающемся колесе Фортуны. Немецкая карикатура 1621 г. Bohatcovâ Miriam. Vzâcnâ sbirka publicistickych a portrétnich dokumentù k pocâtku Tricetileté vâlky. Praha, 1982. № 140.
15. Теофил Швайгхардт. Зерцало Мудрости Розо-Крестовой. [Б.м.], 1618. Титульный лист. A Christian Rosencreutz Anthology. P. 342.
16. Портрет Роберта Фладда (1574–1637). Гравюра на фронтисписе его книги «Священная Философия» (Philosophia Sacra). [Б.м.], 1626. A Christian Rosencreutz Anthology. P. 203.
17. P. Фладд. История Макро- и Микрокосма. Оппенхайм, 1618. Титульный лист, гравированный Иоганном Теодором Де Бри. A Christian Rosencreutz Anthology. P. 352.
18. «Божественная гармония». Гравюра Де Бри из «Истории Макро- и Микрокосма» Фладда. A Christian Rosencreutz Anthology. P. 356.
19. «Небесные сферы». Гравюра Де Бри из «Истории Макро- и Микрокосма» Фладда. Alchemie und Mystik.
20. Вид Хайдельберга. Гравюра работы Венцеслава Холлара. Из архива Хайдельбергского университета. Jan Arnos Komensky. Ill. 32.
21. Портрет Михаэля Майера (1568–1622). Гравюра из его книги «Златое Алтарное Приношение Двунадесяти Языков». Франкфурт, 1617. A Christian Rosencreutz Anthology. P. 393.
22. Михаэль Майер. О Странствиях, сиречь о Восхождениях Семи Планет. Оппенхайм, 1618. Титульный лист с портретом автора, гравированный Иоганном Теодором Де Бри. A Christian Rosencreutz Anthology. P. 207.
23. «По следам Природы». Гравюра из книги Михаэля Майера «Убегающая Аталанта», Оппенхайм, 1617. Alchemie und Mystik.
24. «Философское яйцо». Гравюра из книги Михаэля Майера «Убегающая Аталанта». Оппенхайм, 1617. A Christian Rosencreutz Anthology. P. 197.
25. «Алхимики» (Томас Нортон, аббат Кремер, Василий Валентин). Гравюра из книги Даниэля Стольция «Химический Цветник». Франкфурт, 1624. Перепечатана Стольцием с кн.: М. Майер. Золотой Треножник. Франкфурт, 1618. A Christian Rosencreutz Anthology. P. 448.
26. Портрет Марена Мерсенна (1588–1648). Гравюра работы неизвестного художника. Jan Arnos Komensky. Ill. 77.
27. Портрет Фрэнсиса Бэкона (1561–1626), предположительно написанный Абрахамом Блайенберчем. Национальная портретная галерея (Лондон). Strang. Tudor and Jacobean Portraits. V. 2. Pl. 21.
28. Страница письма Андреэ герцогу Августу Брауншвейгскому со списком членов Христианского Общества. Библиотека герцога Августа в Вольфенбюттеле, Ms. 65. 1 Extrav., 21. В списке упоминаются Вильгельм фон Вензе и Тобиас Адами. Документ написан через много лет после разгрома Общества и грешит неточностями. Johann Valentin Andreae… Katalog. Ill. 46.
29. Портрет Яна Амоса Коменского в возрасте 74 лет. Гравюра К. Хагензе с портрета работы Криспина де Па, 1665. Национальная библиотека в Видене. Jan Arnos Komensky. Ill. 121.
30. Карел Старший Жеротинский (1564–1636). Рисунок неизвестного художника. Jan Arnos Komensky. Ill. 36.
31. Уолтер Рэли (ок. 1552–1618). Миниатюрный портрет работы Николаса Хильярда. Национальная портретная галерея (Лондон). Strang. Tudor and Jacobean Portraits. V. 2. Pl. 503.
32. Густав II Адольф (1594–1632). Гравюра неизвестного художника. Архив Государственного педагогического издательства в Праге. Jan Arnos Komensky. Ill. 51.
33. Карл II. Протрет кисти сэра Питера Лели.
34. Роберт Бойль (1627–1691). Фрагмент портрета работы Ф. Керсбума. Из собрания Королевского общества (Лондон). The Royal Society. Pl. 12.
35. Джон Уилкинс (1614–1672). Портрет работы Мэри Биал, 1672. Из собрания Королевского общества. The Royal Society. Pl. 3.
36. Фрагмент портрета Элайаса Ашмола (1617–1692) работы Джона Рили, 1689. Музей Ашмола (Оксфорд). The Royal Society. Pl. 25.
37. Фридрих V Пфальцский (1596–1632) в Гааге. Портрет работы Герарда ван Хонтхорста. Национальная портретная галерея (Лондон). Yates F.A. The Rosicracian Enlightenment. London, 1972. Pl. 28.
38. Ян Баптист ван Гельмонт (1577–1644) и его сын Франциск Меркурий ван Гельмонт (1618–1699). Фронтиспис книги Я.Б. ван Гельмонта «Сад Медицины». Амстердам, 1648.