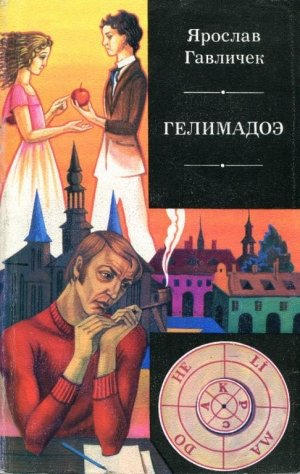
ЛЕГЕНДА О ГЕЛИМАДОЭ
Название романа чешского писателя Ярослава Гавличка «Гелимадоэ» звучит странно и загадочно, вызывая в памяти далекие экзотические страны, окутанные дымкой фантазии… И для героя-рассказчика, много лет спустя вспомнившего свое прошлое, это слово будто напоминает имя маленькой принцессы из далеких детских грез. Но действительность проще и менее поэтична. Слово «Гелимадоэ» складывается из первых слогов имен пятерых дочерей провинциального врача Ганзелина — Гелена, Лида, Мария, Дора, Эмма. И возникло оно благодаря графику обязанностей каждой из девушек, составленному отцом, — они по очереди должны были нести дежурство по дому, в саду, на скотном дворе или помогать ему во время приема пациентов. Из-за этого неумолимого, неизменного графика и многих других своих чудачеств доктор Ганзелин и пять его дочерей становятся притчей во языцех в маленьком чешском городке Старые Грады, где в начале нашего века разворачивается действие романа.
Встречаясь с доктором Ганзелином, читатель сразу понимает, что речь в романе пойдет о конфликте недюжинного человека с самодовольным мещанским провинциальным обществом. Впрочем, и сам рассказчик тут же сообщает те подробности биографии Ганзелина, которые помогают читателю осмыслить дальнейшее. Это — выходец из бедной семьи, в юности он перенес тяжелую болезнь, чуть не сведшую его в могилу, и потом, только благодаря браку с зажиточной крестьянкой, получил медицинское образование, о котором мечтал. Став врачом, Ганзелин не поселился в той части города, где красовались жилища «уважаемых» граждан, а остался жить и домике на окраине, среди бедняков, он стал доктором «бедных», оказывая нуждающимся бесплатную или почти бесплатную помощь. Все это, а также крутой и независимый прав Ганзелина оттолкнул от него богатых и почитаемых пациентов. Так что докторские гонорары были тощими, и семье пришлось поддерживать существование с помощью огорода, разводить кроликов и птицу. Отцу героя юного Эмиля, принадлежащего к местному начальству, приходится выдержать настоящее сражение со своей надменной супругой, чтобы пригласить для лечения к тяжело заболевшему сыну этого неучтивого, неотесанного деревенского лекаря, который почему-то внушил ему безоговорочное доверие.
Дочери Ганзелина тоже попали в весьма странное и неприятное положение. По своей социальной принадлежности — это барышни из «хорошего общества», но вели они жизнь трудовую, как дочери бедняков, подвергаясь бесчисленным насмешкам мещанского окружения. Мамаши и дочки из мещанских семейств злорадно хихикали, выглядывая из окон своих особняков, когда та или иная «Гелимадонна» шла со старенькой кошелкой за провизией или гналась по улице за удравшим гусем. Судьба девушек складывается горько: еще бы, городские молодые люди не решались даже подходить к ним. Три старшие дочери к началу действия романа — увядшие старые девы, потерявшие всякую надежду на личную жизнь и безропотно подчинившиеся тиранической воле отца.
Не подчиняется ей только одна — Дора, унаследовавшая неукротимый нрав Ганзелина и не примирившаяся с безрадостной участью, уготованной ей так же, как и ее сестрам. Она ненавидит мещанское окружение и свою серую, однообразную жизнь, она восстает против тиранической отцовской власти, но идет гораздо дальше, чем он, в своем бунте против множества мещанских запретов. Влюбившись в странствующего циркового фокусника, Дора тайно убегает из дома. Ганзелин, столь упорный в борьбе с мещанским обществом Старых Градов, в этом случае как бы приемлет его ханжество и отрекается от дочери. Так осложняется и усугубляется в книге тема борьбы с мещанством. Конфликт двух неукротимых натур, борьба отца и дочери, в которой каждый стоит за свое понимание счастья и человеческого предназначения, раскрыт психологически убедительно.
Сюжет, о котором шла речь, вполне вписывается в рамки добротного реалистического изображения провинциальной действительности, очень распространенного в чешском романе первых десятилетий XX века. Обычно в подобных романах давали себя знать и натуралистические тенденции дотошного описательства и погоня за самодовлеющими примерами среды. Роман Гавличка отличается от подобной литературы. И это происходит потому, что те события в семье Ганзелинов, о которых прежде всего повествуется в романе, показаны сквозь призму восприятия юного Эмиля, пациента доктора Ганзелина, впервые начинающего познавать действительность за пределами своего чопорного чиновничьего семейства. Поэтическое мироощущение подростка, открывшего для себя красоту и поэтичность мира, захваченного своим еще не осознанным чувством к Доре, со страстным любопытством всматривающегося в перипетии человеческой драмы, которая раскрывается у него на глазах, — вносит в повествование звенящую лирическую мелодию.
В мире юношеских чувств действительность предстает преображенной. Дора использует влюбленного мальчика только для того, чтобы с его помощью легче было поддерживать тайную переписку с любовником, а мальчику его новые обязанности представляются служением пажа своей королеве. Шарлатан-циркач в его воображении превращается в волшебника, освобождающего заколдованную принцессу от злых чар. Даже обыкновенное цирковое представление рисуется Эмилю сказкой, праздником радости. Романтическое восприятие явлений жизни, глубокое проникновение в поэзию окружающей природы, очарование юного, но подернутого грустью неразделенного чувства — все это придает особый аромат, казалось бы, вполне реалистическому повествованию о жизни чешского захолустного городка последних десятилетий существования Австро-Венгрии.
Такая двуплановость проявляется и в стиле романа. Гавличек в высшей степени наделен эпическим видением, умением воспроизвести точную и броскую деталь, он не боится подробных описаний внешности персонажей и обстановки, их окружающей. Читатель увидит и низкорослого доктора Ганзелина с его толстым брюшком, на котором красовался брелок, изображающий голову индейца, багровые надутые щеки старого доктора или спальню четырех сестер с их сундучками и шкафчиками, в которых хранились девичьи секреты. В то же время всякий, читающий книгу, подпадает под неуловимое очарование нежного дуновения теплого ветерка, однообразной песни реки или осеннего танца пестрых кленовых листьев.
Несомненное достоинство романа Гавличка — тонкое проникновение во внутренний мир героев, точное видение незаметных душевных движений и их результатов. «Гелимадоэ», бесспорно, принадлежит к лучшим достижениям чешской психологической прозы, достигшей в 30—40-е годы весьма высокого уровня. Выразительны психологические подробности отношений в чопорной семье Эмиля, где отец, видный по местным масштабам чиновник, нежно любит сына, а сын равнодушен к нему и обожает мать, капризную провинциальную красавицу, которая любит только самое себя, но добивается от мужа исполнения своих требований в деле воспитания сына, к которому она, в сущности, не испытывает материнских чувств. Столь же выразительно раскрыто отношение Эмиля к Ганзелину, симпатией которого он очень дорожит, тяжело переживая, что по приказу Доры вынужден обманывать доктора. Много точных психологических деталей и в переживаниях Эмиля, с его мальчишеской стеснительностью, легко ранимым самолюбием, и в перипетиях его влюбленности в Дору, которая сначала издевается над «взрослыми чувствами» мальчишки, а потом эгоистически использует их в интересах своей тайной страсти. Необыкновенно живым выступает и образ доктора Ганзелина, порой добродушного, чаще свирепого и всегда неумолимо-последовательного в осуществлении своих принципов. Тайна жизненной достоверности заключена и в образах его чудаковатых, сломленных жизнью старших дочерей с их стародевическими чудачествами и привычками. Они единодушно осуждают взбунтовавшуюся Дору, лишившую их надежды воспитывать хотя бы племянников и тем удовлетворить подавленное чувство материнства. И на самом деле, казалось бы, что стоило Доре сочетаться законным браком со смешным и жалким учителем Пирко, влюбленным в нее? Однако в этой женщине столько страстной жизненной силы, что сама мысль о таком исходе вызывает в ней бунт. Дора готова смести все препятствия, только бы вырваться на волю, только бы избежать жалкой участи сестер. А маленькая Эмма, представившаяся Эмилю воздушным эльфом, любимица семьи? Ее не миновала судьба сестер. После дезертирства Доры отец впряг ее тоже в неумолимый распорядок дел по дому. Так замирала жизнь в этом достойном семействе. Такой трагедией оборачивалось бескомпромиссное противостояние Ганзелина чуждому мещанскому окружению. Но, повторим, в произведении этот точный психологический анализ соседствует с романтическим началом, что превращает повествование в поэтическую сказку.
Тема пробуждения чувств, юношеского поэтического восприятия мира в столкновении с первыми разочарованиями, припасенными для героя прозаической действительностью, вообще очень распространена в чешской литературе XX века. Эта тема заявлена уже в эпиграфе к роману, — в поэтических строчках одного из крупнейших чешских поэтов-лириков нашего века Антонина Совы (1864—1928).
Гавличек, раскрывая тему становления и мужания человека, близок не только Сове, но и Фране Шрамеку (1877—1952) — тоже крупному чешскому поэту и прозаику. Роман Ф. Шрамека «Серебряный ветер» также посвящен поэзии первого пробуждения юношеских чувств. Уместно здесь вспомнить и «Разбойника» Карела Чапека (1890—1938) — драму, в которой юношеская бескомпромиссность сталкивается с мещанской мудростью, с приспособлением к обыденности; придут на память некоторые повести М. Пуймановой (1893—1958) и Б. Бенешовой (1873—1936). Ярослав Гавличек, признанный мастер эпической прозы, затрагивает здесь ту сферу, которая обычно считается достоянием поэзии, полетом поэтической фантазии обогащая трезвый реалистический анализ жизненной достоверности.
Для того чтобы лучше понять художественный смысл романа и представить себе его место в чешской литературе, надо вспомнить время его написания и выхода в свет. Роман «Гелимадоэ» вышел в 1940 году в тяжелое для Чехословакии время нацистской оккупации. Известно, что произведения, издававшиеся в то время, были ограничены множеством цензурных запретов; круг тем, которых мог касаться писатель, был крайне узок. В это время на первый план выдвинулся психологический роман. Это было вызвано не только цензурными препонами, приведшими к тому, что традиция широких социальных полотен, получившая развитие в чешской литературе 30-х годов, была прервана, но и особыми задачами, вставшими перед литературой в эту тяжкую эпоху. Факт предательства Чехословакии ее западными союзниками, иллюзии относительно возможности сохранения того, что может уцелеть в условиях фашистского протектората, постепенная утрата этих иллюзий и все более широкое распространение подпольной антифашистской борьбы — все это заставляло писателей думать о многих моральных вопросах: о смысле человеческой активности, о губительности индивидуализма, о верности и предательстве, о разуме и предрассудках, о трусости и мужестве, о вере и пассивном отчаянии. Писатели, анализируя внутреннюю жизнь героев, отвечали на эти вопросы в меру своей честности и таланта, Сразу же после Мюнхенского сговора Карел Чапек начал работать над романом «Жизнь и творчество композитора Фолтына», в котором он сосредоточивает свое внимание на проблемах морали художника. В трагические дни, когда на поверхность общественной жизни выплыло столько грязи, столько ненависти и подлости, Чапек пишет о нравственных возможностях человека. Тот же пафос одушевляет романы, созданные в годы нацистской оккупации известным чешским писателем Вацлавом Ржезачем (1901—1956), который как бы транспонирует то неблагополучие, которое таила в себе социальная действительность времени протектората, во внутренний мир персонажей. Именно в это время он создает «историю человека с червоточиной», — так писатель охарактеризовал один из своих романов, увидевших свет в те годы. Изображение злого начала, предательства и подлости, неудержимого властолюбия, потребительского эгоизма и духовного паразитизма — вот что лучше всего удается Ржезачу в этот период.
При сопоставлении «Гелимадоэ» с одновременно вышедшими романами Ржезача, особенно ярок тот свет, которым озарено и согрето повествование в романе Гавличка. Это произведение занимает особое место в чешской литературе времени протектората. Вера в безграничные возможности доброго и светлого начала в человеке сближает книгу Гавличка с другим чешским романом, вышедшим в эти же годы, — «Цирком Умберто» Эдуарда Басса (1888—1946). Роман Басса, где ярко запечатлена праздничная атмосфера цирка, также сочетает в себе трезвую жизнеподобность изображения нелегкой жизни циркачей с такой же, как в «Гелимадоэ», юной увлеченностью поэтической красотой жизни.
Особое место занимает «Гелимадоэ» и в творчестве его автора — Ярослава Гавличка. Биография Гавличка (1896—1943) не очень богата внешними событиями. Он родился в семье учителя в городке Илемнице у подножья Крконош. Жизнь и быт родного городка стали для писателя неисчерпаемым источником сюжетов и типажей для его будущих произведений. Участник первой мировой войны, Гавличек, получив коммерческое образование, после демобилизации поступает на работу в Живностенский банк в Праге. Вся его жизнь до конца дней была поделена между скучной, чуждой ему работой в банке и литературным творчеством. Из-за недостатка времени писал он главным образом по ночам. Постоянное перенапряжение быстро истощило силы писателя — он умер в 1943 году в возрасте сорока семи лет.
При жизни писателя его творчество не привлекало к себе особого внимания, слава пришла к нему посмертно. В настоящее время чехословацкая критика единодушно причисляет Гавличка к крупнейшим мастерам чешского критического реализма межвоенного периода.
Первый роман Гавличка «Керосиновые лампы» (1935) был задуман как начало большого цикла, посвященного жизни провинциального мещанства. В первом издании этот роман назывался «Загубленные мечты». Тема неосуществленной мечты, затоптанной в ядовитой мещанской атмосфере, так или иначе варьируется во всех романах Гавличка. Героиня первого романа не решается преодолеть путы мещанских заповедей и терпит жизненное фиаско, увядает и засыхает душой — как и старшие дочери Ганзелина, не найдя в себе сил для решительной борьбы за счастье.
Злая издевка над мещанством, над его писаными и неписаными законами содержится в романе «Третья» (1939).
Самый большой успех у читателей имел роман Гавличка «Невидимый» (1936), в котором внимание автора привлекает психопатологический казус: тяжелый наследственный душевный недуг в семье богатого фабриканта, который губит одного за другим всех членов этой семьи. Однако автор не ограничивается только темой рокового влияния наследственности, которая сближает его с натурализмом; изображение жизни под его пером переходит в остро социальный план благодаря фигуре Швайцера, жестокого и безжалостного хищника, решившего подняться вверх по социальной лестнице, женившись на дочери фабриканта и забрав власть в деле ее отца. Но страшные результаты наследственного недуга кладут конец широким планам Швайцера. В этом романе проявилось свойственное писателю мастерство композиционного построения; благодаря напряженному сюжету, сочетающемуся с острым психологическим анализом, роман читается с захватывающим интересом. То же мастерство проявляется и в «Гелимадоэ», только тут в эпически добротную форму романа вплетается сильное лирическое начало, тут чувствуется дуновение «серебряного ветра», которое придает этому роману редкое очарование.
В своих заметках по поводу «Невидимого» Гавличек пишет, что он не хотел бы изображать «одноцветно» мрачные персонажи, так как это не человечно. В «Гелимадоэ» этот принцип проведен в жизнь в полной мере. Тут нет ни одного образа (рассказчик также не составляет исключения), который не совершал бы ошибок или не был порою смешон, но в каждом есть нечто по-человечески светлее, что вносит в грустное повествование тона неувядаемой надежды. Именно благодаря этому качеству многие исследователи считают «Гелимадоэ» лучшим достижением Гавличка-романиста. В конце романа стоят знаменательные слова: «Эту историю я написал на стыке двух эпох — эпохи великого горя и великой надежды». Ярослав Гавличек глубоко переживал несчастья, постигшие людей, он писал «Гелимадоэ» в горький для его родины момент. Но книга освещена теплыми лучами надежды, и эта надежда и вера в то доброе и светлое, что живет в человеческих душах, делает ее близкой и сегодняшнему читателю.
И. Бернштейн
ГЕЛИМАДОЭ
Мы еще раз возвратимся туда, где цветок незабвенный
благоухал так, что сбил нас с пути в час, когда над ручьями тек вечер
сумеречным серебром; и еще раз туда мы вернемся, где часто
слышали в окнах мы песенку, что обращалась к садам засыпавшим.
ГЛАЗА, ПОЛНЫЕ СОЛНЦА
Вот уже больше недели небо оставалось неизменно голубым, с востока плыли все такие же редкие облачка, столь же ласково веял теплый ветерок и все ту же монотонную песню пела река. Долина ее походила на гигантское ущелье, а берег зарос настолько высокой травой, что в ней мог спрятаться человек. Я люблю пустынные уголки. Люблю крутые лесистые склоны. Каждый день я приходил на одно и то же местечко, где примял себе в траве лежбище, ровно такой ширины, чтобы вытянуться, раскинув руки. Чуть ниже по реке, в тумане пенных брызг, шумела плотина. За плотиной стоял привязанный к месту паром, на котором, несмотря на удушливый июньский зной, трудились рабочие, добывая со дна песок.
Порой какая-нибудь чересчур темпераментная волна издаст почти что скрипичный звук, усядется неподалеку от меня на валун трясогузка, помахивая в такт волнам своим длинным хвостиком. Я брал с собой на реку книги — больше для того, чтобы подложить их под голову в качестве жесткой подушки. Эти благостные дни волшебным образом снимали с меня бремя действительности. Я предавался отдыху. Ни о чем не думал. Не желал ни терзаться воспоминаниями о пережитых горестях и муках, ни ободрять себя, уповая на грядущие радости, которые, быть может, еще ожидают меня впереди. Жизнь можно сравнить с ездою в поезде, и вот — удивительное дело — мой поезд сделал остановку. А разве полный покой сам по себе не означает счастья? Я упивался им не как страждущий или дошедший до отчаяния человек, а как обыкновенный лентяй.
Когда глаза ваши зажмурены от солнца, когда вы не слышите других звуков, кроме журчания воды, и чувствуете лишь жаркое прикосновение вожделенных солнечных лучей, — вам кажется, что вы и вправду существуете вне времени и вне определенного земного пространства. Ведь точно так, как здесь, в этой ложбине, вы могли бы лежать иным летним днем у иной реки под знойным солнцем. Поразительно, как мало надо, чтобы очутиться в прошлом и отправиться странствовать по всем тем местам, где мы когда-либо лежали столько раз и загорали на солнышке! Вот так же, как теперь, я лежал где-нибудь еще, заложив за голову руки и приспустив на глаза красноватый занавес век. Все картинки, независимо от давности, кажутся вырезанными из одинаковой золотистой бумаги. Мысли обращены лишь к стороне, освещенной солнцем, а всего остального в жизни словно вовсе и не бывало.
Отрадное путешествие, порханье мотылька! Земное притяжение исчезло. От одного, залитого солнечным светом берега к другому — плавно, беспечно. Безмолвные силуэты друзей и подруг, молодых и старых, живых и умерших возникают на сетчатке глаза. В них можно пристально вглядываться, изучать. И нечего опасаться, в памяти всплывают лишь светлые минуты, безоблачные дни. Над каждой головой свой золотой нимб, свой ореол. Путешествие легкое, но глубокое, а насколько глубокое — осознаешь, только открыв глаза. Наступает тяжкое пробуждение. Вокруг оловянно-серый или вовсе бесцветный мир. Не лучше ли сомкнуть веки и перенестись в очарованный мир?
А можно повернуть и пойти назад по четко обозначенным вехам на дороге жизни? Плыть против течения, к самым истокам жизни. Я так и сделал, и так началась моя необычная игра. Прошлый год, позапрошлый, все дальше, все глубже. Я молодел, уменьшался ростом, не переставая, однако, ощущать свое загорающее тело, свои уши, которые все слышат, свои глаза, ослепленные ярким блеском. Все дальше, дальше — мне хотелось спуститься наконец до той изначальной ступеньки, когда это случилось впервые. Теперь я напрягал память, силился заглянуть возможно глубже. Хотел с зажмуренными глазами перенестись в тот солнечный день, у которого не было предшественника. И мне это удалось.
Послушно ложатся рядом одна подробность к другой, и вот изображение становится таким отчетливым, что у меня перехватывает дыхание. Я уже не костлявый сорокатрехлетний мужчина с волосатыми ногами и поредевшей шевелюрой, ладонь не царапается о плохо выбритую щетину, на спине нет глубокого шрама, следа войны, а передние зубы не укреплены золотыми коронками. Не вздымаются вокруг меня каменистые склоны, поросшие лесом, и не река шумит поблизости. Лишь солнце такое же — горячее и ласковое. Мне четырнадцатый год. Кожа у меня гладкая, бедра узкие, живот впалый. Изящный девичий вырез губ. Мягкие темно-каштановые волосы спадают на лоб, но щеки бледны, а грудная клетка торчит над травой, как оголенный остов судна.
Речушка, делая романтические изгибы, вьется среди ивовых зарослей. Если приподнять голову и открыть глаза, то за кронами деревьев можно различить тесовую крышу милетинского лесничества. Немного поодаль ползет в горы пыльная дорога; оттуда с грохотом спускаются подводы, груженные известняком, и катят на велосипедах рабочие бумажной фабрики, ловко крутя педали ногами, обутыми в деревянные башмаки. По тропинке, что бежит вдоль шоссе, теряясь затем в лугах, усеянных лютиками и ромашками, до Старых Градов не более восьми — десяти минут ходу.
Перед тем я ни разу не купался в реке, ни разу не лежал голышом на зеленой траве. Я был воспитан на господский манер. Даже кустов стыдился, даже деревьев. В трелях сидевшей на ветке птицы мне чудилась насмешка. От непривычки лежать на прохладной траве тело охватывала мучительная дрожь, кожа покрывалась пупырышками. Потом начинало пригревать солнце; острия его лучей, казалось, проникали внутрь. Я познавал недозволенное блаженство. Осваивался с ним. Закрывал глаза и снова открывал их навстречу сиянию небес.
Моя мать ходила вокруг меня маленькими, сколько позволяла ее узкая юбка, шажками — взад, вперед, точно нетерпеливый страж. Сквозь вуаль, спускавшуюся с украшенной зелеными перьями шляпки, сверкали ее красивые карие глаза. Плотно облегающая блузка подчеркивала тонкую талию. Свои золотые часики, висевшие на груди, мать держала в руке и считала минуты. Временами она опасливо поглядывала в сторону шоссе — а ну как кто-нибудь нас заметит? Видя ее смущенной, я чувствовал себя вдвойне виноватым. На ходу, не сбавляя шага, она стегала траву своим зонтиком, ручку которого обвивала черная змейка с красными стеклянными глазками. Груда моего платья и белья валялась под ивой, будто старье, скинутое бродягой. Как могла моя мать со своими утонченными манерами, первая дама среди староградских дам, спокойно выносить сие непристойное зрелище? Не дай бог кто-нибудь из знакомых увидит, как она караулит здесь убогую мою наготу! Это было бы поистине трагично. Моя стеснительность была лишь отражением ее стыда. И в то самое время как тело мое с жадностью принимало ласку солнечных лучей, душа моя корчилась в муках оттого, что блаженство это краденое. Слух с наслаждением внимал тихим мелодичным звукам — это доверчиво лепетала что-то в своих илистых берегах речка Безовка.
Едва кончалось время, предписанное для загорания, как мать отдавала команду одеваться и прятала часы за пояс. «Живей, живей!» Она в нетерпении теребила свой кружевной платочек, сделавшись вдруг суровой и неумолимой, — ведь могло случиться, что в самое последнее мгновенье кто-нибудь незваный сунет нос в этот укромный, тщательно выбранный уголок. Всякий раз мне приходилось выслушивать горькие упреки, потому что, при всем старании, я не мог угодить матери. Разомлевший от лежания на солнце, я двигался, точно во сне; перед моими глазами плыли зеленые круги, и я никак не мог нашарить рукав рубашки. А балансирование с очередной штаниной почти всегда заканчивалось моим отчаянным паническим воплем: одна из здешних сонных, неуклюжих, холодных лягушек вываливалась оттуда прямо мне на босые ноги и гигантским прыжком скрывалась в заводи под ивой.
Я БЫЛ ТЯЖЕЛО БОЛЕН
«Нет худа без добра», — говаривала, бывало, наша старая Гата. К этому утешению она прибегала в случае любой неприятности, хотя нередко за одной бедой следовала другая, еще худшая, Гатин оптимизм иногда оправдывался. Ведь не подхвати я тяжелую болезнь, купание и загорание на солнце долго еще оставались бы для меня неизведанным наслаждением.
Восемь недель провалялся я в постели с тремя воспалениями, из которых самым опасным оказалось воспаление легких, — для семьи уездного гейтмана[1], где я был единственным ребенком, настали, разумеется, не слишком веселые дни. Доныне не могу забыть череду мучительных ощущений, которые мне довелось тогда испытать: режущий глаза свет ночной керосиновой лампы, горевшей в темной душной комнате, тяжкий бред кошмарных горячечных снов, но более всего запомнились надсадный кашель и конвульсивная дрожь, которая охватывала все мое тело при непрерывно сменяемых холодных обертываниях.
В полдень, а потом еще и вечером, всегда в одно и то же время, склонялась надо мной высокая, статная фигура отца. По каким-то причинам его присутствие было мне тогда крайне неприятно. Возможно оттого, что он по обыкновению лишь горестно молчал, затаив во взгляде тихий, печальный вопрос. Либо — скорее всего — в облике отца меня всегда что-то раздражало и, ранее скрываемое, теперь, во время горячки, вырывалось наружу. Его широкое лицо было до отвращения мягким, а черты лица невероятно правильными! Свежие, полные, с легким румянцем щеки — признак цветущего здоровья, подбородок с ямочкой. Стоило, казалось, только коснуться этого лица, как от прикосновения образуется вмятина. Отец хвалился, что он никогда, с самой молодости, не брил усов, и вот теперь они, подобно вьющемуся хмелю, тянулись от его носа до самых висков. По-видимому, он говорил правду: усы его были пушистые, густые и образовывали на лице две волнообразные коричневые линии.
Отцовские глаза вопрошали, но я не отвечал. Глаза матери — зоркие, сверкающие в темноте, точно глаза рыси, — не спрашивали ни о чем, они лишь неукоснительно исполняли свою обязанность. Зато я с тоской взывал к ним. Мать не любила меня. Я, в свою очередь, не любил отца. В нашей семье существовали лишь односторонние тяготения: отца ко мне, мое — к матери. Конец этой коротенькой цепочки повисал к пустоте, ибо матери довольно было любить самое себя. Совершенно непонятно, почему она решила стать сиделкой на время моей болезни и моего выздоровления, когда в доме была старая преданная Гата, которая одинаково горячо, до обожания, любила и меня, и отца, и мать и которая была несравнимо добрее и ласковее. Скорее всего в этом поступке матери проявилось благочестие верующей и глубоко набожной женщины. Едва я слег, как она перестала бывать в обществе, хотя обычно это доставляло ей удовольствие, и заняла место у моей кровати. Она бодрствовала подле меня с покорным, но холодноватым терпением монахини. Напрасно я пытался навести взглядом мостик через пространство между кроватью и ее креслом — это мне не удавалось. Может, именно оттого я и хворал так долго. Из глубины своего отринутого сердца я призывал Гату, а моя госпожа мама пылала стыдом и ненавистью. Дни и ночи проходили в однообразном чередовании процедур, обертываний, безнадежного измерения температуры, приема тошнотворного, приторно-сладкого лекарства. Мать вслух читала надо мной свои молитвы. Молитвы не помогали. Я пробовал молиться за свое здоровье вместе с ней, поскольку боялся смерти. А болезнь — я это знал — была опасная.
Доктор Ганзелин, входя в комнату, никогда не здоровался. Поднявшись на цыпочки, он вешал на крючок шляпу, пристраивал в углу свою суковатую палку, оправлял полы сюртука и, не произнося ни слова, тяжело опускался на поданный ему стул, будто, подымаясь по лестнице, исчерпал последние силы. Привычным, умелым движением стягивал с меня через голову рубашку и принимался простукивать. Стук, стук, стук — осторожно и деликатно, словно будил покойника, спящего в глубокой могиле.
Я очень ясно, до мельчайших морщинок на лице вижу перед собой старого доктора. Он был невелик ростом, ходил, мелко семеня, неся свое округлое брюшко, на котором подпрыгивал стеклянный брелок от часов в виде головы индейца. Его черный сюртук всегда был застегнут только на одну верхнюю пуговицу. В слякоть он носил высокие деревенские сапоги, в которых выглядел прекомично. Руки у доктора были маленькие, но крепкие и загорелые. На тонкой шее, словно на ножке бокала, сидела круглая голова. Пухлые щеки походили на два красных шара, глаза были очень светлые, так что я даже затрудняюсь определить их цвет; лохматые брови сходились на переносице, образуя седой кустик. За ушами и на затылке сохранились еще остатки волос, но череп был совершенно голым. Под угреватым носом росли едва заметные, пепельного оттенка, реденькие, коротко подстриженные усики.
Моя красавица мать с белыми, холеными руками и выражением скорби на бледном лице, казалась рядом с Ганзелином робкой ученицей. Привыкшая повелевать, она осмеливалась обращаться к нему только шепотом. Ганзелин едва доставал ей до плеча, но как раз он-то и глядел на нее сверху вниз. Тон его был резок и непререкаем. Ганзелин не умел, а может, и не желал говорить приятные вещи. Он был врачом бедняков. Когда мать чересчур его раздражала, он сердито возвышал голос, дико вращал своими бесцветными глазками и багровел, как индюк.
После его ухода мать еще долго не могла оправиться. Она чувствовала себя униженной и корила отца за то, что он выбрал именно этого старого, толстого, неотесанного грубияна, хотя в городке, кроме него, был молодой, с хорошими манерами, доктор Марек и третий — прилизанный, корректный старичок Панц. Но у добродушного отца имелись свои причуды, и одной из них была вера в Ганзелина. Он не позволял бранить его, с достоинством отражал упреки матери, терпеливо выслушивал ее жалобы, отмалчивался, но позиций не сдавал. А ведь Ганзелин и его ничем не отличал, не оказывал ему особенного почтения, как, впрочем, и никому другому. И сам я, приученный уповать на силу и богатство, все же порой страшился Ганзелина, словно нечистой силы. Однако за время болезни недоверие мое к нему постепенно подтаивало, и в конце концов по-детски сменилось дружелюбием.
Более всего мать возмущалась тем, что Ганзелин не прописывал мне почти никаких лекарств. Разумеется, у него было свое жаропонижающее средство, пахнущее корицей и подслащенное малиновым сиропом, но только и всего. А по представлениям матери, дом уездного гейтмана, где болен сын, должен быть полон разнообразных склянок с микстурами. Ганзелин ничего подобного не терпел. Он имел собственное понятие о том, как надо лечить. Вместо намоченных в воде простыней он предписывал компрессы из творога. Компрессы эти были несравненно приятнее, но зато распространяли отвратительный запах. Высушенные горячечным жаром, они осыпались мелкими желтоватыми крупицами, а мать негодовала, что мои больные легкие вынуждены вдыхать эту мерзость.
— Не будьте столь брезгливой, сударыня, — иронизировал доктор. — Когда вашему сыну придет время встать с постели, я посоветую ему нюхать коровий навоз. Этот запах гораздо пользительнее запаха ваших духов. В конце концов результат вы увидите сами, потоотделение прекратится. И помните, ответственность за все несу я, а не вы. Пока я бываю здесь в качестве врача, вы обязаны слушаться меня.
Не было бы ничего удивительного, если бы после всех этих сцен, после бесконечных препирательств между моей матерью и доктором, этим толстопузым мужиком, похожим скорее на извозчика, постегивающего кнутом по голенищам своих сапог, чем на добродетельного утешителя страждущих, — если бы после всего этого мне в бреду начала являться голова с блеклыми, выпученными глазами, красным лицом и жуткой белой лысиной. Но голова не являлась, ее не было и между ведьмами-кариатидами, которые возникали из темноты и показывали мне язык. Когда я с ужасом ощущал, как над моим телом вздувается перина великаньих размеров, когда пальцы мои немели, увеличивались и набухали, — даже и тогда не являлся мне Ганзелин и не пугал меня. Напротив, в силу странной внутренней противоречивости (ведь я, подобно моей матери, был сторонником приятного лечения и приятных манер) доктор мне нравился и я, пожалуй, всегда был рад его видеть. Возможно, причиною было то, что он единственный внушал мне надежду на выздоровление, именно он, а не впадающий в отчаяние отец или мать с ее рассудочной жертвенностью. Грубоватая, напористая повадка доктора действовала на меня убедительнее слов, и во мне подсознательно зарождалось уважение к человеку, пришедшему из иной, более здоровой и достойной жизни, где нет паники, страхов, предрассудков и вызывающей гадливое чувство мягкотелости.
Впрочем, положа руку на сердце, я не могу вспомнить, чтобы Ганзелин хоть раз был со мною неприветлив. Он, пожалуй, не был и особенно ласков, но, даже самым бесцеремонным образом отчитывая мою мать, не забывал, склоняясь ко мне, умерить тон. Почти что нежно брал в ладони мою голову, поворачивая ее к свету, чтобы взглянуть на мои покрасневшие глаза и обложенный язык.
Спустя шесть недель наметилось улучшение. Температура начала спадать. Я облупил первое яичко, мне по-настоящему захотелось копченой колбасы, которую я долго выпрашивал, чтобы, лишь понюхав, отодвинуть затем в сторону. Мне готовили еду, которую я отвергал, хотя немного спустя при воспоминании о ней у меня текли слюнки. Я не чувствовал вкуса пищи, налет на языке все еще держался. Но однажды доктор велел мне раз в день вставать с постели. Я плакал, боясь ступить на пол, как иные люди боятся пройти над пропастью. Когда мне впервые надели на ноги ботинки, они оказались настолько велики, что старая Гата стиснула руки, а волоски на ее подбородке задрожали, выдавая горькую жалость.
Для полного выздоровления Ганзелин прописал мне ежедневно пить по ложечке коньяку. Мать ужасалась, как можно мне, ослабленному болезнью, употреблять алкоголь. В нашей на редкость воздержанной семье не было принято пить даже пиво. Отцу к завтраку и ужину подавали молоко, мать предпочитала какао. За коньяк Ганзелин выдержал яростный бой. В самый разгар спора он схватил свою палку и бросился к дверям.
— В таком случае я отказываюсь лечить! Да, отказываюсь! Поступайте, как вам угодно! Ноги моей здесь больше не будет!
Им пришлось уговаривать его, умасливать. Теперь, когда я был, собственно, уже почти здоров, менять врача было бы крайне неприлично.
Но вот хворь моя прошла совершенно, и Ганзелин объявил, что больше опасаться нечего. В тот памятный день отец подтолкнул меня вперед, чтобы я поблагодарил врача за его самоотверженную заботу обо мне. Мать хмурилась, ей это было не по нутру. Какие еще благодарности! Врачу следует заплатить, и только. Однако у отца вид был торжественный. Я поклонился Ганзелину и пролепетал несколько несвязных фраз. Тут я впервые увидел его улыбку. Прекрасной эту улыбку назвать было нельзя; она обнажала его передние зубы, почерневшие от курения, и больше походила на усмешку. По окончании этой мучительной процедуры мать вздохнула с облегчением, — и так громко, что мы все оглянулись. Бедняжка полагала, будто теперь ей больше не придется спорить с грубияном доктором. Как она ошибалась! Новый камень преткновения обнаружился раньше, чем отзвучал ее вздох. Ганзелин выдвинул требование лечить меня водными и солнечными ваннами.
Не знаю, было ли это предписание разумным на взгляд нынешних врачей; на загорание и обливание холодной водой Ганзелин отмерял пятнадцать минут — полчаса, что скорее имело целью закаливание, дабы уменьшить мою необыкновенную подверженность насморкам и простуде. После подобных болезней, сколько мне известно, от солнца и купания лучше некоторое время воздерживаться. Впрочем, поскольку болезнь не повторилась и никаких осложнений не последовало, можно считать, что Ганзелин был прав.
ГОРОДОК СТАРЫЕ ГРАДЫ
Я шел узенькой тропкой вверх по реке, перекинув через руку пальто. Уже стемнело. Вода отсвечивала тускло, как расплавленное олово; в ней отражались звезды. Их зыбкая россыпь была подобна голубоватым язычкам пламени в дымящемся шлаке. Вверху над долиной щетинился лес с его угрюмой тишиной. По левую руку от меня светились огоньки рассеянной по уступам скал деревеньки. Откуда-то с высоты доносились жалобные минорные звуки.
Эти звуки притягивали меня, как крысу игра на дудочке. Тоскливая протяжная мелодия плыла в ночи. Земля вздрагивала от моих шагов. Я снял шляпу. Дорогу мне перебежала белая кошка. Под сводом двух тополей, прилепившись к склону, стоял домик; свет в нем не горел, но все окошки были распахнуты настежь. Внезапно музыка смолкла. Музыкант испугался. Это был мальчик — без рубашки, в одних только планах и босой.
— Покажи! — попросил я его.
Мне хотелось увидеть инструмент, на котором он играл. Паренек нерешительно протянул мне его. Это оказалась окарина, глиняная раковина с несколькими дырками. Некогда была она, по-видимому, черная с позолотой, а теперь померкла от времени — как и моя далекая молодость.
Я держал этот предмет в руках, разглядывал его незатейливую, грубоватую форму, взвешивал на ладони, недоумевая, каким образом из мертвого куска глины можно извлечь столь манящие, столь сладостные звуки. И внезапно с поразительной ясностью возникла передо мной другая, схожая с этой картина: августовский вечер, небо, усыпанное звездами, я бреду в последний раз вдоль Безовки. На душе у меня тяжело, горько, ведь я расстаюсь с городком, где пережил много необыкновенных минут. И, как сегодня, тосковала в темноте окарина. В тот раз я не стал искать музыканта, не увидел его. Тогда это был лишь аккомпанемент, созвучный моему мальчишескому горю.
Я вернулся в нижнюю корчму, где жил уединенно, недоступный для своих общительных соседей, и, раскуривая одну трубку за другой, погрузился в размышления о прошлом. Память, что оживила там, на реке, худенького голого мальчугана, загорающего в траве, и те события, по которым окарина впервые сыграла некогда реквием, воспроизводила теперь передо мной сцену за сценой, будто заведенная машина, которую мы не можем, а вернее, не хотим остановить. Левая моя рука нервно потирала лоб, а правая бессознательно чертила что-то на столе. Сквозь туман прошлого все отчетливее обрисовывались события.
Колдовской соблазн вернуться назад, в прошлое, завладел мною. Я был не в силах противиться своему внутреннему побуждению. Когда на другой день начал моросить мелкий дождь, а над рекой повисли похожие на дырявую ветошь облака, я спустился вниз, в лавку, где старый Пардус продавал деревенским ребятишкам школьные принадлежности, конфеты, дешевые игрушки. Там и купил себе ручку и несколько пачек бумаги в клеточку. Я люблю писать на узеньких линейках мелким женским почерком.
…Это все равно как засушенный цветок в гербарии, цветок, в котором волшебно живет память о поляне, где мы его сорвали, это как перезвон колокольчиков на рождественском деревце, обнаруженном на чердаке в старой корзине — безделушка, чьи стеклянные колокольчики с их ангельским звоном давно умолкли. Мы уже не можем остановиться на чем-либо одном, нас безудержно тянет продолжать. Среди этой рухляди можно наткнуться на книжку, которую мы так любили в детстве, на книжицу в картонной обложке, — сшитые по краю квадратики полотна, на которые наша няня наклеила этикетки от коробочек с цикорием. Стоит задуматься над страничкой, что когда-то завораживала нас, — и вот уже спадает с глаз завеса, и мы находим в простодушных и наивных вещах тот самый глубокий смысл, какой открывался нам много лет назад. Потом, будто в очарованном сне, мы смотрим не на картинки, а куда-то сквозь них, видим, как призрачные фигурки на глазах обретают плоть и кровь, как они смеются, грустят, живут. И вдруг безумно захочется перебрать всю эту груду хлама и вытащить из-под нее облезлого коня, на котором мы некогда гарцевали, или постоять перед обтянутой сеткой кроваткой, в которой когда-то спали. Оживив прошлое, мы жаждем переворачивать его обветшалые страницы.
Старые Грады! Я попал туда тринадцатилетним мальчиком, а уезжал в противоположный конец Чехии, будучи уже пятнадцатилетним подростком. Два года жизни — много это или мало? У мальчика, чьи родители часто переезжают, просто недостает времени на то, чтобы его привязанности пустили корни. Среди городов, где мы жили, когда отец был чиновником уездной управы, и позже, когда он стал начальником, встречались, бесспорно, и более внушительные, и более оживленные города, чем этот. И все же никогда раньше и никогда позже не прикипал я душой ни к одному мосту на земле так, как к этому захолустному шумавскому гнезду, маячившему на верхушке холма, как руины или обзорная вышка, как маленький муравейник, скрывающий под собой подземную суету, подземные радости и заботы.
Городишко был весьма живописен. Кучка грязных, грозивших развалиться лачуг составляла предместье. Лачуги вразнобой тянулись к городским башенным воротам, по обеим сторонам которых горбатились остатки старых валов, поросших травой. Сама башня была широкая, с обшарпанными стенами; на ее голый лоб, прорезанный двумя несимметрично расположенными окошками, была нахлобучена высокая, похожая на шапку деда-мороза, черепичная крыша. Из проемов, сквозь которые некогда продевались цепи разводного моста, торчали ржавые блоки. Ворота напоминали собой мужика, широко расставившего ноги и с ехидцей поглядывающего на прохожих косыми глазами.
Сразу за воротами начинался собственно город: мостовые, двухэтажные дома, лавки. Узкая улочка круто взмывала вверх и, резко повернув, спускалась на городскую площадь. На ней размещалось все, чему положено размещаться на главной площади старинного городка. Готический храм с башней в стиле барокко являл взгляду свои могучие опоры; у их подножия общество любителей природы холило зеленые квадраты газона, обнесенного оградой из проволоки. Поскольку окружающие дома почти вплотную сгрудились вокруг церкви и там всегда держалась тень, место это было не из самых чистых, особенно если принять во внимание, что ближайшим строением была корчма. Посреди площади стоял фонтан, а неподалеку от него высокий марианский столб[2]. Почти всю противоположную сторону занимало монастырское здание унылого казарменного вида. Местные вольнодумцы, ссылаясь на историческое прошлое города, добились, чтобы напротив монастыря, в заросшем травой скверике, также обнесенном низкой оградой, был установлен огромный гранитный валун, на котором было высечено имя Гуса и укреплена бронзовая чаша[3]. Чашу приходилось то и дело чистить, поскольку ее облюбовали под свое гнездо воробьи.
Две другие стороны площади составляли ряды домов с аркадами. Каждый дом соответственно числу аркад выглядел двуногим, треногим или четырехногим. Каждый был на свой лад кособок, на свой лад сужен кверху; каждый, в меру своей обветшалости, подпирал своего соседа, подобно расшатанным зубам в старческих деснах. Староградские обыватели обожали разноцветную штукатурку. Корчма «У солнца» была кирпично-красная, аптека зеленая, лавка Суханека, где торговали мануфактурой, — коричневая с кофейным оттенком, а ратуша, оснащенная забавной башенкой с часами — белая. В солнечный день эти дома сияли всеми своими грешными красками, точно были сложены не из камня, а из деревянных кубиков, какие покупают на сезонной ярмарке ребятишкам.
От верхнего края площади отходила узкая и сумрачная улочка, где постоянно пахло плесенью. Она змейкой вилась вокруг загадочных столбов с человеческими лицами и впадала в неширокое пространство, где стоял памятник архитектуры — круглая приземистая башня, напоминающая по форме газовый котел. Место это было подлинно историческим, однако весь вид портила пивоварня, почти вплотную примыкавшая к башне. Из ее деревянных сушилок пробивался аромат солода. В ненастные дни дым из трубы пивоварни опускался на город, насылая в открытые окна домов едкие, приторные запахи.
За городом улочка снова шла вниз и изливалась на некое плато, возвышавшееся над окраиной и кончавшееся четырехугольной площадью. Эта вторая площадь, окруженная каменными, в основном одноэтажными домишками, именовалась странно — деревенской.
Название это, без сомнения, было неоправданным и носило глумливый оттенок. Там, где никогда не было деревни, не могло возникнуть и деревенской площади. Площадь, по всей видимости, относилась к замку. Фонтан, стоявший посредине, наверное, украшал некогда подворье замка, и окрестные дома были сложены из разобранных крепостных стен. С крутых склонов, на которых ныне обитатели деревенской площади развели свои сады и огороды, в былые времена защитники крепости сбрасывали нападающих прямо вниз, в речку Безовку, которая описывала здесь крутую дугу. Деревенской площадью сие место было названо, пожалуй, единственно потому, что тут всегда шастала свора облезлых деревенских собак, из дворов пахло навозом, в хлевах добродушно мычали коровы, а на траве, росшей между булыжников, паслись целые стаи гусей.
При всем том деревенская площадь могла перед главной площадью похвастаться несравненно более приличной мостовой, вдоль которой была посажена аллейка из молодых кленов, дававших тень более приятную, нежели та, которую господа, жившие в центре, находили под своими аркадами. Правда, фонтан имел весьма жалкий вид. На нем не было ни разбрызгивающих струи химер, ни труб, подводящих воду. Если его и наполняли когда-нибудь водой, то одни бог ведает, откуда ее брали. Уцелел, собственно, лишь каменный четырехугольный бортик; через его пробоины ловко пробирались внутрь куры и гуси. Бортик был украшен скульптурами и надписями, которые уже никто не мог разобрать. Мальчишки обколотили их, время покрыло мхом. Зачем стоял этот никому не нужный фонтан посреди второй староградской площади? Очевидно, только для того, чтобы осенний ветер мог сметать туда разноцветные кленовые листья. В холодные дни под завывания метели эти листья — их была тьма — кружились по площади в диковинном танце. Ветер гонял их из одного угла в другой, но ряды домов мешали ему выбросить их за пределы заколдованного круга и смести вниз, в долину. Пусть себе мечутся, сколько хотят — ведь в один прекрасный день все равно они набьются в чашу фонтана, где, издавая запах прели, пролежат целую зиму в ожидании новой весны.
С более высокого верхнего края деревенской площади открывался великолепный вид на долину, на шахматные квадратики полей, а через перекаты близких холмов, протянувших друг к другу черные руки перелесков, — даже и на синие шумавские горы. Перед закатом, когда весь городок погружался в тень, деревенская площадь еще была залита солнцем. Купол сторожевой башни казался сделанным из янтаря. Здание пивоварни с его зубчатыми башенками и мачтами дымящихся труб напоминало силуэт корабля, налетевшего на скалы.
ДОКТОР ГАНЗЕЛИН
У доктора Ганзелина был на деревенской площади домик, такой же белый и такой же неприметный, как и у его соседей. Сходство довершал довольно просторный, обнесенный кирпичной оградой двор, куда вели широкие двустворчатые ворота. С мансарды на площадь глядели два окошка, из нижнего этажа — четыре. Под окнами стояла длинная, грубо сколоченная скамейка; в хорошую погоду на ней обычно сидели пациенты. От ворот к крыльцу тянулась узкая, вымощенная плоскими каменьями дорожка — мимо навозной кучи, в которой рылись Ганзелиновы куры. Оградой служило кирпичное строение под соломенной крышей с нависшей над нею голубятней: то ли овин, то ли конюшня. К этому строению примыкали козий хлев, крольчатник, дровяной сарайчик и уборная. Перед овином, прикрытая ветхим деревянным навесом, стояло поильная колода; жердь от нее была нацелена на окна докторова дома, как дуло корабельной пушки из бронированной башни. Фруктовый сад Ганзелина, подобно всем остальным садам, круто спускался по склону к Безовке, а среди пернатой живности, пасшейся в траве на деревенской площади, были так же докторовы гуси и утки.
Как случилось, что врач, человек с университетским образованием, поселился рядом с мастеровыми на окраине городка, вместо того, чтобы жить на главной площади в одном из благоустроенных домов, напоминающих вставную челюсть? Зачем ему было держать козу, разводить кроликов и кур, из какой прихоти терпел он под своим окном навозную кучу и почему вместо мраморной таблички, говорящей о его положении и профессии, висела на его воротах в застекленной рамке лишь пожелтевшая визитная карточка? Да потому, что сам он был точно таким, как его соседи: происходил из семьи бедняков и волею судьбы несколько лет крестьянствовал. А отчасти и из-за беспримерного упрямства.
Отец Ганзелина был дорожным рабочим. Жена его умерла вскоре после родов — кажется, от чахотки. Целыми днями, под дождем и палящим солнцем, защитив глаза очками в проволочной оправе и обмотав тряпьем пальцы, просиживал он, разведя колени, на груде щебня и равномерными, точными ударами дробил камень. Отец и сын жили в Милетине, снимая тесную каморку в бараке неподалеку от шоссе. Хозяйство вела жена их домовладельца, едва ли не такого же бедняка, как они сами. Маленький Карел ходил в школу в Старые Грады, и, поскольку учился он очень хорошо, отец возымел мечту вывести сына в люди. Над мальчиком сжалился его дядя с материнской стороны, лесничий; он забрал племянника к себе в лесничество, что неподалеку от Писека, обязался кормить и поить с условием, что на карманные расходы, одежду и школьные принадлежности он не потратит ни геллера. Карел учился прилежно, подрабатывал репетиторством, корпел над книгами днем и ночью и окончил школу с отличием. Он решил посвятить себя медицине.
К этому времени относится его знакомство со староградской мещанкой Доубравовой. Мещанка была молодой вдовой, не моложе, однако, Ганзелина. Поговаривали, будто они встречались еще при жизни ее мужа, Доубравы. Так оно было или нет — значения, в конце концов, не имеет. В послешкольные каникулы эту парочку видели чуть ли не ежедневно: вечерами они гуляли по берегу Безовки, потом прощались на деревенской площади у ворот усадьбы Доубравы. Юноша был влюблен. Вдова была влюблена. Злые языки утверждали, что любовь их была отнюдь не платонической, что отойдя с честным видом от ворот, Карел с наступлением ночи украдкой, задами, пробирался в дом со стороны Безовки, перемахнув через невысокий садовый забор.
При иных условиях эта гимназическая любовь, возможно, забылась бы, как это сплошь и рядом случается с подобными пылкими романами. Однако студент-первокурсник медицинского факультета начал вдруг кашлять кровью. Несколько месяцев он пролежал в пражской больнице, а после того, как немного поправился, был доставлен домой, к отцу, в милетинскую хибару, куда никогда не заглядывало солнце. Бабы лечили его народными средствами, повесили ему на грудь кусок кошачьей шкурки, которая, мол, хранит от туберкулеза и раздобывали к его постному хлебу настоящее собачье сало. Ничего не помогло. Карел сидел на стуле у обочины шоссе, кашлял, чах, терял силы. Он прекрасно понимал, что единственным целительным лекарством явились бы для него хорошая еда и лучшие условия жизни, но ничего этого бедняк отец не мог ему дать.
В один прекрасный день прибежала в Милетин мещанка Доубравова. Какая сцена разыгралась за закрытыми дверями комнатушки дорожника, никому не суждено узнать. Тем удивительнее для всех оказались неожиданные последствия тайного их разговора. Жива была еще или нет гимназическая любовь? Решилась вдова на этот шаг по доброй воле или принуждена была к тому жалостными письмами умирающего? Так или иначе, но на другой день перед жильем Ганзелинов остановилась подвода, студента со всеми его пожитками и книгами погрузили на нее и перевезли в усадьбу вдовы. Нельзя отрицать, что по тогдашним строгим нравам со стороны женщины это, конечно, был героический поступок.
Молоко, сливки, сметана, яйца, мясо, много мяса, плед, раскинутый в саду под деревьями, всемерная забота самоотверженной хозяйки — и произошло то, что случается редко и что иногда называют чудом. Больной приободрился, каверны в его легких зарубцевались, он начал прибавлять в весе. Разумеется, не вдруг выздоровел молодой Ганзелин, для этого потребовалось немалое время, но уже месяцев через девять, когда зацвела новая весна, он смог выходить на работу в поле и заниматься хозяйством. Летом сыграли свадьбу. Ганзелин распростился с медициной и стал крестьянствовать.
Примерно полгода спустя после свадьбы у Ганзелиновых родилась девочка, которую назвали Геленой. Двумя годами позже родилась вторая девочка, получившая имя Лидмила. Третья, Мария, появилась на свет осенью следующего года, но в то время Ганзелин уже вновь стал студентом. Неожиданно вновь засел за медицинскую науку.
Для точности стоило бы подробней объяснить, что тому предшествовало. Увы, трудно рассуждать о том, чего не знаешь. Остается лишь гадать. Возможно, Ганзелин занялся крестьянским трудом, поскольку не был твердо уверен в своем окончательном излечении и боялся перемены места, трудных условий и изнурительных занятий, а когда понял, что совсем здоров, его идиллические мечты о простой жизни в усадьбе изрядно поблекли. Как знать? Может, он потому три года и откладывал мысль о продолжении учебы, что жена не спешила его поддержать ввиду скромных доходов с небольшого хозяйства? А может, сильно любила его и противилась многолетней разлуке? Решение Ганзелина во что бы то ни стало учиться на врача могло быть также и следствием длительной домашней войны, в которой жена его потерпела полное поражение благодаря тому злополучному обстоятельству, что рожала одних дочерей. (Известно было: молодой отец часто жаловался, что в усадьбе нет наследника.)
Ну, а если предположить, что женщина сама понуждала мужа учиться дальше, желая в будущем сравняться положением со староградскими дамами? Оставим лучше эту главу жизни доктора неосвещенной, дабы не попасть пальцем в небо.
Когда Ганзелину было наконец присвоено звание врача терапевта, в университетском актовом зале присутствовала не только его супруга, но и две старшие дочери: семилетняя Гелена и пятилетняя Лидмила. Был там также и кое-кто из староградских жителей, которые никак уж не могли упустить случая прихватить с собой в свой захолустный шумавский городишко такую богатую тему для пересудов. Рассказывали, будто новоиспеченный доктор обратился к своей жене со словами глубокой признательности, а она, худенькая и уже заметно постаревшая, тихо плакала, сидя на почетном месте с малыми несмышлеными детьми, жавшимися к ее коленям. (Отец Ганзелина, дорожник, к тому времени уже помер.) И будто бы он весьма торжественно и с неподдельным чувством заявил, что эта женщина в платочке и в простом крестьянском платье буквально вырвала его из лап смерти, самоотверженно помогала ему получить образование и он за все, что она сделала для него в прошлом и настоящем, клянется всегда хранить к ней в своем сердце искреннюю любовь и вечную благодарность.
К тому времени от хозяйства покойного Доубравы остались уже рожки да ножки. За годы учения многое было продано. Но, в конце концов, разве это так уж важно? Разве герб Ганзелинов пострадал из-за того, что от всех фамильных владений возле Безовки и в Милетине уцелело лишь несколько десятин? Что опустели хлева? Земля ведь и без того была сдана в аренду, да и к лицу ли доктору Ганзелину после обхода своих пациентов пахать или боронить, а супруге доктора — сбивать масло или таскать навоз! Пусть у корабля пробоина в днище и сломаны мачты, но все же он достиг гавани, и ныне пятеро путешественников могут ступить онемевшими ногами на твердую землю. Твердую? Нет, не такой уж твердой оказалась земля, открытая Ганзелином. Выяснилось, что зловредный городишко постановил бойкотировать молодого врача. Еще чего не хватало! Как можно допустить в порядочное общество человека столь низкого происхождения? Мальчишка, позволивший себе завести шашни с замужней женщиной, добившийся звания врача и положения единственно благодаря женитьбе на владелице зажиточной усадьбы, чем и воспользовался своекорыстно, не заслуживает нашего доверия, не смеет лечить наших детей. Ах, какими непреклонными и жестокими бывают подчас люди без особых на то причин! В городке практиковал другой врач, и Ганзелин на своей деревенской площади оказался чем-то вроде изгоя. Разумеется, он ожесточился, открыто высказывал свое пренебрежение почтенным людям. Тем хуже для него! И только жители Милетина, Вратни, Чимелиц — обитатели покосившихся лачуг и крестьянских халуп — присягнули ему на верность. Для них он был свой — плоть от плоти, кровь от крови. Если пани Ганзелинова и мечтала когда-то о том, чтобы стать важной дамой, то все ее мечты рассеялись, как дым. Из городка приходили только ревматические старики и кашляющие старухи, люди с деревенской площади и люди из бараков «предместья», в остальном — жители окрестных сел; впрочем, в ту пору, когда Ганзелин начинал работать, там хворали редко. Ганзелин сделался врачом простолюдинов и бедноты.
Лишь спустя семь лет, ровно через одиннадцать лет после Марии, жена его родила еще одну дочь — Дороту. Через три года на свет появился сынок Карел, но он умер от воспаления легких, не прожив и полгода, что для Ганзелина навсегда осталось тяжелой, незаживающей раной. Еще через три года родилась Эмма; за ее рождение пани Ганзелинова заплатила жизнью. Ганзелин устроил ей пышные похороны и шел за гробом поистине с безутешным видом. Староградцы от века не помнили, чтобы кто-нибудь так убивался по своей жене. На кладбище он плакал долго, навзрыд, как мальчишка. Да, этот мужчина, завоевавший славу жестокосердного и нечуткого человека, плакал так, будто потерял не жену, с которой якобы пошел под венец из чувства благодарности или же из простой порядочности, а самое близкое, бесконечно любимое существо.
Увеличенную фотографию жены он повесил в амбулатории, и я могу засвидетельствовать, что, когда бы я туда ни вошел — будь на дворе весна или лето, — портрет неизменно был украшен цветами. Конечно, мне могут возразить, что о памяти покойной заботились дети. Допустим. Однако обращает на себя внимание то обстоятельство, что чудак доктор не женился во второй раз. И значит тогда, в университетском актовом зале свою клятву нерушимой верности жене он произнес от чистого сердца.
ДОКТОРСКИЙ ДОМ
У порога, перед входной дверью, лежал веник, а выше, на уровне глаз, по белой штукатурке, рукой доктора крупными печатными буквами была выведена надпись: «Вытирайте ноги». Когда от веника оставались одни прутья, его заменяли другим, а когда надпись на стене смывало дождем, Ганзелин всякий раз заново аккуратно обводил ее чернильным карандашом.
Его пациентов и впрямь следовало встречать таким не слишком деликатным предупреждением: добравшись сюда из горных деревушек и хуторов, они оставляли всю приставшую к обуви непросыхающую дорожную грязь и на крыльце, и в сенях, и на кухне. На кухне? Ну да, на кухне — ведь у доктора, имевшего отличную амбулаторию, не было приемной. Летом ее заменяла скамейка под окном, в дождливую погоду пациенты набивались в сени, где для них было поставлено несколько стульев, но куда, скажите на милость, деваться зимой? Нельзя же было всех этих закоченевших дядюшек и тетушек с их хворями, гнездившимися в дырявых легких либо в отечных суставах, заставлять сидеть в сенях, на сквозняке! Посему на кухне, возле двери, стояла длинная лавка, словно взятая напрокат из какой-нибудь корчмы, а перед ней треногий шаткий столик. Вот на этой-то лавке, кряхтя и кашляя, рассаживались пациенты; с их обуви, вопреки грозному предупреждению, ручьями стекал на половичок растаявший снег, а на столик милосердная рука одной из докторских дочек ставила для сугреву чашку с горячим чаем или даже — если посетитель выглядел слишком уж жалко — кружку какао с куском хлеба.
Вход в амбулаторию был направо, в кухню — налево. Поскольку никаких вывесок на дверях не было, то новому посетителю нередко случалось перепутать их. Невелика беда! Пациента приглашали сесть, и расспросы маленькой хозяйки, хлопотавшей у плиты, были по сути дела чем-то вроде предварительного освидетельствования. Результаты его, полученные иногда ценой немалых усилий, в подробностях докладывались Ганзелину и служили важным подспорьем для установления диагноза. Эти пациенты, приходившие иногда из очень отдаленных мест, были людьми крайне неразговорчивыми и темными, к тому же говорили они парой на таком таинственном наречии, на такой странной смеси чешских и немецких диалектов, что объясняться с ними было делом отнюдь не легким. Пускаться в дальний путь именно к Ганзелину этих горемык вынуждала бедность. Ибо Ганзелин, при всей своей внешней суровости, был необычайно добр и, видя перед собой бедняка, не брал с него за осмотр ни геллера.
В кухне, которая, как сказано, в зимнее время служила приемной, с избытком хватало места для двух столов (за столом для пациентов семья никогда не обедала) и выложенной голубым в крапинках кафелем большой печи с перекладиной для сушки белья над плитой. Возле печки стоял низкий шкафчик со щетками, песком для чистки кастрюль и другими кухонными принадлежностями, спрятанными за отделанной бахромою занавеской. В одном углу кухни были встроены полки для посуды, в другом, с целой горой перин, громоздившихся чуть не до потолка, стояла кровать, на которой изредка кто-нибудь спал.
Из кухни одностворчатая дверь вела в так называемую большую горницу. Эта комната служила спальней четырем старшим дочерям Ганзелина и была битком набита всякой утварью, так что затопить высокую зеленую кафельную печь можно было, лишь отодвинув от нее Мариину бельевую корзину. У каждой девушки была здесь своя кровать и кое-какая мебель, где они держали белье и личные вещи. Лиде для этой цели служил отцовский чемодан, сохранившийся со студенческих лет, Гелене — шкафик, некогда служивший умывальником, с закрывавшимися на замок дверцами, Доре — старинный сундук с крышкой, расписанный цветами и птицами. Кроме того, там стоял пузатый, огромных размеров, дубовый платяной шкаф для общего пользования — его, надо думать, собрали прямо на месте, ибо сдвинуть это сооружение казалось выше человеческих сил.
Ни в кухне, ни в этой комнате не было ни одной картины — Ганзелин терпеть их не мог. В кухне над столом бросалось в глаза большое, наводившее ужас распятие, с выпуклыми каплями крови на ранах Христа, а между двумя средними окнами — старые жестяные часы с гирями в виде шишек и суетливо качающимся маятником. В комнате висело лишь несколько семейных фотографий, а на умывальнике между двумя вазами с искусственными цветами стояла когда-то расколотая пополам и затем склеенная фигурка Лурдской девы Марии[4].
Пятая, самая младшая дочь Ганзелина жила вместе с отцом над амбулаторией, в комнатке, выходившей окнами на площадь. Подняться туда можно было по деревянной лестнице, каждая ступенька которой печально поскрипывала на свой собственный лад. Комнатка Ганзелина (сам он называл ее каморкой) делилась на две — лестница отделяла от нее нечто вроде темного коридорчика, где за ширмой (ширмы в этом доме не были редкостью) стояла кроватка Эммы. Вторая кровать, изо всей мебели бесспорно наиболее интересная и почти шикарная, стояла возле одного из окон на некоем возвышении, чем на первый взгляд напоминала кафедру. На этом парадном ложе спал Ганзелин — ни дать ни взять король, почивший в открытом гробу. Из-под кровати оловянными глазами поглядывал серый жук-разувайка[5]. Возле двери притулилась маленькая белая кафельная печка. По карнизу ее вился хоровод русалок, державших букеты левкоев в воздетых руках. На стене была прибита вешалка из рогов серны, а сверх того имелся еще один предмет — часы с кукушкой. Потому, видно, и нравились мне с тех пор подобные часы, что впервые в жизни я увидел их у Ганзелина. Куковала кукушка чаще всего в одиночестве, ибо доктор приходил в каморку только затем, чтобы лечь спать, да еще днем вздремнуть полчасика после обеда; младшая дочь его бродила по окрестным лугам, либо играла внизу, либо в кухне помогала по хозяйству старшим сестрам. Я не могу вообразить себе ничего более сиротливого, чем эта кукушка, показывающаяся в своем окошечке, чем ее задумчивые «ку-ку», гулко разносившиеся под сводами большого чердака с его балками, мотками бельевых веревок, ворохами старья и паутиной.
Амбулатория Ганзелина (я совершенно намеренно оставил ее напоследок) делала его дом именно тем, чем он и был на самом деле — жилищем врача. Все остальные помещения и подобное же их расположение легко можно было бы обнаружить в любом другом деревенском доме. Впрочем, эта амбулатория существенно отличалась от знакомых нам прохладных, пахнущих йодоформом великолепных салонов городских врачей. Пахло здесь разве что геранью, которая, как известно, не отличается сильным ароматом, но которой были заставлены все подоконники. Герань была самых разных сортов: красная, белая, розовая, фиолетовая, с шапками соцветий и без оных, вьющаяся, с едва укрепившимся стебельком или с густой, старой кроной. По преданию, эти цветы очень любила покойная супруга доктора и они сберегались в память о ней. А может, исключительно для того, чтобы доктору Ганзелину было куда сунуть свою трубку? Перед тем как приступить к той или иной своей кровавой или не слишком кровавой операции, он запихивал трубку в один из цветочных кустов (в амбулатории временами было накурено, как в деревенском трактире) и только после этого брался за свой инструмент.
Инструмент был заботливо разложен в самом обыкновенном шкафчике, похожем на тот, что стоял в углу на кухне. Вместо кастрюль и банок на его полочках поблескивали пузырьки с лекарствами, а под ними, там, где должны бы стоять ступки и прочая утварь, содержались пакеты ваты и рулончики бинтов. На самой верхней полочке был поставлен — с декоративной целью, — кособокий астматический будильник.
В углу освещаемое двумя противолежащими окнами находилось врачебное кресло, нечто среднее между обыкновенным мягким стулом и парикмахерским креслом, неудобное, несуразное творение столяров и обойщиков. На его роскошном сиденье пациент мог удержаться, лишь судорожно вцепившись в мягкие, тоже обтянутые материей подлокотники, ткань на которых уже выцвела и основательно протерлась. Перед креслом висело палаческое орудие для пломбирования зубов. Когда Ганзелин нажимал на педаль, эта ржавая железная виселица начинала жужжать, как веретено.
Посреди горницы, на самом проходе и всем мешая, стоял похожий на вокзальную урну стереоскоп. Красноречивей, чем все остальное, предмет сей изобличал давно похороненный замысел Ганзелина устроить все не хуже, чем у других врачей. На него доктор возлагал надежды привлечь когда-нибудь побольше самых маленьких пациентов, детей. Стереоскоп был первой и последней попыткой Ганзелина в этом роде. Тот, кто хотел получить удовольствие от сего допотопного прибора, должен был встать на чугунную подножку и прижаться лицом к вырезанному в картоне глазку. После чего оставалось лишь крутить ручку. Прибор начинал скрежетать, как кофейная мельница, а жестяные рамки, куда были вставлены картинки, сшибались со звуком треснувшего стекла. Программа весьма скоро оказывалась исчерпанной. Молодец на фоне пышных тропических пальм, крест на повороте горной дороги, у подножия которого пасутся овцы, Колизей в ярком солнечном освещении, водопад Ниагара. После чего взору желающих вновь представали пальмы и овцы, пасущиеся возле креста.
Другим занимательным предметом в амбулатории была подовая печь. Она была целомудренно укрыта за расписной ширмой. На тот случай, когда доктор брал щипцы, намереваясь вырвать зуб, а маленький пациент сжимал рот и не хотел его открывать, в запасе оставалась еще эта печь-укротительница. Ганзелин, нахмурясь и сдвинув брови, отодвигал ширму. Зияющая дыра, нечто вроде преддверия ада, должна была своим видом сурово предостеречь бедняжку: «Попробуй-ка еще поупрямиться, как мигом очутишься там!» Однако для детей, приходивших к Ганзелину со своими испорченными коренными зубами, подовая печь была не в новинку, так что попытка устрашения редко имела успех.
От печи к дымоходу тянулась длинная жестяная труба, ибо амбулатория отапливалась обыкновенной железной времянкой. Эта времянка походила на некоего выползшего из норы черного заморского зверя, который, расставив лапы, стоял перед ширмой и удивленно таращил на нее свои слезящиеся красные глазки. Тварь эта была неслыханно прожорливой — ее требовалось беспрерывно подкармливать, чтобы в течение всего дня в амбулатории удерживалось тепло. Когда времянка раскалялась, от трубы начинало противно пахнуть, сквозь швы проскакивали искры, а огонь внутри выл и гудел, словно там черти справляли свою свадьбу.
У торцовой стены, неподалеку от времянки, ютился письменный стол. За этим столом, втиснувшись в слишком узкое для него венское кресло, Ганзелин писал свои рецепты. В кресле, насаженном на металлический стержень, можно было крутиться юлой, однако это баловство особенно не поощрялось. Заметив, что его сиденье выше или ниже обыкновенного, Ганзелин очень сердился. Над письменным столом висел отрывной календарь, а ниже — картонный диск, который вращался вокруг оси. Под ним был еще один, более широкий, укрепленный неподвижно диск. Оба диска делились на четыре одинаковых сектора. На нижнем рукою доктора было обозначено: «А», «К», «П», «Х», на верхнем слоги «Ге», «Ли», «Ма», «До». Буквы наверху означали «амбулатория», «кухня», «поле», «хлев», а слоги внизу — «Гелена», «Лидмила», «Мария», «Дорота».
Так вот, эти два пустяковых на первый взгляд куска картона были не чем иным, как знаменитым, хитроумным расписанием домашней работы. Там, над письменным столом, мерно билось сердце целой семьи. Там чередой сменялись все радости и горести четырех старших дочерей Ганзелина. Круговорот, верх докторских чудачеств, имеет прямое отношение к тому факту, что сия повесть вообще была написана.
КРУГОВОРОТ
Когда Ганзелин входил утром в амбулаторию, первым движением его было оторвать листок с календаря и передвинуть круг на четверть оборота. Если вчера сектор со слогом «Ге» совмещался с сектором «А», то сегодня он совмещался с сектором «К». «Ли» совпадало с «П», «Ма» — с «Х», а «До» с «А». Это означало, что Гелене досталась кухня, Лидмиле — поле, Марии — хлев, а Дорота вознеслась до наивысшего уровня, до амбулатории. Таким вот образом распределялись задания на каждый день между четырьмя старшими сестрами.
Ганзелин поддерживал заведенный порядок с такой строгостью, с какой разве что сам господь бог надзирает за соблюдением своих заповедей. Ни разу не случилось, чтобы хоть одна из девушек была от чего-либо освобождена, ни разу не было позволено заменить вид работы. Если сегодня Гелена, Лида, Мария или Дора готовила обед на шесть человек, то она знала, что завтра ей придется брать мотыгу и идти окучивать картошку, послезавтра — пасти козу и лишь на четвертый день она сможет вымыть руки йодоформом и облачиться в белоснежный медицинский халат.
Очевидно из-за этого благородного белого одеяния дежурство в амбулатории девушки предпочитали всему прочему. На самом же деле не было причин для того, чтобы выделять эту работу из числа остальных. Ведь это значило целый день быть под рукой у ворчливого отца, — до обеда в амбулатории, после обеда — на выездах к больным, прикасаться к не всегда чисто вымытым и приятно пахнущим пациентам, засовывать им под мышку градусник, обрабатывать и перевязывать раны, Совсем нелегко было удержать порою человека, который при виде докторского скальпеля с криком вырывался из рук. Посещение бедняков в их темных конурках, в затхлых, никогда не проветриваемых лачугах, сидение у пропахших потом постелей, — тоже не бог весть какое удовольствие. А доктор Ганзелин был невероятным педантом, все инструменты следовало заранее подготовить и аккуратно разложить, безупречно вести книгу посещений, и горе той дочери, которая что-нибудь напутала при подведении финансовых счетов, ибо в амбулаторную службу входила еще и бухгалтерия.
Обозначения на безжалостном диске не учитывали, разумеется, всего перечня домашних дел, кои выполнялись в большинстве случаев по привычным, неписаным семейным законам. К примеру, работа на кухне не ограничивалась одной стряпней. Девушка, принимавшая кухонное дежурство, не только топила все печки, готовила завтрак, закупала продукты, варила обед, мыла посуду, но также скоблила полы, подметала в комнатах, стирала белье. Поскольку в доме Ганзелина скоблили полы и делали уборку обычно по пятницам, а стирали по понедельникам, кухонное дежурство не всегда бывало равно трудоемким. Однако ввиду того, что Ганзелин слепо придерживался своих правил, а диск вращался с такой же равномерностью, как земля вокруг солнца, дочерям доктора доставалось по очереди то так называемое большое дежурство по кухне, то так называемое малое. С кухонным дежурством было связано еще одно огорчительное обстоятельство. Та, которой оно выпадало на долю, обязана была стеречь дом и не имела права ехать к пациентам в деревню, куда остальные отправлялись всей компанией, включая Эмму.
Если символом кухонного дежурства являлась огромная, с мешок, хозяйственная сумка, то символом полевых работ была старая, без всяких украшений, соломенная шляпа с большой, помятой тульей. К полевым работам относилась прополка травы в огороде, окапывание фруктовых деревьев и унавоживание земли вокруг них, уничтожение гусениц, кошение клевера на задах Гатлаковой усадьбы в Милетине, где у Ганзелина оставался еще участок, перевозка овса и сена с поля в овин и сбор платы с арендаторов, снимавших часть неиспользованной земли. Зимой эта работа была естественно лишь пустым звуком и по сути означала отдых. Но и тут, разумеется, торжествовала неизменная справедливость, и свободные дни поочередно доставались каждой.
Что же касается хлева, то здесь работа была необычайно многообразна, отчего единодушно считалась самой неприятной. Доктор, вынужденный ездить к пациентам, жившим у черта на куличках, должен был держать лошадь и иметь свою коляску. От разоренного хозяйства сохранились также коза, птица, голуби и кролики. Голубей Ганзелин необычайно любил, козье молоко относил к числу крайне полезных продуктов питания, а продажа лишних кур и яиц, несомненно, служила важным подспорьем в его скромном бюджете.
Вся эта четвероногая и пернатая живность поручалась заботам той девушки, которой выпало «счастье» дежурить по хлеву. Накормить гусей, посадить на яйца наседок, подоить козу, отыскать разбежавшихся цыплят — дело нешуточное; обиходить лошадь значило еще и отмыть от грязи коляску, а чистку хлева тоже отнюдь не назовешь благородным занятием. Известным вознаграждением за эту тяжелую работу была возможность править лошадью во время выездов. Скотница получала в свое распоряжение и кнут. Вдобавок ей вручались огромные рукавицы, — дабы не ободрать руки о ременные вожжи, а к тому же и желтый, сильно потертый кожаный дождевик, который надевали в ненастье, потому как место на козлах не было защищено от дождя. Но главным атрибутом этой весьма грязной службы были деревянные, почерневшие от времени башмаки, годившиеся на любую ногу. В них «скотница» ходила большую часть дня, до выезда и по возвращении.
Каждый день после ужина производился финансовый учет. Министерство питания возвращало остатки доверенного ему небольшого капитала, который выделялся всегда в одинаковом размере и лишь по воскресеньям бывал незначительно увеличен. Дежурная по амбулатории передавала в отцовские руки гонорар, ибо Ганзелин никогда не прикасался к предлагаемым ему деньгам, королевским жестом указывая дочери, чтобы она разобралась с этим сама. Полевая фея приносила выручку за сено, за зерно или за фрукты, которые удалось сбыть бабке Регачековой в ее лавчонку под аркадами, а если был конец квартала, то еще и плату за аренду. «Скотница» выкладывала доход от своих подопечных — деньги за яйца, за голубей, за кроличьи шкурки. Ганзелин тщательно просматривал все записи и счета, после чего пододвигал на середину стола кучку денег, предназначенных завтрашней стряпухе как аванс на непредвиденные расходы, а образовавшуюся прибыль клал частью в свой бумажник, весьма похожий на меха гармоники, частью в большое кожаное портмоне.
Обо всем этом, начиная с утреннего поворота диска и кончая вечерним подведением итогов, городок, разумеется, был великолепно осведомлен. Еще бы! За малейшими событиями в докторском семействе он следил со вниманием и беспримерным терпением, не упуская ни малейшей, самой незначительной подробности. И несмотря на то, что каждый день повторялся один и тот же спектакль, староградским обывателям он не приедался. Достаточно было Геле, Лиде или Марии с кошелкой в руке выйти из узкой, огибающей пивоварню улочки, как чопорные дамы и их барышни-дочки, предупрежденные об этом прислугой, поспешно бросали вышивание или игру на расстроенном фортепьяно и кидались к окнам. Девушка в соломенной шляпе с вилами на плече, шагающая рядом с батраком Гатлака за скрипящей, раскачивающейся, навьюченной сеном подводой — ну не упоительное ли зрелище! Верхом наслаждения было, однако, наблюдать за выбежавшей на городскую площадь растрепанной, в переднике и деревянных башмаках «скотницей», которая подгоняла хворостиной заблудившегося, возбужденно гогочущего гуся. Все эти чиновники, торговцы и муниципальные советники оказывали Ганзелину должное почтение; когда, случалось, он проходил под аркадами, они останавливали его и принимались толковать о разных высоких материях: о погоде, о политике… Но стоило им оказаться в кругу своего добропорядочного семейства либо позднее, вечером, в трактире «У солнца», в мужской компании — то-то уж было сплетен, то-то насмешек в адрес Ганзелина! Не проходило дня, чтобы не появлялся новый, более или менее приличный анекдот: по поводу какого-нибудь вырвавшегося у доктора словца, способов лечения, вспыльчивости, но чаще всего — по поводу его шутовского картонного круга.
Городок превосходно знал также, когда этот круг появился. При жизни пани Ганзелиновой три ее взрослые дочери — Гелена, Лида и Мария были настоящими городскими барышнями, которых привлекали к домашней работе лишь от случая к случаю и по необходимости. Но с той поры, как Ганзелин овдовел, обстановка круто переменилась. Говорили, будто бы еще в ту первую ночь, когда покойница лежала в гробу, он, осененный безумной идеей, уже рисовал пресловутый круг. Правда, согласно плану, первоначально были учреждены всего три вида домашних работ. Лишь шестью годами позже, когда подросла и Дора, Ганзелин выбросил старые диски, заменив их новыми, разделенными на четыре поля.
Однако, когда окончила школу Эмма, случилось непредвиденное: ее не включили в круговорот. Злые языки уверяли, что доктор просто не сумел разделить диск на пять равных частей. Впрочем, это был лишь один из глупых, пошлых анекдотов. Он долго не выходил из моды, хотя староградчанам была очень хорошо известна подлинная причина. Отец и сестры слишком любили Эмму, чтобы кому-нибудь из них могла прийти в голову мысль, что и ей надо распроститься с ее золотой волюшкой.
Это последнее дитя Ганзелина можно без преувеличения назвать счастливым. Ведь причастность к круговороту делала девушку величайшим посмешищем в глазах городка и неизбежно обрекала на глумливое прозвище. Какой-то анонимный остроумец соединил слоги, написанные на диске, в одно слово: «Гелимадо». «Гелимадо» — «мадонны» — «Гелимадонны». Прозвище привилось, и с тех пор четырех старших дочерей Ганзелина повсюду называли Гелимадоннами.
Побродяжка Гопцаца, который подпрыгивал, когда ему предлагали стакан самогона, Анежка Резаная, которую нужда толкнула на попытку самоубийства, лавочник Гостюшка, который, будучи в гостях в Милетине, упал в Безовку, и Гелимадонны — вот, пожалуй, все те, кого в Старых Градах никто за глаза не называл по имени. Быть причисленным к этой жалкой братии, быть осужденным всю жизнь носить на себе клеймо, быть шутом у дураков — доля не из приятных. Стоит ли удивляться, что каждая девушка, дежурившая в амбулатории, всегда старательно избегала глядеть на картонный круг, висящий над отцовским столом.
ПЯТЬ ДОЧЕРЕЙ
В ту пору, когда мы приехали в Старые Грады, Гелене Ганзелиновой было тридцать четыре года, Лидмиле тридцать два, Марии тридцать один, Дороте двадцать, а Эмме четырнадцать. Три из них: Геля, Мария и Эмма были светловолосые и голубоглазые; у Лиды и Доры глаза были тоже голубые, но более темного цвета, а волосы почти совершенно черные.
Гелена и Лида были высокого роста, сухопарые, по-видимому, в мать. У Гелены фигура была скорее мужская, широкие плечи, узкие бедра, густые брови, резко проступающие кости лица и узкий, словно безгубый рот. Суставы ее рук казались раздувшимися желваками, мускулы — сплетенными из проволоки, а локти — туго скрученными узлами. Гелена походила на верблюда и, в довершение сходства, горбилась. Она была шумливой, громкоголосой и нимало не заботилась о своей внешности: к примеру, на свои непомерно большие ноги любила надевать башмаки с застежкой на мелких пуговичках, из которых одни едва держались на ниточке, другие вообще отсутствовали; в городке утверждали, что сапожник шьет ей и милетинскому лесничему обувь по одной колодке. В движениях Гелены не было ничего женственного, она ходила вразвалку, широкими шагами, говорила хриплым голосом.
Лида была примерно такого же роста, как Гелена, однако гораздо тщедушнее, сутулая, с впалой грудью и длинным лицом. Тот, кто всмотрелся бы в ее глаза повнимательнее, мог заметить, что они имели необычный фиалковый оттенок, придававший им выражение нежной грусти. Но чего стоят красивые глаза, если кожа на лице пористая, угреватая, усеянная мелкими прыщиками! Лида казалась смуглой, но впечатление это создавала все та же нечистая кожа. Если Гелена была решительной, то Лида — робкой, неразговорчивой, тихой. Ничто на свете не могло ее рассмешить, ничто не могло вывести из терпения. За всю жизнь не видел я таких тонких рук. При наклоне у нее через корсаж проступали ребра, и в целом она очень напоминала скелет, стоявший под стеклянным футляром в нашем школьном кабинете. Если у Гелены волосы были всегда растрепаны, то у Лиды они были словно приклеены к черепу. Она причесывалась на прямой пробор, укладывая волосы на макушке узлом в виде плетеной булочки — к сожалению, и пробор, и узел были, точно мукой, припорошены перхотью.
Гелена и Лида, вне всякого сомнения, были стары и безобразны. Но вот касательно Марии мое суждение не будет столь безоговорочно суровым. Она тоже была некрасива, однако без той грубой законченности, тоже худощава, но более стройна, даже вполне складная, — так что со своими округлыми плечами и заметной грудью обладала определенной женской привлекательностью. Лицо Марии было бледным, точнее, не столько бледным, сколько ровного слабо-розового тона. Однако на щеках ее не было румянца. У Лиды, с ее нечистой кожей, отсутствие румянца являлось как бы само собой разумеющимся — у Марии же это выглядело большим недостатком. От кого Мария унаследовала свой «орлиный», с горбинкой, кривой нос — неизвестно; в семье она была единственной обладательницей такого носа. Ее более светлые, по сравнению с Гелениными, волосы были желтоватого оттенка, цвета старой соломы. Они не вились, не торчали патлами, как у Гелены, но и не прилегали плотно к голове, как у Лиды. Голос Марии был мелодичный и приятный. Среди старших дочерей Ганзелина она была безусловно самой приветливой, милой и чуткой.
В ее лице Ганзелин имел лучшую изо всех помощницу, ибо Мария была исполнена сострадания — у нее оно просто переливалось через край. Помимо искривленного носа, лицо ее портили еще глубокие, похожие на синяки, фиолетовые круги под глазами. Не могу объяснить, почему я всегда смотрел на них с откровенной подозрительностью. Видимо, потому, что они наводили на мысль о хронической болезни, хотя, насколько мне известно, Мария была наделена отменным здоровьем. У нее была еще одна неприятная особенность — творожная белизна тела. Белизна ее горла и рук вызывала неприятное чувство даже и в те времена, когда женщины гордились белой, нетронутой загаром кожей. До сих пор не пойму, каким образом, часто работая на поле в летнюю жару, умудрялась она сохранить такой удивительный цвет кожи.
Дора! Я приближаюсь в мыслях своих к Доре с тем чувством, с каким в холодный осенний день мы устремляемся к жарко натопленной печке. Тепло воспоминаний, излучаемое ею, доходит до меня еще и сейчас, еще и сейчас, — с немыслимого расстояния в тридцать прошедших лет. Дора была среднего роста. Вызывающе пышные формы, полные, крепкие руки, большой рот, красные, сочные, всегда как бы строптиво надутые губы, жгучие, точно уголья, глаза… Дора была красива и к тому же — в самом расцвете своих двадцати девических лет. Она походила на необъезженную, горячую молодую кобылицу, в возбуждении грызущую удила белыми зубами. На смуглых Дориных щеках играл дерзкий румянец. Румянец — вот что было в ней самым поразительным. Цвет ее лица менялся беспрестанно, словно кожа хамелеона. Во время разговора по совершенно неуловимой причине этот румянец то разгорался, то тлел, то слабо цвел, то вспыхивал вновь, отражая бурные приливы и отливы кипучей крови. Внутри нее словно бы все время обращался вокруг оси мощный, яркий луч прожектора, и невозможно было угадать, когда он отдалится, а когда во всю силу полыхнет прямо тебе в лицо.
Дорин подбородок немного выдавался вперед, что сообщало ей особенную прелесть. В улыбке, — а улыбалась она часто и охотно, — открывались два ряда белых, крепких, и не мелких, жемчужных, а широких, плотоядных, негритянских зубов. Несоразмерно маленькие ушки обманно говорили о нежности, но эта кажущаяся нежность отнюдь не соответствовала буйному нраву Доры. Глаза у нее бывали иногда злыми, иногда мечтательными — очевидно, под действием того же внутреннего огня, который, чуть пригаснув, уподоблялся летним сумеркам. Блеск этих двух живых источников света затеняли густые длинные ресницы, и тот, кто стоял рядом с Дорой, сам проникался ее непонятной печалью. И притом Дора не отличалась ни снисходительностью, ни милосердием, ни привычкой к спокойной и неспешной работе. Будучи в скверном расположении духа, она могла накричать, сорвать свой гнев на ком угодно. Столь же неожиданно она вдруг делалась веселой, игривой, ласковой, как бы неустанно торопя жизнь ниспослать ей любовь — любовь необыкновенную, богатую приключениями, какой на свете не бывает и быть не может.
Я не могу представить себе большей несправедливости, чем судьбу Доры родиться одной из Гелимадонн. Красота возбуждает у людей страсть, изумление, радость или печаль, но чтобы она сделалась предметом насмешек — это немыслимо. А между тем в случае с Дорой было именно так! Ее принадлежность к презренному круговороту значила в глазах староградчан больше, нежели красота, столь щедро отпущенная ей природой. Увидев ее за какой-нибудь унизительной работой, горожане усмехались и обменивались ехидными взглядами точно так же, как при виде Гелены, Лиды или Марии. Мало того, они, — в особенности женщины, — питали к ней даже бо́льшую неприязнь, ибо она была горда, могла зло сверкнуть глазами и высоко держала голову. Ни одна староградская барышня не могла сравниться с ней наружностью. Сколь же сладостно было для них торжествовать над ней, втаптывать ее в грязь, выказывать ей пренебрежение! Бедная Дора! Две ее старшие сестры были смешны сами по себе, одна своим мужеподобным обличьем, другая своей необычной худобой, и обе давно привыкли к чрезмерному, неприятному вниманию, какое уделял им городок. Кроткая Мария была мудрой и снисходительной, что позволяло ей легко сносить свою незавидную долю. Доре не было присуще ни одно из этих свойств. Она жестоко страдала, — в одиночку и молча, — поскольку нигде, даже у своих сестер, не находила сочувствия.
Маленькая Эмма… Ах да, осталась еще эта, последняя в ряду дочерей Ганзелина. Эмма, на которую отец всегда смотрел не иначе, как с затаенной нежностью, Эмма, домашняя канарейка, куколка, для которой у сестер находились только ласковые слова, которую ничего не принуждали делать, не давали даже мелких поручений. Какой была Эмма? Ну, что можно сказать о котенке, играющем обрывком бумаги? Что сказать об этом удивительном существе, под чьей свободной одеждой — лишь намек на плоть и чья естественная прелесть сродни скорей уж луговой маргаритке, нежели прелести будущей женщины?
Эмма была на год старше меня, но выглядела десятилетней. Не знаю, чем объяснить, что она долго сохраняла тщедушный, младенческий вид; вероятно, тем, что родилась от женщины, здоровье которой было уже основательно подорвано. Ее волосы цветом были схожи с Марииными, но вовсе не жесткие и не тусклые, а мягкие, как птичий пух, подобные светлому нимбу. Она их заплетала в две косы и носила, перекинув на грудь, а не за спину. Цвет лица у Эммы был розовый, матово-розовый, но без тревожного оттенка. Внешне Эмма походила на Марию, однако в ней не было ничего болезненного или уродливого. Выражение ясных голубых глаз было задумчивым, но личико — улыбчивым, с нежной, шелковистой кожей; носик короткий, чуть вздернутый. Тени под Эммиными глазами — светлеющие предутренние сумерки. Она носила такую же грубую обувь, как и ее сестры, но на ее изящных ножках аляповатые поделки местных сапожников казались уже чистым недоразумением. У Эммы был тонкий, нежный, переливчатый голосок, как у певчей птицы — описать его невозможно. Обаяние девического голоса вообще невозможно передать в словах, а ведь я не могу сейчас проиграть для вас мелодию на пианино или сочинить партию для скрипки.
Что бы ни делала Эмма — касалась ли тоненькой, хрупкой ручкой своих волос, прикусывала ли мелкими зубками нижнюю губку или накручивала в сердцах на палец кончик своей косы, удивленно оглядывалась, хмурилась или улыбалась — все выходило очаровательно. В Старых Градах не было человека, который не провожал бы ее умиленным взором. То же впечатление чуда, как на отца и сестер, производила она и на староградских обывателей, на баб из окрестных деревень, на кашляющих и кряхтящих пациентов, на бедноту предместья и рабочих с глоубетинской бумажной фабрики. Все с ней были ласковы, все ее любили. Удивительно, никому вовсе не мешало то обстоятельство, что она — дитя отвратительного Ганзелина!
Но, разумеется, мы отлично понимаем — почему. Ее имя не было начертано на адовом круге, висевшем в докторской амбулатории.
ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОКЛОННИК
Ганзелин, король в своем женском королевстве, чудак, каким мы его уже узнали, был скуп — так, во всяком случае, утверждали в городке. Было ли это правдой? Скорее всего ему приходилось экономить, чтобы свести концы с концами, так как гонорары его, надо полагать, были мизерны. Ведь он был обречен пользовать пациентов, которые болели нечасто и в большинстве не имели средств на лекарства и оплату визитов врача. Ганзелин умел брюзжать, но не умел с достаточной решительностью востребовать гонорар, А при всем том он должен был откладывать деньги на приданое дочерям. Из рук трудолюбивых Гелимадонн монеты перекочевывали в пухлое портмоне, из портмоне — в железную кованую шкатулку, стоявшую под кроватью доктора, а оттуда — в староградскую сберегательную кассу. Сколько же удавалось отложить врачу, если клиентами его были одни бедняки, перебивавшиеся с хлеба на воду, а многодетной семье требовалось больше, чем позволял столь скромный заработок? И не трогательно ли внесение этих жалких, геллер по геллеру, вкладов на пять сберегательных книжек? Подозреваю, что славные бодрые староградские обыватели были прекрасно осведомлены о том, сколь скудны эти накопления, иначе отчего бы молодые люди за три версты обходили дом Ганзелина? По-видимому, расчетливые отцы и любящие матери растолковали им, что докторская шкатулка отнюдь не таит в себе крупного вознаграждения тому, кто решится протянуть руку за каким-либо из перезрелых или дозревающих яблок.
Ганзелин расходовал свои средства осмотрительно. У его дочерей никогда не было новых, красивых платьев, никогда они не были одеты по моде. Конечно, говорить о крайней нужде семьи не приходилось — просто Ганзелин не признавал за своими дочерьми права щеголять в нарядах. Франтовство было ему отвратительно, он презирал его до глубины души. В нем сказывался сын дорожного рабочего. Полагаю, девушки противились такому суровому уставу, но, вероятно, со временем всякий ропот, не возымев никакого результата, прекратился. Бедные Гелимадонны, которых уже одно только прозвище, прицепившееся к ним по милости чудака отца, делало смешными, даже не надеялись скрыть с помощью портновского искусства врожденные недостатки. Если бы и нашелся такой смельчак — скажем, из старых холостяков или вдовцов, — что вознамерился бы извлечь корысть из Гелениного трудолюбия, Лидиной кротости, Марииного добросердечия, он тотчас растерял бы свою храбрость, едва увидев этих трех граций, направляющихся воскресным днем к костелу в старомодных шляпках, которые они носили по многу лет подряд, в немыслимых кофтах с басками и обвисших юбках из материи, прочность которой противостояла даже воздействию резкого предгорного климата. Невозможно было полюбить превосходные человеческие качества, облеченные в такое старье! Но ведь я описываю их праздничные наряды. Что уж говорить о повседневной одежде, когда они с утра впрягались в предписанную диском работу! Кто из мужчин тонкого воспитания не отшатнулся бы, встретив свою избранницу в чудовищной соломенной шляпе или запачканных навозом деревянных башмаках?
Когда платья в конце концов изнашивались до дыр, а шляпы непоправимо портились от дождя, когда жалобы дочерей уже взывали к небесам, Ганзелин неохотно поднимал крышку своей шкатулки и выдавал каждой, — разумеется, по справедливости, — деньги на новую экипировку. После этого в домике на деревенской площади наступали светлые праздничные дни, как бывает за полярным кругом, где солнце восходит лишь один раз в году. Наступало время некоего цветения, увы, цветения запоздалого, ибо бедняжки разучились уже идти в ногу с модой. С жадностью нищего, которому после долгих мытарств выпал счастливый лотерейный билет, бегали они по лавкам и накупали всякой всячины, стараясь при этом еще и выгадывать в цене. Результат, как и следовало ожидать, оказывался самым что ни на есть плачевным. Пожалуй, до этих бесполезных трат они были одеты лучше. Впрочем, все могло объясняться оптическим обманом, — ведь наше старое платье не может быть красивее нового, но старое выглядит привычнее, в то время как к новому еще надо привыкать. К тому же сам Ганзелин с живейшим интересом обсуждал покупки, и за ним всегда оставалось последнее слово. Только Дора по праву красавицы пыталась отстоять свой вкус, однако обе вешалки и непритязательная Мария вкупе с отцом, обожаемым домашним тираном, настаивали на своем, так что она была вынуждена подчиниться, чтобы потом несколько вечеров кряду проливать потоки напрасных слез.
Говоря о пугалах, я, понятно, имею в виду главным образом трех старших сестер. Издавна подмечена и стала общеизвестной истина, что молодой, цветущей девушке всякий наряд к лицу, что красота победно пробьется сквозь любую самую неприглядную оболочку. Дора выходила в город, одетая нисколько не лучше своих сестер, но казалось, только на ней одной — новые вещи, а остальные просто донашивают посла нее. Даже старомодная юбка не могла скрыть соблазнительной округлости ее покачивающихся бедер, а обвисший капюшон не мог затенить блеска ее глаз. Между своими убогими сестрами она выглядела как вишня рядом с орешником, как роза среди репейника.
Поэтому не приходится удивляться, что у нее был поклонник. Правда, он не относился к числу блестящих, самоуверенных поклонников; сей молодой человек был нерешителен, подвержен колебаниям, а ко всему прочему совсем некрасивый. Некрасивый и, по правде говоря, глупый. Он служил учителем, звали его Пирко. Росточку Пирко был невысокого, значительно ниже Доры. Губы его походили на два ивовых листка, — узенькие, плоские и блеклые. Вокруг этого неприятного рта торчала рыжеватая стерня; на шишкастой, редькой вверх, голове остался лишь венчик волос ржавого цвета. Все лицо его было словно вогнутым внутрь, а на выпуклых глазах лежали тяжелые, белые веки.
Он не гулял целыми днями возле домика доктора, как надлежит всякому другому обожателю: напротив, возникал здесь лишь изредка, промелькнув поспешно и будто случайно, уподобляясь не восходящей регулярно на небосклоне утренней или вечерней звезде, но комете, что объявляется раз в сто лет — ну, скажем, раз в сто часов. Что за побуждения влекли его к воротам усадебки Ганзелина и неизменно уволили назад, понять было нельзя. Неуверенность проглядывала в каждом его шаге, в каждом его жесте. Он переминался на своих тоненьких ножках, как воркующий голубь. Возможно, он был просто очень робок и не знал, как подступиться к избраннице голубке, которая всякий час оказывалась занята иным делом и в ином месте. Впрочем, Дора нисколько им не дорожила. К удивлению, у нее, выросшей в атмосфере вечного страха остаться старой девой, страха, затаившегося во всех углах ее родного дома, еще не выработалось достаточно смирения и расчетливости, чтобы удовлетвориться этой незавидной добычей.
Разумеется, ее отношение к молодому человеку представлялось городку жестоким, неслыханно дерзким, заносчивым. Подумать только! Дора, скажем, снует в деревянных башмаках по хлеву либо орудует метлой у крыльца. А он подкатывается к ней этаким щеголем, с цветком в петлице. И вот вместо того, чтобы ей, Гелимадонне, смущенно улыбнуться, стыдясь за свои отрепья, Дора почти презрительно усмехается. Учитель что-то без умолку говорит, а Дора с преувеличенным усердием продолжает трудиться, лишь время от времени бросая на ухажера убийственные взгляды.
Интересным собеседником пан учитель Пирко не был, что правда, то правда. Он умел лишь глупо хихикать, рассусоливать о том, откуда дует ветер — с запада или с юга, что предвещают зарницы — вёдро или ненастье, да сетовать на своих учеников, плохо выполнивших домашнее задание по чешскому языку. В лучшем случае он добавлял одну-другую из несносных сплетен. Главную надежду на подобные возвышенные беседы давали Пирко воскресные прогулки. Из этого вовсе не следует, что девицам Ганзелиновым позволено было бесцельно слоняться по площади! Однако и у них выкраивался часок между началом мессы и ее окончанием, чтобы несколько раз пройтись взад-вперед под аркадами. И если Дора старалась поскорей удрать с площади, то, значит, ей грозило быть осчастливленной вниманием учителя Пирко. Словно не было для нее унижения горше, чем предстать перед публикой в паре с этим уродом.
Судя по всему, простой учитель Пирко казался Доре не вполне подходящей партией. Может, она думала, глупенькая, что явится кто-нибудь получше? К примеру, пивовар Прокоп с черными, чуть ли не до пояса, усами или молодой аптекарь — самые красивые и желанные женихи во всем городе? Давно прошли те времена, когда в Золушек влюблялись принцы! Вот так всегда: морочат головы женихам, нос от порядочных людей воротят, пока другие всех не разберут. Уж мы-то, старики, знаем, каким коротким бывает соловьиное лето. Мы еще дождемся, когда эта пустоголовая девчонка будет с отчаянием высматривать из своего окошка того, кто никогда не придет! И поделом ей! Пусть получит сполна за свою дерзкую гордыню, за свое жестокосердие!
Ну, ежели у детей разума нет, его хватает у родителей. Как же относился к странному поклоннику доктор Ганзелин? Был ли он рад? Светился ли гордостью при взгляде на дочь, с которой мог связать надежды хотя бы на одну свадьбу в доме? Сознавал ли, сколь блистательные и заманчивые возможности сулит будущее, когда учитель, перестав однажды выделывать свои нерешительные танцевальные фигуры, начнет планомерную осаду? Как бы не так! Дора не была единственным человеком, у кого для учителя находились только издевки — в этом с ней вполне успешно соперничал сам Ганзелин, ее непостижимый отец.
В городе поговаривали, будто доктор просто не хочет, чтобы его дочери выходили замуж, и все потому, что тем самым было бы нарушено равномерное движение картонного диска. Горожанам не чужда была даже романтичность. Меж ними ходил слух, что в молодости Гелена тоже состояла в близком знакомство с одним приказчиком, который, однако, отступил из страха перед неприязненными колкими взглядами светло-голубых глаз Ганзелина, что в Лиду был по уши влюблен некий почтовый служащий, но после того, как Ганзелин откровенно, без утайки, побеседовал с ним в трактире, у того от серьезных намерений и духа не осталось!
Что касается синих кругов под глазами Марии — то это-де не что иное, как следы нескончаемых слез, коими она оплакала рухнувшую по вине отца первую и последнюю надежду выйти замуж за помощника присяжного поверенного.
Ну, положим, в Старых Градах всяких сплетен и россказней кружило предостаточно, особенно, когда это касалось бедных Гелимадонн. Однако в случае с Дорой неоспоримо, что ни о каком отцовском самовластии не могло быть и речи. Оба они, и доктор, и его дочь, — вот уж истинная правда! — в своем мнении о господине Пирко были на редкость единодушны.
ПОЮЩАЯ КОЛЯСКА
Уже больше недели мы жили на староградской площади, в зеленом, цвета барвинка, доме, рядом с аптекой. Наша мебель наконец-то была расставлена по комнатам, мелкая утварь распакована, все пропавшие либо разбитые предметы докуплены. Мать непрерывно изъявляла недовольство: что пол в квартире наполовину сгнил, потому как его, видно, слишком часто и слишком рьяно скоблили, что комнаты тесные и темные, а лестница при каждом шаге отвратительно скрипит. Мы уже нанесли несколько неотложных визитов здешним важным лицам и в ответ принимали у себя, в нашем черном салоне с обтянутыми красной материей креслами, церемонных дам и робеющих господ чиновников.
Вспоминаю, как я отправился с моими родителями на первую вечернюю прогулку по пыльному, ведущему к Милетину шоссе, обрамленному покосившимися столбиками и кривыми рябинами. На небе не было ни облачка, в воздухе серебристыми стежками застыли паутинки бабьего лета, до шумавских гор, казалось, рукой подать. Я бродил по вянущим лугам, собирал букеты из кровохлебки и колокольчиков с длинными, темно-лиловыми тычинками. На отце был двубортный сюртук, тесно обтягивающий его богатырскую грудь. Заложив руки за спину, он двумя пальцами ловко крутил свою тросточку. Мать в шляпке, прикрепленной к узлу на затылке с помощью вуальки, была так тонка в талии, что представлялось сомнительным, есть ли у нее вообще какие-либо внутренности.
Домой мы возвращались при заходе солнца. Освещенная розовым светом вечерней зари, староградская сторожевая башня возвышалась впереди, над густыми фруктовыми садами, сбегающими к стыдливой, тоскующей Безовке. Когда мы проходили мимо домика лесничего, позади нас послышался шум тарахтящей по щебню коляски.
Мы сошли в кювет, дабы по мере возможности уберечься от поднявшейся пыли. Мы обратили внимание, что вместе с грохотом колес близились и звуки многоголосого пения. Любопытно, по какому поводу поют? Не едут ли разудалые свадебные гости? Или некие веселые и беззаботные люди возвращаются с прогулки по окрестностям? Но вот из-за поворота показался желтый ковчег с черным спущенным верхом; на козлах, пощелкивая кнутом, восседала сухопарая девица; еще две особы в престранного вида шляпках поместились на узком откидном сиденье спиной к лошадям, таким образом, перед ними, удобно развалясь, сидел толстый мужчина с угреватым носом. К его плечу притулилась девчушка с глазами цвета незабудок, с веночком из луговых цветов на голове — просто картинка из сказки.
Дамы в коляске усердно, будто обязавшись, пели слаженными сопрано, — может, таким образом проявлялась внезапно взыгравшая в них радость жизни, — а девчушка с веночком на голове вторила им серебристым голоском. Я стоял открыв рот. Облако пыли обволокло нас. Отец вытянул руку с тросточкой и воскликнул, стараясь перекричать шум колес:
— Глядите, да это староградский доктор Ганзелин со своими дочерьми!
В немом изумлении мы еще некоторое время смотрели вслед коляске. У матери по губам скользнула презрительная усмешка.
Так я впервые узнал о странном обычае Ганзелина выезжать — каждый день, в любую погоду — к своим деревенским пациентам вместе с четырьмя дочерьми, С утра доктор принимал у себя дома: рвал зубы, шлифовал коронки, простукивал больные легкие, вправлял вывихи, перевязывал раны. В одиннадцать часов навещал городских пациентов, ежели имелись вызовы. Впрочем, с ними он управлялся довольно быстро и, как правило, в двенадцать садился обедать. После обеда шел к себе немного вздремнуть и в два уже мог продолжать прием в амбулатории. Когда прием заканчивался, девушка, работавшая в тот день на конюшне, выкатывала из сарая с помощью других сестер допотопную коляску и впрягала в нее лошадь.
Ровно в четыре горожане могли спокойно проверять свои часы, заслышав тарахтение докторова экипажа — лошадка уже ходко трусила по неровной мостовой, коляска с грохотом катилась вдоль улиц, мимо старой каланчи, мимо пивоваренного завода, торжественно въезжала на площадь, по кривой улочке спускалась вниз, минуя ворота, кружила между бараками предместья. Там обычно делалась первая остановка; если все же в этих нищенских хибарах не находилось больного, то уж в милетинских лачугах наверняка кто-нибудь да хворал. Ганзелин вылезал из коляски, спускался по тропинке вниз к домишкам, прилепившимся у шоссе, или взбирался вверх по склону; та из дочерей, которая в тот день несла службу в амбулатории, следовала за ним с аптечкой в руках.
Пока эти двое отсутствовали, лошадь, склонив к земле голову, выискивала себе у канавы зеленую травку. Бич висел кнутовищем вниз — знак, что наступило время отдыха. Маленькая Эмма змейкой скользила по лугу, собирая цветы. Ее спутницы, на слезая с козел и откидного сиденья, пробовали голоса. Вернувшись от первого пациента, Ганзелин тяжело усаживался на свое место, маленькая куколка прислонялась головкой к его плечу, доктор умильно поводил глазами, кряхтя спускал обшарпанный верх коляски, девушка кучер замахивалась кнутом, чмокала, лошадка трогалась. Постепенно, набирая скорость, как граммофонная пластинка, раскручивалось пение Гелимадонн; одна мелодия сменялась другой, плясовая — раздумчивой; они пели без передышек, без предварительного обсуждения, точно наперед согласовали свою программу.
Девушки пели, хрустальный колокольчик, звеневший у отцовского плеча, вторил им. Коляска тряслась, подпрыгивая на щебенке, рессоры скрипели, дорога вилась вверх, устремлялась вниз, снова шла в гору, песни звучали то как вызов судьбе, то в них слышалась тоска, то воспоминания о прошедшей молодости и горечь утраченных надежд. От Милетина к Вратне, от Вратни к Глоубетину, потом к Чимелицам, к Отрочне, пение то замирало, то крепло вновь. Во время этих поездок молодели печальные девы, во время этих поездок развевались по ветру спутанные волосы Гелены, еще больше темнело смуглое Лидино лицо, глубже становились скорбные круги под глазами Марии, сверкали широкие негритянские зубы Доры. Ах, нынче они задорны, нынче они отважны, никто из женщин во всей округе не может сравняться с ними, они утверждают свое право петь. Всякая иная девушка на их месте умолкла бы под любопытными взглядами прохожих, при виде насмешливых лиц обывателей, вышедших на променад или возвращающихся с прогулки, но дочери Ганзелина, приговоренные к одиночеству и жизни с причудником отцом, в этом безыскусном развлечении находили для себя некую отдушину, дружная песня давала им силы выдержать завтрашний тяжелый трудовой день. Из окошек придорожных домов выглядывали осуждающие лица и снова исчезали в темноте горниц. Ну да, это староградский доктор Ганзелин со своими дочерьми!
А что, если бы коляска проехала мимо беззвучно? Да те же самые люди в тревоге повылезали бы на завалинки, в тревоге спрашивая друг у друга: «Что случилось? Почему они примолкли? Чем-то расстроены? Уж не произошло ли чего ужасного в мире?»
Пение Ганзелиновых дочерей вошло в распорядок дня сельских жителей, стало местной достопримечательностью и чем-то совершенно необходимым. Люди привыкли к нему. Привыкли к трусящей рысцою лошадке, к взмахам кнута над ее головой, к женщине на козлах, к ангельскому личику самой младшей из Ганзелинова потомства.
Почему они, собственно, пели? Когда возник этот своеобразный обычай и как он смог удержаться? Когда люди перестали над этим подсмеиваться и начали причислять пение Гелимадонн к непреложным повседневным явлениям? В Ичине, куда мы переехали из Старых Градов, я познакомился с тамошней достопримечательностью, убогим стариком, который неутомимо ковылял вокруг города, взмахивая кованой тростью и тяжело выбрасывая дугой деревянную с железным наконечником ногу. На шее у него висела шарманка, на шарманке сидел нахохлившийся белый какаду. Всякий раз, когда мы проходили мимо старика, он сдергивал дырявую шляпу, а попугайчик кивал нам, тряся хохолком. Иногда мы кидали старику монетки, а иногда, не обратив внимания, шли дальше. Все горожане и все окрестные жители знали этого нищего. Никто никогда не слышал, чтобы он играл на своей шарманке; по-видимому, он таскал ее только затем, чтобы было где сидеть попугаю, который был привязан к инструменту никелированной цепочкой. И там люди тоже не удивлялись, они тоже привыкли. Но если бы однажды нищий не вышел в путь от своей берлоги к городу и обратно, держась по-за домами, непременно той же самой дорогой, люди бы тоже переполошились: не стряслось ли чего со старым Ваврой. И, утратив привычное, сразу ощутили бы пустоту. Их страшно удивило бы, заиграй он вдруг на своей шарманке, так же как, наверное, остолбенели бы староградчане, замолкни в одночасье Ганзелинов хор. В каждом краю имеется своя такая достопримечательность. Мы не задаемся вопросом, как она тут объявилась, но считаемся с ее существованием и благодарны ей за то, что она каким-то образом олицетворяет собой неизменяемость и прочность этого мира.
Да, существовали безгласные шарманки и распевающие путницы, были — и нет их. Прошлое вечно в разладе с настоящим, а будущее отлично от того и другого — но об этом лучше помолчим, мы не намерены философствовать или роптать, мы хотим всего лишь вести наше повествование дальше. Итак, пока мы еще погружены в свой зачарованный солнечный сон, коляска Ганзелина все еще тарахтит по дороге, девушки поют, цветы в Эмминых волосах олицетворяют собой вечную весну человечества. Все так, как на выцветших картинках в Ганзелиновом стереоскопе. Коляска останавливается возле дома, где живет первый безнадежно больной пациент. Из коляски выходит врач, за ним — девушка с аптечкой. Пение смолкает, лошадь скребет подковой, кнутовище бича опущено вниз. Спустя четверть часа Ганзелин выходит из дома, за ним, понурив головы, бредут отец и мать умирающего, родственники со скорбными лицами. Ганзелин хмурится, молчит, пожимает плечами, что-то пробурчав, забирается в коляску — снова в путь, снова слышится пение. От дома к дому, от деревни к деревне. Возвращаются они под вечер, из леса тянет прохладой, притихли утомленные путники, звуки песни слабей и протяжней. Зато Безовка обрела уверенность, заглушает песню, заглушает щебетание готовящихся ко сну птиц. Эмма щурит уставшие от ветра глаза. Коляска приближается к городским воротам. На площади в разноцветных домах хозяйки затворяют окна. На куполе сторожевой башни гаснет последний отблеск солнца, и меланхолически дымит пивоварня. Запах солода бьет в ноздри.
ВРАТЕНСКИЙ РОДНИК
За деревенькой Вратень высился поросший лесом холм; на вершине его раскинулась поляна с родничком и белой марианской статуей. Из родника, обнесенного низкой деревянной оградой, по железной трубе стекала струйкой вода, образуя мелкий ручеек, тихо журчавший среди вереска и мать-и-мачехи. Каменная дева Мария, молитвенно сложив руки и печально потупясь, смотрела на расстилающуюся внизу окрестность. Она будто бы некогда творила чудеса; старики еще хорошо про это помнили, молодые уже знали только по рассказам, а рабочие с глуобетинской бумажной фабрики по этому поводу лишь насмешливо пожимали плечами. У вратенского ключа цвели по весне первые подснежники, летом лужайка алела от ягод, а осенью в ельнике вокруг нее было полно рыжиков. Тут я впервые лицом к лицу встретился с маленькой Эммой Ганзелиновой.
От Старых Градов до Вратни по милетинскому шоссе было далековато; однако не было и нужды проделывать такой окольный путь. С деревенской площади к вратенской долине вела мимо садов крутая извилистая тропка. Стоило только перейти по мосту через Безовку, затем выйти по меже к шоссе, а уж отсюда вверх по холму лесом до источника не более десяти минут ходу. Почему меня так влекло к этому роднику? Может, я имел склонность к мистицизму? Нисколько. Просто мне нравилось в одиночестве блуждать по лесным закоулкам. Поляна лежала в стороне от проторенных дорог, ни один деревенский житель в обычные дни не забредал сюда, разве что в воскресенье. Ни разу не встретив тут ни души, я полагал, что сей укромный уголок принадлежит мне одному.
Однажды сидел я на корточках над родником, наблюдая, как ключ фонтанчиками пробивается сквозь песок, как несколько жуков-водомеров геометрическими зигзагами скользят по воде, словно к их длинным, тонким ножкам приделаны пробковые поплавки. Где-то валили лес, и оттуда доносилось приглушенное заунывное жужжание пилы; казалось, средь бела дня храпит какой-то любитель поспать. Солнце припекало, и чем выше оно поднималось к зениту, тем больше походило на маленький глазок, иронически смотрящий вниз; небо сияло яркой голубизной. Когда по временам набегал ласковый ветерок, вереск у родника покорно клонился долу, между тем как кустики черники вдоль просеки держались стойко. Я, наверно, задумался, а возможно, даже слегка задремал. Внезапно за моей спиной прошелестели тихие шаги, и слабая тень легла на чуть колышущуюся водную гладь.
Я оглянулся и сразу узнал ее, девочку из докторской коляски, ту, что с веночком на голове сидела, прильнув к отцовскому плечу. Бессознательно, движением хорошо воспитанного мальчика, я свел коленки и придвинулся ближе к ограде. Могло показаться, будто я освобождаю девочке место подле себя, но я вовсе ничего такого не хотел сделать; вероятно, она поняла меня именно так и улыбнулась, не открывая губ, приложив к ним пальчик, как бы призывая к молчанию. Жест показался мне восхитительным, исполненным тайны, нежность горячей волной прихлынула к сердцу; я на самом деле покраснел. Девочка доверчиво прислонилась к каменному постаменту статуи, словно та была ее давней доброй приятельницей, и принялась перебирать пучок сладко, дурманно пахнущей ночной фиалки, который она принесла откуда-то из лесного сумрака. Склонив голову, она выравнивала белые, свежие цветы, словно не было для нее дела важнее, чем сложить их в букет, и все время улыбалась про себя, таинственной и лукавой улыбкой.
Я с большой охотой заговорил бы с ней, но не мог произнести ни слова, ничего путного на ум не приходило, а девочка, видимо, и впрямь не хотела, чтобы я говорил. Собственно, я уже довольно долго сидел у родника, и разум нашептывал мне, что пора идти домой, если я не хочу опоздать к обеду и заслужить суровый выговор от матери; однако ни за что на свете я не решился бы нарушить странное, безмолвное очарование, опутавшее меня и привязавшее к месту.
Я не смотрел на нее, то есть не смотрел открыто, с притворным равнодушием постукивал каблуком об каблук, свободной рукой гладил шершавые цветки вереска, но уголком глаза следил за каждым ее движением. Девочка, казалось, тоже не обращала на меня никакого внимания и вела себя так, будто меня тут и не было. Вытянув тонкую, белую, прозрачную ручку с букетиком фиалок, она медленно положила его на постамент; другая ее рука водила по губам хвостиком косы, ясные голубые глаза упорно разглядывали пейзаж. Ее непринужденная поза была исполнена невыразимого обаяния. Не потому ли так картинно прислонилась она к постаменту статуи, что хотела понравиться мне? Ах нет, скорее всего ей было неприятно видеть меня здесь, и она, вероятно, обрадовалась бы, если бы я ушел. Пристальное изучение пейзажа должно было означать: «Я тебя не вижу. И не хочу видеть. Это моя дева Мария. Мой родник. Ты здесь непрошеный гость».
Она была босая. Я не мог вдосталь наглядеться на ее изящные, гладкие ножки с умилительно маленькими пальчиками. Да, более всего нас восхищает то, чего мы лишены сами, нас приводит в восторг хрупкость, уже не свойственная нам самим. Обыкновенно это бывает проявлением ревнивой зависти, которую мы испытываем по отношению к девочкам, пока ходим в школу. Тогда, еще до моей болезни, я был для своего возраста довольно велик, изрядно толст и немного противен самому себе, — ощущение, знакомое всем слишком изнеженным мальчикам. Я знал, что у меня дряблые икры, трясущиеся при ходьбе, мясистые ступни, а ногти на пальцах безобразно широкие и заскорузлые. И хотя этот изъян был надежно скрыт обувью и плотными чулками, мне все же представлялось, будто девочка о нем знает и ей крайне неприятно глядеть на мои огрубелые мальчишечьи конечности.
Я не мог долго терпеть мук этого воображаемого осуждения. (Сколь горестно биение отвергнутого сердца, сколь безмерны страдания, готовые выплеснуться потоком слез!) У меня вырвался не рассчитанный на эффект невольный вздох, знак подлинного смятения; я отвел взгляд, притворяясь, будто и меня невероятно занимает долина там, внизу, вид белых, высушенных солнцем домиков, прилепившихся к подветренной стороне холма, избушек с тесовыми крышами, сбежавших от наступающего на них леса. Поля зелеными волнами разлились по неоглядному простору холмистой равнины, терявшейся на севере в фиолетовой дымке, а посреди застывшего плато, наподобие яростного жала земляной осы, торчала красная крыша колокольни в Отрочне. Я долго и упорно смотрел на долину, пока перед глазами у меня не поплыли зеленые круги и не затекла неестественно повернутая шея.
Возникшая боль разрушила нежные грустные чары, и не свойственные мне упрямые мысли зароились в моей голове. Я решил, что смело посмотрю таинственной девочке прямо в глаза! Да, да! Чего робеть, чего бояться? Я спрошу у нее: «Что ты тут делаешь? Ты, верно, часто сюда приходишь, как и я? Странно, что мы здесь еще ни разу не встретились!» Я быстро взглянул в ту сторону, где раньше стояла девочка. Увы, ее не было. Она пропала. Не представляю, как ей удалось исчезнуть совсем бесшумно — не шелохнулся ни один стебелек, не дрогнула ни одна ветка, которая указала бы, в какую сторону она скрылась.
По возвращении домой первой моей заботой было подстеречь нашу старую Гату одну. Младшая служанка Бетка была мне по возрасту ближе, но она не пользовалась моим доверием.
— Гата, как зовут младшую дочку Ганзелина?
Однако Гата была уже довольно стара и плохо слышала, требовалось повторить вопрос несколько раз, прежде чем она ответит.
— Да ну же, Гата, как зовут эту маленькую девчонку?
Гата, слегка удивившись моему сердитому нетерпению, пылающим щекам и блеску в глазах, ответила. Поразительное созвучие имени девочки с моим собственным просто ошеломило меня. Я счел это истинным чудом, знамением свыше. Не случайно ведь при первой нашей встрече присутствовала, скромно опустив ресницы, вратенская святая дева. Весь остаток дня я провел, то шепотом, то во весь голос твердя наивную молитву: «Эмма — Эмиль, Эмиль и Эмма».
НЕВЫСКАЗАННЫЕ СЛОВА
Минорное звучание колоколов церкви святого Вавржинца в Старых Градах оставляло впечатление стройности и гармонии. Сквозь жалюзи самого верхнего окна башни я мог наблюдать, как раскачивается на фоне ясного неба тот самый большой колокол, чьи яростные удары сотрясали воздух, подобно божьему гласу. Иногда мне представлялось, что это с картины, висящей над главным алтарем, отчаянно кричит мученик Вавржинец, которого четыре смуглых палача волокут на окровавленном полотнище. Вавржинец лежал, раскинув руки, широко открыв рот и возведя очи к небесам, откуда, из просвета меж облаков, ласково улыбалась ему святая Троица.
Тихим вечером можно было слышать, как церковным колоколам вторит из долины писклявое, несуразное эхо, которое, однако, было не чем иным, как звуком колокола на милетинской часовне. Словно бы сей деревенский колоколец дал обет подрывать своим петушиным кукареканьем торжественность громового голоса Вавржинца. Помню, поначалу я даже затыкал уши, раздраженный этим дисгармоничным аккомпанементом, надеясь тем самым отфильтровать возвышенное от обыденного, однако у меня это никогда не получалось. Впоследствии милетинский звон уже не представлялся мне столь кощунственным, я привык к нему и даже не без удовольствия поджидал, когда удары колокола заглушат своего жалкого визгливого подголоска и наоборот — когда сварливый колоколец сумеет во время паузы издать свой победный возглас. Я упоминаю о послеполуденном благовесте главным образом потому, что под его звуки как-то во второй раз встретился с Эммой Ганзелиновой.
Я был неимоверный лакомка, и родители не слишком противодействовали этой моей дурной привычке. Выпросив у отца немного мелочи на расходы, я долго в задумчивости бродил по улице со своей добычей, прикидывая, подобно скряге, как наилучшим образом употребить капитал. Дорога по обыкновению приводила меня к двум ларькам, торговавшим под аркадами, где, помимо фруктов, можно было купить шоколадку, липкие конфеты или солодовый корень — лакомство бедняков.
В тот раз я стоял у ларька, позвякивая монетами в кармане и озабоченно хмурясь, как положено человеку, принимающему важное решение. Наконец я выбрал апельсин. И вот когда торговка протянула его мне, я заметил, что за мной тихо, по-воровски, крадется дочка Ганзелина. Наверняка все то время, пока я тут выстаивал, она с любопытством наблюдала за каждым моим движением, — иначе я не встретился бы в упор с ее неотступным взглядом. В полутьме глаза ее светились, будто были полны слез. Впрочем, какие там слезы! Смех, озорной смех, вызванный, конечно, моими мучительными раздумьями, чего купить! Щуплая фигурка попятилась, скользнула под ближайшую арку, а спустя мгновение я увидел ее уже на противоположном, освещенном солнцем углу площади. Девочка спряталась за колонной и, поглядывая оттуда одним глазком, не выпускала меня из вида. Ошибся ли я? Или ручка, обнимавшая колонну, подала некий знак?
Порыв мой был безотчетным, это был порыв души. Моя рука, державшая апельсин, протянула его девочке жестом, не допускающим сомнений: «Это тебе, возьми, если хочешь!» Она поняла. Заколебалась. Сперва из-за колонны показалась целиком головка с нимбом светлых волос, потом ножка — на этот раз в грубом деревянном башмаке. Я ждал ликуя, затаив дыхание. Но вот глазки потупились, губки перестали улыбаться, а покачивание головкой из стороны в сторону могло означать серьезное и решительное «нет». Затем она снова спряталась за колонну. Что-то подтолкнуло меня вперед, я устремился к ней, но она мышкой перед самым моим носом прошмыгнула под аркадами на улицу, ведущую к городским воротам, и скрылась с той же легкостью, как в памятный мне день у родника.
Я казался себе неуклюжим, обманутым, однако мое злополучное приключение нисколько не удручало меня, не вызывало досады, — напротив, скоро оно сделалось важной, дорогой моему сердцу тайной. Я даже испытывал блаженную умиротворенность: ведь я вел себя сегодня менее заносчиво, чем тогда, в лесу; невыгодное впечатление, которое я в тот раз произвел на нее, теперь сгладилось, между нами возникло доверие, отныне нас что-то связывало. Все было уже не столь безнадежно, открывался просвет в будущее, в безмятежный и благостный мир. До сих пор все обходилось без слов, но наступит час — и мы заговорим друг с другом.
Заговорим… Я думал об этой заманчивой перспективе, дожидаясь, когда уйдет мать, пришедшая поцеловать меня на ночь, когда погасят свет в спальне; мне не терпелось остаться одному, чтобы без помех перебирать впечатления сегодняшнего дня.
Потом я грезил наяву, как ребенок, каковым, собственно, и был, борясь со сном и широко раскрыв глаза, как будто хотел разглядеть возможно больше в туманной стране грез. Подобно ребенку, который, получив в подарок к рождеству проекционный фонарь с несколькими картинками, восторженно демонстрирует одну картинку за другой, а исчерпав программу, начинает все сызнова, так и я с жалкой горсткой своих волшебных образов проделывал все новые и новые комбинации. Я просматривал сцену на площади в другом, улучшенном издании. Мы с Эммой постепенно сближались, но мы как бы не двигались сами, а колонны аркад плыли навстречу друг другу, будто два корабля в море, пока не оказались так близко, что я смог заглянуть в Эммины глаза. Они походили на две куртинки расцветших незабудок, а косы, двумя светлыми ручейками стекавшие по ее груди, издавали, казалось, аромат ночных фиалок с вратенского холма. Я протягивал к ней руку с апельсином, и она медленно, робко принимала его от меня с не очень-то характерным для нее выражением трогательной благодарности. Что было дальше, сказать невозможно, ибо дальше, кажется, не было ничего. Должен был бы последовать тот самый разговор с нею, к которому я готовился; губы мои шевелились, но беззвучно, магические слова никак не хотели рождаться во мраке моего страстного бреда. Ее губы тоже шевелились, однако я не слышал слов; и все-таки смысл ее жарких речей был мне ясен сам по себе. Так мы — я и тень девочки — в темноте поверяли друг другу чудесные тайны, мы клялись любить друг друга, всегда оставаться верными друзьями и не разлучаться ни при каких обстоятельствах.
Остается объяснить, почему воображаемый диалог — что я мог сказать Эмме и что она должна была сказать мне — так и не состоялся. Прежде всего каникулы уже кончились, и я прилежно посещал школу, а ко всему прочему новый учебный год начался для меня в новой среде незнакомых мне учеников и учителей. Школа отнимала больше времени, чем я предполагал. Мне уже некогда было бегать к вратенскому роднику в надежде на случайную встречу. Впрочем, если мне той осенью и удавалось выбраться туда, то только под вечер, а она как раз в эти часы выезжала с отцом к больным. Тщетно молил я бога, чтобы повторилась та летняя встреча. Всевышний, к которому я взывал, не проявил милосердия, дева с потупленным взором тоже никак не покровительствовала мне, и я торчал возле родника в одиночестве. Встреча могла произойти на улицах городка или на площади, но, будто нарочно, я видел Эмму лишь во время своей обязательной воскресной прогулки с родителями. Было видно, как она, надув губки, бросает на нас быстрые взгляды, словно не одобряя наших господских обычаев. Всякий раз я терял дар речи, забывал, о чем только что спрашивал отец, но на девочку оглянуться не смел, терзаясь при этом ужасными муками.
Однажды — не помню уж, как это вышло — я увидел ее. Она сидела перед своим домом на опустевшей после пациентов скамейке, держа на руках трехцветную кошку и задумчиво глядя на плывущие по небу вечерние облака. Эмма не удостоила меня ни единым взглядом, а я, в свою очередь, не был готов исполнить предназначенное и, опустив голову, скорбным шагом удалился прочь.
Не могу сказать, сколько было еще впоследствии подобных незадачливых встреч, когда мы либо обменивались полуулыбками в знак приветствия, либо проходили мимо, словно чужие люди. О, в действительности она была опасной кокеткой! В открытой коляске, рядом со своим отцом и сестрами, она казалась мне еще более чужой. Сидя между родными — сколь памятна мне эта знакомая картина! — она имела неприступный вид, будто у ней даже общего ничего не было с той босоногой девчонкой, что шатается по лугам и лесам и дарит мальчикам из почтенных семей многообещающие улыбки. Впрочем, сам я очень стеснялся Ганзелина и его взрослых дочерей. В моем представлении взрослые обладали способностью без труда разгадывать у подобных мне юнцов любое их душевное движение, и я обмирал при одной мысли, что светло-голубые глаза доктора вдруг обратятся на меня с выражением мрачной укоризны.
Зима окончательно разлучила нас, пылкие слова не были сказаны, более того, мечты, питавшиеся щедростью моего сердца, стали увядать, казаться мне бесплодными и несбыточными. Бывали дни, когда я с горечью отворачивался от видений, вот уже долгое время доставлявших мне одну лишь муку. Юному существу, дабы несказанная его любовь могла цвести безмятежно, необходим вечно обновляющийся, живой образ своего идеала, а может — как знать? — и весна в виде непременной декорации. Вместе с весной, возможно, возвратилось бы и прежнее воодушевление. Едва бы только апрель окрасил деревья первой зеленью, и от Безовки повеяло первым душистым ветерком, я задохнулся бы в упоении ребячьего восторга от звука простого имени, от мимолетного взгляда закружилась бы голова, и во время первого неотвратимого свидания все было бы выяснено и сказано… Увы, мое чахнущее увлечение не дожило до весны. Еще кружили по улицам городка снежные январские вихри и я корпел над ненавистными учебниками, изнывая от тоски и безвольно опустив на колени руки, когда, однажды, придя из школы, ощутил сильную боль в спине, словно после тяжелой работы. Я не мог шевельнуть лопатками, не застонав от боли. К вечеру у меня поднялась температура. Дома решили, что я всего лишь немного простудился и уложили в постель, но следующей ночью я начал бредить. Был вызван старый Ганзелин. У меня открылось воспаление легких.
Во время горячечных ночей и томительных дней, которым не было видно конца, в минуты, когда меня мучали обертываниями и я слышал свое свистящее дыхание, образ Эммы ни разу не возник перед моим взором. Я позабыл о ней. Болезнь представала в моем сознании бурной рекой, я во что бы то ни стало должен был переплыть через нее на другой берег, где обрету здоровье и покой. Ведь и тонущий корабль спешит избавиться от лишнего балласта. Детская любовь необычайно поверхностна, ей нет места там, где страх смерти больно стискивает горло.
ИПОХОНДРИЯ
Мои вынужденные каникулы длились три месяца. Лишь с начала июня я снова пошел в школу. Невзирая на мои протесты, отец сам отвел меня туда, и получилось так, что встречен я был чуть ли не торжественно.
Учитель, желая, по-видимому, угодить моему отцу, поспешил нам навстречу и еще на пороге патетически раскрыл мне объятия. Затем, положив мне руку на плечо, обернулся к ученикам и произнес прочувственную речь о том, как все жалели меня, пока я хворал, и как часто вспоминали.
— Итак, теперь ты здоров, и мы от всей души желаем тебе окрепнуть. Приветствую тебя среди нас!
Он наказал всем относиться ко мне внимательно и бережно.
— Вы видите, как он худ и бледен? Бедный мальчик, он много выстрадал!
Учитель соболезнующе покачивал головой и скорбно морщил чело. И только сейчас он заметил, как я вытянулся за время болезни.
— Просто невероятно! Ты чуть ли не с меня ростом!
Я уже привык к подобного рода восклицаниям, ибо бессчетное число раз слышал их от родителей, прислуги и знакомых матери, что попадались нам по пути, когда я стал выходить на прогулки. Соученики мои были, однако, явно поражены и смотрели на меня с благоговейным почтением, как на Лазаря, который чудесным образом восстал из своей каменной гробницы.
Позднее они и впрямь стали относиться ко мне очень хорошо: дотрагивались до меня осторожно, с виноватой улыбкой, словно я был сделан из хрупкого стекла, по мере сил старались меня развеселить. Однако я вовсе и не грустил, пожалуй, напротив, просто таял от столь неожиданного счастья. До сих пор я ощущал себя в классе чужаком, господским сыночком, которому никто не хотел делать ни худа, ни добра. Отныне отношения наши как будто бы наладились. После уроков двое парнишек провожали меня домой до самого порога. Их звали Ян Кописта и Рудольф Циза.
Циза, сын жестянщика, маленький и пухлый, каким я сам был до своей болезни, жил на улице, что вела к пивоваренному заводу. Волосы у него были совершенно белые, точно молоко, а карманы всегда набиты оловянными монетками, которыми он позвякивал, будто всамделишной денежной мелочью. Ян Кописта был рыжеволос, с красным, словно обмороженным, лицом. Отец его умер, и он жил с матерью, вдовой, нанимавшейся в прислуги. Их дом стоял рядом с домом Цизы.
Я по очереди навещал своих новых приятелей. У Копистов было просторное подворье, очень удобное для всевозможных игр; у Цизов в мастерской помещались разные станки, и ребята, когда самого хозяина не было дома, всегда там что-нибудь клепали и сверлили. Рудольф показал мне, как делать из древесной коры лодочки, которые он затем деловито пускал в плавание по Безовке. Еник необыкновенно тонко чувствовал природу; он водил меня по таким местам в окрестностях Старых Градов, о которых я и не подозревал. К примеру, он рассказал мне о змеиной тропе над Милетином. Действительно, там, в многоступенчатом храме из мать-и-мачехи, обитали ужи. Они выглядывали из-под камней, словно добродушные квартиранты. Спервоначалу я их побаивался, но оказалось, что все это безвредные медяницы. Змеиная тропа кишела ящерицами, коричневыми и зелеными; я с любопытством смотрел, как они ловят насекомых своими верткими язычками.
Мать была недовольна моей дружбой с детьми бедняков. Каждый день утром я просыпался в тревоге, что она запретит мне общаться с ними, однако она не решалась, медлила, опасаясь, по-видимому, чтобы я вновь не сделался нелюдимом, каким был до болезни. Но о том, чтобы и мальчики в свою очередь навещали меня, нечего было и думать — мать не потерпела бы таких гостей. К счастью, ни тому, ни другому подобное даже в голову не приходило. Они по прирожденной скромности избегали бывать у нас.
Должен признаться, я не разделял ребяческих увлечений своих товарищей. Ни разу ничего не смастерил из обрезков металла, только приглядывался, заложив руки за спину и наморщив лоб. Правда, одну лодочку из коры я вырезал, но и то без особого интереса, до второй дело вообще не дошло. От шумных игр во дворе у Копистов у меня начинала кружиться голова, но я стыдился в этом признаться. Больше всего мне были по душе вылазки на милетинский холм, и все же я предпочел бы бродить там один. Я дружил с мальчиками, пожалуй, только из благодарности к ним за то внимание, которое они мне уделяли. Их мальчишеские проказы, в которых мне доводилось участвовать, не увлекали меня. Мне казалось, что я много старше их годами. После болезни я стал серьезным, меня было невозможно растормошить — словно внутри отвалилась какая-то очень нужная заклепка и машина все никак не могла прийти в движение. А может, я так быстро вырос, что во мне образовалось новое, пока не обжитое помещение, где стены отпотевали влагой, а в открытые окна дули сквозняки? Этим и объяснялось ощущение пустоты, не оставлявшее меня даже среди самых оживленных игр со сверстниками.
Бывали минуты, когда я с радостью сбежал бы от них и, как улитка в раковине, замкнулся в своем личном мирке. Почему же я не сделал этого? Скорее всего потому, что не хотел выглядеть в их глазах убогим, неполноценным существом, которого терпят лишь из жалости. И я перенапряг свои физические и душевные силы. Срыв был неизбежен — и он произошел. Мальчики ведь не только пускали лодочки и разглядывали ужей, бывали у них и другие затеи. Однажды они сломя голову помчались вниз с милетинского холма. Кто спустится первым? Я не мог позволить себе отстать от них и побежал следом. Уже на середине склона я стал хватать воздух ртом, а когда почти добежал, почувствовал сильное колотье в боку. Боль была острой и не прекращалась, так что я вынужден был сесть. Грудь моя ходила ходуном. Я повалился на траву, бледный как полотно, решив, что снова началось воспаление легких. Уже мерещился мне в кустах цветущей черемухи оскаленный лик смерти.
Приятели, притихшие от сознания вины, отвели меня домой. Я слышал, как они какое-то время покашливали внизу в прихожей, ожидая, по всей вероятности, известия о моей смерти. Повод для таких мрачных предположений дала им Гата, которая первой приняла меня из их рук, причитая, словно у меня были переломаны руки-ноги.
Мать не произнесла ни слова, лишь прикусила губу. Глаза ее метали молнии. Жертвенное бдение стольких дней и ночей — и все насмарку. Она самолично послала Бетку за Ганзелином. Но доктора дома не было, он еще не вернулся с послеобеденного объезда больных. Я лежал на кушетке и чувствовал себя все лучше, а когда решился наконец откашляться и не обнаружил на платке крови, которую ожидал увидеть, то мне и вовсе полегчало. Поставили градусник — температуры не было. Я попробовал встать и пройтись — колотье исчезло. Улыбнулся матери, но она не улыбнулась в ответ.
Пришел отец. Он выслушал меня и долго отчитывал за неосторожность. Кажется, никогда раньше я не видел его таким рассерженным: лицо его, всегда молочно-белое, теперь было окрашено гневным румянцем. К счастью, вскорости следом за ним пришел Ганзелин. Он хрипло откашлялся у двери, прежде чем соизволил повесить шапку и поставить трость. Подозреваю, что он нарочно тянул время, дабы довести мою мать до белого каления. Собственно, в душе он был обижен. Ведь вызов означал, что его обвиняют, будто он плохо лечил. Могло ли такое понравиться Ганзелину?
Я сидел на кушетке, как грешник, сложив руки на коленях. Резким жестом, словно выдергивая зуб, он показал мне, чтобы я немедленно снял рубашку. Я так заторопился, что едва не ободрал себе горло. От страха весь покрылся гусиной кожей. Со смешком, похожим на конское ржание, Ганзелин побарабанил костяшками пальцев по моей спине. Ткнув меня под выступающую лопатку, он с иронией посмотрел на мать; это был явный намек на то, что причиной моей худобы является недостаточно хорошее питание. Затем он принялся простукивать меня, однако не так бережно, как прежде, а с суровым равнодушием. Елозил по моей коже горячим, шершавым ухом.
Закончив, Ганзелин высморкался, этим же платком отер лоб и направился к двери. Лишь взяв в руки шапку и трость, он привстал на цыпочки, надулся как индюк и изрек:
— Ничего у него нет. Впрочем, я знал это и так. Ведь после воспаления плевры затронутое место еще долго остается крайне чувствительным. Вы, избалованные люди, нисколько не щадите врачей. Не успел я еще прийти в себя после объезда пациентов, как, пожалуйте, — должен мчаться по вашему вызову.
Глаза у него, казалось, вот-вот выскочат из орбит. Он переводил их с отца на мать, с матери на отца. Негодованию его не было границ.
— Кормите его получше, сударыня, вот вам мой настоятельный совет. Да не пичкайте сладостями, а давайте молоко, хлеб с маслом, понимаете? А ежели он пугается малейшей боли в груди, то пусть не бегает, как сумасшедший. Прощайте! — С этими словами он двинулся к выходу.
Я видел, как мать после ухода доктора мечется по комнате, точно зверь, посаженный в клетку. Она была просто вне себя от ярости. И за ужином разразилась упреками:
— Никогда не прощу тебе, что ты пригласил этого невежу, этого грубияна в наш дом. Вот уж безрассудный шаг. Безрассудный! И вот мы навек обречены иметь с ним дело. Теперь нам от него никогда не избавиться.
Отец неопределенно улыбнулся. Мать заломила руки.
— И я вынуждена терпеть! Боже, дай мне силы выдержать все это!
Я продолжал спокойно есть. Все это было мне слишком хорошо знакомо. Старая песня.
Через три дня мы в спортивном зале занимались на перекладине. Я тоже немного повисел на ней, вспотел и тут же почувствовал знакомую колющую боль. В полном отчаянии опустился на мат. Не помогла даже моя вера в Ганзелина, в его грубоватую прямоту. Боль побеждала. Я пришел домой весь зеленый и дал волю слезам. Потом я еще долго всхлипывал, уткнувшись матери в колени. Мать, которую при этом всю передернуло, нехотя погладила меня по голове.
Отец, услышав вечером, что со мной приключилось, взял шляпу и молча вышел. Все поняли, что он пошел к Ганзелину. С пылающим от стыда лицом я напряженно ожидал его возвращения. Он не возвращался очень долго — или мне так показалось?
Наконец на лестнице послышались его шаги. Мать в знак возмущения удалилась в спальню.
Он вошел с просветленным лицом, добродушно заглянул мне в глаза.
— Ну, я обо всем с ним переговорил, — ласково сказал он, указательным пальцем приподняв мне подбородок. — Ты не должен бояться. У тебя действительно ничего нет. Доктор сегодня уже не сердился. Я ему все объяснил. Он допускает, что мальчики в твоем возрасте могут быть невероятно чувствительными к боли. Это скорее всего обыкновенная ипохондрия, но с ней следует считаться. Чтобы у тебя самого не сложилось превратного представления о твоем здоровье и мы, главным образом я, не жили бы в постоянной тревоге, я решил, что ты будешь раз в неделю ходить к Ганзелину на амбулаторный прием. Допустим, в среду или в четверг — как тебе удобнее. В школе я обо всем договорюсь. Соберешься, скажем, часов в одиннадцать, пойдешь к доктору, он тебя осмотрит, прослушает. Будешь, по крайней мере, знать правду и успокоишься. Что ты на это скажешь?
Я опустил глаза, не зная, радоваться мне или провалиться сквозь землю от стыда.
ДОРА
Неделю спустя я брел вдоль кленовой аллеи по деревенской площади с учебниками под мышкой, преисполненный в душе всяческих опасений. Спину мою еще жгли завистливые взгляды одноклассников, которым, в отличие от меня, не выпало такого счастья, — уйти с уроков до того, как крикливый учитель географии начнет проверять домашнее задание. Низкие, серые небеса хмуро взирали на мою неуверенную поступь.
Перед домом Ганзелина стояла, опершись на метлу, плечистая женская фигура. Фигура улыбалась и не сводила с меня глаз. Когда я проходил мимо, учтиво поклонившись ей, она не произнесла ни слова, но заулыбалась еще шире. Завидев меня во дворе, стая гусей с громким криком бросилась от меня врассыпную. У крыльца я вляпался в их помет и долго, огорченный, обтирал башмаки. Фигура за моей спиной разразилась каркающим смехом. Я не посмел обернуться.
В прихожей я остановился в нерешительности, не зная, в какую дверь постучать. На мое счастье по лестнице как раз спускалась бледная девушка с темно-фиолетовыми окружьями под глазами. Она несла ведро с грязной водой, в которой, будто утопленная крыса, плавала набухшая тряпка.
— Вы ищите амбулаторию отца? — приветливо спросила она.
Поставила на пол ведро и открыла передо мной дверь.
— Хотя, думаю, папы там сейчас нет.
Я поблагодарил ее, покраснев до ушей.
Войдя, я робко осмотрелся. Возле одного из окон стояла девушка в белом медицинском халате и поливала из детской леечки цветы. Она обернулась и окинула меня равнодушным взглядом.
— Вы и есть тот самый мальчик, что так долго болел и которому назначено раз в неделю приходить на осмотр?
Я кивнул головой.
— Подождите минутку, папа вот-вот придет.
Она поставила лейку на окно и вытерла руки полой халата.
Я заметил, что моя собеседница очень красива. В ее обществе все чувства мои пришли в смятение. Я растерянно переминался с ноги на ногу. Девушка широко зевнула и присела на подлокотник кресла у письменного стола, засунув руки в карманы.
— Вам, должно быть, скучно, — досадливо сказала она. — Можете посмотреть вон тот стереоскоп. Если, конечно, вас еще интересуют подобные вещи.
Я счел себя обязанным не отказываться от предложенного мне развлечения; встал на железную приступочку, прижался лбом к картонному козырьку. Мне пришлось сильно наклониться, поскольку сооружение было явно предназначено для детей меньшего роста, чем я. На скалистом берегу стояло голое деревце, а под ним, где-то очень глубоко, извивалась река. Через всю картину дугой перекинулся заблудившийся луч спектра. Я нажал было на ручку, но потом передумал и оставил это занятие. Удрученно вздохнув, посмотрел в окно; потом мое внимание привлекла увеличенная фотография покойной пани Ганзелиновой. Внезапно дверь широко распахнулась; я испуганно вздрогнул. Халат доктора был надет только на одно плечо; он пытался извернуться и вдеть в рукав другую руку. Я бросился на помощь.
Ганзелин не счел нужным поблагодарить меня. Он обошел вокруг, словно я был необычным существом, с которым следует держаться осторожно; потом, заложив руки за спину, остановился прямо передо мной.
— Ну, как дела? Что колотье?
Глаза его смотрели на меня насмешливо, однако в голосе не было и тени раздражения. У меня отлегло от сердца. Я ответил, что на этой неделе не было почти никаких неприятностей.
— Никаких неприятностей? — ворчливо переспросил он. — А чего ты ожидал? Вздутие? Одышку? Прострелы? Ты еще не так стар, чтобы страдать подобными недугами. Вот у меня все это есть, но я не бегаю по врачам. Твой отец желает, чтобы я тебя время от времени успокаивал. Вот я и буду тебя успокаивать, поскольку дети гейтманов в этом нуждаются.
Я повесил голову.
— Ладно, в конце концов могу и осмотреть тебя, раз твои родители полагают, что без этого не обойтись. Раздевайся!
Я заколебался. Мне вдруг представилось затруднительным раздеваться в присутствии дамы. Я страдальчески поглядел в ее сторону. Она уже не сидела на подлокотнике, а что-то перебирала на полочке с лекарствами. Мне показалось, будто она легонько улыбается.
— Снимай, снимай! — нахмурился доктор. — Или сам не умеешь? Верно, дома тебя одевают и раздевают слуги?
Я сбросил с себя пальто и положил его на вращающийся стул. Доктор подошел к окну и потянулся за своей трубкой, которая была воткнута в один из цветочных кустов, вынул из мешка кисет с табаком и принялся набивать трубку, приминая табак толстым крестьянским пальцем. Я расстегнул жилет.
— Как? В такую хорошую погоду на тебе еще и жилет? — удивился Ганзелин. — И не жарко?
Я робко ответил, что жарко, но мама хочет, чтобы я был одет, как взрослые. Ганзелин расхохотался.
— Поди ж ты, как взрослые! Между прочим, от этого ты только быстрей вспотеешь и почувствуешь колотье. А твои домашние не распорядились, чтобы ты носил еще и тулуп?
Я не мог справиться с ремешком, у меня дрожали руки.
— Послушай, — продолжал иронизировать надо мной доктор, — да ты, никак, нервный? Вижу, парень, с тобой надо обращаться очень нежно. Только я, милок, не привычен к пациентам, требующим тонкого обращения!
Я едва не разревелся. Было ясно, что этому человеку мне никогда не угодить. Горше всего было то, что меня унижали в присутствии этой красивой девушки, которая теперь стояла рядом и помогала мне складывать мою одежду.
Я обеими руками поддерживал свои штаны, чтобы они не свалились.
Ганзелин положил нераскуренную трубку на подоконник и вынул из кармана огромный, величиною с песочные часы, стетоскоп.
— Дыши глубже! — приказал он мне, наклонясь и опираясь одной рукой о колено. Я дышал так, словно собирался грудной клеткой сдвинуть многопудовый камень. И все время слышал, как за спиной у меня шуршат полы девичьего халата.
Доктор ухватил меня за плечи и нажал на ключицы, сдвинув мои лопатки так, словно выправлял перекос. Потом, как солдата на смотру, повернул меня к себе спиной и начал согнутым пальцем стучать по ребрам, как по барабану. Сквозь полуопущенные ресницы прямо перед собой я видел под расстегнувшимся халатом высоко поднявшуюся на груди красную блузку. Оттуда исходило душистое тепло. Опять поворот. Твердой рукой доктора я был согнут в пояснице. Покачнувшись и не успев что-либо осознать, я почувствовал, что мой затылок оказался прочно вжат в углубление между девичьими грудями. Я задохнулся; меня всего обдало жаром. Голова моя сладко кружилась.
— Ну и хиляк, — сердился доктор, прильнув ухом к моему боку. Меня уже не трогали его насмешки. Я ощутил умопомрачительное блаженство, какого не испытывал еще ни разу в жизни.
Высвободившись из Ганзелиновых когтей, я пошатывался на нетвердых ногах, будто после тяжелой операции. Я не осмеливался взглянуть на мягкую, пружинистую кушетку, куда недавно провалился. Уши мои, однако, живо помнили прикосновение двух гостеприимных валиков.
— Ну, ладно, — со вздохом сказал Ганзелин, снова доставая свою трубку, — хрипы пока есть. Они останутся еще по крайней мере с год.
Он потряс зажатым в руке коробком спичек.
— К счастью, от этого не умирают.
Теперь я мог бы с радостью заключить, что наконец-то он перестал сердиться, что он даже ласков со мной, как во время моей болезни, но мне это теперь было не важно. Меня занимало нечто совсем другое. Обернуться и заглянуть в темные глаза! Мне казалось, что я увижу в них нечто волшебное. Я не выдержал, оглянулся и встретил спокойный взгляд, не выражавший никаких чувств. Я проглотил горький комок. Девушка ленивым движением протянула мне рубашку. Я принял рубашку из ее рук, как епитрахиль от священника на исповеди.
— Итак, молодой человек, — добродушно попыхивал трубкой Ганзелин, — можешь спокойно идти домой, И если хочешь послушать мой совет — не отставай от других озорников и выбрось из головы все страхи касательно своего здоровья. Все, что горячка взбаламутила у тебя внутри, уляжется само собой.
Он вскинул вверх руку с трубкой, словно это был палаш и он отдавал им честь.
— Итак, тебе придется частенько приходить сюда. Ну, ничего, по крайней мере, познакомимся поближе. Может быть, мы даже и понравимся друг другу. У нас ты увидишь иную жизнь, чем у себя дома. Мы не разлеживаемся на диванах и не заботимся о цвете лица. Как знать, может это пойдет тебе на пользу, будет для тебя своего рода нравственным лечением. Ведь у нас все заняты делом и трудятся усердно! Советую тебе подружиться с моими дочерьми. К твоему сведению, вот эту барышню зовут Дора.
Кровь снова бросилась мне в лицо. Я робко пожал руку девушки, которую она подала мне с безучастным видом.
Мой первый осмотр в доме Ганзелина был окончен. Я ощупью выбрался из прихожей. На пороге меня остановила костлявая женщина, что перед тем здоровалась со мной у ворот. Улыбаясь во весь рот, она всунула мне в руку большой блин, намазанный повидлом. Я с недоумением посмотрел на нее.
— И не вздумайте отказываться!
Я поблагодарил ее; наверно, со стороны я казался ужасно нелепым. Держа блин перед собой, словно дароносицу, я дошел до пивоварни и только тут съел его, как съедает собака утащенный кусок мяса. Блин на самом деле был очень вкусным.
Я сказал себе, что, собственно, это не так уж плохо — посещать доктора. И в тот же миг перед моими глазами возникло смуглое лицо, темные очи, осененные длинными ресницами, высокая упругая грудь, к которой я мимолетно приник головой. Прислонясь к каменной тумбе, я с тоской посмотрел назад. В душе моей звучал хрипловатый голос Ганзелина, его слова: «К твоему сведению, эту барышню зовут Дора».
И внезапно хлынул поток солнечного света. В пустовавшем помещении внутри меня кто-то ходил, напевая, закрывал распахнутые окна. Гостем, который держал себя там по-хозяйски, была женщина.
Я ПРИЖИЛСЯ В СЕМЬЕ ГАНЗЕЛИНА
Если бы в тот раз, когда я впервые шел показаться доктору, кто-нибудь предрек мне, что вскоре я буду сгорать от нетерпения в ожидании очередного дня осмотра, вряд ли бы я этому поверил. А ведь именно так и случилось. Назначенный мне четверг стал моим праздничным днем. Четверг, а не воскресенье следовало бы обвести красным карандашом в моем карманном календарике. Целую неделю я по-детски ликовал в надежде снова увидеть Дору.
Увы, Дора не давала мне ни малейшего повода думать, что мой сердечный пыл поощряется ею, В противовес трем старшим дочерям доктора, принимавшим меня с необычайным дружелюбием, Дора, словно наперекор моему страстному влечению и смиренному обожанию, не хотела даже замечать моих наивных попыток завязать с ней разговор. Напрасно я делал круги около нее, когда она жала траву в палисаднике, напрасно тащился следом за ней в конюшню, когда она шла поить лошадь. На мои несмелые вопросы она либо отвечала односложно, либо не отвечала вовсе, а кончив работу, удалялась, не удостоив меня ни единым ласковым взглядом, храня на лице выражение жестокой издевки. Я изо всех сил старался заслужить ее благосклонность. Забегал вперед и распахивал перед ней дверь, когда она выносила полное ведро помоев или отправлялась в погреб за углем; всегда был начеку, готовый достать закатившийся клубок или подать иную вещь, которая ей вдруг понадобилась. Она все принимала, как должное, как услуги, которые положено оказывать даме; в лучшем случае поблагодарит мимоходом, но никогда не улыбнется, не проявит ни малейшего внимания. Чаще всего она сердито бранила меня и почти откровенно презирала. По всей видимости, мое настойчивое стремление понравиться крайне раздражало ее. На меня это действовало фатально. У меня портилось настроение, я ходил, повесив нос, а вернувшись домой, бывал неразговорчив и угрюм. И все же, спеша на очередной осмотр, я не оставлял надежд.
Видеть Дору было для меня тем же, чем для истомленного жаждой путника — глоток воды. Она отказывала мне в своем обществе так жестоко, что я готов был плакать. Напротив, общества Гелены я вовсе не искал, а оно предлагалось мне в дозах бо́льших, нежели я мог вынести. Гелена, не выбиравшая слов, во все вкладывавшая безрассудную горячность, была непредсказуема, как внезапно налетевший вихрь. Она первая стала обращаться ко мне на «ты», чем я, признаюсь, отнюдь не гордился. По временам ее привязанность была мне просто в тягость. А Гелена выражала свои чувства при всяком удобном случае: завидев меня на улице, уже издалека махала своими руками-граблями, окликала с другого конца площади, а потом ласково похлопывала по спине. Ей было решительно все равно, с кем я шел, — с отцом ли, с товарищами или со своей чопорной матерью. Мальчишки смеялись надо мной. Мать сердито хмурилась. Я стыдился Гелены, ведь она была старой и уродливой! Бывало, подкрадется незаметно сзади и закроет мне глаза руками, требуя отгадать, кто это. Разумеется, я угадывал всегда! Если я попадался ей на дороге, когда она шла покупать продукты, она вцеплялась в меня, таскала за собой из лавки в лавку и, как я ни упирался, не отпускала до тех пор, пока не запихнет мне в рот большую конфету или еще какое-нибудь лакомство.
С Геленой было невозможно дотолковаться. При всем внимании ко мне, она никогда не вникала в смысл того, что я ей говорю. Поток ее слов оглушал собеседника. Никакие доводы на нее не действовали — она была дико упряма и не желала считаться ни с чьим мнением. Последнее слово всегда должно было оставаться за ней, всегда она была права. В крайней своей ограниченности Гелена яро отвергала все без изъятия, что не одобрялось их домашним уставом. Будучи по натуре добросердечной, она в равной мере умела жестоко и беспощадно ненавидеть. Ее сварливость злила меня, бестактность коробила.
Мария, чей болезненный вид вызывал у меня какие-то смутные чувства, одна изо всех в ту пору обращалась со мной уважительно, не считая нашей старой Гаты. Она одобряла любой мой поступок, поддерживала меня в любых обстоятельствах и всегда относилась ко мне с редкой деликатностью и невероятной преданностью. Она не могла не замечать, что я избегаю ее нежностей и невпопад отвечаю на ее участливые вопросы, принимала эти мелкие обиды с трогательным смирением и всегда оставалась моей верной покровительницей в случае малейших трений, возникавших у меня в доме Ганзелина, оберегая — как же мало я был ей за это признателен! — от взрывов ярости капризной, бессердечной Доры. Да, Мария видится теперь мне ангелом-хранителем моих отроческих лет. Она действительно была им, и ныне я в душе своей прошу у нее прощения за всю ту неблагодарность, которой платил за ее доброту. К сожалению, человек не может повернуть и двинуться назад по пройденному жизненному пути, чтобы исправить причиненное людям зло. Да вряд ли мы и способны раскаяться в той мере, как нам надлежало бы.
Мария любила аккуратность и была безмерно заботлива. Оторванная пуговица на пальто, отставшая подкладка, ушибленное колено — все это становилось для нее отличным предлогом хоть как-то услужить мне, попытаться завоевать мое сердце. В противоположность ей Лида, которая, как я вскоре убедился, была не менее доброй, в отношениях со мной ни разу не вышла за рамки своей сдержанности.
Ах, эта молчаливая, холодная Лида, семейное привидение! Призрак в белом из жуткой сказки, появляющийся всегда бесшумно и беззвучно! Вот уже о ком никак нельзя было сказать, что она втирается ко мне в доверие, навязывает свою дружбу! Да разве мог этот гремящий костями скелет с неподвижной маской вместо лица обнаружить человеческие чувства? Едва приметное конвульсивное подергивание губ означало у нее улыбку, а фразы свои она сжимала до размеров стенографического знака. У этой трудяги, у этой заведенной машины, вечно занятой делом, которое она сама себе выискивала, не находилось времени поболтать или развлечься и тем самым скрасить свою жизнь добровольного каторжника.
Между мною и Лидой, как это ни странно, утвердился со временем своего рода тайный союз.
Домашние относились к Лиде с нескрываемым пренебрежением, и это меня ужасно возмущало, в особенности же потому, что главным лицом, от кого Лида больше всего терпела насмешек, была Гелена. Я старался подчеркнутой любезностью в меру своих сил по-рыцарски возместить этой худой, как щепка, девушке недостаточное признание со стороны ее родных. Она никогда не говорила, что благодарна мне за это, но в ее задумчивом взгляде я ловил порою проблеск такой горячей преданности, что от волнения комок подкатывал к горлу. Лишь в редких случаях, когда она пригладит мне, бывало, волосы, снимет приставшую к спине нитку или почистит запачканный мелом рукав, я ощущал в ее легком прикосновении робкую, затаенную ласку. Когда я о чем-нибудь рассказывал ее сестрам, она чаще всего тихо становилась позади и слушала мои разглагольствования, глядя куда-то в даль. Думаю, немало речей в докторском доме было произнесено мною только ради нее.
Изо всех дочерей Ганзелина Лидмила была самый надежный человек. Олицетворение верности. И олицетворение замкнутости: никогда и никто не мог угадать, о чем она думает и что у нее на душе. А ведь все понимали, что и она способна мыслить и страдать. По своему жестокосердию окружающие считали себя вправе без зазрения совести мучить ее. А Лида… Эта была как рождественский карп, его потрошат, а он только топорщит жабры да разевает округлый рот; кровь брызжет у него из раны, но он молчит. Так и Лида. Она была, по-видимому, натурой очень умной и сильной, и притом не испорченной ни тщеславием, ни эгоизмом. Никогда не стремилась, чтобы ее поняли, пожалели. Ее участью было одиночество. Ничего удивительного, если в моей полудетской душе эти свойства Лиды будили бессознательное уважение.
Сейчас мне припоминается, что когда я приходил на первые осмотры, Эммы вроде бы никогда не было дома. Где пропадала эта маленькая особа со светлыми косами и нежным личиком? Скорее всего я попросту не замечал ее присутствия. Я весь был полон Дорой. Догадывалась ли Эмма о моей безоглядной влюбленности? Сознавала ли это с горечью, рано просыпающейся у отвергнутых и забытых?
Пришло время, когда я уже просто стыдился того, что это дитя было предметом моих пылких мечтаний, что я мог часами просиживать у вратенского родника в надежде встретиться с ней. Если до болезни образ ее был моей отрадой, то теперь я гнал его от себя, старался вытеснить из сердца. Почему? Она была слишком мала для меня. Я вырос, а Эмма как бы застыла в своем развитии. Она напоминала мне собачку, для которой дом означает лишь место, где она ест и спит. Эмму баловали. Я это видел и тем сильнее презирал ее.
И при всем том совесть моя в отношении Эммы была не чиста. Где бы я ни натыкался на нее — возилась ли она на кухне или во дворе, играла ли в саду под сенью яблони, я тут же выискивал предлог, чтобы улизнуть. Мне казалось совершенно немыслимым хотя бы минуту пробыть с ней наедине. Порой я замечал в ее глазах мимолетный вопрос, удивление. Наверно, мне это просто чудилось, но как знать? Возможно, все было куда серьезнее, чем я думал, но теперь истины не установить. Помню, однако, что после каждой такой неожиданной встречи у меня оставалось неприятное чувство, будто я разбил или потерял какую-то милую мне и нужную вещь. Но разве мог я, видевший себя взрослым, степенным человеком, у коего уже прорезывался мужской голос и появился первый пушок над верхней губой, снизойти до девчонки, что еще мастерила себе куклы из клевера и листьев мать-и-мачехи, носилась по лугам за какими-то дурацкими букетами или баюкала на коленях кошку, обматывая вокруг ее шеи ленту, вынутую из своих волос.
ФИЛОСОФ И ЕГО УЧЕНИК
Однажды после того, как осмотр был окончен, Гелена дала мне несколько кусочков сахара и повела в конюшню, сказав, что я, дескать, должен завоевать симпатию их лошадки. Налаживая знакомство, я вел себя весьма неуверенно: протягивал сахар в щепотке, вместо того чтобы держать на раскрытой ладони, и боязливо вздрагивал, когда моей руки касались влажные лошадиные губы. Гелена громко подбадривала меня, лошадка нетерпеливо ржала. В дверях, привлеченный этим шумом, возник Ганзелин, направившийся на свой послеобеденный обход городских пациентов. Я замер, ожидая, что доктор сейчас разразится бранью: ведь сахар, как ни говори, мы стащили у него на кухне. Однако он не рассердился, напротив, добродушно подтрунивал надо мной и не спешил уйти.
— Ну как, — наконец промолвил он, — тебе, стало быть, нравится у нас?
Я утвердительно кивнул головой.
— Вижу, Гелена балует тебя, и ты получаешь удовольствия, каких мы сами себе не позволяем. Думаешь, я не знаю про густо намазанные бутерброды, которые она тебе подсовывает? Ничего, ничего, я не поставлю их в счет гонорара. А не хотел бы ты перебраться к нам насовсем? Есть же ученики у купцов и ремесленников, — так почему бы не иметь их и врачу, как бывало в старые времена? Ты мог бы стать моим учеником. Уверяю тебя, здесь ты научился бы многому из медицины, чего не может дать высшее учебное заведение. Если ты относишься к числу тех молодых людей, что мечтают о высоком призвании, то и не захочешь быть не кем иным, кроме как врачом, не правда ли?
Я смущенно согласился. Он дружески похлопал меня по спине, шутливо погрозил Гелене палкой и отправился по делам, удовлетворенно улыбаясь своей удачной остроте.
Упоминаю об этом совершенно незначительном эпизоде лишь потому, что в нем отчетливо обрисовывается начало тех отношений, которые со временем установились между мною и старым доктором. В определенном смысле я действительно стал его учеником. Произнося передо мной речи, Ганзелин не скупился на сарказмы по части общественного устройства и человеческих предрассудков; яростней всего нападал он на тщеславие и амбиции той среды, к которой принадлежал я. Уверен, что лекции, которые он часто мне читал, не были только желчными излияниями непризнанной личности. С явным умыслом он пытался привить мне иммунитет против глупости и изнеженности, корыстолюбия и чванства. Он хотел обратить меня в свою веру, и его необычная апостольская миссия имела успех. Я слушал доктора как оракула, а его еретические умозаключения принимал к сердцу, по-видимому, ближе, чем полагалось в моем возрасте.
Поскольку я был учеником, то чаще всего разговор естественно заходил о школе. Со своим хриплым, мрачноватым хохотком он развенчивал учителей, систему воспитания, наши науки.
— Ну, какие там у вас сегодня были уроки? География? История?
Он интересовался подробностями, а я отвечал охотно и обстоятельно. Подробности давали ему богатую пищу для критики. История была, по его мнению, цепочкой лжи, набором фактов, расставленных в произвольном порядке; в географии он находил уйму лишних сведений, вбивать которые в голову детям — чистая бессмыслица, ибо через какой-нибудь десяток лет эти сведения устареют; про нашего учителя говорил, что ему бы собак дрессировать, что жестокая дисциплина, которую тот ввел, рождает подлость и подхалимство. Чаще всего он нападал на природоведение — способы классификации цветов и зверей приводили его в неистовство.
— Стало быть, узкие или широкие носовые перегородки? Раздельные или сросшиеся тычинки? Милок, да это же не природоведение, а какая-то коллекция почтовых марок! Природа — живой мир, обитель философов и поэтов. А эти… обрывают лепестки, пересчитывают пестики, заглядывают в горло птице, — посмотреть, чем она поет. Умники! По мне, тот, кто прекрасным майским вечером смотрит на луну и, приставив палец ко лбу, вопрошает: «Ну, так как же, есть на Луне атмосфера или нет?» — просто болван!
Наверняка еще в пору своего студенчества он проникся ненавистью к казенным методам образования. Между прочим, он то и дело сбивался, называя меня гимназистом, в то время как я был еще школьником. После своих экстравагантных лекций он на прощанье похлопывал меня по плечу и говорил, криво усмехаясь:
— Давай, старайся, мусоль и дальше свои книжки, зубри наизусть — и карьера тебе обеспечена. Чем надежнее школа притупит твои мозги, иссушит твои порывы, чем успешнее сформирует своекорыстную бездушную личность, тем лучше. Не будешь чувствовать себя несчастным. Без всяких трений вольешься в их среду.
«Они, их среда» — это не только мир, созданный лживыми пророками и бездарными учителями, но главным образом фарисейский мирок «знати» маленького городка, которая его, сына дорожного рабочего, даже с дипломом врача в кармане, не принимает в свой круг.
— Только не обольщайся тем, что они такие наглаженные и раздушенные! Ежели умеючи взяться, то и труп можно обработать таким образом, что он будет дивно благоухать и умильно таращить свои остекленевшие глаза. Да ведь они и впрямь всего лишь болотная гниль, лишаи на коре земли, нечисть, которую в свое время с наслаждением раздавит перст божий.
Бог… Ганзелин упоминал о нем часто и охотно. Он держался с ним чуть фамильярно — ведь они были хорошие знакомые: врач, борющийся со смертью, и всевышний, сеющий смерть во благо жизни. Набожным человеком Ганзелин, однако, не был, напротив, он был материалистом, пантеистом, — не знаю, кем из них больше.
— Только не думай, будто бог таков, каким его изображает твой учитель закона божьего! Бог торговок свечками, падкий до фимиама и золотых риз, бог сварливый, желающий, чтобы созданное им по своему образу и подобию существо распростерлось ниц в молитве, фальшиво подыгрывало ему своими исповедями и прочими кривляниями! Нет уж, меня не одурачишь. Мой бог, каким я его себе представляю, бесконечно благороднее, к нему неприложимы человеческие мерки. Он — творец и вечный обновитель жизни, а не провинциальный полицейский, который печется лишь о том, чтобы фарисеям вольготно жилось на земле!
Подобные высказывания, разумеется, звучали несколько кощунственно. Часто, наслушавшись их, я долго не мог заснуть. Я был воспитан в смирении, моя мать перед троном бога склонялась ниц, как надломленная лилия, а отец видел в образе бога своего короля, вручившего ему золотую медаль и твердую земную власть. Стоило только рухнуть лазурному своду божьего могущества, как всем нам: отцу, матери, мне — был бы нанесен удар и мы сравнялись бы с самыми распоследними, самыми убогими людьми. К тому же я тогда еще верил, что именно этому снисходительному богу, богу обывателей, который любит оказывать благодеяния, я обязан своим излечением. А ну как он, разгневавшись за то, что я слушаю нечестивые речи доктора, отберет у меня здоровье и ввергнет в кошмар болезни, еще более ужасной? К счастью, лекции на тему религии бывали весьма редки, доктор все-таки не забывал, что я школяр, который не может усвоить таких бунтарских воззрений. Гораздо охотнее вновь и вновь возвращался он к своему излюбленному предмету: к городку и косности его обитателей, — когда с насмешкой, а когда с почти трагической горечью.
Наибольшее раздражение вызывали у него дамы. Однажды он сказал мне:
— Врачевание — превосходное ремесло! Оно, по крайней мере, доставляет определенное удовлетворение. Стоит посмотреть на их агонию — растрепанные, потные от горячки, дурной запах изо рта, ужас в глазах… Возле постели разбросаны их искусственные челюсти, притирания, шиньоны. А вся их красота висит, как удавленник в шкафу.
Он не выносил их вкрадчивого лепета, кокетства и щеголяния нарядами, их слащавых, притворных улыбочек. Воскресную городскую площадь он со злорадством уподоблял клетке с обезьянами.
— Ты знаешь, дома там стоят только затем, чтобы звери не разбежались и зрители могли бесплатно посмотреть замечательное представление. Вот если бы они могли еще лазать по столбам да перепрыгивать с одного на другой! А то ведь ничегошеньки не умеют, а поди же — в центре всеобщего внимания. Посмотрел бы я, как они этими нежными ручками стали бы ворошить сено или выносить судно из-под больных! — Ганзелин чертовски гордился своим мужицким происхождением, своими грубыми повадками и своей бедностью.
Излишне добавлять, что по временам из его уст вырывались словечки, непривычные для ушей гейтмановского сынка. Услышав впервые подобное словцо, я в страхе уставился на доктора. Он моментально понял причину: покраснев, насколько это было возможно при его коричневой коже, Ганзелин сердито напустился на меня:
— Только уж, пожалуйста, не изображай из себя святошу! Неужто ты и в самом деле еще настолько глуп, что веришь, будто существуют пресловутые «неприличные» слова? Ах, ах — не хватает только, чтобы я перед тобой еще и извинялся! Пойми — бывают случаи, когда и не следует подыскивать изящных выражений! По счастью, я к ним не приучен, отроду их не переваривал. Когда бываешь занят таким делом, как у меня — копаешься в том, что человек изрыгает, разглядываешь его внутренности, выскребываешь пинцетом гной из раздувшегося чирья, — то не приходится разводить церемонии. Суровому труду соответствует суровое слово. Изысканными манерами пусть щеголяют те, кто, в отличие от меня, редко соприкасается с нищетой.
Нищета — вот о чем охотнее всего говорил Ганзелин. Он прожил среди нее всю жизнь, и беднякам было отдано целиком его врачебное искусство; он привык глядеть на мир глазами неимущих и, подобно им, поносить тех, кто «наверху». Если подвертывался предлог, он мог толковать на эту тему без устали. Ганзелин знал множество документов и подробностей, так что тема была неисчерпаемой. Он целил в меня указательным пальцем и держался, как судья с преступником; живописал нищету, обитающую в покосившихся лачугах, говорил о болезнях, кончавшихся смертельным исходом лишь потому, что у людей не находится средств на медикаменты и лечение; ставил мне в счет все когда-либо съеденные мною свежие яички, все выпитое молоко, ибо то и другое было отнято у детей, больше нуждавшихся в этом; разражался сатанинским хохотом, представив на минуту, что бедняку выпала счастливая карта и он обрел право на плоды своего каторжного труда, в то время как богач, совершенно не приспособленный сам добывать себе хлеб насущный, оказался у разбитого корыта.
После первого такого сеанса я подумал, что он меня ненавидит и желает самого худшего, чего только можно пожелать. Разумеется, я ошибался. Ганзелин, обращаясь ко мне как представителю особого сословия, вовсе не имел намерения оскорбить лично меня. Это был просто ораторский прием, ибо — спустя какое-то время я уже в том не сомневался. — Ганзелин ко мне благоволил. Не знаю, как это могло произойти, но он действительно считал меня почти что за своего. Может, увидев в моем взгляде нескрываемое восхищение им самим и его революционными принципами, а может, потому, что судьба наградила его одними дочерьми.
Да, уроки Ганзелина не прошли даром. Хотя я тщательно скрывал свои мысли, они со временем должны были неизбежно облечься в слова. Шила в мешке не утаишь. Все крепче врастая в иную среду, человек, в особенности такой юнец, каким был тогда я, может просто не заметить, как отчуждается от своей среды и начинает высказывать мысли, не слишком уместные в кругу добропорядочного семейства. Моя бдительная мать, наделенная необычайно тонким чутьем, быстро уловила первую дисгармоническую ноту и вспыхнула. Вот оно, зловредное влияние этого мужлана доктора! В один прекрасный день окажется, что у меня испорченный характер, а по своим взглядам я ничем не отличаюсь от какого-нибудь рабочего с глоубетинской бумажной фабрики. И попробуй потом что-либо исправить!
Думаю, мои осмотры у Ганзелина вскоре бы и прекратились, если бы не отец со своим странным восхищением перед незаурядной личностью доктора.
— Ну, разумеется, влияние Ганзелина! В этом сказывается Ганзелин — самобытный, бескомпромиссный! Однако не пугайся, никаким злым умыслом он не задается. А ты как думала? Комнатный цветок, прежде чем его пересадят в грунт, должен привыкнуть к резкому климату, и нашему мальчику не вечно жить подле нас. Пускай понюхает у Ганзелина жизни, более суровой, чем наша, зато впоследствии, столкнувшись с реальной действительностью, он не раскиснет.
И отец заливался громким, торжествующим смехом.
Однако «реальная действительность», «суровая жизнь» — это было не для матери. Она не прекословила, молчала, но смотрела на отца с презрением, сузив глаза и сердито прикусив нижнюю губу. Разумеется, она была убеждена, что настанет день, когда она скажет: «Я была права».
ДЯДЯ МОРЯК
Конец учебного года означал для меня расставание со староградской школой. После каникул я должен был поступать в третий класс сушицкого реального училища. А пока мне предоставлялось два месяца полной свободы. Я уже не был связан уроками и мог чуть ли не ежедневно бывать у Ганзелиновых. Но эти два месяца должны были стать и последними. Дора уйдет из моей жизни. Целый год я не увижу ее — разве что случайно, на рождественских или пасхальных каникулах. Я малодушно гнал от себя эти тяжелые мысли.
В начале июля к нам приехал дядя моряк и — подумать только — несколькими предостерегающими, а может, просто не слишком обдуманными словами разрушил планы моих родителей. И все повернулось совсем по-иному, отнюдь не так, как они намечали.
Дядя сидел в гостиной, развалясь в венском кресле-качалке, и покуривал толстенную трубку, каких мне в жизни не доводилось видеть. Пальцы его походили на копченые колбаски; под расстегнутым кителем была только «сеточка», сквозь ячейки которой пробивались пучки жестких рыжеватых волос. Череп у него был почти совсем голый, а от ушей двумя жидкими ручейками стекали длинные бакенбарды. Когда он начинал говорить, слова глухо рокотали в его могучей груди, точно пробивались наверх из глубокого подземелья. Он имел привычку хрустеть пальцами; хруст их напоминал треск выстрелов из мелкокалиберной винтовки. На вешалке висела его голубая, с околышем фуражка и кортик в ножнах с золотой кисточкой. Дядя был корабельным врачом. Прежде чем поступить в австрийский военный флот, он избороздил Атлантику и Тихий океан, много повидал и немало пережил.
Я называл его дядей, хотя на самом деле он приходился моей матери двоюродным братом и, по странному стечению обстоятельств, был моим крестным отцом. Имя мне дали в его честь. Мать звала его «Миля» (меня она так ласково не называла никогда!) и была безмерно рада приезду кузена. Ее было просто не узнать; она сделалась любезной, разговорчивой, даже кокетливой. Настроение матери чудодейственным образом повлияло на отца; его тоже словно подменили, таким он казался веселым и беззаботным.
Дядюшка называл меня своим «маленьким тезкой», что мне совсем не нравилось, однако я охотно участвовал в семейном поклонении этому гостю, ибо его рассказы (а он на них не скупился) отличались напряженным сюжетом, как приключенческие романы. Я слушал его с открытым ртом и выпученными глазами. Из темной кухни с замерзшим окошком, где и днем горел свет, Бетка приносила от Гаты угощения, блюдо за блюдом, а отец то и дело подливал пива, которое морскому волку особенно пришлось по вкусу.
После обеда зашла речь и обо мне, о недавно перенесенной мною болезни. Дядюшка издавал удивленные восклицания, моргал своими серыми заплывшими глазками, затягивался дымом и надувал щеки в знак того, что и он обеспокоен.
— Три воспаления легких… Ай-й-яй, какой слабенький!
— Он не был слабым, Миля, — возражала ему мать, — прежде он был упитанный, здоровый, краснощекий. Это только после болезни он так плохо выглядит! Тут к нему приходил местный доктор, но… — она нерешительно взглянула на отца, — я не слишком доверяю сельским врачам. Миля, — робко прибавила она, — не хотел бы ты осмотреть его?
Моряк с готовностью согласился, встал со стула, выпрямившись во весь свой рост — большой, тучный, — но было заметно, что особого желания у него нет. Дремота склеивала ему веки.
— Ну, подойди, гимназист! Боже, да ведь мне сказали, что после каникул ты пойдешь в реальное? Не лучше ли вам сразу перевести его из начальной школы в гимназию?
Дядюшка придерживался примерно тех же взглядов на профессию врача, что и старый Ганзелин, считая ее самой главной на свете, просто доводы у него были другие и пришел он к ним другим путем.
— Нелегко было решиться, Миля, — жаловалась мать, — ведь в таком случае он уже три года назад должен был бы жить вне дома. А мы, пока было возможно, оттягивали этот момент.
— Допустим, — сказал дядя — но теперь вы все равно вынуждены с ним расстаться и, как я вижу, в самом для него трудном возрасте.
Он озабоченно покачал головой.
Осмотры мне были уже не в новинку. С привычной сноровкой я стащил рубашку через голову, глубоко дышал, задерживал дыхание. Дядюшка щурил глаза, покашливал; вся его сосредоточенность проявляла себя в движении губ, собранных кружочком, как будто великан изготовился свистнуть. Закончив осмотр, он а в самом деле засвистел, подтянул на животе брюки, державшиеся не на помочах, а — по-морскому — на ремне, и грузно опустился в кресло. Свист означал, что состояние здоровья у меня не блестящее и результат обследования моей грудной клетки его не радует. Отец барабанил кончиками пальцев по столу, мать сидела, крепко стиснув руки на коленях.
— Ну, сказать по правде, — дядя принял озабоченный вид, — хорошего мало. — Он разжег погасшую трубку, отблеск огонька заплясал на его лице. — Конечно, это уже остаточные явления, но я все же остерегся бы сразу после каникул отправлять его учиться. Придется корпеть над учебниками, над домашними заданиями, а тут новая среда, тоска по дому, неизвестно какие товарищи — и черт знает, что еще за неожиданности. У хлипких подростков, бывает, и чахотка обнаруживается. Лучше ему еще некоторое время оставаться под вашим присмотром. Материнский уход, усиленное питание, покой — что вы на это скажете?
Мать не находилась что сказать. Отец после долгого размышления нехотя предложил:
— А что, если оставить его на этот год дома и готовить частным образом, не в третий, а прямо в четвертый класс реального? Весной мы уже подумывали, чтобы во втором полугодии он начал заниматься французским, но болезнь все перечеркнула.
— По-моему, это было бы нехудо, — осторожно заметил моряк. — В таком случае и год бы не пропал!
Вот как все получилось. На том и порешили. Вечером, после отъезда дяди, были внесены некоторые уточнения: каникулы остаются каникулами, но уже с сентября я начну ходить к старому учителю-пенсионеру Фрицу заниматься французским. Что до остальных предметов, то их пройдет со мной мой прежний учитель Матейка.
Я был на седьмом небе от счастья. Отъезд отменен! Еще целый год в Старых Градах! Никакой школы, только частные уроки! Точно на крыльях летел я утром к Ганзелиновым. Первой, кого я встретил, была Лида. Я высыпал ей все свои замечательные новости. Обнимал ее за тонкую талию, гладил длинные руки. Она удивленно взирала на меня с высоты своего роста, как высунувшаяся из гнезда птица. Мало-помалу, подобно ширящейся трещине во льду, губы ее разомкнулись в тихой, слабой улыбке.
Присев на порог, я кидал курам крошки, выворачивая наизнанку карманы — от радости я готов был задарить весь свет. Доры дома не было — ушла окучивать картошку, пришлось ее ждать. Я стоял у крольчатника, глазел, как кролики встают на задние лапки, тычутся подвижными мордочками в проволочную сетку. Они тоже были частью моего второго дома, который каким-то чудом у меня не отняли. Ежеминутно во двор выходила Мария, ласково гладила меня по голове.
— Значит, никуда от нас не уедешь? — искренне радовалась она. — Ты знаешь, Эмиль, без тебя нам всем стало бы скучно.
Я верил ей. Был горд. Улыбался.
В одиннадцать часов из своей амбулатории с тростью в руке вышел Ганзелин. Я вытянулся в струнку, как солдат, и отрапортовал:
— Пан доктор, я после каникул еще не поеду учиться.
Он остановился передо мной, но глядел куда-то мимо — на голубей, чистивших свои перышки на застрехе овина. Я выложил ему все: и про визит дядюшки моряка, и про его опасения. Лицо доктора омрачилось.
— Моряк! Скиталец! По-твоему, среди них есть настоящие врачи? — Он закатился хриплым, неприязненным смехом. — Что он у тебя обнаружил? Худобу? Про чахотку поминал? Ну да, ведь только одни толстяки и бывают здоровы. — Далеко сплюнув, он прошипел какое-то невнятное ругательство. Потом уставился на меня своими бесцветными глазками. — Я тебя лечил, и мне лучше знать, как у тебя обстоят дела. Ты вполне мог бы ехать. Это было бы гораздо полезней: чем дальше отсюда, тем лучше. Другая среда, другие люди. Труд, да, — но зато не возле маменькиной юбки. Впрочем, коль скоро они так рассудили, — они ведь твои родители, — коль уж они так рассудили, не посоветовавшись со мной… — Он возвысил было голос, но потом опустил глаза, задумался. — Как бы там ни было, и я рад, что мы еще целый год будем видеться, — прибавил он вполне благодушно. После чего удалился решительным шагом.
Гелена в своем белом плаще протанцевала со мной на дворе дикий канкан, так что всполошенные куры разлетелись в разные стороны. Я едва переводил дух. Мне тошно было смотреть на ее открытый рот, на ее испорченные зубы. Мария принесла и поставила на завалинку блюдечко сушеных слив.
— Ешь, — сказала она, — будем считать, что это по случаю счастливого разрешения твоих дел.
И тут, словно по заказу, к калитке подоспел однорукий Бушек и принялся крутить свою шарманку.
Дора вернулась только после полудня. С вавржинецкой колокольни донесся благовест; ему подкукарекивал колоколец с милетинской часовни.
В платочке, с закатанными рукавами, разрумянившаяся, Дора шла, неся на плече мотыгу. Мы сговорились, что не скажем ей про новость сразу, а заставим себя упрашивать.
— Дора, — закричала Гелена, будто наивная девочка, — а мы что-то знаем! Знаем, да не скажем! Отгадай, что?
Доре вовсе не хотелось отгадывать. Она смотрела на меня сверху вниз равнодушным взглядом. Я не выдержал.
— Барышня Дора… — пролепетал я; слезы навертывались мне на глаза.
Выслушав, она презрительно сжала губы.
— Ну и глупый же ты! Какой глупый! Бежать надо отсюда, бежать из этой мерзкой дыры, от родителей — лишь бы поглядеть на белый свет! Чего бы я только не отдала за это! — Она вздохнула и скрылась в доме.
Совершенно уничтоженный, я еще некоторое время сидел на пороге. И тут, словно выскользнувший из травы уж, словно пеночка, выпорхнувшая из зарослей, появилась Эмма. Она смотрела на меня вопросительно, не решаясь заговорить. Грызла мизинчик. Я видел ее сквозь полуопущенные ресницы. Так ничего и не спросив, она, не задев меня, взбежала на крыльцо настолько легко, что не отдался даже стук ее башмаков.
До меня дошло, что ей мы приятную новость сообщить забыли.
ХМЕЛЬНОЙ ВЕЧЕР И ТРЕЗВОЕ УТРО
Ворота во двор были распахнуты, возле овина стояла коляска. Лида распрягала лошадь. Ни малейшего ветерка; явственно слышалось, как шумит внизу, под горой, Безовка. Раздался мерный цокот копыт, который поглотила соломенная подстилка конюшни; засыпающие птицы чирикнули на застрехе.
Я сидел на лавочке рядом с Марией. Гелена, уперев руки в бока, стояла поодаль и глядела на небо.
— Ой-ей-ей! — нарушил тишину ее возглас — Вон та звездочка прямо под серпом месяца. Кто-то умрет!
Мария молчала. Я постукивал каблуком об каблук, мне было грустно.
— Кто-то умрет, слышите? Звезда возле самого месяца!
Светлые Геленины глаза под растрепанными волосами наводили ужас.
Мария вытянула руку, показывая на трубы пивоваренного завода:
— Видишь — Орион? А вон там Большая Медведица. Где же Полярная звезда?
— Моему дяде, моряку, — нерешительно произнес я, — довелось увидеть Южный Крест. Он говорит, будто нет ничего прекрасней, чем мириады звезд, отражающихся в море. Впечатление такое — корабль парит в пространстве, освещенном тысячью лампионов. — Меня никто не останавливал, и я продолжал уверенное: — Когда над морем восходит солнце, кажется, что появилась комета. Огромный огненный хвост тянется за ним по воде с востока до самого бушприта. Если с утра воздух сухой и трудно дышать, значит, жди грозы. Гроза на море — это не только молнии и гром. Самое страшное тут — шторм. Вода постепенно вскипает громадными волнами, достигающими чуть ли не до неба. То они движутся, как хребты допотопных взбесившихся исполинов, то, всплеснув, делаются похожими на чьи-то жуткие руки с искривленными пальцами — из каждого брызжет пена. Море бороздят дельфины…
Вверху, над моей головой, послышалось приглушенное покашливание. Я затаил дыхание.
— Ну-ну, продолжай, — прозвучал голос из открытого окна. Дора! Сердце мое забилось в смятении. Я растерялся, умолк. — Говорю тебе, рассказывай дальше, — капризно настаивала девушка.
— Мой дядя моряк, — снова начал я прерывающимся голосом, — был в Занзибаре, в Трансваале, у водопада в Конго. Он собственными глазами видел пигмеев с тонкими ногами и огромными головами. У некоторых диких племен вместо рта — клюв, как у птиц. Дяде случалось побывать и среди людоедов. В обмен на стеклянные безделушки они предлагали ему высушенные человеческие головы, нанизанные на шнур, как бусы. Головки маленькие, точно кукольные, глаза прищурены, а на лицах улыбка или жалостная гримаса. Когда в джунглях раздаются звуки тамтамов, это всегда предвещает большое кровопролитие. Начинаются воинственные танцы..
Я умолк. Боязливо сглотнул слюну. Не решался оглянуться.
— Говори дальше, — нежно прошептала Дора, — это интересно!
Я ощутил ее руку на своей голове. Неописуемое блаженство! К сожалению, я не помнил всего, о чем повествовал дядя, пришлось призвать на помощь фантазию.
— Крокодилы на берегах Конго… Они напоминают гнилую колоду, такие же суковатые и покрыты морскими водорослями. Такой крокодил может убить человека одним ударом хвоста. Однако акулы еще страшнее. В гонконгском порту дядя сам видел, как акула откусила руку одному бедняге — он нырнул за монетой, брошенной с корабля в воду. Дядя много чего повидал. Он был и в Австралии. Кенгуру очень симпатичное животное, такой большой заяц с головой лани. Правда, у нее на животе отвратительная сумка. А в траве бродят птицы-лиры. Редкое, удивительное зрелище. Но самые красивые птицы — фламинго. Розовые, как утренняя заря. А марабу похож на состарившегося ученого. Череп голый, шея жилистая, спина сутулая. Только очков не хватает!
Я говорил, как в бреду, торопился, перескакивая с пятого на десятое. О китайских курильнях опиума, о кофейных плантациях на Борнео, о верблюжьих караванах, о священной реке Ганг. Я боялся, что стоит мне замолчать, как рука Доры перестанет перебирать мои волосы. При этом я не очень хорошо понимал, происходит все это наяву или мне только чудится.
— У дяди была болотная лихорадка. Удивительно, как он не умер в больнице в Порт-Элизабет. Пять дней без сознания лежал. Ему казалось, будто он погружается в морские пучины вместе с тонущим кораблем. Возле него остановился врач-англичанин, приподнял ему одно веко, потом другое и сказал: «Кончился». Но тут из дядиного глаза выкатилась слеза. «Плачет, — сказал тот доктор, — стало быть, еще есть надежда».
— Если человек плачет, значит, надежда есть, — загадочно промолвила Дора, глубоко вздохнув. — Ну, а теперь беги домой, а то маменька побьет. — Она сухо засмеялась. — В следующий раз рассказывай по порядку. А не так, как наша Эмма цветы рвет: хвать-хвать, цветок с одного луга, цветок с другого. Видно, и ты еще дите малое. Взрослые люди ходят по дорогам и работают, не разгибая спины. Боже мой, — вдруг простонала она, — работают, не разгибая спины.
Я соскользнул с лавки. По моим жилам растекался Млечный Путь. На кончиках пальцев сверкали звезды. Я плыл по деревенской площади, точно по утихшему морю, чувствуя на своей голове тепло Дориной руки. Необыкновенный восторг окрылял меня. Ведь мне посчастливилось обратить на себя ее внимание, вызвать ее интерес! Благословенный дядюшка Эмиль! Мог ли я предполагать, сколько счастья принесет мне его приезд?
На другой день разразилась сильная гроза. После нее воздух стал влажным, на западе то возникала, то гасла светлая дуга. Судя по мутным полосам на небе, где-то далеко еще лил дождь. Едва он прекратился, как я уже несся к Ганзелиновым. Дора ходила по саду, собирая яблоки. Наклонялась, выпрямлялась, опять нагибалась. «Боже, боже, — подумал я с горечью, — взрослые работают, не разгибая спины!» Мне стало больно за Дору. Ей бы сидеть в гондоле, на корме, опустив руку по локоть в черную воду, и улыбаться — ее белая шея открыта до самой ложбинки меж грудей, на ней длинное, красное бархатное платье. Или отдыхать на спине слона под балдахином, похожим на старинную башню, в сандалиях на босу ногу, с полумесяцами в ушах!
Дора выпрямилась и пристально посмотрела на меня.
— Барышня Дора, как вам спалось? — с неуверенной улыбкой спросил я.
Она через силу улыбнулась. Притянула меня к себе за лацкан пальто.
— А скажи-ка, маленькое трепло, — твой дядя женат?
— Он вдовец, — с недоумением ответил я ей. — У него есть одноглазая экономка, она воспитывает его дочь. Они живут в Вене. У дяди отпуск всего три недели в году. Его дочь по матери немка. Она в пятом классе гимназии. Хочет стать зубным врачом. А дядя снимает номер в гостинице, в Триесте.
Дора расхохоталась так, что яблоки посыпались у нее из передника.
— Зубным врачом! Чтобы крутить колесо и пломбировать зубы! Всю жизнь заглядывать людям в открытые рты, как я гляжу на больные ноги и золотушные шеи. Ну и глупа же твоя кузина! Почему она не живет с отцом в Триесте? Почему не ходит вместе с ним в море?
— Ходить с отцом в море ей вряд ли разрешат, — рассудительно возразил я. — Ведь дядя служит на военном судне, да и вообще, женщинам не позволяется жить среди моряков. Дядя говорит, что моряки — плохая компания. Когда заходят в порт, напиваются, устраивают драки из-за женщин и спускают все свои деньги в негритянских притонах. Кому же охота выходить замуж за моряка?
— А вот я хотела бы, веришь? — с вызовом заявила она.
Внутри нее уже вспыхнул прожектор. Щеки то разгорались румянцем, то бледнели.
— Мой муж обязательно взял бы меня на корабль, ну, скажем, переодетой в мужское платье. Я несла бы морскую службу, взбиралась бы на реи. Пила бы с ним вместе в портовых кабаках, а начни он заглядываться на негритянок, пригрозила бы ему ножом.
— Это невозможно, — твердо заявил я. — Жены моряков месяцами ждут своих мужей в городах, ведут домашнее хозяйство. Им приходится подолгу ждать, пока какое-нибудь почтовое судно доставит им весть — добрую или злую. — Я озабоченно нахмурил брови.
Она снова залилась ненатуральным смехом.
— Какой у тебя надутый вид! Ну и смешной ты! Неужели ты не понимаешь, что я просто подшучиваю над тобой? Не нужен мне никакой муж-путешественник. Я выйду за благоразумного, добропорядочного человека, и у меня будет вполне добропорядочная семья. Муж будет курить трубку и засовывать ее в комнатные цветы. В своем письменном столе он заведет ящичек, ключ от которого будет хранить у себя. Туда будут складываться сэкономленные деньги. Лишь раз в несколько лет я пущу в ход свои уловки и добьюсь, чтобы он купил мне новое платье. Увидеть, испытать что-то необычное — какой в этом прок? От увиденного еще никто не поумнел. Все вертится по кругу, у путешественника есть одноглазая экономка и дочь, которая хочет стать зубным врачом. Вот что единственно правильно. Дикую кровь надо смирять.
Она прижала к груди передник с яблоками, словно спящего ребенка, и быстро пошла к дому. Я удрученно поплелся за ней. В эту минуту мимо ворот неторопливым шагом прошествовал учитель Пирко. Он о любопытством скосил в сторону дома свои тусклые, лошадиные глаза. Дора, точно резиновый паяц, подскочила к нему и любезно раскланялась.
— Прошу вас, пан учитель, выбирайте, у меня их полный фартук. Тут, правда, одни только паданцы, но для вас и среди них отыщется подходящее яблочко. Это ведь от меня! — она кокетливо улыбнулась ему, обнажив свои негритянские зубы: того гляди укусит. Учитель с важным и невероятно озабоченным видом склонился над ее фартуком.
Разочарованный, я уныло брел вдоль приземистых домишек; вчерашний ливень оставил на их штукатурке сырые пятна. Печаль снедала мне душу, я не мог ничего понять. Вчера Дора была так мила! И отчего вдруг разозлилась? Рыжий, кудлатый пес, волочивший за собой оборванную цепь, выскочил, играя, на дорогу, царапнул меня за лодыжку. Наклонившись его погладить, я украдкой оглянулся. За мной с важностью вышагивал учитель Пирко; в руке он держал надкушенное яблоко и жевал его, странно кривя свои губы, похожие на ивовые листья. Яблоко, по-видимому, было изрядно кислым.
МЕЧТАНИЯ О ПРОСТОРЕ
А все-таки долгожданная дружба завязалась.
Если прежде Дора почти не замечала меня, то теперь она хотела, чтобы я неотступно был при ней. Она готовит обед — я примощусь подле нее на стуле, положив руки на кухонный стол и уткнувшись в них подбородком; она подметает двор либо сыплет зерно птице — я верчусь тут же; она идет в поле — я тащусь следом, как верная тень. Но сказать, что Дора стала со мной ровна и приветлива — нет, не скажешь. Подчас она обращалась со мной ужасно. Из-за непрерывной смены в ее настроении я страдал невыносимо. Минуты, когда я чувствовал себя в ее обществе совершенно счастливым, с неумолимой последовательностью сменялись другими, когда мне казалось, что я опять навек лишился ее дружбы. Из состояния блаженства я погружался в печаль, от восторга переходил к унынию, однако все же не променял бы этих треволнений на недавнюю монотонность безответного обожания.
Весь секрет моего нежданного успеха заключался в том, что я с готовностью исполнял ее прихоти и, в ответ на повелительное «рассказывай!» — до тошноты мусолил старый репертуар запомнившихся мне дядиных приключений. Я дополнял их, пока сходило с рук, своими школьными познаниями. Она интересовалась всем, что было почерпнуто мною из учебников географии, истории, природоведения, лишь бы от этого хоть немного повеяло воздухом незнакомых стран. Ее увлекали рассказы о пустынях, морях, джунглях — краях, наиболее удаленных от того спокойного тихого уголка земли, где она родилась и откуда до сих пор ни на шаг не отлучалась.
Мое мальчишеское чтиво явилось для меня замечательным подспорьем. Я пересказывал ей содержание «индейских» романов, которые проглатывал в тайне от родителей, детективов, дешевых уголовных повестушек. К рассказанному дядей Эмилем я приплетал пиратские историйки, пробирался через Кордильеры с детьми капитана Гранта, строил хижину из пальмовых листьев, как Робинзонов Пятница. Она снисходительно выслушивала мою наивную отсебятину и не останавливала, пока это ей не надоедало. Заметив, что я чересчур повторяюсь, пеняла:
— Ах ты, испорченная шарманка! Рукоять у тебя скрежещет, как у нашего стереоскопа! Купи новые картинки!
Или набрасывалась:
— Хватит с меня твоих глупостей! Я от них устала. И зачем ты рассказываешь про веселые пляски дереву, вросшему в землю? У-у, зловредина! Бахвалишься, что у тебя есть интересный дядя. Иди прочь! Не хочу тебя больше видеть!
Я сделался Дориным наперсником. Я был той ивушкой, которой она поверяла свою тоску, свою неудовлетворенность, свое горе. Знала, что не выдам. Еще как хорошо знала! Не смущалась тем, что я еще мал и не в состоянии понять ее до конца, что слушаю из одной чистосердечной преданности. Она, как и ее отец, высказывала мне свои еретические взгляды, нимало не заботясь, согласуются ли они с теми понятиями и чувствами, которые внушались мне дома. Со всей страстностью своей натуры отвергала жизнь, ограниченную четырьмя тесными стенами, обрекающую человека на безропотное выполнение ничтожных задач. Она грезила о свободе, о беспечных радостях, о смелых, романтических поступках, хотела щедро растрачивать себя.
Часто в сумерки, когда Дора заканчивала дневную работу, мы вместе ходили к Безовке. Она шла впереди, огибая изгороди, отводя ветки, не оглядываясь, поспеваю я за ней или нет. Иногда я уже начинал думать, что она хочет убежать от меня. В растерянности я замедлял шаг. Тогда, обернувшись, она сердито окликала меня:
— Эй, где ты там застрял?
Я прибавлял шагу. Больше всего я боялся ее рассердить.
Бывало, она надолго замолчит, не разрешая мне обронить ни слова. Бросит в воду камень, примется что-то напевать, не размыкая губ. А то закроет лицо платком, уронит голову на грудь и так застынет — не поймешь, задумалась или плачет.
Все чаще видел я ее в одной позе: стоит в саду, прислонившись к дереву, прикрыв рукой глаза от солнца. В просветы меж ветвей можно было различить милетинские и вратенские холмы, а за ними — предгорья. Она грезила. Откинутая назад голова, упрямый подбородок выставлен вперед, на плечах цветастая шаль… В такие минуты я боялся потревожить ее.
Мне живо вспоминается один такой вечер. За Милетином в лучах закатного солнца ярко горело окошко одного из домов. Дора вытянула руки:
— Видишь, какой простор? Можно идти и идти, не обращая внимания на границы. Ведь граница — не забор! Кругом — разные страны, и в каждой люди живут по-иному… Боже, как я люблю смотреть на отъезжающие поезда! Тебе небось и невдомек, что я иногда хожу тайком на наш горотынский разъезд, стою у шлагбаума и жду, когда пройдет поезд. Это так красиво — темные вагоны, освещенные окна, все мчится мимо, летит, уносится под грохот колес! В этом мелькании я стараюсь разглядеть лица людей. Рисую себе, как они сидят там и смотрят на нас — на нас, неподвижно стоящих на месте. Уж наверняка смотрят презрительно. Ведь сами-то они едут! Едут! Я закрываю глаза и мысленно отправляюсь вместе с ними. Сколько же раз за свою жизнь ездила я на поезде? По пальцам одной руки можно пересчитать!
Слово «простор» имело над ней магическую власть. Оно произносилось ею со всевозможными интонациями: то шепотом, то на крик, то сквозь зубы, то как бы с отчаянным надрывом. Порою я думал: всерьез ли она все это говорит, — может, только шутит или дурачится. Однажды мы сидели рядом. Обхватив руками колена и уткнувшись в них подбородком, она говорила, не сводя с меня неподвижного взора:
— Как хотела бы я путешествовать! Все равно — ездить или ходить пешком. Каждый день — перемены, каждый день — новая корчма, новая еда, новые места! По-моему, это замечательно — быть бродягой. Знаю, для женщины это трудно. Но я ведь умею петь. Ты же знаешь, что умею. Ты мог бы пойти со мной. Вообрази: я пою, а ты ходишь с шапкой по кругу. Все, что заработаем днем, вечером спустим в корчме. Ты носишь за мной плащ, черный плащ, расшитый блестками. Нет, лучше синий плащ с белым воротником и белым поясом. Я танцую, бью в бубен и пою. А ты сидишь на земле, скрестив ноги. Нам платят монетами и пирожками. Хочешь, убежим вместе? — и она таинственно улыбалась.
Я невольно подключался к ее фантазиям и уже видел в мечтах, как мы странствуем с Дорой по белу свету, как я несу за ней ее плащ, расшитый блестками, как, сидя в трактире, где на нас кидают подозрительные взгляды, мы разламываем пополам хлеб, полученный в виде милостыни. Вместе! Всегда вместе! Это было изумительно — ощущать себя связанным с нею в тех ребяческих и небезопасных мечтаниях!
Само собой, Ганзелин не однажды видел, как мы секретничаем. Всякий раз я густо краснел, смущался, чувствуя себя в чем-то виноватым. Но ничего худого в нашем шушуканье доктор не усматривал. Даже находил это забавным. Конечно, он видел только внешнюю сторону нашей дружбы, не зная ее подоплеки. Ткнув в нашу сторону палкой, он трясся от смеха, покачиваясь на своих коротких ножках:
— Гляньте-ка — заговорщики! И какие у вас могут быть общие темы? Кто из вас кого развлекает: Дора тебя или ты Дору? Похоже, к поступлению в среднюю школу ты подготовишься отлично. По крайней мере, не будешь выглядеть таким чурбаном, как я, когда отправлялся на свою первую вечеринку!
Его явно радовало, что мы дружны.
Однако после того, как в один прекрасный день Ганзелин случайно подслушал наш разговор, шуточки и смешки его прекратились. Он выбранил Дору. Случилось это во дворе, в самый полдень, когда он возвращался с обхода из города. Мы сидели на перекладине коновязи, лицом к овину. Ветер с шумом гулял по гонтовой кровле, и мы не услышали шагов доктора, подходившего к нам с другой стороны. Он, по-видимому, довольно долго стоял над нами, между тем как Дора, не подозревая беды, с горечью осуждала домашние порядки, говорила о себе, как об узнике, цепью привязанном к своей камере, и о свободе — единственной мечте всякого раба. По счастью, я лишь кивал головой, не успев высказаться. Мы оба струхнули, когда Ганзелин внезапно вскричал:
— Ага, опять эта блажь! Опять за старое, Дора? Я-то думал, ты уже выбросила это из головы.
Меня удивило, что его не обескуражили ни ее тон, ни сетования, очевидно, ему уже приходилось слышать подобное и прежде.
— У тебя разум пятилетнего ребенка. Ты все еще живешь в мире сказок. Бредни! Глупые бредни! Я запрещаю тебе это раз и навсегда, поняла? Не хочешь по-хорошему, придется действовать по-иному. У меня в руке превосходное лекарство! — Он помахал своей суковатой палкой. Потом неприязненно взглянул на меня.
— А ты, похоже, слушаешь ее с благоговением. И небось поддакиваешь. Веришь, будто она — бедная пташка в клетке, а я — жестокий тюремщик? Запомни, я просто не выношу тех, кто упорно витает в облаках вместо того, чтобы обеими ногами стоять на земле. Меня от этого воротит. Реальная действительность, слышишь, реальная действительность — вот единственное, о чем надо думать. Только в таком духе надо воспитывать будущих мужчин. Я просто не могу понять тех, кто упрямо мечтает о несбыточном. Я не желаю, чтобы вы сообща упивались иллюзиями. Ненавижу иллюзии. Человек должен быть практичным и рассудительным, если он хочет стать полезным членом общества.
Это был для меня тяжелый урок, однако, боясь насмешек Доры, я сделал вид, будто меня это совершенно не трогает. Ничего поучительного я не вынес из отеческих наставлений доктора. Несмотря на все почтение к Ганзелину, я был далек от того, чтобы внять его советам. Отказаться от доверительной дружбы с Дорой? Ни за что! Даже если из-за этого я рисковал бы утратить расположение доктора!
После этого происшествия мы только стали осторожнее. Перед тем как пошептаться, оглядывались вокруг, словно заговорщики. Да, словно заговорщики! Ганзелин сам употребил это слово. Для меня оно имело особый смысл. Оно скрепляло наш союз.
И снова я бегал за Дорой как верный пес, с готовностью исполнял все ее капризы, скисал после разносов, таял от ее редкой небрежной похвалы. Вновь и вновь должен был я повествовать о морях, джунглях, акулах и грифах-стервятниках.
Так проходили мои каникулы.
ИЗУЧЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
Кописта и Пиза были оба в одинаковых синих рабочих блузах; с одинаково закопченными лицами. Енда еще издали закричал:
— Наконец-то мы добились своего! Отец Руды все ж позволил нам клепать в его мастерской. Если бы ты знал, сколько пришлось его уламывать! Заладил, что не нужно ему двух учеников, одного только Руду брался учить своему ремеслу. Тут уж мне мать подсобила. Жалко, что ты уезжаешь! А то бы мы все трое стали жестянщиками!
— Мы уже и на крыше побывали, — похвастался Руда. — Эх и здорово глядеть на мир с такой высоты! Тебе надо обязательно как-нибудь пойти с нами, мы дадим тебе взобраться по приставной лестнице. Не забоишься?
С минуту я размышлял, боязно мне будет или нет? Решил, что все же, пожалуй, боязно. Вместе с тем возможность небрежно расхаживать в рабочей, перепачканной синей блузе, смело взбираться на такую высоту, куда не отважится влезть ни один простой смертный, без сомнения, была очень заманчивой.
В тот же день за обедом мой отец, задумчиво помешивая ложечкой черный кофе, спросил:
— А знаете ли вы, голубчики мои, что сегодня исполняется ровно год, как мы приехали в Старые Грады?
На миг у меня закружилась голова, как если бы, забравшись следом за Яном Копистой на крышу и укрепившись на самом краешке водосточного желоба, я вдруг посмотрел вниз. Казалось, время устремлено не вперед, а ввысь. Наверное, так бывает лишь в детстве, ибо позднее я никогда уже ничего подобного не испытывал. А может, голова закружилась при мысли, сколько волнующих происшествий вобрал в себя минувший год. Сперва — освоение нового места, затем болезнь и, наконец все, что было связано с Ганзелином и его семейством. Словно вся совокупность и мелких, и крупных событий где-то далеко внизу замкнулась в тесное кольцо, а еще глубже, на самом дне, бегал вприпрыжку гномик, мальчуган с пухлыми розовыми щеками, с длинными кудрявыми волосами, наивный и послушный, ласковый и мечтательный, каким я уже не был.
— Итак, минул год, — меланхолически продолжал отец, раздвигая шире величественную и вместе с тем мрачноватую пропасть под моими ногами. — Где-то мы будем в этот же день через год?
В словах отца не следовало искать никаких сантиментов. Я хорошо понимал, что он хотел этим сказать. А именно: «Сбудется ли через год мое заветное желание, переведут ли меня в крупный город с повышением в должности, в чине и с более высоким жалованьем?» Мать в ответ подняла брови и понимающе взглянула на него. Ей никогда не нравились Старые Грады. Уж если кто и бросил в душу отца семена честолюбия и желание перемен, то этим человеком была именно она.
Спустя две недели я в первый раз заявился к старому Фрицу с тетрадью, ручкой и учебником французского языка. Отставной учитель сидел, закинув ногу на ногу; из-под штанины у него свисали развязавшиеся тесемки кальсон. Он долго и пристально смотрел на меня. Потом разгладил свои длинные с проседью усы, открыл книгу на первой странице таким жестом, будто сорвал листок календаря, и изрек:
— Итак, начинается сентябрь месяц.
И он с преувеличенным прононсом принялся объяснять мне тайны французской словесности.
Фриц слегка сутулился, был худ, субтилен, однако брови у него росли не менее буйно, чем усы, которые лезли прямо из ноздрей и, по-видимому, доставляли ему неудобство, поскольку в паузах, когда я повторял заученные слова и фразы, он вырывал из носа волоски и раскладывал их на странице разговорника ровной шеренгой корешками книзу, так что они выстраивались перед ним, словно тонюсенькие солдатики. Когда волосков набиралось порядочно, он поспешно пересчитывал их тощим указательным пальцем, после чего продолжал выдергивать дальше. Я с отвращением наблюдал за этим его занятием, однако мне было любопытно, каким же количеством выдернутых волосков он удовольствуется.
Мне ни разу не удалось это установить. В самый неожиданный момент, он, как это свойственно нервозным, неуравновешенным, неуемно расточительным людям, одним великолепным взмахом руки сметал все миниатюрное воинство, вонзал в меня свои острые глазки, повышал голос и начинал рассказывать, жестикулируя, будто на сцене.
Кроме него, я ходил еще к своему старому знакомому, учителю Матейке; его уроки, напротив, были чересчур корректными и монотонными, чтобы хоть сколько-нибудь заинтересовать меня. Да и славы они мне никакой не приносили: никто у меня не спрашивал, что я уже знаю из истории древнего мира, что усвоил, разбирая предложения и решая уравнения с одним неизвестным. Зато уроками французского живо интересовались и отец, жаждавший блеснуть своими школьными познаниями, и мать, у которой французский язык пробуждал чувствительные воспоминания о пансионе. И еще кое-кто проявил к нему неожиданный интерес.
У Ганзелиновых я хвалился своими выученными французскими словами: мол, доктор будет — le docteur, больной — le malade, девочка — la fille, а любовь — l’amour. Мария с усмешкой поинтересовалась, не знаю ли я, как будет «чудак» и «старая дева». Дора на все это никак не отозвалась, лишь странно взглянула на меня, однако, когда я собрался уходить, выбежала за мной на улицу, взяла под руку и спросила, не соглашусь ли я пересказывать ей все то, что почерпнул от старого Фрица.
— Знаешь, Эмиль, мы могли бы вместе заниматься французским. Тебе это не повредит, повторяя, ты бы закреплял урок, а я усвоила бы хоть начатки иностранного языка. Я немного знаю немецкий, но лишь самую малость. На этом далеко не уедешь.
Я смотрел на нее в восторге. Последнее время я со страхом примечал, что все мои байки о приключениях и чужедальних странах совершенно перестали ее занимать; и вот, подумать только, намечается новое связующее звенышко.
— Не хочу оставаться невеждой, — пояснила мне она. — Для человека, владеющего языками, открыт весь мир. Ну скажи, разве не правда, что французский поймут в любой стране?
Я горячо согласился с ней, добавив, что французский — язык дипломатов и всех образованных людей.
И все же я еще побаивался, не окажется ли Дорина затея минутной прихотью и не поднимет ли она меня на смех, когда я явлюсь к ней и предложу начать первый урок. Я уныло брел к Ганзелиновым, пряча под полой свою репетиторскую тетрадь, точно вор, стащивший у кого-то бумажник. «Сейчас она велит мне убраться», — думал я. Однако этого не произошло. Вычитав тайную цель прихода по моим тревожно бегающим глазам, она кивнула мне и укрылась со мною в заросшем сиренью палисаднике. Итак, мы начали:
— Voilà le mouchoir. Comment est le mouchoir? Le mouchoir est blanc. Il est blanc[6].
Я спрашивал, а она отвечала:
— Comment est le crayon?[7]
— Le crayon est noir[8].
— Comment est le sang?[9]
— Le sang est rouge[10].
Поначалу я был очень неуверен в себе, конфузился. Дора была моей первой ученицей, и вообще это был первый случай в моей жизни, когда я кого-то чему-либо учил. Однако она подлаживалась ко мне с неимоверным терпением, всячески ободряла меня, никогда не высмеивала и вполне серьезно готовила домашние задания. Она твердо решила выучить французский. Он давался ей на удивление легко, и она без особого напряжения шла со мной вровень по темам, какие мы разбирали с отставным учителем.
Сохранить все в тайне, конечно, не удалось. Первой об этом проведала Гелена — она громко гоготала, кричала, взвизгивала, как гусыня, которую режут. Ей подвернулся великолепный повод посмеяться над Дорой. Никогда раньше не доводилось мне быть свидетелем такой схватки между сестрами. Не в пример остальным, Дора вырвала бы свое право на самообразование зубами и ногтями. Да бог с ней, с Геленой! Хуже, что обо всем узнал доктор Ганзелин.
Правда, на сей раз обошлось без грома и молний. Он уставился на меня своими водянистыми глазками и покачал головой, словно я совершил опрометчивый поступок.
— Учить женщину иностранному языку? Да вы оба безумцы. И она безумней тебя. Женщина — запомни — создана для кухни и домашнего хозяйства. Все эти новомодные идеи о женском образовании — чушь. Чтобы они отобрали хлеб у мужчин, да? Сперва нас лишали рабочих мест машины, а теперь еще и женщины! Когда-нибудь человечество дорого за это заплатит. К счастью, в мозгу у них маловато извилин. Вознамерились сравняться с мужчинами, наседки! Все равно им до нас далеко. Они забывчивы, непоследовательны, злоречивы, легкомысленны; сегодня загорится чем-нибудь, а завтра, глядь, уже и остыла.
Ганзелин в самом деле был невероятно консервативен. Я боялся, что он запретит нам заниматься языком. Но он не запретил. Кстати, предсказание его не сбылось. Дора была, как и сам он, упряма и не утратила интереса к учебе.
Продолжать занятия французским в саду стало невозможно. Гелена выслеживала нас. Мы стали уходить на берег Безовки. Дора обычно лежала на животе, подперев щеку кулаком и ковыряя траву носком туфли. Я старался принять позу учителя: стоял, прислонясь спиной к стволу вербы, и следил по книге, подняв указательный палец.
Как-то в один из сентябрьских дней, пополудни, мы учили спряжения глаголов.
— Je suis heureux, tu es heureux, il est heureux, elle est heureuse[11].
— Барышня Дора, повторите. Женский род будет несколько иначе. Пишется тоже иначе: je suis heureuse. Я счастлива.
Она вспыхнула, взорвалась:
— Не произнесу! Никогда не произнесу, потому что это неправда!
Это не было пустой шуткой, она действительно не хотела повторять. Я растерялся, но все же продолжал:
— Условное наклонение: «Я была бы счастлива» звучит так: je serais heureuse, a futur, будущее время: je serai heureuse[12].
— Кто знает… — промолвила она, глядя на реку, — может, я никогда не буду счастлива, поэтому лучше и говорить того не стану. К тому же я суеверна — скажешь вслух, а оно и не сбудется.
Я задумался. Сердце у меня защемило от жалости к ней, оно взволнованно билось, собираясь с мужеством. Наконец я решился, захлопнул книгу.
— Барышня Дора, — сказал я дрожащим голосом, — когда вы от чего-то мучаетесь, я переживаю это больнее, чем вы сами. Скажите, что произошло, мне так хотелось бы вас утешить!
Она хмуро взглянула на меня, обнажила свои широкие белые резцы.
— О, ничего нового, ничего нового, глупенький! Ведь ты знаешь, как мне тут все ненавистно, в какое отчаянье приводит меня эта докучная жизнь. — Она вырывала траву целыми пучками и бросала в воду. — Бестолковая каждодневная суетня, надсадный труд на маленьком клочке земли, грязные уроды, кудахтающие куры, противные сестры, пошлый злоязычный сброд, — господи, все одно и то же! На веки вечные. Хотя бы что-нибудь изменилось! Дождусь ли я?
— Барышня Дора, — произнес я чуть не плача, — как бы мне хотелось, чтобы вы всегда только улыбались!
— Je ne suis pas heureuse![13] — воскликнула она в ярости. — Je ne suis pas heureuse!
Я испугался, что на ее крик сбегутся люди. Вот так, во французской грамматической форме отрицания, вырвался у Доры крик ее души.
ОПАСНАЯ ПОХВАЛА
Отец пришел домой сияющий. Пока Бетка накрывала ужин, он, заложив руки за спину и насвистывая, с таинственным видом расхаживал по столовой. Я сидел за столом с подвязанной вокруг шеи салфеткой (до чего меня всегда стеснял этот гадкий белый хомут!) и с любопытством наблюдал за ним. Не переставая улыбаться, он время от времени поглядывал на меня.
— Садись, пожалуйста, все готово, — сухо заметила ему мать.
Он уселся в свое просторное венское кресло, пододвинул к себе прибор и в промежутках менаду едой стал рассказывать:
— Сегодня, спустя долгое время, я неожиданно встретил под аркадами доктора Ганзелина. Обыкновенно он избегает меня, как и других городских жителей, но тут сам направился прямо ко мне и без околичностей спросил: доволен ли я Эмилем. «Совсем молодцом, не правда ли? — говорит он. — Вам не кажется, пан гейтман, что Эмиль теперь выглядит много лучше, чем в тот раз, когда впервые явился ко мне?» — «Ну, ведь с той поры минуло несколько месяцев, — ответил я ему. — У него было достаточно времени, чтобы немного окрепнуть. Разумеется, я вовсе не хотел бы тем самым умалять ваши заслуги, роль вашего заботливого наблюдения за больным и ценных рекомендаций». Ганзелин расхохотался. «Рекомендации? Наблюдение за больным? Помилуйте! Да неужто вы полагаете, будто пациента можно вылечить путем рекомендаций и осмотров? Нет, нет, ему помогло иное средство. Мы мало-помалу впрягли его в работу, вот он и позабыл о всяких там симптомах, избавился от своей болезненной мнительности. Что, парень, тебе нечего делать? А ну-ка, возьми мотыгу, помоги окучивать грядки или садись перебирай горох. Да, не поблажки и не сюсюканья, а труд — вот что оказалось лучшим для него способом избавиться от черных мыслей».
Мать взглянула на меня так холодно, что я вздрогнул, но отец был слишком увлечен своим рассказом и ничего не заметил.
— «Но я тут ни при чем, — сказал мне Ганзелин. — Я слишком занят. До этого додумались мои дочери. Даже и не знаю, с чего все пошло. Гелене что-то понадобилось на кухне — послала Эмиля. Мария отправилась в поле — взяла его с собой. Нынче он умеет делать многое из того, чего не умел прежде: сгребать сено, навивать на воз клевер, пасти коз, подметать дорожки, носить воду, развешивать белье. Только вот жестокости не переносит. Не может видеть, как режут курицу; глаза зажмурит — и бежать. Чересчур мягкосердечен. Дочери мои вздыхают: вот жалость, что у него каникулы кончились, такого дельного помощника лишимся!»
— Носил воду, копал огород, бегал в лавку, как наша Гата… Ну и ну! — язвительно произнесла мать, глядя на меня в упор с нескрываемой враждебностью. Я молил глазами отца, пытался перехватить его взгляд, но он не обращал внимания.
— Ганзелин очень тебя хвалил, Эмиль, — став серьезным, добавил отец. — Уверял, что ты славный мальчуган и что он тебя любит. Мол, и дочери его тоже очень любят тебя. Одну из них ты, дескать, даже учишь французскому языку. По этому поводу доктор немного ворчал; полагаю, однако, что на самом деле он не против. Впрочем, мы-то знаем, что он человек крайних взглядов. Всем известно, какой он чудак. Признаюсь, мне весьма приятно твое умение заводить друзей. Человек живет среди людей и должен сними ладить. Я действительно очень рад. Поздравляю тебя. Ганзелин убежден, что в юном возрасте физический труд полезен. Отчего бы этому не поверить? Труд не позор, напротив — это дело чести!
Мать снова вмешалась, сопровождая свои слова сухим смешком, по звуку походившим на осыпь мелких камешков в карьере:
— А мне и невдомек, что мальчика, собирающегося поступать в среднюю школу, можно приспособить к домашнему хозяйству. Для нас, пожалуй, излишняя роскошь держать двух служанок. Вполне достаточно одной Гаты. По крайней мере летом, когда Эмиль дома, он мог бы закупать продукты, накрывать на стол, помогать в приготовлении обеда. Он и впрямь не надорвется, если иногда вымоет пол или постирает белье — тем более, что он уже хорошо этому обучен. Поистине неразумно, что он применяет свои практические навыки у посторонних людей, а не у себя дома.
Только тут отец уловил в словах матери иронию. Вилка с куском, который он нес ко рту, застыла на полдороге — он в растерянности скосил на меня глаза и, кажется, слегка покраснел. Увы, будучи сбит с толку, он все больше и больше забирался в тупик:
— «Хочу также обратить ваше внимание, — сказал мне Ганзелин, — что я уже довольно давно не осматриваю его. Полагаю, вы с этим согласны. Не беспокойтесь, я тщательно записываю все осмотры и не зачту тех, что не состоялись». Я сердечно поблагодарил его и попросил, чтобы он как можно скорее прислал счет. Признаюсь, я оплачу его с таким удовольствием, с каким до сих пор не оплачивал ни одного счета.
Глаза матери сверкнули: в тот миг они походили на два уголька, раскалившихся от мстительного, злорадного чувства.
— Вот как! Наконец-то нечто конкретное! Эмиль абсолютно здоров. Меня это искренне радует. Но в таком случае продолжать эти посещения просто нелепо. Мы не имеем права отнимать у господина доктора его драгоценное время. Конечно, очень мило с его стороны, что он предоставил нашему сыну возможность всесторонне развивать свои способности, однако теперь пора с этим покончить. Мы не имеем права обременять чужую семью. Эмиль, хорошо ли ты понял? С сегодняшнего вечера тебе незачем больше бывать у Ганзелина.
— Да, — удрученно отозвался я. — Понял…
Я смотрел на отца с отчаянием и упреком, что могло сойти и за насмешливую гримасу, ибо одновременно я крепко сжимал губы, удерживаясь от слез.
Отец долго с нежностью глядел на меня, потом спросил:
— Я вижу, ты охотно продолжал бы бывать у них?
Я кивнул, не в силах вымолвить ни слова. В горле стоял комок, губы дрожали.
— Сдается мне, — тихо произнес отец, — я изложил дело не лучшим образом. Меня превратно поняли. Очевидно, следует внести поправки.
— Нет нужды, — резко ответила мать. — С этим все ясно, и решение окончательное.
Отец с достоинством поднялся, не спеша вытер усы салфеткой.
— Эмиль, выйди, пожалуйста, на минутку.
Я выскочил за дверь; точно в беспамятстве, спотыкаясь, спустился по лестнице. Не помню, как оказался внизу, на площади. Прижался лбом к ближайшему арочному столбу. Собрав все душевные силы, силился подавить рыдания. Ничего вокруг не видел, ничего не слышал. Все пропало! Я знал свою мать, знал, как умеет она привести в исполнение задуманное. Значит, никогда мне уже не переступить порог дома Ганзелиновых. Прощай моя дружба с Дорой. Что дальше? Жизнь представилась мне пустой, как выгоревшее изнутри здание. Буду ходить к Матейке и Фрицу, безрадостно делать уроки. Но мать! Мать! Я сжал кулаки. В ту минуту моя любовь к ней умерла. Я ее почти ненавидел.
Не помню, сколько времени я стоял так. Кто-то тихо положил руку мне на плечо. Я рывком обернулся. Это был отец.
— Ну зачем же отчаиваться? — прошептал он мне на ухо. — К чему грустить? Разве ты мне уже ни капельки не доверяешь? Я понимаю тебя и сочувствую. Ты испугался вспышки маминого гнева, да? Но все уладилось. Можешь и дальше навещать своих друзей. Понял? Мамин запрет отменен. Я ей все объяснил, и она вняла моим доводам. Признаться, далось это не без труда. Однако я попросил бы тебя никогда ни единым звуком не вспоминать сегодняшний вечер. Будем держаться так, словно ничего не произошло.
Я резко сбросил его руку.
— Не думай, будто я тебе ужас как благодарен. Ты просто был обязан исправить то, что сам натворил. Твоя вина, что мать обо всем узнала. Ты мог заранее предположить, как она к этому отнесется.
Отец с минуту озадаченно смотрел на меня.
— Если ты считаешь, — грустно проговорил он, — если ты считаешь, что я обидел тебя, — не стану тебя разубеждать. И все же ты несправедлив; ведь я исходил из самых добрых побуждений. Разумеется, в таком случае я не могу требовать от тебя благодарности за свои старания.
Я молчал. Он повернулся и, вздохнув, ушел.
Медленно, наугад брел я вдоль аркад. Не отдавая себе отчета, повернул к деревенской площади. Кругом была густая темень. На улочках, ведущих к пивоварне, мерцал свет фонарей. Вместо неба сверху нависал грязный парусиновый полог. Деревенская площадь напоминала равнинное пространство, открывающееся взору, когда выходишь из леса. Каждому моему шагу вторило мрачное эхо. Я остановился неподалеку от ворот дома Ганзелина. В кухне было темно, стало быть, девушки уже легли спать. Дора спит! Зато внизу еще светились окна амбулатории. Что там происходит? Заканчивает ли доктор неотложные дела? Разминает ли каучук на гипсовом нёбе? Или расхаживает с трубкой по кабинету, окутанный облаком дыма? Щипец на доме храбро устремился в небо; стена, огораживавшая усадебку, наводила на мысль о надежном приюте. Рай, лишь чудом не утраченный мною! Еще немного, и мое обещание — никогда не переступать порога этого дома — возымело бы силу.
Что-то тихо отделилось от вершины клена и, кружась в медленном танце, проскользнуло у моего уха. Налетел порыв ветра: сморщенный, пожелтевший странник, подпрыгивая, пронесся по мостовой и смешался с другими отмершими собратьями. Пустеющая крона расчувствовалась и что-то шепнула ему на прощанье. Как одиноко! Лишь дом посылал в темноту свет из всех своих шести окошек и доверительно подмигивал мне. Я затаил дыхание. Вот слетел еще один смертник!
Листопад…
ТАЙНА ЛИДИНОГО СУНДУКА
Все осталось по-прежнему. Я, как и раньше, приходил в дом Ганзелина, помогал дочерям доктора по хозяйству, выполнял их поручения, кормил кроликов, чистил медицинские инструменты в амбулатории. Мы с Дорой прилежно занимались французским. Однако наступившие холода, дождливые, туманные дни лишили нас возможности проводить уроки на лоне природы. Мы подумывали о каком-нибудь укромном приюте.
Совет нам подала Эмма — снисходительно и небрежно, всем своим видом показывая, что самой ей в том никакого интересу нет.
— Раз уж вам надоели Геленины насмешки, то почему бы не заниматься в комнате папы?
Это была удачная мысль: каморку на мансарде начали топить с осени, и огонь в печке поддерживался с утра, чтобы доктору было где отдохнуть после обеда. Следовало только выбрать безопасное время, чтобы нас тут не застал Ганзелин. Обиталище отца почиталось в семье священным, и ни одна из сестер, кроме Эммы, которая спала в той же комнате, не решалась задерживаться там без особой надобности. Нам больше всего подходили те часы, когда Ганзелин вел прием, с двух до четырех, да еще те вечера, когда он отправлялся посидеть за кружкой пива в трактире «У долины».
Мы усаживались рядышком на Эмминой постели; книги и тетради раскладывали на коленях. Я вдосталь насмотрелся на русалок, плывущих по белым облицовочным кафелям печки, прежде чем, бывало, Дора повторит все заученные слова либо переведет заданный отрывок! За чугунными дверцами приятно гудело пламя: блики разбегались по полу, заигрывая с выцветшими розами на отодвинутой ширме. Кукушка выглядывала из своего домика и, подобно заботливому стражу, кланялась нам, напоминая о быстролетном времени. Эмма обыкновенно сидела с нами. Мне казалось, что она нарочно не оставляет нас наедине. Девчонка с равнодушным видом устраивалась на подоконнике и, прислонясь головой к спинке отцовской кровати, усердно читала какой-нибудь роман либо что-то украдкой рисовала в тетради цветными карандашами, время от времени кидая на нас быстрые, настороженные взгляды.
— Знаю я, где вы от меня прячетесь, — встречая нас внизу, в кухне, злилась Гелена. — А ну как узнает отец? Вот ужо́ я ему все расскажу.
Дора отвечала ей насмешливой улыбкой. Она не верила, что Гелена и вправду может наябедничать отцу.
Я привык заворачивать к Ганзелиновым всякий раз — либо под вечер, идя от учителя Матейки, либо утром, после урока французского от старого Фрица. Пока было лето и стояла прекрасная погода, мои посещения дома на деревенской площади не слишком привлекали внимание матери, поскольку я все равно целыми днями пропадал на улице. Теперь же я счел за лучшее совместить узаконенные для занятий отлучки с приятным для себя времяпрепровождением, что она не одобряла, хотя и терпела.
Однажды декабрьским днем я застал в доме одну Эмму. Она нарядилась в свое лучшее платье и восседала за кухонным столом, как хозяйка дома. Я в изумлении остановился на пороге с книгами и тетрадями в руках.
— Все ушли на кладбище, — с важным видом сообщила мне она. — Сегодня мамина годовщина. А меня оставили стеречь дом.
— А почему именно тебя? — удивился я.
Она пожала плечами.
— Наверно, потому, что изо всех только я вообще не знала маму. Впрочем, так у нас заведено. Так решил папа.
— Странно, однако, — огорчился я, — ведь утром мне никто даже словом не намекнул, чтобы я не приходил к вам после обеда. И никто не вспоминал про годовщину. Обычно у вас о таких вещах предупреждают заранее!
Она испытующе взглянула на меня, потом ответила:
— Но ведь ничего не случилось! Они скоро придут, ты еще их дождешься.
Я нерешительно положил свои учебники на лавку возле печки и отошел к окну. Упорно глядя во двор, я напряженно размышлял: уйти или остаться? Мне хотелось подождать Дору, но как вести себя с этой девчонкой, которая вздумала изображать благородную даму?
Из задумчивости меня вывел ее голос:
— Да сядь ты! Уж поверь мне — хоть все глаза проглядишь, они не придут ни минутой раньше!
Я неловко уселся рядом с ней, совершенно не представляя, чем бы заняться. Эмма притворялась, будто читает, однако я хорошо видел, что она не переворачивает страниц и водит глазами не по строчкам, а по столу. Неожиданно она захлопнула книгу и, просияв, взглянула на меня.
— Если тебе скучно, мы могли бы во что-нибудь сыграть. Хочешь в шашки?
Я отрицательно покачал головой. Я любил играть в шашки, но мне представлялось смешным играть с Эммой.
— Может, почитаем? У меня наверху есть несколько книжек, они тебе наверняка понравятся.
Читать она предлагала мне уже без воодушевления. Да я и не верил, что у нее может найтись интересная книга.
— Тогда знаешь что? — решительно произнесла она, поднявшись из-за стола. — Пойдем-ка, я тебе кое-что покажу.
Причин отказываться не было. Эмма повела меня в соседнюю комнату, в спальню сестер. Отбросив всю свою важность, она вдруг превратилась в веселого, шаловливого ребенка.
— Ты очень удивишься, как много они от тебя скрывают, — говорила она по дороге, подпрыгивая на одной ножке. — У них столько вещей, которых они тебе еще ни разу не показывали! Ничего худого в том нет, — прибавила она, оправдываясь, — если ты осмотришь их сокровища под моим надзором.
Я несколько опешил.
— Ты хочешь, чтобы мы копались в их вещах? Но ведь это неприлично!
— Никто и не говорит, что нужно признаться сразу, — кротко возражала она. — Не советую. Нам обоим влетело бы.
Увы, в тот раз мое любопытство одержало верх над моей щепетильностью. Мне, к примеру, ужасно хотелось увидеть, что скрывает Дорин расписанный цветами сундучок. Однако именно этот сундучок был предусмотрительно заперт, и ключа в замке не оказалось.
— Так всегда! — утешила меня Эмма. — Боится, как бы кто не прочитал любовных записок, которые ей шлет учитель Пирко.
Я посмотрел на нее с возмущением.
— А знаешь, — лукаво продолжала она, — ты как-нибудь попроси ее открыть сундук. Тебе она покажет!
До тайника Доры мы тогда не добрались, зато дверки Гелениного шкафа-умывальника оказались приоткрытыми. Просунув пальцы в щелку, я раздвинул их и заглянул внутрь.
— Туда не лезь, — предостерегла меня девочка. — Настоящее воронье гнездо. К тому же там ничего особенного нет!
Действительно, шкафчик был доверху набит всевозможным, как попало сваленным барахлом. За баррикадой изношенных туфель высились груды скомканных чулок, несвежих блузок, белья, а в самой глубине стояли еще какие-то загадочные картонные коробки.
— Лучше ничего оттуда не вынимать, потом обратно ни за что не затолкаешь. А вот здесь отыщется кое-что получше! — И Эмма наклонилась над плетеной корзиной Марии.
В комнате было так холодно, что у меня изо рта шел пар, но я все же присел на стул.
— Погляди-ка, что тут есть! — радостно воскликнула Эмма.
Она положила мне на колени альбом в красном бархатном переплете с оттиском четырехлистника, некогда на нем приклеенного. Альбом был заполнен стихами, написанными угловатым детским почерком, и засушенными полевыми цветочками. Не успел я перелистать несколько страниц, как на колени мне был уже брошен обтрепанный, полупустой альбом с фотографиями, потом браслетик из кораллов, который Мария носила в детстве, золотой крестик с ликом богородицы и молитвенник в твердом переплете, инкрустированном костью. Из него выпало несколько образков, которые Эмма поспешила поднять. В альбоме я обнаружил фотографию отца Ганзелина, свадебное фото самого доктора, а также старую фотографию двух маленьких детей.
— В то время меня еще не было на свете, — потешно вздохнув, сказала Эмма.
Я бы долго еще перебирал этот ворох, но девочка нетерпеливо отнимала у меня один предмет за другим и укладывала назад в корзину.
— Папа и сестры могут прийти раньше, чем мы думаем, а самое интересное еще впереди, — пообещала мне она. Я послушался ее и даже принялся ей помогать. Когда мы управились, она закрыла плетенку и села на нее, болтая ножками и плутовски поглядывая на меня. Потом вдруг соскочила и подошла к Лидиному чемодану. Забавным жестом сплела руки у подбородка.
— Ну, сейчас ты увидишь такое!
Она быстро откинула крышку. Внутри чемодана пахло кожей. Моим глазам представилось одно лишь белье, аккуратно сложенное и перевязанное розовыми ленточками, — непригодившееся Лидино приданое. Эмма ловко рылась в нем, забираясь все глубже, пока не достала с самого дна какой-то предмет, завернутый в шелковистую бумагу. С торжеством выпрямилась:
— Вот!
Она развернула бумагу. Боже! И откуда только она тут взялась? Кукла, с неразрисованным фарфоровым личиком, в фланелевом платьице и красных вязаных чулочках!
Я смотрел на куклу глазами святотатца. У таких мальчиков, каким был я, это совершенно нормальное явление: беззащитных зверюшек и вещи они любят больше, чем людей. Сочувствие стареющей женщине, любовно хранившей на дне чемодана память о далеком детстве, смешивалось во мне с желанием взять куклу, посадить к себе на колени и побаюкать ее. Я не удержался и протянул руку.
— Лида тоже иногда еще играет с нею, — понизив голос, заговорщически сообщила мне Эмма. Было непонятно, умилилась она или подсмеивается. Я недоверчиво взглянул на нее. Она сердито топнула ножкой:
— Да, да! Я сама видела!
— Врешь, — с ненавистью прошипел я, оскорбившись за Лиду, чья жалкая тайна оказалась раскрытой, — наверно, это ты с ней играешь, а не она! По глазам вижу!
— Фи! — презрительно фыркнула Эмма. — А скажи-ка, что ты сейчас делаешь? Не хочется ли и тебе переодеть куколку? Покормить с пустой ложечки? Что, если бы это сейчас увидела Дора?
При мысли, что Дора может застигнуть меня с куклой в руках, я густо покраснел, однако ответил с напускным равнодушием:
— Ну и что? Если бы даже и увидела? Я ничего худого не делаю, просто посмотрел и все.
— Ты хорошо знаешь, что. Она бы высмеяла тебя и никогда этого не забыла. И при каждом удобном случае поддразнивала бы тебя. Потому что… потому что Дора бесчувственная. Бессердечная. — Она на миг задумалась, а потом прибавила: — Она не любит никого. А если уж хочешь правду, то и тебя тоже.
Я покосился на нее, неприятно задетый такой уверенностью.
— Кто-то идет! — испуганно воскликнула она и отобрала куклу. В мгновение ока запрятала куклу под слоем белья и захлопнула крышку чемодана. Однако никто не вошел — была ли это ошибка или — что вероятнее всего — хитрость? Не хотела ли она тем самым увильнуть от разъяснения своего загадочного упрека?
— Тут всегда страшно холодно, — щебетала она, не давая мне раскрыть рта, — идем отсюда! Ой, смотри, из Марииного браслета выпала бусинка! Быстрей подними ее, а то Мария догадается о нашей проделке. И скатерть на столе сдвинулась — тоже надо поправить. Никто вообще не должен знать, что мы тут были!
Примерно через полчаса Ганзелин и его дочери возвратились с кладбища. Они еще пребывали в торжественно-сосредоточенном настроении, принеся в складках одежды морозный воздух и запах горевших свечей. Но мы с Эммой уже как ни в чем не бывало сидели в кухне за столом. Я попивал кофе, который она мне приготовила — ей, по-видимому, все еще хотелось играть роль гостеприимной хозяюшки. Гелена ухала, стаскивая свои большущие, заляпанные грязью боты; доктор, не сняв шапки, расхаживал взад-вперед и молча докуривал трубку. Дора, смеясь, терла мне лицо и уши замерзшими руками:
— Ну вот, теперь порозовел, бледненький, наконец-то порозовел! Как вы тут с Эммой провели время?
Девочка поверх своей чашки бросила на меня предостерегающий взгляд.
СНЕГ
В сочельник староградский ночной сторож затрубил в свой рог, который словно бы унес из вифлеема[14]. И свою мохнатую шапку, и длиннополый кожух он как бы позаимствовал оттуда же. Одну за другой, осторожно, чтобы не закапать воском пол, отец укреплял на рождественской елке свечки. Гата и Бетка сидели с нами за общим столом, но к кушаньям едва притронулись. Стеснялись. Зато потом, дружно подбирая остатки ужина с блюд и противней, болтали наперебой: Бетка с пылающим от волнения лицом, Гата, грустно прикладывая к глазам передник. Каждая думала о своем.
И мы у себя в гостиной тоже предались воспоминаниям. Отец удовлетворенно поглаживал усы и покуривал трубку. Мать, скрестив белые руки, поигрывала пальцами и, как всегда, когда бывала растрогана, сидела неестественно прямо, не касаясь спинки стула, откинув корпус назад и выпятив грудь.
Свечи потрескивали и гасли, пахло хвоей, елка погружалась в темноту. Я равнодушно осматривал свои подарки: духовое ружье с дюжиной стрел (у каждой стрелы оперение иного цвета), зимнюю куртку с меховым воротником, книги.
Город Иерусалим, присыпанный сахарной пудрой, — так выглядели Старые Грады. Башня над воротами с ожерельем из сосулек, похожая на старую блудницу, крепостная башня в огромной поварской шапке набекрень, чаша фонтана с пеной вскипевшего молока. Кататься на санках по главной улице было неудобно, поскольку повороты на ней были чересчур крутые, я вдобавок в ту сторону двигалось много повозок. Неумолчно звенели бубенцы, ломовые и ездовые лошади усеивали путь навозом, дымившимся на морозце. К счастью, оставалось довольно много других улиц, прямых и тихих, где доброхоты не посыпали дорогу золой. Съезжать по ним было истинным удовольствием — без всякой опаски, как по накатанной горке.
Я утаптывал спуск посредине докторского сада. Гелена, сгорая от любопытства, выходила поглядеть, что я там затеял, но я не говорил ей, пока не привез санки. Проехать первой я галантно предложил Доре. Она со смехом отказалась. Не успел я еще отвести от нее укоризненного взгляда, а уж на передок моих санок с шумом взгромоздилась Гелена, высоко подоткнув подол своей юбки — ну и смешные же были на ней чулки, в поперечную полоску! И вот — летим! Внизу, мы уткнулись в забор, который Гелена чуть не повалила, упершись в него ногами. Я потащил санки в гору; Гелена напихивала мне за ворот снегу, тормошила своими длиннющими руками; на впалых щеках ее рдел румянец, волосы, выбившись из-под мохнатой отцовской шайки, будто змеи, расползлись по спине. Накатавшись всласть, она позвала Эмму:
— Поди сюда, малышка, это как раз для тебя. Катайтесь вместе, дети! Смотри, не опрокинь ее, ты, медведь! — она ущипнула меня за щеку и убежала. Эмма вопросительно смотрела на меня глазами цвета незабудок.
Она благовоспитанно села позади, но на спуске я ее потерял.
— Прости, — вежливо оправдывался я. — Я не нарочно. Пожалуй, лучше тебе сесть впереди. — Я сжал ее тощие бока коленками, направляя санки из-за ее плеча. Она притихла, затаилась, словно вспугнутая птица.
После того, как мы в очередной раз возвращались в горку, она неожиданно сказала мне:
— Тебе небось хотелось бы покататься с Дорой. А Доре, конечно, хотелось бы кататься с учителем Пирко.
Я вспыхнул. Из двух шипов, вставленных в эту фразу, второй больней уколол мне сердце.
— Неправда! — вырвалось у меня. — Уж никак не с Пирко! С ним она ни за что не стала бы кататься, она его просто не переваривает.
Эмма остановилась и, похоже, безмерно удивясь, вытаращила на меня глаза.
— А вот и неправда! Неужели ты такой глупый? Ведь Пирко — мужчина. — Поколебавшись, она прибавила: — Ты совсем не понимаешь женщин!
Совсем не понимаю женщин! Я был уязвлен. Добро бы это сказал кто другой, а то Эмма! Подумаешь, «женщина»! Я со злостью дергал веревку санок. Съезжая вниз, мы перевернулись. Виновата была Эмма, я точно видел, как она умышленно наклонилась в сторону, когда мы огибали дерево. Да и не могла она так быстро вскочить на ноги, если бы не предвидела заранее, что мы свалимся. Она стряхивала снег с рукавиц и с коленок, в то время как мне он набился даже под рубашку. Я негодовал. К моему удивлению, она не стала насмешничать. Нагнув голову, скатывала снежок. Не отвечала на мои упреки.
— Тебе и невдомек, что я могу простудиться, — попенял я ей. — А ведь знаешь, должно быть, что мне сейчас никак нельзя снова заболеть.
— Бедняжечка, бедняжечка, — лицемерно поддакивала она, — твоя правда! Да я ведь и не спорю, тебе и впрямь следует беречься!
— Знаешь что, — в конце концов уже более спокойно сказал я, — вот тебе санки, катайся одна. А я пойду посушусь у печки. — Я бросил ее посреди спуска и не спеша стал взбираться на гору. Она осталась сидеть на санках, приложив мизинчик к губам. Вдруг пущенный вдогонку снежок угодил мне в голову, рассыпавшись за ухом. От испуга я даже пошатнулся. Эмма издали смотрела на меня без тени улыбки или злости; просто невозможно было поверить, что это ее работа!
Чудесные, снежные рождественские праздники кончились. Вид появлявшихся еще кое-где экипажей на колесах казался теперь противоестественным. И Ганзелин при первых же выездах к пациентам сменил свою коляску на сани. Они были совсем маленькие, похожие на раковину; доктор и четыре его дочери едва в них помещались. Девушка кучер теперь уже не сидела на козлах, а примостилась сзади, на высоком, обитом мягкой материей табурете о трех железных ножках. Линия вожжей делила ладью саней на две половины; сидящим приходилось отклоняться в обе стороны, чтобы избежать удара ремнем по щеке. Повозка напоминала лепешку, разрезанную пополам. У лошадки были и бубенчики, позвякивавшие, как на колпаке шута. Девушки на морозе и на ветру пели столь же самозабвенно, как и в прогретый солнцем, напоенный ароматами весенний день. Глядя на них, возвращающихся домой, разрумянившихся, но уже приумолкших, я не раз вспоминал таинственный рог барона Мюнхгаузена. Когда возле теплой печки они раскроют уста, не посыплются ли оттуда все их замерзшие песни?
В первую неделю января по улицам начали разгуливать троицы королей, с перепачканными лицами, с жестяными, пробитыми гвоздем «ларцами», с висящими на груди мисками, в которых дымился древесный уголь.
— «Далека дорога наша…» — передразнивал их Ганзелин, фехтуя трубкой. — Из предместья, из Милетина, не далее, как из Вратни. «Солнце что раскаленные камни…» Ого, Балтазар натер себе лицо бумажкой и цикорием! Ты не поверишь, Эмиль, а ведь и я когда-то разгуливал вот так же по городу в отцовской рубашке поверх штанов и с бумажной короной на голове! — Он, посмеиваясь, выходил на порог и, не будучи любителем подавать милостыню, пошарив в кармане, раздавал монетки.
До Сретения время потекло в беспрерывных метелях и трескучих морозах. А потом внезапно подул влажный ветер, небеса смягчились, смилостивились, снег уплотнился и стал податливым, словно тесто.
— Самое время поставить снеговика, — предложила Гелена. — Эй, девчата, — горланила она, — если разом взяться, в момент будет готов. Давайте слепим Микулаша[15] с длинными усами и в епископской шапке!
Я снял куртку и принялся катать снежный ком. Но когда первый был готов, оказалось, что планы переменились. Эмма вспомнила, что хотела соорудить дом. Начали сооружать дом.
Дом нам удался. Глубокий, темный, своды прочные, как из бетона.
— Долго простоит! — хвалилась Гелена, подпрыгивая на снегу и дыша на озябшие пальцы. Они у ней совсем закоченели. Время от времени я украдкой поглядывал на Дору. На ней был свитер, облегавший ее пышные формы. Лида расчищала лопатой дорожку к нашей пещере, сноровисто разбрасывая снег на обе стороны, трудясь в поте лица — сама добросовестность, даже в игре. Эмма уже юркнула внутрь, посверкивая оттуда глазками, будто лиса из норки.
— Иди и ты к ней, — добродушно посоветовала мне Мария. Я нерешительно поплелся к лазу, встал на четвереньки. Мне почудилось, будто фигурка в темноте отпрянула от меня. Я был обескуражен.
— Зачем ты лезешь? — шепотом спросила она. — Я тебе не нужна, так чего лезть? Лучше оставь меня одну.
Потрясенный, я в страхе оглянулся, не слышит ли Дора. Я стыдился столь фамильярных упреков со стороны взбалмошной девчонки. Однако Дора уже возвращалась домой: красная юбка ее мелькала меж нагих деревьев. Во мне закипела злость.
— Почему бы мне не залезть? Я поработал не меньше, чем ты. Нечего мной командовать.
— А вот буду, а вот буду! — упорствовала она. — Дом мой! Это я придумала слепить его из снега!
— Вы только послушайте! — хохотала снаружи Гелена. — Ну в точности как муж и жена! Минуту пробыли вместе и уже скандалят. Уж вы помиритесь, голубчики, ведь это ваше первое совместное жилье.
Я поспешно вылез наружу, оскорбленный донельзя. Я и эта пигалица — муж и жена! Я с презрением взглянул на Гелену. Вот уж неотесанная!
— Совсем замерз, бедняжка? — приветливо встретила меня Мария. — А знаешь, что? Пойдем-ка лучше в кухню, погреемся.
В кухне она налила мне кофе. Кофе был горячий, я усердно дул на него — очень хотелось пить. Эту красную чашку с белой каемочкой я считал уже почти своей собственной. Дора сидела у печки, словно кошка из волшебной сказки. Лида вязала бесконечно длинный чулок. Гелена затирала мокрые следы на полу. Мы разговаривали, забыв про Эмму в ее домике. Она пришла нескоро. Тихохонько проскользнула в приотворенную дверь; пальчики у нее посинели от холода, губы алели, будто лепестки розы. Она направилась прямо к Доре, погладила ее по щеке, обняла, ласково прижалась к ней. Меня не удостоила ни единым взглядом. Гелена взяла совок, смела в него сор и вышла из кухни.
— Дора! — вдруг с живостью воскликнула Эмма. — Мне пришло в голову, что, если в домике сделать маленькое окошко, вы с Эмилем могли бы там иногда учить французский. Что ты на это скажешь?
Дора засмеялась и вместо ответа поцеловала младшую сестричку прямо в губки. Я ошеломленно смотрел на Эмму. Она только что сказала мне, что я не понимаю женщин. Кажется, — подумал я, — детей я тоже не понимаю.
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
Затяжные, наводящие тоску дожди, снег, мороз и опять снег. Свирепствовали простуды, кашли, гриппы, ангины. У доктора работы было по горло. На лавке в кухне не оставалось свободного местечка. Старики кряхтели, кашляли, устало обводили взглядом потолок, женщины с пожелтевшими лицами пытались унять беспокойных малышей, дети с перевязанными ушами или горлом робко жались друг к другу, стараясь занимать как можно меньше места. Растаявший снег и грязь растекаются лужами по полу, от убогих одежд исходит запах нищеты, пищат младенцы. Все эти лица: молодые и старые, страдальческие и улыбающиеся, уже давным-давно стерлись из моей памяти, но лицо женщины, что пришла на прием к Ганзелину в конце той зимы, я не забуду, пока жив.
Время уже близилось к двенадцати, на дворе бушевал ливень; ураганный ветер сотрясал окна, завывал в трубе. Она вошла с мужем, — маленькая, тщедушная фигурка, голова обмотана шерстяной шалью так, что не видно глаз. Добрела до лавки и без сил опустилась на нее подле раздражительного старика, последнего пациента, еще дожидавшегося своей очереди на прием. Муж ее, исхудавший бедняк лет сорока, с красными напульсниками на потрескавшихся, почерневших от работы руках, одетый в ветхое зимнее пальто, с шарфом на шее, остался стоять у двери, комкая в руках свою промокшую шапку.
Женщина не сняла рукавиц и не освободилась от своего кокона. Она так сильно дрожала, что голова ее по временам судорожно подергивалась. Сидевший рядом дед подозрительно косился на нее и сердито ворчал себе под нос. Гелена, которая в тот день дежурила на кухне, решила, что несчастную треплет лихорадка. Она принесла ей горячего чая в надтреснутой чашке, которую держали для таких случаев на приступочке у печки. Мужчина церемонно поклонился, поблагодарил, а женщина робко потянулась за чашкой, не затем, впрочем, чтобы напиться, а чтобы погреть об нее руки.
— Пейте, пока горячий, от холодного чая никакого проку, — уговаривала ее Гелена. Женщина не ответила, лишь сгорбилась, точно от удара. Муж опустил голову и, как мне показалось, извиняющимся взглядом посмотрел на недовольного деда. Гелена, сгорая от любопытства, засыпала странную пару вопросами. Женщина молчала, а муж стал отвечать — раздумчиво и обстоятельно. Они из Чигаржской Гарты, что у самого сушицкого тракта. Да, жена очень больна, так что дорога заняла у них больше трех часов. Они рады, что удалось застать пана доктора дома. Почему отправились в путь именно сегодня, в такую собачью погоду? Ну для этого были важные причины. Соседи в их деревеньке зловредные, любят посплетничать, — короче говоря, им не хотелось, чтобы это стало известно всем и каждому. Гелена спросила, почему они хотя бы не подрядили какого-нибудь крестьянина подвезти больную? Мужчина кротко улыбнулся. Уж тогда-то секрет их тайных сборов был бы раскрыт, а кроме того, они слишком бедны. Правда, хата у них своя собственная, но кормиться не с чего, только и есть, что клочок земли, коза да кролики. Он вместе с их единственной дочерью зимой рубит лес, а летом нанимается в батраки.
— А почему вы выбрали врача, живущего так далеко? Ведь дом ваш близко от шоссе, до Сушиц можно скорее добраться.
Мужчина лишь пожал плечами и ничего не ответил.
Я сидел в кухне за столом с Марией. Она ловко сматывала шерсть в клубок, я помогал ей, описывая руками с растопыренными пальцами круги, будто наводил чары. Поведение мужчины выглядело весьма загадочным; мне казалось, что от плотно закутанной его жены исходил какой-то странный, неприятный запах. Я крутил носом, проявлял рассеянность и, если бы Марии не нужна была моя помощь, охотнее всего ушел бы домой. Лида рьяно скребла пол на мансарде, откуда доносился плеск воды и постукивание щетки о деревянный настил.
Но вот в сенях послышались голоса и шаги; пациент, осмотр которого слишком затянулся, наконец, вышел. Дора в белом халате открыла дверь и бесстрастным тоном вызвала старика. Едва только дед прошаркал в амбулаторию, женщина распустила платок, размотала шаль и жадно склонилась над чашкой. Какой кошмар, какое ужасное зрелище! Гелена на минуту забыла, что у ней на плите шипит масло, Мария перестала сматывать шерсть, я уронил на колени руки, внезапно ослабшие, как если бы по ним внезапно кто-то сильно ударил. Белая, будто присыпанная мукой, кожа на лице женщины была покрыта заскорузлой сыпью, глаза провалились в кровавые ямы, на носу обнажились хрящи, выпирая из гноящихся отверстий, а беззубый рот, обезображенный струпьями, зиял, точно дырка в натянутом полотне. Тут все мы поняли, почему вначале женщина стеснялась пить — ей было стыдно перед стариком, который выглядел не особо добродушным. Нас она не стеснялась, как не постеснялась бы врача — на ее взгляд, мы принадлежали к членам семьи и, значит, обязаны были вместе с ним разделять все неприятности, сопряженные с его ремеслом.
Мария тихо положила на стол клубок шерсти и неслышно выскользнула за дверь. Спустя короткое время она вернулась — уже с Ганзелином.
Он вбежал багровый, разъяренный; полы его халата реяли позади. Еще с порога в неистовстве крикнул:
— Эта болезнь не из тех, которые я могу лечить! — От возбуждения он часто дышал. — Зря вы проделали такую дальнюю дорогу. Как это вам взбрело в голову? У скольких врачей вы уже побывали? И без толку, конечно. И я тоже ничем не могу вам помочь. Есть болезни, от которых пока нет лекарства. Разве вам никто об этом не говорил?
— Мы… мы… — заикаясь, смиренно отвечал мужчина, — мы пришли не затем, чтобы просить у вас лекарства, потому как… — Он в смущении оглянулся вокруг, потом, ввиду неизбежности, высказал то, что ему трудно было произнести при свидетелях: — Не для выздоровления… Нам бы лучше… лучше хотелось… — Он заговорил громче, страстно: — Пан доктор, прошу вас, выслушайте меня! Это тянется уже очень долго, больше двух лет. И жизнь не в жизнь, и конец никак не приходит… Соседи меня сторонятся, женою моей брезгуют, все нас чураются, даже нищий, и тот не постучит, куска хлеба не примет. А она, жена-то, помереть хочет. Чего только не испробовала, все зря, никакая хворь к ней не пристает. Босая ходила по снегу, — не простыла, хотела себя голодом уморить — не стерпела, опять есть начала, падала с изгороди — даже ногу не сломала. Мы обговорили все давно, она на все согласна, жить она не хочет, но и не хочется ей так покинуть свет, чтобы люди считали ее самоубийцей. Вы, верно, знаете, что тот дом, где кто-нибудь сам лишил себя жизни, в деревне все обходят, как проклятый. А у нас дочка — невеста; нашелся у нее, наконец, дружок, добрый работник, да боимся, ничего из этого не выйдет, пока вот она жива. Коли б ее не стало, может, все и забылось бы. А она хочет своей смертью помереть, как другие люди, от какой-нибудь болезни. Потому мы к вам и пришли… набрались духу… Наслышаны про вас… понадеялись…
Мы видели, да, воочию видели, как жена усердно кивала в подтверждение мужниных слов, давая понять, что готова на заклание, готова освободить свое место на земле. Меня охватил ужас, на лбу выступил холодный пот, сердце так бешено колотилось, что я непроизвольно прижал руки к груди.
— Надеялись, — произнес Ганзелин с горечью, но уже без гнева, — что я лишен предрассудков и что в крайних случаях, за плату или даром, меня можно склонить к преднамеренному убийству. Решили, что я изверг рода человеческого и с моей помощью нетрудно обделать даже противозаконное дело. К сожалению, други мои, ошиблись вы, я всего лишь обыкновенный врач, у меня лекарства только для больных. Они, правда, не очень-то помогают, но и средств для умирания я не продаю. Да таких и не существует, уверяю вас, — уже спокойнее добавил он. — Я не способен вызвать воспаление легких или рак. — Потом Ганзелин снова помрачнел. Обратившись к женщине, он спросил: — Скажите, как вы до этого дошли?
Она глядела на него своими страшными кровавыми глазами, однако снова вместо нее стал отвечать муж. Лет двадцать назад, — с сокрушенным видом рассказывал он, — в их краю проводили дорогу. Он тогда был еще молодым мужем, а она красивой молодой женой. У них был ребенок, маленькая девочка. Однако жена любила бывать на людях, плакалась на постоянную нужду и каторжную работу. А на строительстве был один мастер, молодой, веселый, гуляка и бабник. Он приглянулся жене.
— Я ничего не знал, ни о чем не догадывался. В один прекрасный день они сбежали. Двенадцать лет про нее ничего не было слышно. Потом знакомый парень из нашей деревни, он учился в Праге, рассказал мне, что видел ее в таком месте… сами понимаете. А в прошлом году вернулась. Да, пан доктор, вот какой она ко мне вернулась.
Ганзелин, заложив руки за спину, расхаживал по прихожей. Вдруг резко остановился:
— Теперь идите домой. Идите домой. Весьма сожалею, — сказал он с каменным лицом, — весьма сожалею, но ничего не могу для вас сделать.
Женщина, пошатнувшись, встала, послушно, как бы машинально, повязала голову шерстяной шалью, закутала лицо платком. Когда они уже выходили, доктор придержал мужчину за лацкан пальто. Я отчетливо слышал, что он ему сказал.
— Потерпите еще немного, потерпите. Это протянется уже недолго. Может, она и до жатвы не доживет.
Ворота хлопнули, загудел в сенях ветер. Ганзелин прошел к себе в приемную. Мария с предосторожностью завернула чашку, из которой пила женщина, в бумагу и вынесла на улицу. Послышался стук, звон осколков. Меня затопила волна жалости — не к женщине, которая вызывала отвращение, не к ее мужу, чья просьба возмутила меня, а к чашке, бедной, старой чашке, имевшей право еще немного пожить…
Через некоторое время доктор проводил своего последнего пациента, сердитого деда, и вышел к нам. Заложив руки за спину, он опять принялся расхаживать взад и вперед.
— Так, так… — бормотал он себе в усы, — вот, значит, когда обо мне вспомнили. Сколько работаю, это первый случай. Знаю, сам не раз слышал, как люди стонут: «Уж лучше бы мне умереть!» Но столь спокойно и твердо прийти и попросить немного яду, — и с такой детской доверчивостью, которую я не мог оправдать! А ведь у них был резон, черт его побери! Идиотский, безумный, безумный мир, где нужда убивает бедняков, которые хотели бы жить, где чахотка губит молодых людей, из которых могли бы выйти отличные врачи, поэты, изобретатели, спасители рода людского и где, с другой стороны, запрещается помочь принять желанную и заслуженную смерть человеческой развалине, ненужной ни людям, ни своей семье, ни себе самой. А я их взял и выгнал. Да, выгнал, отказав в помощи, хотя сердце мое бунтовало, шепнул на прощанье маленькую утешительную ложь…
Вошедшая Дора с изумлением смотрела на жестикулирующего отца, на молчащих сестер, на меня.
Тут его снова прорвало:
— Дора! Сейчас тут произошло кое-что поучительное, прямо для тебя. Страшно жаль, что ты не присутствовала. Тебе следовало бы увидеть ее лицо. Вот оборотная сторона приключений — пойми наконец ты, вечно всем недовольная, денно и нощно мечтающая о каких-то неземных радостях, о некоей более полнокровной жизни. Та, что приходила сюда, тоже маялась подобной дурью; в конце концов сбежала с распутным мужиком, а тот мир, о котором она грезила, обошелся с ней круто. Ха-ха-ха, — захохотал Ганзелин, — хорошо же он ее отметил, хорошо припечатал!
Дора вспыхнула, строптиво выставив подбородок. В семье Ганзелина редко кто решался открыто возражать отцу, но на сей раз она решилась.
— Это еще не доказательство, я не нахожу в этом никакой связи. Мир не потому отвратителен, что кто-то вернулся развалиной. Ведь когда погибает придавленный деревом дровосек, блюстители нравов не говорят, что смерть — это награда за любую почетную работу!
— Замолчи! — вскричал доктор. — Замолчи! Ты приводишь сравнения, от которых меня тошнит! Сравниваешь несопоставимые вещи. Самое скверное, что отличает тебя и тебе подобных — это как раз неумение их правильно сортировать. И ценное, и пустячное — все валите в одну кучу. Как же тут разглядеть то единственное, чем стоит дорожить? Дурочка, разве не понятно тебе, что твоя жизнь будет иметь цену лишь в том случае, если ты сама будешь иметь право уважать себя за свои поступки. Ибо никто другой достоинства тебе не прибавит.
Разговор продолжался, но я, признаюсь, уже не очень к нему прислушивался. Так, вполуха. Думал об ином. О прокаженной. Я был убежден, что женщина, недавно сидевшая за столом для пациентов, больна проказой. Именно так я и представлял себе проказу. Мне рисовался Иисус Христос, который возлагает руку на голову несчастного, пораженного той же болезнью, и вот — язвы его затянулись, кожа сделалась молодой, глаза обрели блеск. Видимо, впервые осознал я красоту чуда. Вершить чудеса! Это же во много раз лучше, чем врачевать. И не права ли моя набожная мать более, чем старый Ганзелин, видя свое счастье в вере, которая сдвигает горы, воскрешает мертвых и возвращает болящим здоровье простым мановением руки?
ПАСХАЛЬНЫЙ ГОСТИНЕЦ
По луговым тропкам с журчанием бежали ручейки, по обочинам дорог сверкали созвездия одуванчиков, поля превратились в одно большое болото. Эмма приносила домой целые охапки подснежников и калужниц. Во всех банках, во всех горшках с отбитыми ручками стояли цветы. От них исходил кладбищенский запах увядания. Коляска доктора снова катила по шоссе, щедро расшвыривая комья грязи, как мот свое достояние. Кичливая цветная штукатурка домов на городской площади отсырела и покрылась похожими на лишаи влажными пятнами. Мальчишки на деревенской площади с диким азартом играли в мяч, от избытка жизненных сил устраивали драки, обжуливали друг друга, швырялись камнями.
В светлое воскресенье из Милетина к Безовке потянулась, гомоня, процессия детей, несших на жерди тряпичную куклу. Они утопили ее, сердешную, в Безовке, в глубокой заводи под вербами. Я стоял там под вечер в сапогах, облепленных грязью, и смотрел, как она беспомощно кружит, уносимая течением, среди осыпавшихся вербных «сережек» и листьев, разбухшая, со смытым водой лицом. Тут я задумался, стоит или не стоит идти на пасху колядовать к Ганзелиновым, прихватив с собой пасхальный гостинец. Гелена мигом разрешила мои сомнения.
— Одним словом, ты должен быть у нас, понял? Попробуй не явись, так я тебя за волосы оттаскаю. А может, ты просто скупердяй, надумал увильнуть от покупки для каждой из нас по кульку конфет на милетинской ярмарке?
Рудольф Циза сплел мне из ивовых прутьев бич[16]. Он был не слишком красивый и больше походил на неудавшуюся рождественскую плетеную булочку, но имел то преимущество, что был короткий и удобно умещался под пальто. Я не придумал ничего умнее, как спрятать его от матери под грудой своих книг, и всякий раз после уроков с замиранием сердца ждал, что его обнаружила либо она, либо вздорная и ненадежная Бетка.
В пасхальный понедельник, когда мать ушла в костел, я выскользнул из дома и помчался на деревенскую площадь.
Доктор стоял на пороге и лукаво посмеивался. Я не отважился показать ему свой пасхальный бич.
— И не жди, что получишь хоть одно яичко, если не нахлещешь нас! — еще издали крикнула мне Гелена. Я покраснел как индюк.
— Ну, давай, хвастайся, — снисходительно советовал мне Ганзелин, — впрочем, я знаю, где он у тебя спрятан. Хитрец! Уже с таких лет стесняешься делать то, что хочется. Боишься, люди засмеют? Не учись притворяться. По мне, так можешь поддать им, как они того заслуживают. Давай хлещи, раз они сами напрашиваются. Но меня, пожалуйста, уволь, меня блохи не кусают — кровь ядовитая!
Ганзелин ошибался, мне просто не хотелось играть роль колядующего; меня, как было сказано, к тому принудили.
Раскинув руки, я двинулся к Гелене, как бы выходя один на один с медведем. Она жалобно вскрикнула, прежде чем я успел ее ударить. Из своих бездонных карманов вытащила два яйца: одно темно-коричневое, выкрашенное кофейной жижей, другое желтое, варенное в луковой шелухе. То был достойный подарок сыну уездного гейтмана, два яйца цветов австрийского государственного флага! От Марии я получил плитку шоколада, а от Лиды яблоко, — великолепное, краснобокое, долго бережно хранимое, истинное чудо в это время года.
— Ева дала Адаму яблоко, и он его съел, — не умолкала Гелена. Она резвилась, как дикая лошадь, несла, что взбредет в голову. Видно, на нее подействовала весна. Лида не ответила ей даже взглядом, отошла к окну. Она стояла против света; тонкую ее фигурку в меховой безрукавке окружал сверкающий ореол лучей. Вероятно, именно поэтому мне так хорошо запомнилось, что в тот день ярко сияло солнце.
Я отправился в приемную, к Доре. Она была одна, в своем привычном белом халате и красной косынке. Вытирала пыль. Когда я несмело ступил на порог с бичом в руке, она вопросительно взглянула на меня. Потом поняла. Губы ее скривились в презрительной улыбке.
— Уж не собираешься ли ты стегнуть меня своей дурацкой плеткой?
Она была явно не в духе. Я смутился.
— Я не пришел бы, барышня Дора, да барышня Гелена захотела… — Лидино яблоко и Геленины яйца оттопыривали мой карман.
— Ну, я вижу, с пустыми руками ты не уйдешь. Дитя уже получило гостинцы. Увы, от меня тебе ничего не перепадет. Можешь меня хлестнуть, если это доставит тебе удовольствие.
Ясно, что я не стал этого делать. Выполз из приемной, как полураздавленный жук. Никогда бы не поверил, что почувствую себя таким несчастным оттого лишь, что не получу от Доры пасхального яичка. Самый пустячный подарок от нее я принял бы как величайшую, ни с чем не сравнимую ценность!
Я нерешительно топтался между амбулаторией и кухней, не зная, удобно ли скрыться потихоньку со своей ненужной добычей. В полумраке сеней заметил блеск двух незабудковых глаз. Эмма сидела на лестнице и пристально за мной наблюдала. Я шагнул к выходу.
— Эмиль! — долетел до меня тихий, ласковый шепот.
Ну, конечно, она выражала мне сочувствие. Сейчас я так в нем нуждался! Без сомнения, она обо всем знала. Слышала, как не повезло мне в амбулатории. Видно, следила. Мое неодобрительное мнение о ней еще более укрепилось, но я заставил себя вернуться.
— Эмиль, а от меня ты не хочешь получить крашеное яичко?
Я опустил голову. Не знал, что об этом думать. Эмма вскочила, взяла меня за руку и повлекла за собой вверх по лестнице. Распахнула передо мной дверь в комнату Ганзелина; там, нагнувшись, вытащила из-под кровати растрепанную картонную коробку. Изделие, которое она протянула мне, было довольно точной копией живого цыпленка. У него были тонкие проволочные ножки, обмотанные красной бумагой, раскрытый бумажный клювик и перья из лепестков калужницы, с большим тщанием наклеенные плотными рядами.
— Это не для еды, — торопливо объяснила она, — яичко-то сырое, я не хотела варить его на глазах у сестер. Если можно, то, пожалуйста, не показывай его никому.
Я промямлил слова благодарности, смущенно переминаясь с ноги на ногу.
Она надменно улыбнулась:
— Неужто ты так расчувствовался, что не можешь произнести путного слова? Или он тебе не нравится? Мне будет очень обидно, Эмиль, если он тебе не понравится!
Я посмотрел ей в глаза — нет, она и не думала шутить. Дурацкое положение! Мне ничего не оставалось, как тоже улыбнуться в ответ. Задумчиво, словно стремясь удержать мою улыбку, не дать ей растаять, она очертила ее кончиком тоненького пальчика.
На площади, отойдя подальше, я с ожесточением шваркнул Эмминого цыпленка о каменную тумбу. Не знаю, что толкнуло меня на этот непоправимый поступок. Гнетущая тоска после Дориной отповеди? Оскорбленное чувство? Проволочный каркас с ножками лежал передо мной, как безголовый трупик. Разбитое яйцо походило на мертвого птенца, из которого сочилась густая, желтая кровь. Сиротливо кружились на ветру лепестки калужницы. Сердце мое пронзила такая острая боль, что из глаз хлынули слезы. Я бросился домой. Заперся в своей комнате. Горячо молил бога, чтобы он ниспослал мне утешение.
После пасхи зарядили затяжные дожди. Мне казалось, что небеса разгневались на меня не на шутку. Иначе к чему бы облакам так угрожающе низко стлаться над землей и зловеще заглядывать в мои окна? Зачем бы навзрыд плакать ветру? Нескончаемый дождь уныло барабанил в окна. Склонившись над своими учебниками, я исподлобья взглядывал на небо, полный страха, что оттуда внезапно вынырнет роковой, всевидящий солнечный лучик и изобличит меня, затаившегося грешника. Встреч с Эммой я избегал еще старательнее, чем прежде. Думал, что ей наверняка известно, как я обошелся с ее цыпленком, и боялся вопроса, зачем я это сделал. Дора опять была само спокойствие и прилежание. Она и не догадывалась, что огорчила меня. Боже, как возможно было не догадаться?
В те холодные дни вдруг разразилась необычно ранняя весенняя гроза. Я сидел у Ганзелиновых, держась за стол, чтоб прибавилось сил. Вот бы и впрямь сделаться силачом!
Уж тогда-то, казалось мне, я выглядел бы в глазах Доры настоящим мужчиной.
— Зато после грозы, — с просветленным лицом пообещала нам Мария, — наступит расчудесная погода!
Она ошиблась. Дождь зарядил пуще прежнего, и еще больше похолодало.
Однажды, идя с урока от старого Фрица, я увидел въезжавшую через городские ворота странную повозку. Это был серый фургон на колесах; впереди на козлах сидел худой мужчина в потрепанном пальто с поднятым воротником, а подле него — маленькая, почти игрушечная женщина, зябко кутавшаяся в шаль. В одной руке мужчина держал кнут, жалостливо свисающий до земли, в другой — устало опущенные вожжи. Над козлами торчал жестяной козырек, который, по-видимому, весьма слабо предохранял от дождя, ибо незнакомая пара промокла до нитки. Кляча, что везла необычный экипаж, была ужасно лохматая и походила скорое на здоровенную кошку, чем на взаправдашнюю лошадь. Ее хребет был покрыт красным чепраком, обрамленным бубенчиками. Они тоненько позвякивали. Что скрывалось внутри сей колымаги? Два окошечка по обеим сторонам со спущенными жалюзи создавала впечатление таинственности. Однако сзади можно было прочесть надпись, выведенную небесно-голубыми крупными буквами: «Адальберт Бальда, салонный фокусник».
На следующий день в городке появились афиши.
САЛОННЫЙ ФОКУСНИК
В гостинице «У солнца», что стояла на главной городской площади, был танцевальный зал, не имевший, однако, сцены. Здесь местная аристократия устраивала все свои балы, тогда как более заурядная публика, вроде ремесленников и общества пожарников, находила пристанище для увеселений в трактире «У долины», располагавшемся за площадью внизу, неподалеку от школы.
В трактире был просторный зал со сценой, на которой староградский любительский кружок давал в зимний сезон два, от силы три представления, единственно с целью показать, что он еще существует — представления скучные, перемежавшиеся бесконечными антрактами; посещение их являлось для культурных слоев горожан тяжкой общественной повинностью. На занавесе неумелой кистью был изображен силуэт Старых Градов в закатных лучах солнца, которое разительно напоминало морковку, и заходило совсем не в той стороне, где ему полагалось. Особой пышностью зал не отличался; дощатый пол, почерневший от застарелой грязи, стены, побеленные известкой, низкий потолок, черный по углам от копоти керосиновых ламп, похожих на уличные фонари. Над задними рядами нависала деревянная, с зелеными облупленными перилами галерея, куда вела скрипучая и крутая, точно стремянка, лестница.
При трактире «У долины» имелись также и номера, но снимали их только редкие коммивояжеры или те кочующие труппы, которым нужно было на определенный срок арендовать зал. Останавливались здесь танцовщики, живали кукольники, иногда — бродячие актеры (эти в Старых Градах обыкновенно зарабатывали жалкие гроши). Здесь же поселился и салонный фокусник Адальберт Бальда со своей женой. В конюшне стояла, склонив голову над яслями, его лошадь, а его чудной ковчег отдыхал в дровяном сарае, ибо трактир «У долины» был также и постоялым двором.
Афиши фокусника были великолепны и необычайно притягательны. Демонического вида мужчина во фраке и в белых перчатках взмахивал волшебной палочкой над цилиндром, из которого взвивалось адское желтое пламя, а поодаль два господина, тоже во фраках, распиливали пополам спящую даму в белом одеянии. Из верхнего угла на все эти ужасы мрачно смотрела мертвая голова, в жуткой ухмылке отверзавшая свой беззубый рот. Как-то раз я стоял, засунув руки в карманы, на углу Пивоварской улицы и, затаив дыхание, разглядывал одну из этих замечательных афиш. Потребовалось довольно много времени, чтобы моя фантазия вполне насытилась. Уже собравшись уходить, я заметил, что за моей спиной стоит, с усмешкой глядя на меня, Эмма Ганзелинова.
— Ты пойдешь? — бросил я ей через плечо, больше, пожалуй, из вежливости, чем из подлинного интереса.
— Да нет, — с недовольной гримасой ответила она, — мне вовсе не хочется.
Я, конечно, очень удивился.
— Почему же? По-моему, это страшно интересно. Ты только прочитай повнимательнее, какая программа: чудо-шапка, фехтование и карты, горящее золото, чтение мыслей…
Она посмотрела на меня холодно и с нескрываемым высокомерием.
— Это же сплошное надувательство. Надувательство меня нисколечко не занимает.
Мы разошлись. Вечером я на минутку заскочил к Ганзелиновым. Едва я переступил порог, как Мария, с сияющим от радости лицом, воскликнула:
— Ну как, у тебя тоже есть билет на завтрашнее представление?
Я с гордостью подтвердил, добавив, что вместе со мной пойдет отец, который очень любит такого рода развлечения.
— Вот видишь! — весело продолжала Мария. — Наш папа хоть и не любит фокусников, однако тоже идет с нами. Заметь, мы идем все, кроме бедняжки Гелены, которой выпало дежурить по кухне и стеречь дом. Это Эмма упросила его; уж ей-то он не может ни к чем отказать!
Я изумленно посмотрел на Эмму. Она что-то шила у окна торопливыми, широкими стежками и даже бровью не повела, словно все это разумелось само собой. Вероятно, этим утром она просто дурачила меня, мог бы и догадаться. Ну подожди, я тебе это припомню! Дора гладила на столе блузку и что-то вполголоса напевала с загадочным, как мне показалось, видом. Губы ее морщила озорная улыбка.
Когда я уже собрался уходить, Эмма отложила шитье и выбежала в сени, метнув на меня быстрый, многозначительный взгляд; я предположил, что она хочет поговорить со мной без свидетелей. И не ошибся — она действительно ждала меня в сенях.
— Мне не хотелось бы, — тихо, чтоб никто не услышал, прошептала она, — чтобы ты подумал обо мне худое. Я не врала тебе, меня и вправду не интересуют эти фокусы-покусы. А вот Дора очень рвалась посмотреть. Она от разных таких глупостей сама не своя. Все жалуется, что жизнь уходит, а она так никуда и не успеет до захода солнца. Вот я и пообещала ей, что упрошу папу, ты понял? — Она глядела мне прямо в глаза. — Только никому об этом не рассказывай. Это касается только меня и Доры, а теперь также тебя и меня. Обещаешь?
Вот как случилось, что в зале трактира «У долины», прямо в первом ряду, единственном, который был составлен из стульев (остальные места — обычные скамейки, а последние ряды и вовсе просто доски, положенные на строительные козлы), за несколько минут до начала того памятного представления уселся доктор Ганзелин со своими четырьмя дочерьми.
Доктор, как мы знаем, при определенных обстоятельствах, мог быть весьма даже расточительным. Он закупил самые дорогие места в середине, непосредственно возле богатого кондитера Прокопа и члена городской управы булочника Кминека, который сидел со своим конопатым Фердой и мучнисто-белой женой, тогда как мы с отцом приткнулись на самом краю первого ряда. Мне приходилось наклоняться вперед, чтобы видеть Дору, которая ради торжественного случая надела свой лучший наряд — светло-голубое, небесного цвета платье, очень длинное, вышедшее из моды и совсем не подходящее к ее ярко румяному лицу и черным кудрям. Бедняжка, она отнюдь не блистала в нем, сидя на видном месте, перед лицом многих, гораздо лучше ее одетых дам и барышень. Сознавала ли она, что о ней судачат, что дамы наклоняются друг к другу и перешептываются, а губы их кривятся в язвительных усмешках? О, наверняка сознавала, — не глухая же — потому и сжимала судорожно руку Марии, потому и сидела не шелохнувшись, глядя прямо перед собой, ибо попросту боялась оглянуться.
Ганзелин сидел, развалясь, вытянув свои короткие ноги чуть не до самой сцены, опершись подбородком на свою палку и словно бы дремал, полузакрыв глаза. Он, видно, очень дорожил этой своей уродливой палкой, раз отказался доверить ее вдове Гонцовой, трактирной посудомойке, которая на этот вечер превратилась в гардеробщицу, — разумеется, только для тех господ, которые знают, как и где надлежит себя вести. Остальная публика, всякая мелкая сошка, держала свои пальто и шарфы на коленях, а некоторые даже подложили их под себя, устроив таким образом мягкие сиденья, что вдобавок давало возможность лучше видеть сцену. С правой стороны к Ганзелину прижалась изящная восковая статуэтка — Эмма, а подле Эммы, точно позабытая метла, маячила Лида. Смех да и только! Своим убогим видом эта фигура шокировала возбужденную публику, аскетический ее облик не вязался с атмосферой нетерпеливого ожидания, шумом, покашливанием, шарканьем, возгласами и взвизгиваниями неугомонных сорванцов на галерее.
Полицейский, стоявший у входа в зал и представлявший здесь вооруженные силы, мужчина с иксообразными ногами и огромными мушкетерскими усами, озабоченно поглядывал на вверенные его попечению керосиновые лампы. Фитили в них мигали, смрадно чадили, потрескивали. Может, для готовящегося зрелища и требовался именно такой мутный свет да немножко чада, от которого щипало глаза? Зрители тем самым оказывались в обстановке, близкой их представлениям о преисподней и загробном мире, а ведь от этих двух понятий и пошла, собственно, слава всех наших магов и волшебников.
Забавный, милый занавес с силуэтом Старых Градов сегодня вообще не был опущен. Посреди сцены, изображающей излюбленную розовую рыцарскую комнату, полную доспехов и оружия (последнее было, разумеется, нарисовано на кулисах), стоял невзрачный, желтый, ничем не накрытый столик, а на нем вместительный, тщательно запертый, необычайно таинственного вида саквояж из телячьей кожи. С этого саквояжа не спускали глаз все мальчишки, не умевшие скрыть своего нетерпения, в особенности те, что висели под самым потолком на галерее, голодранцы, пожертвовавшие жалкие медяки в надежде на то, что с высоты птичьего насеста им удастся раскрыть секреты фокусника. Как они пыжились, глупцы! Они полагали, будто кудесник начнет показывать свои фокусы за столом, укрывшись от глаз зрителей, сидящих внизу, но зато будет великолепно виден с галереи!
Наконец раздался удар гонга. Был ли или на самом деле гонг либо всего лишь старая жестяная миска и колотушка, обмотанная тряпьем? Так или иначе удар гонга произвел надлежащий эффект. Публика в Старых Градах была привычна лишь к рождественскому звоночку любительского кружка. Удары гонга, усиленные эхом, звучали зловеще, таинственно, грозно.
Разговоры разом утихли, шарканье прекратилось, мальчишки на галерее перестали болтать. Еще один мелодичный, рыдающий звук — и на сцену пружинистой походкой вышел стройный, смуглый как цыган мужчина, с иссиня-черной волнистой шевелюрой, крупным носом, лохматыми бровями и пронзительным взглядом. На нем был безупречный фрак, увенчанный белоснежным воротничком с маленькой черной бабочкой. Невозможно было поверить, что это тот самый человек, который позавчера сидел на козлах своей повозки в латаном промокшем пальто и меланхолически посасывал смятую сигарету!
У него были белые гибкие руки, а первые его шаги по сцене напоминали фигуры какого-то грозного экзотического танца. Он придерживал пальцами волшебную палочку, с вырезанными по ней спиральными линиями, так что казалось, будто ее обвивают тоненькие змейки. А поскольку иллюзионист ни на минуту не оставлял в покое свой чародейский инструмент, то змейки, словно их была тьма-тьмущая, без устали ползли по палочке все выше и выше, незримо исчезая в полумраке над густой шевелюрой мастера.
БЕЛЫЕ ГОЛУБИ
Саквояж, доступный для всеобщего обозрения, был пуст, в рукавах тоже ничего не скрывалось — фокусник намеренно вздернул их до локтей, а желающие могли даже похлопать его по карманам! С этой целью он и спустился в зрительный зал, добравшись до самых последних рядов, чтобы сидевшие там не могли заявить, будто их каким-то образом провели. А немного погодя он начал странно и невероятно смешно кудахтать, и тотчас из его рук посыпались в саквояж яйца — сперва маленькие, потом крупнее, потом совсем огромные, яйца лебедей, страусов и еще бог весть чьи. Публика была в восторге, публика смеялась — своим первым номером фокусник снискал ее симпатии.
Разумеется, все это были пустячки, так, шуточное вступление. На смену забавному неизбежно должно было явиться таинственное. Иллюзионист вынул из кармана колоду карт, обыкновенных игральных карт — и вот в его руках они стали разрастаться до невероятных размеров; он погладил их — они уменьшились вчетверо, сделались такими крошечными, что полностью уместились на его ладони. А затем, превратись снова в обыкновенные игральные карты, вырвались из его рук великолепной, плотной струей и ссыпались на стол в виде аккуратной колоды. Так были представлены карты — только представлены, не более того.
Потом иллюзионист, держа в руке веер из карт, обратился к сидящим в первом ряду, — а как еще можно было смягчить их досаду на то, что задние ряды пользуются у него постоянным преимуществом? — и предложил:
— Прошу вытянуть любую карту и хорошенько ее запомнить!
Вытянутую карту разрешалось самим воткнуть обратно в колоду, которую непрерывно тасовали и перемешивали творящие чудеса руки.
Первым вытащил карту булочник Кминек и с достоинством вложил ее обратно; за ним и мой отец, усмехаясь, выбрал свою карту, после него судья Пишкот, тот, что так необыкновенно был похож на Бисмарка, далее доктор Ганзелин и последней — Дора, Губы ее, еще подавно горько поджатые, теперь восхищенно улыбались, точно она опускала руку в воду золотоносного ручья, откуда можно добыть прекраснейшую в мире драгоценность. Иллюзионист устремил на нее из-под черных ресниц завораживающий взгляд, ядовитым жалом вонзившийся в мое сердце, так что я даже наклонился вперед вместе со своим стулом. Каждая из пяти карт прочно запечатлелась в памяти каждого из пяти человек; иллюзионист, хищным прыжком выскочив за кулисы, вернулся с обнаженной шпагой, взмахнул ею над головой, клинок ее сверкнул, точно голубая молния. Затем он подбросил карты вверх, сделал выпад — послышались испуганные возгласы — и вот уже все пять карт: пекаря, отца, судьи, Ганзелина и Доры, пронзенные насквозь точно посредине, трепещут на кончике шпаги.
Теперь во всем зале не оставалось человека, который сохранял бы подозрительность и скептическое намерение раскрыть фокус; всяк выражал свой восторг и жаждал лишь одного; пережить еще более острое, щекочущее нервы ощущение.
На сцену был приглашен конопатый сынок булочника. Фокусник ловким взмахом руки прикрепил к его спине восемь карт одинаковой масти. Паренек в этом положении стоял на сцене, а фокусник спустился в зал. Теперь в игре снова могли участвовать зрители из последних рядов и мальчишки на галерее. Фокусник просил то одного, то другого назвать любую из восьми карт, прикрепленных к спине булочникова сына. «Валет!» — Гоп! Едва слово прозвучало, как среди всех карт подпрыгнул валет. «Семерка! Туз! Король!» Карты подпрыгивали, смеху не было конца. Еще бы не смеяться, когда юный Кминек, не понимая, в чем дело, удивленно оглядывался, жалобно тараща свои телячьи глазки.
Этот трюк занял немного времени. Сынок булочника важно уселся рядом со своим отцом, и вот уже вдова Гатлова костлявой рукой выбирает карту, но когда фокусник просит возвратить ее, оказывается, что карта исчезла! Вдова растерянно озирается по сторонам, чьи-то услужливые руки чиркают спичками вокруг ее подола, так что полицейский у входа обеспокоенно хмурится.
— Ну, это не беда, — добродушно успокоил вдову фокусник. Он вытащил из кармана пистолет — бах! — и пропавшая карта, словно в насмешку, как ни в чем не бывало, целая и невредимая, висит на задней кулисе.
После выстрела наиболее чувствительные из зрителей долго еще сидели, заткнув себе пальцами уши.
Несколько разноцветных платочков кудесник затолкал в обыкновенную железную трубу, — до того ее передавали из рук в руки, и она путешествовала по залу. И тут вдруг — невероятная вещь! — племянница церковного сторожа вместо платочков вытащила из трубы чудесный пестрый летний зонтик. Снова был приглашен на сцену сын булочника, только что отличившийся во время трюка с картами. Фокусник нарочито замедленным жестом вынул из кармана золотую монету (настоящую золотую монету!) и торжественно пообещал, что юноша получит ее, если в точение трех минут удержит в руках маленькую свинцовую пулю. Пишкот-Бисмарк с достоинством поднялся со своего места и встал под одной из ламп с часами в руке, назвавшись судьей в этом любопытном состязании. Парень, не спуская жадного взгляда с золотой монеты, лежавшей на столе, сжал в руке пулю. Судья кивнул, фокусник помахал палочкой, и молодой Кминек вдруг начал выделывать на сцене странные телодвижения: он перебрасывал пулю с руки на руку, плевал на нее, отчаянно подпрыгивал, гримасничал, но уже задолго до того, как неумолимая стрелка трижды обежала маленький циферблат на часах Пишкота, пуля выпала у него из рук и закатилась под мою лавку. Я нагнулся за ней — она жглась как тысяча чертей.
Одно чудо следовало за другим. Вот золотые монеты падают из рук фокусника в блюдо, их уже много, блюдо переполнено, еще миг — и они посыплются через край, — но тут опять гремит выстрел, над блюдом высоко взвиваются языки голубого пламени, и от золота остается лишь пепел и запах сожженной бумаги. Двое мужчин из публики вцепились в палочку фокусника и крепко держат ее за оба конца, на палочке — печатный перстень кондитера. Но вот платок, прикрывавшая перстень, — сдернут, перстня словно не бывало, вместо него, к вящей потехе публики, на палочке покачивается круг колбасы. А перстень кондитера нашла у себя на коленях радостно изумленная аптекарева Иржинка. Эта чрезвычайно пикантная шутка еще более всех развеселила, поскольку всем было известно, что бравый Прокоп вот уже года три как находит удовольствие прогуливаться под аркадами возле окоп аптеки.
Чудо из Каны Галилейской было повторено здесь наглядно, и, можно сказать, еще более впечатляющим образом, чем это описано в Библии. Четыре стакана с водой последовательно превратились в стаканы с вином: белым, красным и шипучим, а в четвертом из воды даже сделался коньяк, в чем господин советник Соучек убедился сам и подтвердил перед всей публикой, усердно кивая своей лысой головой. Впрочем, строгий господин советник то ли действительно не разобрался, то ли был подкуплен фокусником? Когда его стакан передали на проверку булочнику, в нем опять оказалась вода, да при том еще тепловатая и отвратительная на вкус. Кминек, смешно оттопырив губы, выпустил ее фонтаном.
— А теперь, достопочтенная публика, — торжественно возгласил фокусник, — мы приступим к последнему номеру перед антрактом. Но в нем непременно должна участвовать одна из прекрасных дам.
Несколько наивных женщин, видимо, плохо расслышав сказанное, горячо изъявили свое согласие, но кудесник уже наметил себе избранницу — Дору Ганзелинову. Он подошел к ней своей крадущейся походкой и с самой обворожительной улыбкой попросил у Ганзелина позволения. Раскрасневшаяся Дора неуверенно поднялась по ступенькам на сцену, осторожно придерживая кончиками пальцев подол своего длинного платья.
Тут-то наконец был отрыт таинственный желтый саквояж из телячьей кожи. Фокусник вытащил оттуда низкий складной стульчик (и как только он там помещался!), предложил его Доре, она опустилась на него, так что пышное платье легло вокруг наподобие светло-голубого колокола. Она рассеянно смотрела на публику, а я глядел на нее во все глаза, терзаемый жестокой ревностью. Дора, судя по всему, не замечала моего благоговейного взора. Фокусник обратил открытый саквояж к зрителям, постучал по нему своей палкой — саквояж был пуст. Пуст? Кто смеет утверждать? Не успел я опомниться, как фокусник уже принялся в нем что-то искать, и надо же! Из саквояжа было извлечено блюдо с нарезанной колбасой — скромное угощение для такого дорогого гостя на сцене. Впрочем, вы правы, правы, — такой красавице подносить колбасу? Но уместнее ли цветы? И вот из саквояжа появился букет бумажных цветов (на первый взгляд розы казались совершенно живыми). Там хватило еще места для целого подноса экзотических фруктов (фрукты были из папье-маше, как и колбаса); там же оказались и те волшебные яйца, а кроме них — пасхальные яички всех цветов; там обнаружились еще прелестный будильничек, который тотчас прозвенел серебряным голосочком, коробка конфет и две бутылки вина, а сверх того — две стеклянные вазы. Фокусник поставил их по обеим сторонам возле Доры, махнул палочкой, и в них развернулись веера из павлиньих перьев. Теперь, запустив руки в саквояж, он принялся проворно извлекать оттуда металлические стрелы и по невидимому кругу ловко метать их к Дориным ногам. Каждая стрела вонзалась в пол, и на месте каждой возникал пук цветов. Дора сидела, утопая в цветах, подобно принцессе из волшебной сказки.
— Любезная барышня, — подольщался к ней фокусник, — все это дары вам, все эти цветы, поверьте, сорваны для вас; таких вы никогда не получите от самого своего страстного поклонника. (Учитель Пирко высунулся из третьего ряда, скривил свои похожие на ивовые листья губы и со значением улыбнулся.) — Но мне кажется, что прием не будет вполне удовлетворительным, если я не предложу вам теперь горячего блюда. Посему я решил угостить вас голубятиной. Непременно соглашайтесь и не думайте, что приготовление жаркого займет много времени. Извольте лишь немного обождать!
Он вытащил из саквояжа последние предметы — серебряным блеском сверкнувшую кастрюлю и железный треножник, поставил на него свою чудо-печку, поколдовал над ней палочкой, поднял крышку, и из кастрюли вылетели две пары белых птиц, две пары маленьких белоснежных голубей. Прежде чем Дора пришла в себя, на каждом плече у нее сидело по голубю, и еще два голубя на ее круглых коленях.
Это было диво! Это было волшебство! Голуби ворковали, вертели изящными головками, их розовые лапки приминали небесно-голубой шелк. Дора сидела, не шевелясь, лицо ее озаряла такая светлая, такая восхищенная улыбка, какой я никогда у нее не видел. Не принцесса из сказки в окружении цветов, но Золушка, бедная Золушка, которую отыскал ее принц, была перед нами, и в публике на этот раз не нашлось никого, кто не был бы очарован глубиною ее бархатных глаз. В довершение всего на заднем плане внезапно вспыхнул бенгальский огонь; красный, синий, зеленый, ядовито-желтый, а из будильничка, прежде умевшего только звенеть, зазвучала нежная переливчатая мелодия.
ЯСНОВИДЯЩАЯ
С первым ударом гонга — мужчины и женщины, вышедшие на улицу освежиться, толпой устремились к своим местам. Где-то, соскочив, хлопнула доска, кто-то в суматохе повалил стул, три-четыре человека в последних рядах спорили из-за мест, выдергивая свои пальто из-под чужих задов. Второй удар гонга, — и вот уже один только полицейский шаркает плоскими ступнями по щербатому полу, ибо он еще не управился со своей обязанностью — выкручивать фитили в керосиновых лампах. Установилась полная тишина. Фокусник появился на сцене: в белых перчатках и уже без своей волшебной палочки, которую он оставил за кулисами. Следом за ним вышла его жена.
И снова, боже мой, какое чудесное превращение! Вместо бедно одетой замухрышки — стройная дама в ниспадающем до полу пурпурном бархатном платье с глубоким вырезом. Ох уж этот неприличный вырез! Увы, он открывал плоскую грудь с едва заметным бюстом, а тонкие руки, отделенные от выступающих ключиц лишь бархатными бретельками, напоминали две палочки из слоновой кости. Огромные глаза — чернильные пятна — казались еще огромнее из-за фиолетовых кругов под ними, а улыбка, которую пытались изобразить губы, выглядела скорее жалкой.
— Достопочтенные зрители, — возвестил фокусник, — то, что мы — я и моя жена — представим вам, есть уже нечто большее, чем просто сноровка, чем обыкновенная ловкость рук. Многие из вас наверняка слышали о чтении мыслей, о ясновидении, однако не все имели в своей жизни удовольствие встретиться лицом к лицу с подобным явлением. Мисс Ага — позвольте мне представить вам мою верную помощницу — наделена сверхъестественным даром, доставившим столько хлопот ученым и материалистам всех эпох. Ясновидение — это наука, известная еще в дохристианскую эру, наука древних магов, индийских факиров и кудесников-раввинов. Ею нельзя овладеть с помощью тех приемов, которые годятся для манипуляций с картами и волшебными яичками. Итак, вы увидите частичку того, что не подчиняется общеизвестным законам природы. Моя жена будет сидеть в отдалении от вас вот на этом стуле посреди сцены. (Уродливого желтого столика там уже не было; вместо него был поставлен обыкновенный трактирный стул.) Я буду ходить между рядами, и каждый из вас может предложить мне любой, самый обычный и обиходный предмет, который вам заблагорассудится вынуть из кармана, а моя жена, которая будет сидеть к вам спиной с завязанными глазами, назовет этот предмет. Сверх того — прочтет дату на вашем кольце, опишет показанную мне фотографию, угадает год и место вашего рождения. Те, кто мне не верит, весьма скоро убедятся, что и обыкновенный человек может гордиться перед мудрецами кое-чем, недоступным их пониманию. Кто питает сомнения, отбросит их прочь, кто не верит в существование сверхъестественного, будет в высшей степени потрясен моими доказательствами и всяк, уходя отсюда, признает, что за свою скромную плату получил гораздо больше, нежели ожидал. Мисс Ага, займите свое место. Требуется почтенный и умелый господин, который пожелал бы завязать даме глаза платком.
После долгих колебаний на сцену взобрался сам судья Пишкот, обследовал черный платок, который ему подал фокусник, просмотрев его на свет лампы, — не слишком ли редок, — и завязал им глаза худенькой провидицы. Когда он затягивал узел, дама сдавленно закашлялась и на миг, выставив острые лопатки, закрыла руками лицо, точно усилием воли пыталась сдержать рвущийся из груди кашель.
Чародей Бальда своей хищной походкой направился к зрителям. Вначале зрители подавали ему предметы робко, нерешительно, потом осмелели, и темп увлекательной игры значительно убыстрился. Каждый хотел каким-нибудь образом принять в ней участие. Десятки рук протягивали бумажники, носовые платки, табакерки и часы.
— Итак, медиум, скажите, пожалуйста, что это такое?
Это была серебряная цепочка булочника. Ясновидящая без заминки назвала вещь своим тонким голоском.
— А что за подвесок, медиум, покачивается на этой цепочке?
— Кабаний клык, оправленный в серебро, — отвечала сидящая в кресле марионетка.
— Почему вы медлите, медиум? Что это за вещь?
Однако медиум вовсе не тянула с ответом, как, видимо, показалось фокуснику, а быстро установила, что в руках у него коробка спичек. Но фокусник был дотошен — он приоткрыл коробку и спросил, сколько в ней спичек. Медиум ответила, что там шестнадцать целых спичек и одна с отломанной головкой. Трактирщик Козел, владелец зала и сцены, хитро улыбаясь, вытащил штопор, однако был посрамлен, ибо ясновидящая живо справилась и со штопором, добавив, что ручка у него деревянная.
— А какого она цвета? — предусмотрительно спросил фокусник. Ясновидящей и это было известно — ручка штопора грязная, о цвете говорить нечего (смех). Судья Соучек снял со своего толстого пальца обручальное кольцо и услышал то, о чем, по всей вероятности, и сам забыл: что свадьба его состоялась в 1885 году и что жену его зовут Цецилия. Чудеса да и только! Ясновидящая угадывала все, ничто не могло сбить ее с толку, даже голая девушка на табакерке полицейского! Она знала, что карта, которую держит в руке шорник Ванечек — десятка пик, а крохотный предмет у кузнеца Нивлта — не что иное, как обыкновенные железные опилки. Фокусник, наклонившись к уху кузнеца, в подробностях уточнил его вопрос, после чего ясновидящая радостно провозгласила на весь зал, что кузнец родился в Нетолицах и что ему пятьдесят один год!
До этого момента все шло блестяще, великолепно, публика развлекалась, замирала от жадного любопытства, перешептывалась, вытаскивала из своих карманов и сумочек разные вещицы, стремясь во что бы то ни стало одержать верх над дамой с завязанными глазами. Ах, этому рвению и впрямь суждено было принести плоды, а облаченной в пурпур принцессе потерпеть поражение более сокрушительное, нежели сама почтеннейшая публика того желала.
— Ну а теперь, медиум, назовите, прошу вас, сей загадочный предмет!
То был складной нож моего приятеля, будущего клепальщика Цизы, но ясновидящая внезапно перестала отвечать и, прижав локти к тощей груди, откинулась на спинку стула. Послышался глухой, надрывный кашель.
— Теперь, медиум, определите, пожалуйста, сей загадочный предмет, — повторил, нервничая, свой вопрос фокусник.
— Складной нож! — выкрикнула женщина и снова зашлась в приступе удушливого кашля.
— Она немного простужена, — кротко разъяснил фокусник, обращаясь к передним рядам. — Придется уж нам простить ей это.
И вновь извлекались разные вещи, и вновь ясновидящая точно их называла, но уже явственно превозмогая себя. Была вытащена на свет божий даже фотография купеческой дочери — ясновидящая описала изображение худосочной девицы с тусклыми глазами. Был опознан кружевной платочек госпожи аптекарши и прочитана вышитая на нем монограмма. Иржинка протянула свой медальон, которым она поигрывала на груди, сперва вынув из него портрет. Внезапно женщина с завязанными глазами обернулась к публике. Лицо ее было почти целиком закрыто, виднелась лишь жалкая, горестная складочка на лбу.
— Ну, пожалуйста, потерпи еще минутку, — умолял ее фокусник, — мы не закончили, еще многие дамы и барышни желают убедиться в твоих способностях! — И он спросил ее про деревянного «чижика», который перекочевал к нему из кармана какого-то мальчишки.
— Чижик! — выдохнула ясновидящая.
— Певчий? — со смехом продолжал фокусник.
— Дере… — произнесла его жена, но, не докончив, резким движением сдернула с глаз платок — черный чародейский платок — и приняла его к губам.
— Что опять такое? — рассердился фокусник, зловеще сдвинув брови. Но прежде чем он успел сказать еще что-либо, ясновидящая, пошатываясь, поднялась со стула, закружилась на одном месте, будто подстреленная птица, и не ушла, а как бы улетела со сцены за одну из рыцарских кулис.
Фокусник сдавленно выругался, одним прыжком вскочил на сцену и побежал за женой. Кто-то в публике недовольно возроптал, но потом все умолкли. Тягостное затишье, предвестие бури, воцарилось в зале. Прошла минута, другая, но из-за кулис доносился лишь приглушенный шепот. На сцену никто не возвращался. Что случилось с ясновидящей? Чем они там заняты? Зрители вертели головами от любопытства, вытягивали шеи. Послышалось взволнованное шарканье подошвами.
Когда фокусник вновь появился на сцене, лицо у него было неестественно бледным и не хранило даже следов того раздражения, что еще минуту назад кипело в нем. Он держал в руках черный платок своей жены и те, у кого было хорошее зрение, а также те, кто сидел близко от сцены (как я или Ганзелиновы), могли заметить, что его белые перчатки забрызганы кровью!
Несколько секунд от стоял на сцене, переводя ищущий и виноватый взгляд с одного лица на другое, а потом спросил тихим голосом, столь непохожим на тот, которым провозглашал свои номера и выкрикивал вопросы:
— Не найдется ли среди почтеннейшей публики врача?
Еще с минуту стояла глубокая тишина, потом с недовольством поднялся старый Ганзелин, с трудом расправил занемевшее от сидения тело, оперся на палку и, покачиваясь на тонких ножках, стал тяжело подниматься по ступенькам на сцену.
ДОРА В ЯРОСТИ
Сбившись в кучки, зрители возбужденно обсуждали случившееся — всяк хотел в десятый, двадцатый раз услышать, что же произошло за кулисами. Ганзелина едва не сбили с ног. Он махал руками, как бы отгоняя от себя пчелиный рой, проклинал беспардонное человеческое любопытство, одинаково грубо осаживал и бедных, и богатых. Оброненный им вперемежку с ругательствами диагноз люди перебрасывали друг другу, как каменщики свои кирпичи:
— Что он сказал?
— Да, да, кровохарканье! У жены фокусника пошла горлом кровь!
— Ну и что, она уже умерла?
— Да нет, кровохарканье еще не означает смерть!
— Ну, смерть не смерть, но ведь это чахотка!
Больше всего толкователей сгрудилось в трактирном проезде. Это были те, кто решил дождаться, когда придут санитары с носилками и отнесут ясновидящую в больницу.
Я тихо шагал рядом с отцом, судорожно вцепившись в его руку. Белые голубки на Дориных плечах были забыты. Перед глазами у меня маячили кровавые пятна на перчатках фокусника.
— Надо же, как перепугался, — отчитывал меня отец, — а я полагал, у тебя больше мужества. Плохой из тебя солдат выйдет, когда вырастешь!
В восемь утра у меня был урок французского. Старый Фриц в нетерпении постукивал кончиком ботинка о ножку стола: он был мною недоволен. Я отчаянно пытался извлечь из памяти французские названия месяцев, но никак не мог сосредоточиться.
— Il y a douze mois dans l'année: le premier s’appelle janvier, le second s’appelle février, le troisième s’appelle…[17]
Перед моим мысленным взором витал образ худенькой женщины со скорбным выражением глаз, одетой в красное бархатное платье с глубоким вырезом, отороченным белым лебяжьим пухом.
— Le quatrième s’appelle avril, le cinquième…[18]
Мне представлялось, что кровь хлынула у нее изо рта, как хлещет из корыта вода, когда прачка выдергивает затычку.
— Le sixième s’appelle juillet[19].
— Encore une fois! Répétez cela[20], — сердился старый Фриц.
Наконец он меня отпустил. С учебниками под мышкой я сломя голову помчался к деревенской площади. Где же, если не у Ганзелиновых, узнать, как сегодня чувствует себя ясновидящая? Я даже забыл заскочить домой съесть второй завтрак. На лавочке перед домом доктора сидела Эмма и смотрела на солнце сквозь закопченное стекло. Расспрашивать эту играющую в тайны чудачку мне не захотелось. Я осведомился только, где Мария. Эмма молча показала мне на окно амбулатории. Я заглянул внутрь. Там, на низенькой скамеечке, сидел, засучив до колен штанины, городской рассыльный Мареш. На его оголенных лодыжках бугрились крупные узлы вен. Доктор с хмурым видом обследовал их, Мария стояла позади и ловкими пальцами сворачивала не слишком чистый бинт. Какая жалость, что она занята. Она бы непременно ответила на мои вопросы.
Раз Мария в амбулатории, — рассудил я, — значит, по кухне дежурит Дора. Я направился к ней, но в дверях наткнулся на Гелену. Она стаскивала у порога заляпанные грязью башмаки и надевала разношенные домашние тапочки.
— Пожалуйста, смотри под ноги! Чуть не наступил на меня!
Она была явно не в духе. Не придав этому значения, я оперся спиной о косяк и спросил, как дела у жены фокусника.
— Боже, — с досадой вздохнула она, — и ты про то же? Думаешь, ты первый справляешься у меня об этой женщине? Милок, таких было без счету! Соседи уже два раза присылали служанку, а булочница явилась самолично. Столько шума из-за одного пациента! Да еще из-за кого? Из-за комедиантки, побродяжки. Любопытно знать, если бы я упала в обморок, хоть кто-нибудь заметил бы это? А чем я хуже нее?
Я промолчал, ибо слишком хорошо знал Гелену, и понял, что сегодня от нее ничего не добьешься. Она была преисполнена своей странной зависти. Я лишь крепче прижал к боку грозившие рассыпаться книги и медленно побрел в прихожую.
— Вот-вот, — насмешливо бросила мне вслед Гелена, — ступай-ка на кухню к Доре, она там как раз одна. Можете с ней в свое удовольствие болтать о вчерашнем представлении. Она, как и ты, только тем и занята. Тут вы снюхаетесь!
— Барышня Дора, — войдя, спросил я с самой умильной из своих улыбок, — как вам понравилось вчерашнее представление?
Она повернулась ко мне от плиты и окинула меня таким равнодушным взглядом, что я похолодел и вмиг растерял все свое ребяческое любопытство.
— Барышня Дора, — нерешительно продолжал я упавшим голосом, — это было так красиво, когда вы сидели на сцене, а голуби ворковали у вас на плечах.
— Да? — язвительно отозвалась она. — А почему именно ты пришел мне сообщить об этом? Кто тебя сюда подослал? Гелена? Лида?
Смутясь, я смиренно объяснял ей, что пришел по своей воле и никто меня не подсылал. И с чего бы это меня подсылать?
— Так подумалось, — угрюмо промолвила она. — И что я им сделала? Только рассказала, как это было замечательно. А они все ополчились против меня, даже эта малявка. Уверяли, будто я была смешна. Глупые! Они завидовали мне, понимаешь? Боже мой! И вот сегодня я опять кручусь на кухне среди кастрюль. А завтра буду окапывать яблони. Потом подойдет дежурство на конюшне. После конюшни фельдшерский халат. Словно в заколдованном круге. Да и в самом деле, ведь это вертится тот бумажный круг в папиной амбулатории. — Внезапно она накинулась на меня: — Разве ты не видишь, что я занята? Пожалуйста, оставь меня в покое!
— Барышня Дора, — униженно извинялся я, стремясь продлить для себя эти минуты, — я не хотел раздражать вас, думал, что вы тоже восхищены вчерашним представлением и у нас есть о чем потолковать.
— Вот как, ты пришел со мной потолковать! — передразнила она меня. — И о чем это важном, прости меня, с тобой можно толковать? Ах ты, дитятко! Уж не хочешь ли, чтобы я открыла тебе свою душу? Лучше оставь эту мысль, не то как бы голова не закружилась. Выпучишь от ужаса глаза и удерешь к своей маменьке. Так вот, Дора Ганзелинова решила, что для нее блеснул лучик надежды. Всю свою жизнь краешка счастья не видела, а тут оно вдруг ей улыбнулось. И комедия пришлась ей по вкусу. Она с превеликим удовольствием играла бы и дальше в этой комедии, пошлой и лживой. Хоть каждый день восседала бы на потеху публике среди павлиньих перьев и бумажных роз. Ей это интереснее, чем беспросветный благородный труд. Но бедная Дора должна довольствоваться лопатой, метлой и деревянными башмаками для работы в хлеву. Вата с запекшимся гноем куда прекраснее, добродетель — куда почетнее. Невезучий ты! Надо же было тебе явиться как раз в ту минуту, когда у меня так тоскливо на душе и так жалко себя. Не подумай, то это я тебе говорю — я обращаюсь к своим кастрюлям и крышкам. Я говорю — довольно уж я вокруг нас наплясалась, сыта по горло! Ух! Свет широк! Помнишь, как ты рассказывал мне о странствиях своего глупого дяди моряка? Он бы мог, но не хочет. Я бы хотела, да не могу. Я приколочена к этому месту, как на крыше тесина. Буду здесь жить долго, пока не сгнию заживо.
Я смотрел на нее со сладостным волнением. Душу мою переполняло блаженство. Давно уже Дора не говорила со мной столь открыто, столь доверительно! И как прекрасно была она с пылающим от гнева лицом, сверкающими глазами и бурно вздымающейся грудью! Я пожирал ее взглядом.
— Пройдет еще лет пять, я утихомирюсь, пыл мои угаснет, — грустно прошептала она. — Превращусь в покорное, всегда улыбающееся существо, как наша Мария, или тихое и задумчивое, как Лида, распрощаюсь с мечтами, желаниями. Стану жить на манер часов: их завели, они идут себе да идут. Самым прекрасным событием за день станет для меня выезд к пациентам, самым незабываемым воспоминанием — чистка хлева. Чего ты на меня так уставился?
— Ах, — вырвалось у меня, — я вас так хорошо понимаю!
— Он меня понимает! — истерически захохотала она. — Боже мой, нашелся все же человек, который меня понимает! Юный господин с городской площади, почтивший меня своим благосклонным сочувствием. И не стыдно тебе, глупец, оскорблять даму сочувствием? Вот именно, ты и не подозреваешь, что я тоже дама!
Я опустил голову. Горечь опять снедала мне душу. Одно недоразумение нагромождалось на другое. Я совершил ошибку, сказав, что я ее понимаю. Нельзя ли это как-нибудь исправить? Я взглянул на нее с мольбой и произнес, стараясь, чтобы голос мой звучал как можно тверже:
— Барышня Дора, вам я не смею сочувствовать. Однако искренне сочувствую жене фокусника, у которой так неожиданно открылось кровохарканье. Я и пришел к вам как раз затем, чтобы спросить про ее самочувствие. Скажите мне, будьте добры, и я пойду домой. Я вижу, у вас много работы, я не стану вас больше отвлекать.
Что я наделал! Вконец все испортил. Только подлил масла в огонь.
— А, вот оно что! — взвилась Дора. — Ты пришел разузнать про мисс Агу? Как же это я сразу не догадалась? Ах ты, глупый, безмозглый утенок! Ты беспокоишься об этой смешной пигалице, о разнаряженном в красный бархат скелете, что теперь кончает свои дни в больнице? Плохи ее дела, милок, совсем плохи. Близок ее последний час. Можешь спросить у отца. Нет, вы посмотрите на него! Кто бы мог подумать? Его чувствительное сердце разрывается от горя при виде этой бесстыжей замухрышки, этой омерзительной больной кокетки! Ну, так вот что я тебе скажу: она меня не интересует, ни настолечко. Запомни — мне нет до нее дела! Таких, как она, уже много докашлялось! И знаешь что, притворщик и лгун, нечего приставать ко мне со своими лицемерными вопросами! Катись-ка отсюда! — Она побагровела и вся затряслась от ярости. — Катись отсюда, глупый господский сыночек! — И, видя, что я еще колеблюсь, взмахнула ковшиком с горячей водой, чудом не обдав меня кипятком.
Я бежал от Ганзелиновых еще быстрее, чем недавно спешил туда. В голове моей кружились горькие, недоуменные мысли. Что я, собственно, натворил? Чем навлек такой гнев? Одно тягостное открытие удручало меня больше всего: Дора говорила о больной с неслыханной жестокостью. Сказанное ею возмущало меня. Да, Дора… Дора злая.
УМИРАЮЩАЯ
Рядом со спальней родителей у меня была своя комнатушка, единственное окно которой выходило во двор. По утрам здесь обыкновенно выбивали ковры. Бух-бух-бух — мы жили не так уж высоко, чтобы я не почувствовал запах пыли. А то какая-нибудь из служанок затевала во дворе стирку, стуча вальком по белью так, что от громких чавкающих звуков дребезжали оконные рамы. Утрами к тому же тут кололи дрова — меткие, с размаху, удары топором по чурбаку. А по воскресеньям, когда дом спал дольше, чем в обычные дни, слышалось почти жуткое воркование голубей под крышей.
Высунувшись из окна, я видел внизу косоугольник двора, окаймленный дровяными сараями и пересеченный линией канавы. Справа и слева тянулись однообразные мостовые и вонючие дворики с редкой травой между камнями, с обвитыми диким виноградом дровяными сараями, которые, в точности как наши, казалось, зависали надо рвом. Ниже их опоясывали старые городские валы. Ими ограничивался мой ближайший горизонт, как бы первый круг обзора. Второй круг включал часть городка на склоне под валами. Третий — за крышами последних домов — захватывал луга и поля, разбежавшиеся до самых милетинских лесов.
Под валами резко выделялся среди остальных один большой желтый дом. У него были шиферная крыша, блестевшая после дождя, подобно озерной глади, четыре трубы и множество часто прорубленных окон. Между ним и соседними домами раскинулся обширный сад с кустами и скамейками. В погожие дни я видел, как на этих скамейках грелись маленькие человечки в бело-голубых полосатых халатах. Они, прихрамывая, бродили по дорожкам, взмахивали костылями; их белые повязки виднелись издалека. Желтый дом, похожий на склад, был староградской больницей.
Состоятельные горожане никогда там не лечились. Туда попадали только бедняки, за которыми некому было ухаживать и у которых не было денег на врача. Да и те шли в больницу только в случае крайней необходимости. Чего ж тут странного? Место это было не слишком привлекательным. Представление о нем вязалось не с выздоровлением, а уж больше с неизбежным концом. Грязноватые, сумрачные стены, подпертые полуколоннами, тюремного вида ворота с облупившейся краской, над входом массивная надпись из некогда позолоченных, ныне черных букв: «Лечебница». Здесь, среди престарелых нищенок и умирающих бродяг, лежала бледная жена фокусника, мисс Ага, наделенная чудесным даром внутреннего зрения. Компресс изо льда, положенный на грудь, снижал температуру и предохранял от нового легочного кровоизлияния.
Сидя у окна, я, казалось, ощущал даже запах карболки. Мне чудилось неестественно белое, как бумага, утонувшее в подушках лицо. Мисс Ага одна. Ее губы шевелятся. В бреду она монотонно и покорно отвечает на вопросы неумолимого партнера: «Медальон… перстень… часы…» Без умолку, без умолку! Когда над ней склоняется врач, она по глазам читает его мысли. Для нее не тайна, что ей суждено умереть. Исхудалыми пальцами перебирает она четки своей жизни: странствия от одной деревушки к другой, зябкая дрожь на козлах убогой повозки… Пока на шнуре не попадется горячий узелок: фейерверк славы, обнаженная шпага чертит в облаках табачного дыма волшебные круги, и бумажные цветы расцветают на заплеванном полу.
Каждое утро, едва начинало светать, фокусник уже стоял у дома Ганзелина, терпеливо ожидая, когда какая-нибудь из Гелимадонн подойдет к воротам и отодвинет засов. Он неизменно оказывался первым посетителем; ведь должен был он как-то узнавать о состоянии жены? Просиживать возле постели больной у него недоставало времени — он вынужден был добывать средства к существованию. Гелена зло сетовала на его нрав:
— Крейцера от него не дождешься, а весь дом с самого утра будоражит. Из-за него отец на час раньше встает, в одних штанах и халате к калитке выходит.
Стоило мне это услышать, как я тоже начал рано вставать. С книгой в руке бродил я под кленами по тихой еще деревенской площади. Убеждал своих родителей, что так лучше усваивается урок.
Несколько раз мне удалось подслушать разговор Ганзелина с печальным фокусником. Доктор бодрился, прикрывая сочувствие ворчанием.
— Что? Плохо? А как может быть иначе? У нее каверны величиной с детский кулак. Потение ослабляет. Весна для туберкулезников губительна. У вас достанет денег, чтобы послать ее в Швейцарию или на Ривьеру? Нет? Жаль, в этом случае она бы еще могла на что-то надеяться. Поймите, лучший врач в данном случае — доверху набитый сейф.
Фокусник тоскливо переступал с ноги на ногу, мял в руках клетчатое кепи. Ветер шевелил его густые черные волосы.
— Вечно одна и та же комедия, — сердился Ганзелин. — Сначала позволяют болезни беспрепятственно развиваться, а потом, когда пациент уже дышит на ладан, зовут врача выправлять положение. Нужно было зашить дыры в легких, накачать легкие кислородом, заставить желудок лучше переваривать пищу. Ваша жена должна бы родиться на несколько десятилетий позже, В будущем врачи, вероятно, научатся делать то, чего мы еще не умеем. Хотя бы уж не так часто голодала! Нет, нет, не трудитесь ничего объяснять мне. Вы не единственный чуть ли не бесштанный муж больной жены. Склонить алчных людей к милосердию? Это было бы чудом, достойным вашего ремесла!
Получив сведения о состоянии мисс Аги, фокусник возвращался в трактир «У долины», поспешно запрягал лошадку в шутовскую сбрую и, звеня бубенчиками, хлопая бичом, уезжал со своим фургоном в какую-нибудь окрестную деревню. С утра он стучался в двери сельских управ, расклеивал афиши, торговался с трактирщиками из-за оплаты зала и освещения. Пополудни продавал билеты, украшал сцену, готовил свои номера. Он рассказал Ганзелиновым девушкам о своих трудностях. От тех номеров, где требовалась помощь, ему пришлось отказаться. Программа с ясновидением и вовсе отпала. Чтобы поразить недоверчивых крестьян и любопытных деревенских тетушек трюками из своего оскудевшего репертуара, ему приходилось прилагать отчаянные усилия.
Гелена отзывалась о фокуснике и его заботах с тем же пренебрежением, с каким с самого начала смотрела на это ремесло.
— Ха-ха, милый господин Адальберт, а по правде-то Войтех, хотя это и звучит не так возвышенно, не умеет ничего, кроме своих фокусов. Наймись он в каком-нибудь имении на полевые работы, заработал бы много больше. Да оно и понятно, картошку в белых перчатках не окучивают!
Дора глядела на нее с насмешкой, глаза ее сверкали, как у дикой кошки. Меня поражало, что она ни разу не замолвила словечка в защиту бедняги.
Ах, Дора! Мне так хотелось спросить ее, почему она позволяет Гелене столь бесцеремонно осуждать Бальду, но разве бы я посмел? Со дня той ссоры после представления всяким откровенностям между нами пришел конец. Да, конец. Дора была все время как бы погружена в себя. Она огрызалась даже на Эмму, а это уже говорило о многом. Однажды я пришел к ней с учебником французского и почтительно предложил объяснить некоторые неправильные обороты, но она наотрез отказалась.
— Вы очень запустили ваш французский, — потупясь, упрекнул я ее.
— Э, зачем он мне, — махнула она рукой. — Французский язык меня больше не интересует.
Это был удар! Поначалу я подумал, будто это минутный каприз. Но нет. Она и в самом деле не хотела даже слышать о французском языке. Он-де никогда ей не понадобится. Лучше посвятить себя чему-нибудь более увлекательному и практичному. Я не представлял, что бы это могло быть, да и не задумывался об этом. Для меня было важно одно: последняя нить, связывающая меня с ней, обрывалась. Я мучался, места себе не находил. Ведь до сих пор она была так прилежна, так понятлива, подчас так ласкова! Что приключилось с ней?
Раз в неделю фокусник устраивал себе выходной. Его лошадка, пережевывая скудный корм, отдыхала в конюшне, рыдван недвижимо стоял в сарае, а сам он сидел в больнице у постели ясновидящей.
— Больной запрещено разговаривать, — рассказывала мне Мария. — Иногда лишь обронит словечко-другое. Муж держит ее за руку, а она смотрит на него с такой горячей мольбой о прощении! Понимает, сколько хлопот доставила ему своей болезнью. Боится, как бы он не рассердился на нее.
Все, что касалось этой кочевой супружеской пары, глубоко трогало мое сердце. Быть может, потому, что совсем недавно я видел их на представлении в полном блеске. Я был очень впечатлителен, и контраст глубоко поразил меня. К тому же было тут еще нечто, побуждавшее меня интересоваться судьбой провидицы: ведь я полагал, что недавно и сам перенес ту же болезнь. И моей груди коснулся губительный процесс, и я тоже кашлял кровью! Так, от постоянных сравнений, ко мне вернулась моя былая ипохондрия. Я слушал свой пульс, малейшее колотье в боку сгоняло с моего лица румянец, и моему потрясенному воображению рисовалось, как я пробуждаюсь по утрам в холодном чахоточном поту. По случайности я был тогда немного простужен и покашливал.
Своими тревогами я поделился с отцом. Он пошутил надо мной, однако попросил Ганзелина как-нибудь снова внимательно меня осмотреть. Тот простукивал меня так, точно решил разнести вдребезги все мои страхи. Иронически заглядывал мне в глаза:
— Молодцу в пациента поиграть захотелось? И как же из тебя, такого, неженки, вырастет настоящий мужчина, если ты все только охаешь да ахаешь? Истинной причиной твоих болезненных ощущений является твое безмерное себялюбие. — При этом разговоре присутствовала только Лида, а ее я не очень стеснялся.
Успокоительный результат осмотра взбодрил меня, но ненадолго. Черные мысли продолжали терзать мою душу, словно бы в староградской, хорошо видной мне из окна больнице, лежала не безнадежно больная женщина, а сама искусительница-смерть.
Между тем май шел к концу, фокусник объездил нее ближайшие деревни и должен был теперь забираться все дальше. Случалось, он исчезал из городка на два дня и более, поскольку не мог обернуться до наступления ночи. Объявляясь в городе после краткого отсутствия, он выглядел еще более измученным, истощенным и мрачным. Въезд фокусника в городок никогда не проходил незамеченным — его выдавал звон бубенчиков. В Старых Градах к нему стали понемногу привыкать. Он сделался известной фигурой благодаря таинственной повозке, красному чепраку на лошадке и превратностям своей судьбы. Мальчишки возглашали о его приезде раньше, чем он оказывался под сводами городских ворот. Торговки с городской площади высматривали его, приставив ладонь к глазам, и спрашивали, посчастливилось ли ему с заработком.
Мисс Агой городок интересовался уже не так живо, как вначале, хотя о ней еще достаточно говорилось и на улицах, и у фонтана, и в лавках под аркадами. В июне прошел слух, что ее состояние несколько улучшилось, она вроде как набирается сил и уже нет опасности нового кровохарканья. Скоро, мол, ей позволят гулять в больничном саду. По правде говоря, я не решался спросить об этом Ганзелина исключительно из боязни услышать опровержение этой доброй вести. Я высовывался из окна, стремясь разглядеть среди бело-голубых халатов ее маленькую, истаявшую фигурку. С той поры как Дора без каких-либо явных причин презрела мою безграничную преданность, мое отвергнутое чувство целиком сосредоточилось на этом непостижимом и трагическом существе.
ПРАЗДНИК ТЕЛА ХРИСТОВА
В Старых Градах не было торжественней праздника, чем праздник Тела Христова. В этот день городок выставлял напоказ все: стрелков, капуцинов, униформу, сутаны, мундиры, медали, туалеты, драгоценности и цветы. Пожалуй, только Пасха могла соперничать с праздником Тела Христова, однако на Пасху редко выдавалась хорошая погода, большей частью было еще слишком холодно, недоставало именно освещения, победного сияния солнечного лика. Воскресение было праздником вечерним и потому скорее меланхолическим, в то время как праздник Тела Христова был сплошным проявлением радости жизни.
Звонили во все колокола. Удары сталкивались между собой в беспорядке, точно рушились небеса, точно там, в космосе, пудовыми кувалдами гвоздят друг друга железные рыцари: стоны побежденных и ликование победителей, слитное эхо, целые стаи звуков, подобно почтовым голубям, разлетаются на все четыре стороны, так что от всего этого кружится голова и наливаются тяжестью веки. В широко распахнутых главных вратах собора появились первые маленькие подружки, по двое в ряд, все в белом, будто овечки на выгоне. Они уже с верхней ступеньки начали щедро разбрасывать лепестки ромашек и пионов.
Мы сидели у открытого окна в креслах, обтянутых красным плюшем: я, рослый, печальный принц, и моя мать, прекрасная владетельница замка, и смотрели на площадь, будто из королевской ложи на сцену театра, освещенную прожекторами. Мать была в своем лучшем шелковом платье, с золотым крестиком на шее и в перчатках до локтя. Я — с головы до ног в черном, в торжественно черном костюме. Сидел, покойно сложив руки на коленях. Когда мать крестилась, я крестился тоже, а когда она склоняла голову, я отвешивал земной поклон.
Ласково пригревало солнце. Редкие облака, будто подкинутые вверх клочки ваты, медленно плыли с востока на запад. Казалось, кто-то насильно затолкал людей под аркады, притиснул к столбам, к голым монастырским стенам — невозможно было поверить, чтобы они сами себя обрекли на такую давку! Громкий шум их голосов напоминал птичий базар. И все это волнообразно колыхалось, как маковое поле: разноцветные шляпы, платья, светловолосые и темноволосые головы.
У монастырских ворот стоял первый алтарь, перед аптекой — второй. На первом был представлен святой Франтишек, читающий проповедь птицам, на втором — дева Мария над земным шаром, обвитом змеей. Оба изображения были обрамлены еловыми ветками, перед обоими стояли столы из ровно уложенных ящиков, покрытых белоснежными, наглаженными скатертями. На столах мерцали огоньками свечи в до блеска начищенных шандалах. По обе стороны у алтарей в торжественном, суровом карауле стояли гренадеры в медвежьих киверах, примкнув острые, иглоподобные штыки.
Все фигурки фонтана извергали воду. Невероятное изобилие воды! Она вырывалась резвой струей из горсти голого мальчика, лилась из бессильного рта усатого водяного, била из горла толстогубых рыб, — фонтан был полон, — просто удивительно, как только вода не переливалась через край. Возле Гусова камня стоял украшенный насос, а на нем — оцепеневший трубочист с блестящими погонами и в белом берете на голове.
Едва только из церковных врат выплыл голубой балдахин, под которым шествовал согбенный под тяжестью золотой ризы священник с солнцеобразной дароносицей в руках, как на противолежащем холме сверкнули медью мортиры, над площадью прокатился их торжественный грохот. Я заметил, как над черной шапкой марианского столба, высоко в небе, разорвалось нечто серое, и хлопья, трепеща, стали опускаться на склоненные лысые головы советников городской управы. Из ворот монастыря затаенно, неслышными шагами, двинулась встречать дароносицу толпа коричневых монахов, подпоясанных белыми веревками. Слышно было, как подошвы их сандалий шаркают по мостовой.
В самом первом ряду шествия, двигавшегося за балдахином, я увидел своего отца. На голове у него был островерхий мохнатый кивер, на груди алел орден, рукою он придерживал эфес шпаги, будто жеманная девица шлейф своего платья. Он был выше долговязого портного Бартоша, державшего одну из церковных хоругвей, выше булочника Кминека с толстым животом и выбеленными мукой руками, выше командира медвежьей гвардии кондитера Прокопа. В груди моей, подобно мыльному пузырю, раздувалась гордость. Мои оттопыренные уши пылали.
Вдруг все это пришло в беспорядочное движение, заклубилось вокруг алтаря со святым Франтишком. Откуда-то из глубины людского водоворота воздвиглись к небу сверкающие золотые трубы и черные палочки кларнетов. Жестяный оркестр заиграл для бога первую серенаду. Зазвенели бубны, хлопнули тарелки. Когда растаял последний звук, наступила тишина.
Священник долго что-то тянул скрипучим старческим голосом. Затем — шорох, как если бы по лесу пронесся ветер. Все плакали! Мать торопливо осенила себя крестом, словно провела по лицу пуховкой с пудрой. Я виновато смотрел на нее: она казалась бледной, раскаявшейся, почти святой. Я даже не заметил, как там, внизу, сухо прошуршали ремни гренадеров. Отрывистые возгласы команд, и — точно рассыпался горох — грянула дробь барабанов. Снова страстно взрыдали жестяные трубы. В воздухе запахло кадильным дымом. Подружки рассеянно высыпали из корзинок последние свои запасы. Процессия потянулась к деве Марии, с улыбкой возвышающейся на земном шаре. На холме опять зарокотали мортиры.
Вечером я должен был идти с родителями на прогулку. В природе царило праздничное настроение. Солнце сияло как огромная, сверкающая дароносица, небо до удивления было похоже на балдахин, а всходы озимых — на гренадерский строй, ощетинившийся штыками. Я брел лениво, с неохотой, отвыкнув уже от этих опротивевших мне обязательных прогулок. Едва мы вернулись домой, как я ускользнул к Ганзелиновым, дабы вознаградить себя за все.
Доктор был в трактире. Гелена вязала длинный чулок, Мария перебирала чечевицу для завтрашнего обеда, Лида чистила дверные ручки какой-то немыслимо вонючей пастой. Поскольку был праздник, Гелимадонны не решались приняться за более тяжелую работу, но и сидеть праздно, сложа руки, они просто не умели. Эмма разложила перед собой на столе домино. Она ставила костяшки одну к другой в шеренгу, как солдатиков, а выстроив, щелкала по самой последней. Костяшки с трескучим звуком сбивали друг друга и падали сомкнутыми рядами на стол, совсем как настоящие солдаты, скошенные вражеским огнем.
Я сидел подле Марии, опершись локтями о стол, и сожалеюще смотрел на Эмму с ее игрой. Вот ведь, уже достаточно большая выросла, а ведет себя все еще точно малое дитя.
— Ну, — спросила меня с улыбкой Мария, — как у тебя прошел сегодняшний день? Мы тебя с самого утра не видели! — Она обняла меня рукой за шею. — Бедняжка, ты что-то невесел сегодня!
Я с недовольством отстранился от нее, будучи совсем не расположен к нежностям.
— Вот если бы его обняла Дора, он бы весь растаял, — с невинным видом заметила Эмма.
Я бросил на нее свирепый взгляд. Если бы это была Дора! Только сейчас я сообразил, что Доры нет дома. А где же она? Я произнес этот вопрос вслух.
— Где Дора? — Эмма смотрела на меня своими большими выразительными глазами. — Мы не знаем. Этого никто из нас не знает. Лида, ты знаешь, где Дора? Мария, ты не знаешь, куда она пошла и когда вернется?
Я не мог понять, чего она добивалась, засыпая сестер вопросами, — оказать мне услугу либо поиздеваться надо мной.
— Дора теперь вечно шатается где-то, — проворчала Гелена, не поднимая глаз от своего вязания.
Воцарилась тягостная тишина, которую нарушало лишь позвякивание спиц, скрипение дверных ручек, натираемых Лидой, да дробный стук чечевичных зерен, падавших на дно жестяной кастрюли. Смесь этих звуков, да еще грозное размеренное тиканье настенных часов и подкравшиеся сумерки, наводили на меня какую-то неясную тоску. «Дора теперь вечно шатается где-то», — горько повторял я про себя слова Гелены. Это было правдой. Теперь, приходя к Ганзелиновым, я довольно часто не заставал ее дома. Что бы это могло значить? Французский она не учит, на меня почти и не глядит — может, тут замешан Пирко? Острая мальчишеская ревность пронзила мне сердце.
Внезапно под окном раздались торопливые шаги. От энергичного толчка дверь распахнулась, и та, о которой все мы думали, вошла в горницу. Лицо ее светилось радостью, глаза сияли. Она блаженно потянулась, как кошка, греющаяся на солнце.
— Боже мой, как там чудесно! — От нее исходил запах свежести, запах весны. — А вы что сидите тут, приуныв будто на похоронах?
— Полагаю, — ледяным тоном произнесла Гелена, — ты вернулась как раз вовремя. Отец придет с минуты на минуту. Он был бы очень удивлен, не застав тебя дома.
В другой раз Дора вспылила бы, но сегодня ничто не могло испортить ей настроение.
— Э, что отец! Отец уже старый. Случается, выбранит и без вины виноватых.
Она уселась среди нас и, завладев Эммиными костяшками, ловко принялась сооружать какой-то высокий дом. Осторожно и спокойно ставила этаж за этажом. Я с тревогой ожидал, когда ее шаткое здание рухнет. И Мария тоже с интересом следила за Дориной постройкой. Чечевица перестала падать в кастрюлю.
— У тебя твердая рука, — заключила Мария с оттенком зависти. Дора самоуверенно улыбалась и что-то тихонько напевала себе под нос.
— Сегодня после обеда в город приехал фокусник. Я его видела, — неожиданно и без всякой связи сообщила Эмма. Мне почудилось, будто при этом она испытующе взглянула на Дору.
Две последние костяшки, водруженные на вершину вавилонской башни, выскользнули из Дориных рук, и все великолепное сооружение рассыпалось по столу и по полу. Эмма мигом соскользнула вниз, собирая разлетевшиеся костяшки.
— Это ты виновата, — шутливо рассердилась на нее Дора. — Это ты дунула на дом нарочно! Сейчас я тебя поколочу! — И она легонько шлепнула Эмму по спине. — Ну да ладно. Начну сначала. На этот раз обязательно получится.
Когда я возвращался от Ганзелиновых, с городской площади уже убирали праздничные алтари. Полицейский, расставив ноги и заложив руки за спину, смотрел, как двое мужчин, влезши на стремянку, разбивают молоточками деревянную конструкцию. Третий им светил. Тротуар перед алтарем был весь усыпан хвоей.
«Вот и опять она даже внимания на меня не обратила, — тоскливо думал я. — Будто я пустое место! Заметила ли она меня вообще? Что я ей такого сделал? И верно, где она пропадала с обеда до самого вечера?» Тайна ее загадочных отлучек не выходила у меня из головы.
ДВЕ ФИГУРЫ ВО ТЬМЕ
Был субботний вечер; ослепшее, заплаканное солнце спускалось к затянутому темной испариной горизонту, под крышами жалобно насвистывали дрозды. Со стороны пивоваренного завода черной тучей плыл дым, гарью оседая на мостовой. Торговки сокрушались, что в воскресенье погода опять испортится, слишком уж тяжел воздух — дым пивоварни был их барометром. Вчера дождь, позавчера дождь и сегодня, похоже, опять будет дождь? Пухленькие золотые ручки на ратушной башне взметнулись, лязгнули, семь раз деловито прозвонил колокольчик — и в ту же минуту на площадь въехал фокусник Бальда, задумчиво постегивая кнутом свою лошаденку по худым бокам. Колеса его рыдвана были заляпаны грязью, лошаденка плелась еле-еле, печально позвякивая бубенчиками, а мужчина на козлах, обросший черной, давно не бритой бородой, был ужасающе худ. Он находился в отъезде почти целую неделю и теперь приехал, чтобы провести воскресенье подле жены. В возвращении этого усталого человека и отощавшей животины было нечто трогательное; добросердечные прохожие вздыхали и в душе восхищались фокусником и его великой любовью.
После ужина я вышел на площадь, дожевывая на ходу кусок хлеба. Все вокруг замерло, точно перед бурей; на небе, словно задернутом далеким занавесом, мерцали первые звезды. Быстро темнело, наступала ночь — безлунная, душная, тревожная, настоящая разбойничья ночка. С Безовки доносилось громкое кваканье лягушек, а нетопыри летали так низко, что женщины, вскрикивая, заслоняли голову рукой. Я понуро брел, сам не зная куда. У пивоваренного завода окунулся в густой дым, от которого защипало глаза и запершило в горле. В темноте, у старой башни, взвизгнула девушка; густой бас принялся увещевать ее. Я в страхе прибавил шагу. На высоком краю деревенской площади остановился и посмотрел вниз. От Милетина по шоссе медленно ползла повозка, было видно, как раскачивается под дугой светлый фонарик. Говор сидящих на пороге своих домов людей напоминал шум воды в полуразрушенном фонтане. Порой тревожно взлаивала собака. Кроны деревьев застыли недвижимо; создавалось впечатление, что время остановилось.
Вблизи от меня кто-то споткнулся о камень, я услышал чье-то учащенное дыхание. Оглянулся. Маленькая щуплая девчоночья фигурка намеревалась незаметно прошмыгнуть мимо. Узнав меня, негромко вскрикнула и дотронулась до моего плеча.
— Это ты, Эмма? — удивился я. Губы девочки дрожали от неподдельного волнения. При виде меня она вроде бы испугалась.
— Куда ты идешь? — тихо спросила она.
Вместо ответа я изумленно уставился на нее.
— Куда ты идешь? — упрямо допытывалась она.
Я ответил, что дома было темно и неуютно, вот я и вышел прогуляться на свежем воздухе.
— А может быть, ты шел к нам? — вдруг подозрительно спросила она. — Ты, верно, шел к Доре!
В словах ее слышалась насмешка. И ненависть.
— Нет, — спокойно возразил я, — и не думал. А почему ты спрашиваешь таким странным тоном?
— Доры… — нерешительно проговорила она, — Доры опять нет дома. Ты бы не нашел ее, даже если б искал.
— А мне что за дело, — раздраженно буркнул я. — Я ее и не ищу.
Лучше всего, подумалось мне, каждому из нас идти своей дорогой. Эта встреча с Эммой, ее поведение вызывали во мне смутное беспокойство. Я не хотел с ней связываться. Она заметила, что я собираюсь сбежать, и еще крепче ухватила меня за плечо.
— Ты… ты… — как в лихорадке бормотала она, — я бы тебе кое о чем рассказала, да не знаю, умеешь ли ты молчать. Если б я была уверена, что ты умеешь молчать!
— Как видно, — предположил я, — ты хочешь что-то скрыть, да не можешь.
— Эмиль, — настойчиво продолжала она, — то, что я знаю, тебя бы тоже заинтересовало. Да еще как! Я расскажу про это или покажу одному тебе, если ты поклянешься, что не разболтаешь.
Она так горячо меня упрашивала, что я заколебался, не зная, на что решиться. С одной стороны, сгорал от любопытства, с другой — опасался, не задумала ли девчонка посмеяться надо мной. На это она мастерица.
— Обещаешь? — наседала она. — Дай руку и поклянись, что никому не скажешь. Да скорее! Если хочешь, чтоб я тебе это показала, нельзя терять ни минуты.
От волнения у нее перехватило горло, и голос звучал так искренне, что я не устоял и отдал себя ее власти. Пожал ей руку и поклялся молчать. А она уже тащила меня за собой, не оглядываясь, сжав мои пальцы в своей влажной ладошке. Мы свернули от площади вниз и устремились через сады крутой, хорошо знакомой мне тропинкой, скользя по размокшей земле, натыкаясь в темноте на камни, все ближе к истомленной Безовке, к нежному курлыканью лягушек, к веющей от воды прохладе. Уже несколько раз я ощутил приступы неприятной слабости, и уже не раз бы упал, если бы в последний миг не успевал ухватиться за плетень или за ветку яблони. В хорошем же виде будут утром мои башмаки! Я живо представил себе огорченное лицо Бетки, которая возьмется их чистить. Вполне вероятно также, что меня ожидают суровые нравоучения матери и вопросы, на которые трудно дать ответ. И окупит ли эти грядущие муки тайна, что откроется мне сейчас?
Когда мы наконец благополучно добрались до речки, сомнения мои перешли в уверенность. Девчонка, по-видимому, затащила меня сюда исключительно ради того, чтобы я вывозил в грязи свои башмаки, и теперь, когда удалось меня взволновать и расстроить, со смехом удерет. Я жалел, что поддался любопытству и пошел у ней на поводу. Что особенного могла показать мне эта легкомысленная попрыгунья? Каковы были до сих пор все ее тайны? Кроличья нора в лесу, осиный рой на меже, гнездо перепелки во ржи. Конечно, я стал жертвой ее зловредного нрава.
Остановившись, я уже раскрыл было рот, чтобы высказать вслух свои подозрения и упреки, но Эмма мгновенно зажала мне рот ладошкой.
— Тс-с! — прошептала она мне в ухо, — теперь нельзя шуметь. Нас могут услышать!
Эмма взяла меня за руку и повела вдоль берега. Пригнувшись в высокой траве, мы, точно воры, крались от дерева к дереву, от куста к кусту. Лягушки переставали квакать и с бульканьем плюхались в воду. Где-то на Милетинском холме ухнула сова. Ни единой звезды не светилось на небе. Затаив дыхание, мы спрятались за стволом ветвистой ольхи. Эмма нерешительно указала на что-то своей тонкой ручкой.
В излучине Безовки, неподалеку от заводи, на том самом месте, где прошлым летом я впервые ощутил на своей коже блаженное тепло солнечных лучей, стояли два человека, углубившиеся в тихую сокровенную беседу. Сердце мое замерло. Этой парой были фокусник и Дора Ганзелинова.
Фокусник даже и отдаленно не напоминал того угрюмого, возбуждающего неприязнь и сострадание человека, что въезжал под вечер в город, сидя на козлах своего фургона. Это уже не был тот павший духом, терзаемый невзгодами бродяга, возвращающийся к своей смертельно больной жене; я увидел перед собой мужчину, стоящего на подмостках лицом к лицу с публикой, со сверкающим клинком в руке, готового сей же миг исторгнуть из тайников своего сердца бумажные розы, фальшивые монеты, завораживающие ленты своей поддельной любви! А Дора! Сколько раз я видел, как она грезила в предзакатный час, охваченная унынием, безволием, тоской, с той же цветастой шалью через плечо, которую она сейчас придерживала за самый кончик, как спущенный флаг прошлого. Я не мог видеть выражения ее глаз, но вся поза девушки говорила о том, что вот-вот слетит у нее с губ то последнее, заветное слово, из которого в беззвездной ночной тьме распустится золотой цветок ее мечты. Это была уже не та вялая, ни во что не верящая Дора, убежденная, что ей уже никуда не успеть до захода солнца! Черная земля вокруг принадлежала ей по праву завоевательницы, стоявшей с гордо вскинутой головой, тело словно изготовилось к прыжку, а грудь напряглась в дерзком порыве навстречу мужчине — победоносная и предлагающая себя.
От Безовки, закутавшись в туман, надвигался холод; я вздрогнул, почувствовав, как по спине пробежали мурашки. Боль под лопаткой, на этот раз подлинная, острая, исходила со стороны сердца. Но теперь мне было уже совершенно безразлично, возвратится болезнь или не возвратится. Я растерянно оглянулся, как человек, в интимный момент жизни почувствовавший на себе чужой взгляд. Подозрение мое подтвердилось. Жадный, испытующий взор Эммы был прикован ко мне, словно представших перед нами трагических любовников вовсе и не было. Она изучала меня, просвечивала насквозь, раздевала донага. Лицо мое исказилось болезненной гримасой боли. Мне никак не удавалось ее согнать, как судорогу, над которой человек не властен. Вне всяких сомнений — девчонка прямо-таки упивалась видом моей муки. Я опустил голову, не желая смотреть больше. Но краешком глаза успел еще заметить, как две тени у реки качнулись, неудержимо стремясь друг к другу, как женские руки вытянулись, подобно щупальцам, сцепились на шее мужчины, и губы слились с губами в неистовом, бесстыдном поцелуе.
ЛОПНУВШИЙ БОЧОНОК С ПАТОКОЙ
Наша старая Гата, которая никогда не хворала, вдруг занемогла. Утверждала, что у нее воспалились жилы оттого, что она стирала белье во дворе на самом солнцепеке. Служанка надсадно кашляла и ползала по дому, как осенняя муха. Для моей матери это был удар. Охотней всего она отправила бы старушку в больницу, но Гата страшилась больницы пуще мертвецкой. Отец взял ее сторону, и она осталась дома. Никак не хотела лежать, но была вынуждена, — старые ноги уже не носили ее. Оказалось, что у Гаты не воспаление жил, как она полагала, а плеврит. Наше домашнее хозяйство пришло в расстройство. Оно было чересчур ритуальным и сложным, чтобы на него хватило одной служанки. Бетка крутилась с утра до вечера как белка в колесе, хваталась то за одно, то за другое, сердито ворчала. Кто обиходит больную Гату? Кто накроет на стол, приберется и сбегает в лавку? Ведь не сама же супруга гейтмана? Так, вопреки хорошему тону, принятому в благородных домах, мне пришлось быть на посылках. Не могу сказать, чтобы меня это очень огорчало. А Гате становилось день ото дня хуже. Мой отец, добрая душа, решил поручить свою старую служанку заботам лучших докторов, и однажды меня послали за Ганзелином.
Я не был в доме доктора уже с неделю — избегал ходить туда, опасаясь, что глаза мои, в которых запечатлелось мучительное видение двух теней, слившихся воедино в тот вечер над Безовкой, выдадут меня. Я плелся по деревенской площади, словно влача на ногах пудовые гири. Каждый шаг стоил мне тяжких усилий. С каждым мгновением сердце мое колотилось все безумней и отчаянней.
В довершение всего в амбулатории дежурила Дора. Она была одна, сидела у окна и что-то торопливо писала, держа бумагу на коленях и, словно ребенок, слюнявя кончик карандаша. Сердито взглянула на меня исподлобья, явно недовольная тем, что ее потревожили.
— Что тебе нужно? — спросила она с досадой. — И продолжала еще более зловеще: — Чего тебя нелегкая носит? Разве не видишь, отца здесь нет, он наверху. И его лучше не трогать, он сегодня вроде бы не в настроении.
— Я… — мой голос был слаб, как лепет грудного младенца, язык прилипал к гортани. — Я не сам по себе пришел… меня папа послал…
Она стояла передо мной, эта девушка, отныне чужая, оскверненная! На ее плечах — следы прикосновения его рук. На ее губах — отпечатки его поцелуев. Любовница женатого человека! Ее целовал, миловал муж больной жены. Словно вывалявшаяся в грязи! Я ощутил боль, ноющую, адскую боль.
— У нас Гата захворала, — наконец выдавил я из себя. — Я пришел просить пана доктора, чтобы он ее посмотрел.
Я не сознавал, клянусь, не сознавал, что глаза мои влажны. В них закипали невольные слезы.
Она пригляделась ко мне внимательнее, но взгляд ее был по-прежнему враждебный.
— Надо же, распускает нюни из-за своей Гаты! Неужто она совсем плоха? Кто бы мог подумать, что ты сочувствуешь беднякам? С каких это пор?
Я мотал головой, потеряв дар речи, охваченный непобедимой жалостью к себе, оскорбленный вдвойне: ее падением и ее издевками.
Она насторожилась. Что-то в моем поведении показалось ей подозрительным. Встала, сунула свою бумагу и карандаш в карман, подошла поближе.
— А если ты плачешь не из-за служанки, тогда из-за чего? — допытывалась она. — Отвечай! Да поживей, а то сейчас отец придет. Что с тобой приключилось?
Язык не повиновался мне, мысли путались. Я был обезоружен — такая грозная инквизиторская сила была в ее взгляде, такой настойчивый вопрос. Я знал — солгать ей не смогу. Я весь в ее власти. Она может делать со мной, что только хочет.
— Ты скажешь или нет? — нахмурилась она. — Кто и что тебе сделал?
Я не мог совладать с собой, это переполняло меня, переливалось через край. Я был подобен рассохшейся бочке — как ни бейся над ней, все равно потечет. Вначале просочится тоненькая струйка, а потом вдруг все обручи разом лопнут и содержимое растечется скользкой лужей.
— Вы… вы… — мямлил я, — вы, барышня Дора…
— Ну, что? — сурово допрашивала она меня, — обиделся на то, что я тебе сказала?
— Нет… нет!
Я уже не был мальчишкой, подражающим взрослому человеку, но всего лишь наивным ребенком, который жаждет, чтобы непоправимое было исправлено, а случившееся волшебным образом стерто из памяти. Но с какой стороны ждать чуда, кому по силам ловкий чародейский трюк? Я был готов поверить любому объяснению, лишь бы она снова стала той, какой я знал ее раньше.
— Я вас видел!
Я ничего не добавил к этому, но она поняла. Я смотрел на нее укоризненным и в то же время преданным взглядом, который говорил больше, чем все невысказанные слова. Дора внезапно вспыхнула, — мне никогда еще не приходилось видеть, чтобы она так краснела. В глазах ее сверкнул дикий огонь, то ли от стыда, то ли от гнева. От стыда или от гнева — откуда мне было знать?
— Ты меня видел? — проговорила она сквозь зубы, быстро и жестко, бессознательно понизив голос. — Когда и где?
— Там, внизу, у речки… неделю назад! Вы стояли с ним!
— Кто еще был с тобой?
С женской сметливостью она хотела понять точные размеры катастрофы. Но я вспомнил детскую ручку, которую торжественно пожал, вспомнил свои обещания и доказал, что могу сохранить хотя бы частичную верность клятве, пусть единственно возможным для меня способом — ложью. По крайней мере, во мне достало сил отрицать:
— Никого, только я один!
— Ну так что? Да говори же! — тряхнула она меня, уцепившись за лацканы куртки. — Что ты видел? — Ее горячее дыхание обжигало мне щеки.
— Вы стояли там вместе… вы двое — он и вы, а потом… — Слова не шли у меня с языка. Она помогла мне, тряхнув в очередной раз.
— Что потом?
— Вы целовались!
В этот миг бочонок с патокой лопнул. Мироздание рухнуло и обратилось в груду грязных развалин. У меня текло из носа, изо рта; я ревел, размазывая слезы кулаком. Я был противен самому себе, барахтался в своей мнимой ничтожности. Мне было уже все равно. Я понимал, что она бесконечно презирает, должна презирать меня, клятвопреступника, хотя и не могла знать о нарушении клятвы, меня, сопливого мальчишку, захлебывающегося слезами и жалостью к себе.
— Это неправда! — в бешенстве крикнула она. — Неправда! Дурак! Это был кто-то другой! Как ты можешь такое утверждать? Ты видел меня ночью! И тебе не стыдно говорить мне это в лицо?
Теперь я уже только отстаивал право на свою боль. Я хотел, чтобы меня разубедили, но не таким образом. Она могла сделать это иначе — уж не знаю как. Теперь я уже сражался и за свое право на ревность:
— Я не мог обознаться! На вас была ваша цветастая шаль! Я все видел, слышал каждое слово. Он вас обнимал. А вы не оттолкнули его, хотя это ведь так… низко. Я и место могу показать, где вы стояли!
В своем отчаянии я тоже орал как бешеный. Она ладонью зажала мне рот.
— Да замолчи ты! Замолчи, предатель!
Она так больно стиснула мне щеки, что я всхлипнул, но все же сквозь ее пальцы продолжал бормотать:
— Да, да! Вы целовались, и я это видел!
Она вся кипела от ярости.
— Теперь я знаю, зачем ты пришел! Не ради своей Гаты, а чтобы изобличить меня. Притворщик! Впрочем, чего еще от тебя можно ждать? Но заруби себе на носу: посмеешь пикнуть или кому сказать, я тебе кости переломаю!
Тут открылась дверь, и вошел Ганзелин.
Он изумленно воззрился на меня и на Дору. Боже! Никогда прежде не приходилось мне видеть такой наглости, такого самообладания! Никогда прежде и, кажется, никогда после. Вместо жесткого, злобного лица — сплошная ласковая улыбка. Рука, сжимавшая мне горло так, что глаза мои вылезли из орбит, теперь нежно гладила меня по щеке. Тон был спокойным, снисходительным, в глазах плясали веселые искорки. Она незаметно вынула из кармана платочек и принялась отирать мне слезы.
— Погляди-ка на него, папа! Кто бы мог подумать? Он совсем еще маленький, добросердечный глупыш! — Она сдавила мою голову тисками нежности. — Явился за тобой, чуть жив от страха. Гата у них заболела, тебе придется к ним пойти. Он так ее любит! Ну, скажи, папа, разве он не славный мальчуган? Уж довольно долго ревет тут у меня.
— Истерия, только и всего, — проворчал Ганзелин, испытующе глядя на меня. — Сперва ипохондрия, а теперь истерия. Таковы они там все, в высшем обществе. Такова вся их изнеженная каста. — И он добродушно рассмеялся.
Я смотрел на Дору, вытаращив глаза, не понимая, где кончается правда и начинается ложь. Вот это был урок! Вот это было искусство!
— Ну ладно уж, не реви, — утешал меня Ганзелин. — Приду ее осмотреть, приду. Если хочешь, прямо сейчас же и отправлюсь!
После этого и я тоже помог спасти положение, жалобным голосом попросив доктора не говорить моим родителям, что я так глупо себя вел.
ОБОЛЬЩЕНИЕ У КОРЗИНКИ С КАРТОФЕЛЕМ
Наутро, идя с урока французского, я возле Фрицева дома наткнулся на Эмму. Она стояла, прислонясь к стене, смотрела на небо, полуоткрыв губы, и подкидывала камешки: летит воробей — сколько детей? Дверь за мной скрипнула, девчонка скользнула по мне взглядом, камешек пролетел мимо подставленной ладони и упал к моим ногам. Нагнувшись за ним, она негромко и с напускным равнодушием произнесла:
— Иди к Доре. Она тебя ждет!
Я бежал со всех ног, не желая промедлением снова навлечь на себя гнев Доры. В душе моей страх боролся с надеждой. Явилась ли Эмма вестницей мира либо вестницей бури? Я задыхался, коленки у меня подгибались. Дора спокойно сидела на пороге и чистила картошку, важно надув губы.
Взглянув на меня, она ничего не сказала; бросила в кастрюлю очищенную картофелину и взяла из корзинки следующую. Потом, еще раз искоса взглянув на меня, освободила место подле себя.
— Поможешь мне, рыцарь?
Дора была веселой, Дора была в хорошем настроении. Я положил учебники на порог и сел на них. Если бы мы сидели с ней на берегу глубокой реки и она повелела: «Мой рыцарь, прыгни в воду», я бы прыгнул. Она протянула мне нож, который я охотно взял. И если бы она сказала: «Вонзи его себе в сердце», то, наверное, я бы исполнил и это.
Дора поворачивала картофелину перед собой так, точно сама была солнцем и озаряла землю. На меня до сей поры не упал ни один ее милостивый луч, но я не терял надежды. Неожиданно она рассмеялась.
— Все, что я тебе вчера наговорила, — это моя хитрость. Мне захотелось подшутить над тобой. Забудь, пожалуйста, что я на тебя кричала. — Она произносила фразы небрежно, как бы между прочим, снисходительно, с усмешкой. Роняла слова, будто ничуть не заботясь, как я их восприму. Вновь лукаво улыбнулась, — из глаз ее прямо брызнули на меня золотые лучи. — А ты, верно, бог весть что подумал. Ты просто маленький глупыш. Целоваться с этим побродягой, с босяком? Да еще просто так, ни за что? Фу! — (Слово «целоваться» точно и не было вовсе жгучим словом, а как бы привычным выражением в ее лексиконе.) — Вообще-то ты славный парнишка. Так долго и добросовестно учил меня французскому! Теперь и я тебя, в свою очередь, кое-чему научу.
Я чистил свою картофелину, наморщив лоб, боясь пошевелиться, боясь громко вздохнуть.
— Свидание с фокусником у Безовки было с моей стороны лишь притворством. Притворством, обманом, уловкой! Да, Эмиль! По-моему, мне это хорошо удалось. Подумай! За этот поцелуй я получила от него тайну ясновидения. И сейчас я тебе ее открою. Только смотри, никому не выдай!
Снова тайна. На сей раз связанная с опровержением, которого я так ждал, с лживым, но таким желанным объяснением! Я быстро перекрыл шлагбаумом дорожку разума. Стоп! Только не сомневаться, только не размышлять! Я хотел верить. На коленях у Доры лежал сложенный пополам листок, исписанный мелким женским почерком. Она умышленно подставила его моему взгляду. Неожиданно шевельнула коленом, бумажка упала. Я испугался, поспешно отвел глаза. Она засмеялась грудным, торжествующим смехом.
— Вот видишь, вчера ты чуть ли не с кулаками на меня кидался, а сейчас сгораешь от любопытства. Да, да, здесь записано вес, что надо знать. Возьми, посмотри, да не бойся, я не вырву его у тебя. Что ты там видишь? Слова, написанные в столбик, а возле каждого слова — цифра. Лилия, лодка, луч, лампа, лира, лес, лоб, лев, лоханка… Всего сто слов. Сто, запомни это! Ты должен знать их наизусть, если хочешь быть провидцем, как мисс Ага. Они называются — стереотипы.
Оторопело и смущенно смотрел я на Дорины колени.
— Конечно, ты, как и все прочие, думаешь, что эта пигалица наделена неким чудесным шестым чувством. А между тем все это — работа памяти. Ты хоть сознаешь, что, делясь своим секретом, я оказываю тебе величайшее доверие? По крайней мере, увидишь, что я на тебя вполне полагаюсь. И я убеждена, что ты сохранишь тайну, а также отныне уже никому не расскажешь о той цене, какую я заплатила за эту грязную бумажку. Ведь ты рыцарь! Послушай, а что если мы с тобой изучим эту интересную игру и начнем вместе дурачить легковерных простаков? Что ты на это скажешь? Ну разве не чудесно — вместе? Ведь тогда мы действительно будем неразлучными друзьями.
Мне опять пришлось крепиться изо всех сил, чтобы на глазах у меня не выступили слезы. На сей раз — слезы счастья. А ведь я понимал, что Дорино притворство, обман, уловка именно с этой минуты и начинается, что таким путем куплено мое молчание; я испытывал горчайшие муки и в то же время таял от блаженства.
— Не думай, что это так трудно, как представляется на первый взгляд. Идти надо от малого к большому. Для того, чтобы твердо заучить стереотипы, придется овладеть азбукой ясновидения. — Она показала пальцем на первые /две строки, похожие на двустишия. Там было написано:
л,з,ж=0; д,т=1; н=2; м,с,ч=3; б=4; с,ш=5; б,р=6; в,ф=71 и,х=8; г=9
— Видишь, в словах отмечаются лишь согласные, гласные не в счет. Первые две согласные каждого стереотипа означают число. Например: «луг» состоит из «л» и «г», то есть из цифр 0 и 9 и означает номер 9. «Тенор» — «т» и «н», то есть 12. Понял? Ну, конечно, понял. Только мы еще в самом начале. Понятно, как выучишь стереотипы, надо будет тебе запомнить названия всех вещей, разделенные на группы. Тут уж придется призывать на помощь и фантазию.
С бьющимся сердцем смотрел я, как ее розовый язычок мелькает между белыми зубами. Я был словно в дурмане. Напряженно старался запомнить каждое произнесенное ею слово, точно от этого зависело счастье всей моей жизни.
— Да, да, фантазию! — Она победно размахивала очищенной картофелиной. — Фокусник составил себе тридцать две группы. В первой группе золотые и серебряные предметы, во второй — курительные принадлежности, в третьей изделия из бумаги и всякие карандаши и ручки, далее — продукты, краски, растения, звери, птицы, камни, столовые приборы… Да, ты сам увидишь все, когда внимательно прочтешь. У каждого предмета в группе — своя цифра. Когда запомнишь их, легче усвоишь стереотипы. Возьмем, к примеру, стереотип «лодка», цифра один. В первой группе под этой цифрой часы, во второй табакерка, в третьей — бумага. Лодка или корабль плывет по морю, капитан склонился над компасом, похожим на огромные часы; корабль является, собственно, плывущей табакеркой, он ведь как бы тоже дутый, набит порохом, ведь это боевой корабль, готовый палить из пушек. На нем паруса из бумаги либо паруса, белые, как бумага. Под другой цифрой — веревка. В первой группе это цепочка, во второй — трубка. Следует вообразить, что Панцирж из Зампаха был повешен не на веревке, а на золотой цепи, а канатоходец идет по веревке и покуривает трубку. Три — лампа; кольцо, спички, перо. Ты — Гарун-аль-Рашид, обладатель сказочных сокровищ, абажур твоей лампы укреплен на золотом обруче, украшенном рубинами; либо ты — прилежный ученик, занимаешься до ночи, а твое перо скрипит по бумаге. Цифра четыре — лира и булавка для галстука. Булавка принадлежит музыканту и сделана в форме лиры. Пять — лес, в первой группе крестик. Это совсем легко: лес — а в лесу, на месте, где кого-то убили, стоит крест. Лоб, цифра шесть, очки и проездной билет, смешное сочетание, правда? Голый лоб, череп, на нем очки, езда, опасная езда, дорога к смерти, на билетике череп со скрещенными костями, семь… — Она положила бумажку мне на колени. — Возьми ее, я списала это для тебя с листа, который получила от фокусника.
Я шептал про себя слова в том порядке, как видел их перед собой, без лада и склада: «браслет, брошка, ожерелье, чернильница, карандаш, стакан, сверло, мыло, сачок, хлеб…»
— Если твердо все это заучить, — никогда не собьешься, — хвалилась Дора. — Здесь все есть, ничто не забыто. А теперь я должна еще объяснить, как спрашивающий ставит вопросы. Запомни: слово «медиум» является в предложении точкой, тебе важны первые слова, сказанные до него. Так, например: «Теперь, медиум, расскажите, что это такое?» А ты дал поняты т, п, р, то есть первая группа, сорок четвертое слово, стереотип «погребальные носилки». Ответ: «золотое сердечко». Золотое сердечко девушки, умершей от горя, лежащей в гробу на погребальных носилках, понимаешь? Либо: «Прошу, скорее, медиум, скажите, какой это предмет?» Шестая группа, пятое слово, группа растений, стереотип «лес». «Ландыш»! Ландыши ведь растут в лесу. «Вы должны теперь быстро, медиум, сказать, что это такое?» Третья группа, двадцать четвертое слово — Нерон; император Нерон либо пес Нерон — играет в карты. «Карта»! Сразу же следует вопрос: «Какая же это карта, медиум?» «К», как известно, — девять, девятой в карточной колоде идет семерка крестей. Тем же способом можно разобрать монограмму на носовом платке, дату на кольце, узнать место рождения. Фокусник и его медиум подробно изучили географический атлас. Каждый город обозначен определенной цифрой. Вот группа слов под номером тридцать один — это названия городов, а тридцать два — названия деревень. Кстати, им помогает их кочевая жизнь. Они всюду бывали, всюду показывали свои фокусы, всюду голодали. Представляешь, как разнообразна их жизнь? Сколько приключений, о которых можно вспоминать, сколько глупцов, над которыми можно посмеяться! А уж выпученных-то глаз, а уж разинутых ртов! Эмиль! Я ведь не только осваиваю стереотипы и недурно умею подводить под них предметы из разных групп, — я уже знаю, как сотворить полное блюдо яичек, извлеченных из карманов и как выстрелом из пистолета обратить груду золота в прах и пепел. Наколоть шесть задуманных карт на шпагу — проще простого, а для того, чтобы потерянное кольцо очутилось у другого человека, требуется лишь ловкость рук…
Я сидел рядом с Дорой тихо, как мышка, не спуская глаз с ее губ; щеки мои пылали, подаренный листок лежал на коленях. Когда в тот вечер я засыпал, перед моими закрытыми глазами мельтешили сотни предметов, уцепившихся друг за друга в безумном хороводе. Золотой якорь висел на цепочке от часов, тенор открывал жабий рот; вместо пуговиц у него были апельсины, на голове вместо цилиндра — корзинка, и при этом он играл на гармонике. Чернильница была сложена из брусьев и походила на виселицу, но это была не виселица, а шахта; из нее вылезали черные углекопы с шахтерскими лампочками. Стереотипы явились в виде бриллиантовых гвоздей, на каждом висело по тридцать два удивительных слова; цифра двадцать девять была одновременно шляпой и почтовой открыткой, чучелом попугая и школьным ранцем, и подвешена она была на слове «запеканка». Взаимосвязанность противоположных понятий увлекала меня. Я сочетал вещи, по виду несочетаемые, изумляясь легкости, с какой боты обнаруживали свое родство с розами, а зубочистка с циферблатом. Предметы громоздились у меня перед глазами, смыкались в волшебные ряды, каждому ряду предводительствовала какая-нибудь цифра. А надо всей этой диковинной свалкой восседала, подперев рукой подбородок, Дора; ведьминские глаза ее смотрели куда-то в даль, загадочно улыбались, перевернутая вверх дном голубая кастрюля из-под картошки лежала рядом, вода из нее вытекла, и картошка валялась посреди куриного помета. Дора, в экстазе, почти не разжимая рта, цедила сквозь зубы одно-единственное слово: «Фантазия! Фантазия!»
ПОХОРОНЫ
Старая Гата, которая заболела первый раз в своей жизни, решила, что раз уж она слегла, то непременно и помрет. Но Гата не померла — ей было на роду написано болеть все чаще и всякий раз снова подниматься на ноги, пока она в самом деле не стала для близких обузой и ее не похоронили на далеком заброшенном кладбище. И тем не менее прозвучал-таки однажды погребальный звон с вавржинецкой колоколенки; колокол гудел негромко и страдальчески, в то время как мелкий, с туманом, дождь кропил мостовую.
Люди, держа над головами зонтики, останавливались. По ком это звонят? Кто умер? И вот, будто по ветру, полетела ошеломляющая весть от одной мелочной лавки к другой, передавалась из уст в уста; люди судили-рядили, крестились, ужасались. Неужто правда? Да уж точно! Кто бы мог подумать? Умерла мисс Ага, жена фокусника.
Ах ты, господи, да возможно ли? Ведь не далее как вчера она грелась на солнышке в больничном саду! Тетушка Гоужвичкова, у которой в больнице лежит парализованный дядя, видела ее там собственными глазами. Была она бледненькая, что правда, то правда, прямо как восковая, именно, как восковая! Глаза провалились, да темные такие, как растоптанные ягоды бузины! Наверное, и я видел ее из своего окна среди двух десятков вялых, полосатых марионеток, бродивших там, внизу, под валами. И где же ее муж, фокусник? Кто сообщит ему о случившемся?
Оказалось, что доктору Ганзелину известен адрес чародея. Уж не от Доры ли он получил его? Почтмейстер хорошо видел, кто подавал в окошечко скорбную телеграмму. Это была Эмма. Потирая ножкой о ножку, пачкая губки синим чернильным карандашом, она списывала адрес на бланк с зажатой в руке бумажки.
Самые любопытные и жадные до новостей староградские кумушки собрались у больницы. Центром внимания сделался отставной вояка Нивлт, хромой старик с желтыми усами пушкаря, Он служил больничным санитаром — в его обязанности входило также обмывать покойников. Теперь он ковылял от одной группки к другой о полным сознанием собственной значительности:
— У нее было очень слабое сердце. Уснет, бывало, и так долго спит, что мы удивлялись, как она вообще после этого просыпается. Доктор-то знал, что однажды она в таком сне и отойдет. Нынче утром открыла глаза, обвела всех особенным, печальным взглядом, вздохнула, откинула голову — и не стало ее. Тихо отошла. Господь послал ей легкую смерть!
Сейчас она лежала в мертвецкой при больнице. Не облачат ее больше в красное бархатное, отороченное лебяжьим пухом платье с глубоким вырезом, открывавшим впалую грудь. Никто больше не завяжет ей глаза платком, никто не задаст замысловатых вопросов насчет предметов, вытащенных из кармана. Там, где она теперь, нет ни ясновидения, ни бумажных цветов, ни колбасы из папье-маше, нет павлиньих перьев, кротких голубей и серебряных блюд, в которых приготовляется чудотворный ужин.
Была она живая, маленькая женщина, у нее был пронзительный голосок, резко звучавший в пространстве зала; теперь же тело ее вытянулось, а сама она стала тиха, как сон, навсегда сомкнувший ей веки. Ее муж, чародей, не принадлежит к тем волшебникам, что наделены способностью воскрешать мертвых. Но где же чародей?
В тот же вечер пробренчала бубенчиками накрытая красным чепраком лошадка. Любопытные давно ожидали фокусника, и вот наконец он приехал. На рукаве у него не было траурной повязки, не было знаков скорби и в шутовской сбруе лошадки. Скорбной была лишь их худоба: мужчина был черен и сух, как выгоревшая стерня, а у лошади выпирали ребра, точно пружины сквозь продранную обивку, отчего она походила на конский скелет, влекущий катафалк. Опустевшее место на козлах глядело сиротливо, наподобие ниши, из которой сдуло деревянную фигурку святого. Скитальческая пара была разлучена навек.
Во дворе трактира «У долины» фокусник распряг лошадь, втащил повозку в сарай, побежал в больницу и пробыл там до позднего вечера. Он сел ужинать, но не как обычно, с возчиками и кучерами, а в стороне ото всех, низко нагнувшись над тарелкой — молчаливый, пасмурный, замкнувшийся в себе. Никто его не окликал. К столу, за которым сидит горе, люди не подсаживаются. Черные глаза фокусника угрюмо глядели из-под лохматых бровей, тоскливо позванивала ложка, черпая скудную пищу. Та, что лежит в мертвецкой, укрытая дешевым саваном, никогда уже не будет делить с ним ни его убогую трапезу, ни его шумную славу.
Ясновидящая умерла в пятницу, хоронить ее должны были в понедельник. Богачам, которым посчастливилось умереть в пятницу, еще можно было притязать на похороны в воскресенье. Для бедняков и бродяг воскресенье — неподобающий день. Да в конце концов, что это за похороны? В дешевом, грубо сколоченном гробу тело пронесли в церковь. Кто шел за гробом? Осунувшийся, сгорбившийся фокусник, инвалид из больницы, что закрыл глаза усопшей скиталице, несколько нищих да кучка любопытных из среднего сословия. Господа не сочли достойным принять участие в похоронах комедиантки. Они лишь выглядывали из окон, не показывая своего интереса, заглушая в себе сочувствие. Похоронную процессию замыкали Ганзелин с Геленой. Почему именно с Геленой? Гелена дежурила в амбулатории, ей полагалось сопровождать отца. А в качестве кого шел Ганзелин? В качества друга покойной? Нет, он был всего лишь ее врач, ее последний духовник. Он был подле ясновидящей при ее долгой агонии и полагал своей обязанностью присутствовать на последнем акте. Врачи всегда из чувства долга провожают своих умерших пациентов, как и владельцы похоронных бюро, торгующие товарами для покойников.
Мальчишки, даже те, чьи родители принадлежат к избранному кругу, имеют привилегию иногда пренебрегать условностями. Мне не запретили присоединиться к моим сверстникам, что сновали под носом у министранта, несшего крест, спрыгивали в придорожную канаву или кувыркались позади растянувшейся процессии — далекие от всякой степенности, от всякой скорби. Погребальные дроги тарахтели по мостовой, траурные султаны на лошадях развевались по ветру, на гробе лежал единственный венок, перевитый бумажными лентами. Короткая, черная суставчатая змея с колыхающейся короной на голове ползет через городские ворота, тащится некоторое время по пыльному проселку над Безовкой, затем поднимается вверх, на зеленый склон, где два ангела с отбитыми руками стерегут вход в захиревшую обитель мертвых. Открываются ржавые ворота, гостей встречает, раскинув на кресте руки, страстотерпец Христос. Дальше, дальше, мимо рядов со стеклянными шарами, мимо памятников с полустершимися именами, мимо надгробий с увядший цветами в облупленных, безносых кувшинах. В воздухе стоит особенный, сладкий и острый запах тлена. Однако последний приют для бродячей провидицы еще не готов. Подле стены еще довольно места для могил, что в скором времени окажутся позабыты и сравняются с землей. Крест с флажком из черного флера указывает нам путь. Вот наконец открытая, зияющая яма, обложенная грязными досками. Я оглядываюсь вокруг с изумлением и грустью: Доры не было! Почему бы Доре не прийти сюда? Священник торопился, листая свой молитвенник, где между страницами лежала бумажка с краткой надгробной речью. Ему заплатили скупо, а посему читал он невнятно и с неохотой. Никто его и не слушал, никто не желал растрогаться. Звуки его голоса глохли посреди могил, в разноцветных шарах отражались перекошенные физиономии. Кто-то решил немного всплакнуть задаром, поскольку этого требовали приличия. Священник помахал кропильницей в знак окончания ритуала. Почему не зажегся бенгальский огонь, почему не взвились к небу кроткие белые голуби, почему часовой механизм не проиграл нежной мелодии? Латынь священника была столь же непонятной, как и зашифрованные фокусником вопросы. «Мертва», — шептал я и составлял слово по числам: м — это три, р — четыре, т — один, в — семь. Мертвая: 3417. Мертвый — пятнадцатое слово в двадцать третьей группе стереотип «доска». Мертвец, лежащий на доске! Все это понадобилось бы фокуснику, подсунь ему кто-нибудь мертвую мышь или мертвую птицу. Скажите-ка теперь, медиум, что это такое? А что, если бы он вдруг задал ей этот вопрос — своим повелительным тоном, тоном вечно недовольного, брюзгливого мужчины? Можно ли быть уверенным, что она не поднимется из гроба и, глухо закашлявшись, не ответит, превозмогая страдания: «Это складной нож»? Человеческая комедия — и столь будничный финал! Всех мы хороним одинаково: и простых людей, и фокусников. Хоть бы радуга засветилась над кладбищенской стеной! Хоть бы души мертвых в виде светлячков закружились на могилах в скорбном танце! Ничего. Гроб на ремнях опускается в глубокую яму. Доры здесь и в самом деле нет. Фокусник наклоняется над ямой и первым бросает туда зеленую еловую ветку. Он, имевший в своем распоряжении веера из павлиньих перьев и такие цветы, которые растут разве что на иных планетах, смог почтить свою подругу лишь простой еловой веткой!
Народ стал нерешительно расходиться, а он, подобно призраку, все еще стоял над разверстой могилой. Горькое сиротство этого человека ни с чем нельзя было сравнить. Муж, жена и лошадь — маленький, тесный кружок… Один из троих удалился в зачарованные внеземные пределы. Лошадка склоняет голову над порожней колодой. Будь на ней сейчас сбруя с бубенчиками, они зазвонили бы по умершей.
Торопливо идя с кладбища, я наткнулся, вернее, прямо налетел на Ганзелина.
— Гляньте-ка, Эмиль! С каких это пор ты ходишь на похороны?
Гелена недобро усмехнулась, но безмолвствовала. Я подумал, что она примется отчитывать меня за неприличный интерес к покойной; у Гелены дрожал от злости подбородок, однако она молчала.
— Так с каких это пор ты ходишь на похороны? — допытывался Ганзелин. Я ответил, что смерть ясновидящей потрясла меня, ведь она была такая молодая; к тому же я верил, что она все-таки выздоровеет. Доктор покачал головой:
— Умирающие не выздоравливают, умирающие умирают.
У меня вертелся на языке вопрос: «Но вы же выздоровели? Я же знаю, что вы тоже харкали кровью!» Однако спросить не отважился; брел, опустив глаза в землю. Я считал своим долгом проводить Ганзелиновых до самого дома, более чем когда-либо ощущая себя членом их семьи.
— Сынок, — ворчливо говорил доктор, — тебе и впрямь пора уже распрощаться с застойной жизнью этого городка. Как твой друг, я с радостью отмечаю, что приближаются каникулы, а после каникул начнется учение. Ты уже делаешься под стать просвирням, всем здешним кумушкам, всему здешнему прогнившему обществу. Твой отец поступил неправильно, послушавшись советов усатого моряка. Довольно тебе чистить нам картошку да таскать из колонки воду на кухню. Ученик не может быть слугой, он принадлежит науке. Твое участие в похоронах мне особливо не по душе. От этого попахивает романтизмом.
Когда мы подошли к дому доктора, я заметил стоящую в воротах женскую фигуру. Это была Дора. Она прикрывала рот платком, словно у нее болели зубы. Дора смотрела на одного меня, и мне показалось, будто она страдальчески улыбается. Я не выдержал. Вырвался из рук Ганзелина и побежал домой.
В тот вечер фокусник опять в одиночестве сидел за ужином и справлял поминки по жене, заказав несколько пол-литровых кружек пива. Он пил молча, засиделся допоздна, а подавальщик суетился вокруг, с недоверием поглядывая, чем тот заплатит. Фокусник расплатился настоящими монетами, не бумажным золотом, боже упаси. Завершая свою тризну, он потребовал еще стакан горькой, на травах, водки. Выпил залпом. И на следующий день поутру уехал из городка.
КЛАДБИЩЕНСКАЯ РОМАНТИКА
Доктор Ганзелин был прав, поставив мне диагноз: романтичен. Откуда у него взялась такая проницательность? Почему он так свободно читал в моей душе? Уж не был ли он большим прозорливцем, чем та бедняжка, которую недавно похоронили? Однако случившееся засело во мне, как заноза. Я не в состоянии был противиться сумасбродному желанию — мне надо было являться на кладбище. Улизнуть тайком из дома и бродить вокруг могилы мисс Аги.
У меня не шло из головы несоответствие между незаурядной жизнью и безвестной кончиной. Смерть обыкновенного жителя городка — другое дело. Я не видел ничего удивительного в том, что существование всех тех, кто ныне спешит куда-то по своим маленький делишкам, снует на улицах и в проездах, жизнь всех — старых и молодых, веселых и усталых, — должна рано или поздно прийти к своему концу. Но это призрачное, из паутины сотканное создание, хрупкое существо из иного мира! Смерть мисс Аги казалась мне фактом в высшей степени возмутительным и в высшей степени трогательным. Общеизвестно, что трагедия неудержимо притягивает молодых. Экзальтированные юноши готовы проливать слезы умиления над портретом знаменитой актрисы, с восторгом предаются мучительно-сладостным безумствам у могил тех, кто овеян славой. До той поры мне не приходилось видеть ничего более впечатляющего, чем искусство четы фокусников. Я собирал свои романтические медяки лишь там, где мог их найти.
Возможно также, что в основе своей это было не чем иным, как знакомое многим безотчетное предощущение гибели, которое часто овладевает маленькими детьми и побуждает их тайно закапывать в землю спичечный коробок с горстью сорванных цветков мать-и-мачехи, ленточкой от платьица куклы либо трупиком раздавленного жука. Они способны часами просиживать потом над своими тайниками, с великой радостью предвкушая торжественный момент, когда можно разгрести ямку, и заранее ужасаясь тому, что доведется увидеть.
Я останавливался у одинокого, понемногу оседавшего, не поросшего еще веселой молодой травой могильного холмика и думал: вот она лежит здесь, под моими ногами. Здесь, под моими ногами! Страшные эти видения вызывали озноб. Ужас опьянял меня. Посещение кладбища, ночные эскапады стали моей тайной. Не дай бог узнать об этом матери. Добряк отец тоже был бы ошеломлен и, думаю, поглядел бы на меня с горестным удивлением.
Не помню уж где, верно, в каком-нибудь иллюстрированном журнале, увидел я изображение сидящей на могиле женщины. У ног прижавшей к глазам платочек плачущей дамы в черном, ниспадавшем складками платье виднелся срез земли. У самой ее поверхности можно было различить извивающиеся змееподобные корни трав и цветов; затем комья глины, наверху крупные, но постепенно становившиеся все мельче, потом они превращались в сплошную массу, испещренную точками, как на чертежной схеме. В самой глубине был нарисован гроб, где лежал покойник со скрещенными на груди руками, провалившимися ямами глазниц и отвисшей челюстью. Картина эта всегда волновала меня. При мысли, что наверху происходит одно, а внизу нечто гораздо более таинственное и мрачное, сердце мое учащенно колотилось. После кончины ясновидящей этот образ вновь оживил мою фантазию. Я был тем, кто сидел на оседающем могильном холмике, прижав к глазам платочек, в то время как мисс Ага лежала в гробу, в глубокой земле, скрестив на бездыханной груди тонкие ручки.
Моя жизнь в ту тревожную пору делилась на свет и тьму, на день и ночь. Днем я зубрил слова, гулял с родителями, захаживал к Ганзелиновым. Мы с Дорой усердно изучали ясновидение, проверяли себя на вопросах и ответах, состязались в маленьких трюках. Ночью я уходил на кладбище, предаваясь страшным ощущениям и рисуя сентиментальные сцены. Моя отроческая душа оказалась как бы на распутье, не зная, куда устремиться: к нежной, хрупкой покойнице или к недоступной, пышнотелой, соблазнительной живой женщине. Словно две противоборствующие силы тянули меня каждая в свою сторону. Жизнь и смерть. Надежда и безнадежность. И то, и другое было равно запрещенным плодом, и то, и другое равно притягательным. Ясновидящая влекла к себе грезами на могиле, усиливала мою тягу к одиночеству, изощряла фантазию. Дора была подобна мчащемуся коню с огненной гривой, — горячая, влекущая женская плоть, смятение чувств, желание, которое еще не обрело четкой формы и определенного имени.
Все, что со мной случалось, я должен был проиграть на клавиатуре ужаса и печали. С началом июня семьи городских чиновников уезжали на каникулярное время к родственникам и знакомым. В Старых Градах вошло в моду устраивать в таких случаях прощальный ужин, который обычно затягивался далеко за полночь. Мои родители то и дело получали приглашения и никому не могли отказать. Я оставался дома один, со слугами. Не слишком опасаясь слежки, выскальзывал лунными ночами из своей комнаты и отправлялся на кладбище. Я провел там немало жутких часов, прислушиваясь к разным подозрительным ночным звукам; стоило где-то вдалеке завыть собаке и заухать сове, как меня начинала бить дрожь, я почти не дышал, затаившись, скрючившись у могилы, один на один со своей тенью, под холодным мертвенным светом луны, заливавшем все вокруг. В такие минуты я был, пожалуй, не прочь увидеть души умерших, блуждающие огоньки на свежезасыпанных могилах, встретиться лицом к лицу с покойниками в саванах, храбро заглянуть в провалы их глазниц. Мне хотелось приподнять белый занавес над театром смерти.
Не стоит, наверное, добавлять, что я носил в карманах свечные огарки, украденные у Гаты, и торжественно зажигал их на могиле ясновидящей. Потом, стоя поодаль, смотрел, как ветер треплет чадящее пламя, как тает воск, обтекая комки глины, как огонек лижет землю и затем снова вскидывается, будто кающийся грешник, павший ниц пред грозным судией. Если на кладбище оказывались люди, я прохаживался по дорожкам, засунув руки в карманы, и делал вид, будто не имею никакого отношения к мигающим огонькам на могиле. Бродил, насвистывая, меж надгробий, старался произвести впечатление беззаботного гуляки, корчил рожи перед стеклянными шарами, показывая язык своему уродливому отражению. К этим уловкам я прибегал подсознательно. В душе я оставался глубоко серьезным и трепетал за исход моего предприятия.
В своих вылазках на кладбище я не преследовал никаких практических целей, они объяснялись сентиментальным состоянием отроческого духа, силившегося преодолеть боязнь и одновременно страдавшего от безответного чувства. И все-таки они принесли плоды, неожиданные и нежеланные. Однажды вечером, родителей как раз не было дома, — я со спрятанной в кармане свечкой прокрался на кладбище через железные ворота, никогда не запиравшиеся на ночь, и стал осторожно пробираться к последнему приюту ясновидящей, дабы зажечь там свой огарок. До могилы оставалось всего несколько шагов, как вдруг я заметил возле нее темную фигуру. Ночь была туманной, и луна в ту минуту почти совсем скрылась за облаками. Мной овладело любопытство, смешанное со своеобразной ревностью; что это за непрошеный гость занял мое место? Во мне закипела злость. Ведь теперь, чтобы зажечь на могиле свечку, я должен был дождаться, пока незнакомец уйдет. Укрывшись за ближайшим памятником, я в нетерпении отсчитывал томительные секунды. Внезапно луна вынырнула из-за облаков, все вокруг на миг осветилось, и мужчина, почувствовав, видимо, мой упорный взгляд, чуть шевельнулся, равнодушно повернув голову. Но я сразу узнал его. То был фокусник.
Фокусник! Возможно ли? Ведь он же несколько недель как уехал из городка. И с той поры ни разу не было слышно громыханье его повозки, позвякиванье бубенчиков на сбруе лошадки! Впрочем, что же тут особенного? Разве не естественно, что он больше, чем кто-либо еще, имел право навестить могилу своей жены? Удивительные события этой ночи на том, однако, не кончились. Мне почудилось, будто я слышу тихий шепот, как если бы фокусник вел беседу с зарытой в землю покойницей. Какая волнующая мелодрама! Я напряг слух, пытаясь разобрать слова. Что он — просит отпустить ему грехи либо корит ее? Жалуется на свою судьбу, исповедуется? Ни то, ни другое. Я услышал, как зашуршало платье, и еще одна фигура, которую до тех пор скрывал мрак, обрисовалась в мутном свете луны. По всей вероятности, она сидела на могиле, как обычно сиживал там я. Мое изумление перешло в нестерпимую боль, пронзившую мне сердце. Лгунья! Бесстыдница! Подлая, подлая, подлая!
У могилы ясновидящей сошлись на свидание фокусник Бальда и Дора Ганзелинова.
БЛАЖЕНСТВО ИЗ ПЕЧАЛИ
Я хорошо запомнил каждое слово из тех, которыми усыпляла мое подозрение Дора, когда мы чистили картошку. И что же — она тайно встречается с фокусником, изменив мне! Я страдал, душа рвалась разоблачить ее, хотя бы и с риском снова навлечь на себя ее гнев. Я выяснил, когда наступит очередь Доры дежурить на кухне. Три старшие Гелимадонны и Эмма поедут после обеда навещать деревенских пациентов. Более подходящего момента для исполнения моих намерений было не придумать.
В сени я прокрался как вор. Дверь в кухню была открыта. Дора покрывала серебрянкой заржавевшую поверхность плиты. Понимая, что, начав обиняками, можно растерять такой дорогой ценой обретенное мужество, я с порога, едва она повернула ко мне удивленное лицо, одним духом выпалил:
— Барышня Дора, позавчера ночью вы стояли с фокусником у могилы ясновидящей. Я тоже был на кладбище, только вы меня не видели.
Она резко отшвырнула заячью лапку, так что та упала за печку на поленницу дров. Зашипела, точно придушенная змея:
— Ага, шпионишь, тихоня! Как ты смеешь за мной шпионить?
— Я не шпионю, — с мрачным спокойствием отвечал я. — Я и не думал, что застану вас там. Просто я часто хожу туда.
Она с ненавистью посмотрела на меня в упор, но я выдержал этот взгляд. Я уже не был тот несчастный, раздавленный горем мальчуган, который некогда искал лишь возможности выплакаться в предательских женских объятиях. Не знаю, что было причиной — то ли горькое чувство, что меня презирают, то ли противостояние кладбищенским ужасам, — но дух мой закалился.
— Вы солгали мне. Неправда, что вы за поцелуй купили у фокусника секрет ясновидения. Вчера вам нечего было у него покупать, а между тем вы снова целовались. Вы — любовники, я знаю!
— А если даже и любовники, тебе-то какое дело, сопляк? — в бешенстве вскричала она. — Уж не должна ли я отвечать перед тобой за свои поступки? Не собираешься ли ты быть мне судьей?
— Вот вы сердитесь и ругаетесь на меня, барышня Дора, — кротко возразил я, — а ведь я вам ничего худого не сделал. Я ведь только вам одной это говорю.
Дора нагнулась, чтобы поднять упавшую за дрова заячью лапку и как-то слишком уж долго искала ее. А когда выпрямилась, по лицу ее разлилась льстивая улыбка:
— Эмиль, какой шоколад ты больше всего любишь? Не стесняйся, скажи. Мальчикам в твоем возрасте еще можно любить сладости. Понимаешь, мне не хочется, чтобы ты меня выдал.
— Мне не нужно от вас никакого шоколада, барышня Дора, — оскорбился я, вспыхнув до корней волос. — Я и так никому о ваших свиданиях не расскажу. Мне очень обидно слышать от вас такое.
Она пристально взглянула на меня, что-то напряженно обдумывая. И все продолжала странно, испытующе поглядывать, покусывая мизинец.
— Ну, а если бы я дала тебе шоколад от чистого сердца, — я ведь знаю, ты честный мальчик и не умеешь притворяться, — если бы мне захотелось просто показать, что я люблю тебя, ты взял бы?
— Нет, барышня Дора, не взял бы. Я бы понял, что вы хотите меня подкупить. Господи, — с тоской выдохнул я, забывая о своем напускном хладнокровии, — вы сами говорите, что я честный и все такое прочее, и тут же придумываете, как понадежней заткнуть мне рот!
— Чего же ты от меня хочешь? — раздраженно спросила она.
Я с мольбой взглянул ей в глаза и тихо произнес:
— Я ничего не хочу от вас. Ничего.
— Зачем же ты тогда рассказал мне, что видел нас? Какой смысл заявлять об этом и ничего не просить за свое молчание? Ага, знаю! Ты даешь мне понять, что отныне я у тебя в руках? Думаешь обхитрить меня? Постыдился бы! Вот уж не знала, что ты можешь быть таким расчетливым!
— Ошибаетесь, барышня Дора, — вконец растерявшись и запинаясь, возразил я. — Я… я хотел только, чтобы вы больше не относились ко мне, как к ребенку. Я никогда особенно и не верил в эту вашу байку о купленном секрете. Если бы вы могли по-настоящему открыться мне!
Ее лицо разгладилось.
— Открыться тебе? — Она смерила меня взглядом с ног до головы, точно видела впервые. — Ты считаешь, что достоин доверия? — Она не сводила с меня глаз.
— А разве самой вам не ясно, что достоин? — горячо воскликнул я. — Как мне убедить вас? Я скорее откусил бы себе язык, чем доставил бы вам какие-нибудь неприятности. Да ради вас я на все готов!
Она еще с минуту медлила, потом вдруг решилась. Улыбнулась странной, почти жестокой улыбкой.
— Ну так и быть, я окажу тебе такое доверие. — Прислонясь спиной к печке, она быстро заговорила: — Ты и вправду уже слишком большой, чтобы хранить молчание за плитку шоколада. — (Снова эта злая усмешка.) — Только я прямо скажу тебе, что та правда, которую ты хочешь от меня слышать, совсем не для твоих ушей. Может, когда-нибудь ты поймешь, что, не открывая тебе тайну, я желала тебе добра. Но раз ты так хочешь, я все скажу. Но смотри, пеняй потом на себя!
Положив мне на плечо свою нежную руку, она стала прохаживаться со мной по кухне. Я испытывал неизъяснимое блаженство.
— Все так и есть, как ты сам сказал, мы с фокусником — любовники. (Она говорила, будто в лихорадке!) Я безумно люблю этого человека. Можешь ли ты понять, что это значит — кого-нибудь любить? Впрочем, не важно, понимаешь — не понимаешь, я уж не стану на это оглядываться. Мы любим друг друга. Уже давно, много раньше, чем умерла его жена. Я этого не стыжусь, а ты, согласись, еще слишком неопытен, чтобы иметь право судить нас. Конечно, услышь об этом отец или сестры, плохо бы мне пришлось. Но отец стар, а сестры глупые и беспонятливые, они никогда и не любили по-настоящему. Я познала истинную любовь и никому не позволю лишить меня права любить того, кого хочу. Никто не запретит мне самой решать такие дела. Что, не понимаешь? Ну, не важно. Или перепугался? Но ведь ты сам вынудил меня сказать правду, вот и узнай, как она горька. Мы с фокусником переписываемся. Время от времени он приходит в Старые Грады, и тогда мы видимся тайком. Не знаю, чем все это кончится. Он — бродячий комедиант, а я девушка из приличной семьи. Впрочем, к моему чувству примешана изрядная доля любви к приключениям. Меня так сильно влекут приключения.
В волнении, не сознавая отчего, я дрожал всем телом. Мы остановились посредине кухни. Дора, не сняв руки с моего плеча, взглянула на меня с надменной улыбкой:
— Ну вот, видишь, как я тебе доверяю. Рассказала столько, что, если ты меня выдашь, тебя со всех сторон засыплют похвалами. Думаешь, я еще что-то скрываю?
Я отрицательно помотал головой. Мне было трудно говорить, в горле застрял комок.
— Мне хотелось бы задать тебе один вопрос, но я не уверена, сумеешь ли ты его понять, — осторожно промолвила она.
— Спрашивайте, — сказал я пересохшими губами. — Я пойму, не сомневайтесь.
— В том… что касается нашей любви, на чьей ты стороне? На моей или на их? Я имею в виду городок, кумушек, так называемую мораль, семью… На чьей ты стороне?
Я собрал все свои силы, хотя был на грани обморока:
— Во всех… я во всех случаях… я был бы за вас, барышня Дора!
Непроизвольно или с умыслом — откуда мне знать? — она привлекла меня к себе Я ощутил на своем лице ее жаркое дыхание. С мольбой поднял на нее глаза. Она поняла, иронически засмеялась:
— Ого, парень, вон ты какой! — И легонько отстранила меня от себя.
— Барышня Дора, — тяжело ворочая языком, проговорил я. — Мне бы хотелось всегда быть рядом с вами, быть вам полезным…
— Вот как? Полезным? На самом деле хочешь быть полезным? — Теперь смех ее звучал неприятно, торжествующе. — Если и вправду хочешь, то пожалуйста!
— Да, да — страстно твердил я, — очень хочу!
— Тогда идем! — Она взяла меня за руку и потащила за собой к выходу. Мы быстро пересекли двор, побежали садом по склону. Она остановилась только внизу, возле самой Безовки, и указала на одну из яблонь, чья толстая, старая ветвь перекинулась далеко за изгородь.
— Полезай туда, — запыхавшись, коротко повелела Дора.
Я вскарабкался по стволу. Не обращая внимания на опасность разорвать штаны.
— Полезай до самого конца, не бойся… сунь руку… да, туда… Что ты нащупал в этом дупле?
— Бумагу! — растерянно ответил я.
— Так вот, знай — это мое письмо фокуснику. Я недавно его туда положила. Мы не можем посылать друг другу письма по почте, почтмейстер либо почтальон выдали бы нас. Это дупло — наш почтовый ящик. Каждый день я прихожу сюда и заглядываю в него. Ты хотел бы заменить меня? Если мальчишка лезет на дерево, никто не удивится, а для меня это небезопасно, могут выследить. Конечно, читать эти письма ты не посмеешь! Тебе придется соблюдать все меры предосторожности и передавать мне письма лишь наедине. А теперь слезай!
Я послушно спустился наземь.
— Готов ли ты это делать?
Я горячо кивнул головой, стряхивая с себя пыль и мох.
— Сознаешь ли ты, что ставишь и себя под удар? Если тебя прихватят с письмом, достанется и тебе. Может еще и больше, чем мне. Мой отец тебя любит, а тогда, наверно, прогонит с глаз долой. По отношению к нему ты взял бы на душу грех — неужто тебе это все равно?
— Да! — восторженно подтвердил я.
— Ну, ладно. — Взяв мою руку, она прижала ее к сердцу. Я чувствовал, как оно колотилось — по-видимому, столь же бурно, как мое собственное. Я ощутил под рукой ее упругую грудь. Наверняка в ту минуту я сделался белее мела.
— Теперь ты связан словом, — промолвила тихо Дора.
Она могла не сомневаться во мне. Я готов был за нее по капле отдать свою кровь.
ПОСЫЛЬНЫЙ ЛЮБВИ
Моя задача была совсем не трудной — послания, которые эти двое передавали друг другу, можно было пересчитать по пальцам. Кому иному такая убогая романтика могла бы и приесться — только не мне. Редко выпадавшие случаи исполнить поручение лишь подогревали мое усердие. Ни за что на свете я не задержал бы корреспонденцию даже на день! Разве не дал я торжественной клятвы? Разве Дора не была теперь со мной откровенна? Я позабыл предостерегающие рубцы прежних обманов. Согрешить против нее, явить небрежность? Рвение мое было, пожалуй, чрезмерным.
Дважды в день, а иногда и чаще, я прокрадывался вдоль садовой изгороди, озираясь по сторонам, не следит ли за мной чей-нибудь посторонний глаз. Заметив что-нибудь подозрительное, я прятался в кусты у Безовки и, лишь уверясь в полной безопасности, перелезал через плетень сада Ганзелиновых, вскарабкивался по стволу знакомой яблони, шарил во чреве дуплистого сука. Ни разу не довелось мне быть свидетелем обмена письмами: очевидно, они клали их туда ранним утром или поздней ночью. Дорино письмо лежало в дупле подчас три-четыре дня, однако в конце концов исчезало, а на его месте оказывалось пахнувшее пачулями письмецо от фокусника. С какой радостью и гордостью прижимал я его к сердцу, осторожно пробираясь берегом Безовки назад в городок!
С небрежным и лукавым видом входил я в дом Ганзелина. Долго болтался в кухне, на дворе, у порога конюшни, пока не находил случая незаметно сунуть записочку Доре. С каким торжеством поглядывал я на окружающих, которых мне удалось провести, когда Дора, подмигнув, давала понять, что довольна мной!
В ту пору я так упивался своей значительностью, что забыл о могиле ясновидящей. Где-то позади остались мои трепетные мечты и меланхолические вздохи; я весь сосредоточился на единственной цели — исправно служить Доре. Когда-то она сама назвала меня пажом. Я стал пажом своей дамы… Нам вместе было намного лучше, чем когда-либо прежде. Ее связывала со мною общая тайна. Она относилась ко мне приветливо, доброжелательно, улыбалась мне, хотя, наверное, ей не было особенно приятно, что я льну к ее юбке, обмениваюсь с ней неуместными заговорщическими взглядами, то и дело завожу речь об исключительной осторожности, с какой осуществляю обмен письмами. У окружающих наша дружба вызывала только смех. Ее заметил даже доктор. Гелена изощрялась на мой счет в своих грубых шутках:
— Похоже, ты всерьез добиваешься руки нашей Доры? Она поклялась, что обождет, пока ты вырастешь! Кем же ты будешь? Она не из скромниц. Ты бы прежде спросил свою матушку, уживется ли она со снохой!
Эмма смотрела на меня с тихим удивлением и любопытством. Геленины шутки меня нисколько не расстраивали. Напротив, доставляли подлинное наслаждение. Глупые намеки еще более сближали нас. Когда же шутка переходила все границы и у меня возникал повод обидеться, я утешал себя мыслью, что терплю это ради Доры. Даже быть осмеянным ради нее казалось мне высокой честью!
В хмельном очаровании сердечной дружбой пролетел июнь. День моих вступительных экзаменов в реальное училище стремительно приближался. Учитель Матейка был доволен мною и похвалялся перед отцом, уверяя:
— Э, за него беспокоиться нечего! Нет причин! И он это непременно докажет. Знаний у него много больше, чем положено гимназисту третьего класса. Все будет зависеть только от французского языка. Может ли старый Фриц дать вам столь же надежные гарантии, как я?
Фриц шевелил моржовыми усами, будто щупальцами:
— Французский язык? Не хочу хвастать, но подготовил я его хорошо. Если не оробеет или не случится чего-нибудь непредвиденного, не вижу ни малейшей опасности провалиться.
Отставной учитель был более сдержан в обещаниях, чем Матейка, допуская обстоятельства, о которых тот и знать не хотел.
Не будь Доры и моего всепоглощающего служения ей, я, возможно, и побаивался бы предстоящих событий. А тут на раздумья у меня просто не оставалось времени, как и на то, чтобы замечать, что происходит дома. Между тем именно там строились планы, заслуживавшие пристального внимания.
Родители мои, собравшись вместе, разговаривали оживленнее, чем прежде. И я часто заставал их за интимной, вполголоса, беседой. Щеки отца розовели сильнее обычного, пики кайзеровских усов торчали круто вверх, вся фигура словно расправилась, лицо сияло. Мать тоже находилась в необычном для нее приподнятом настроении, словно предвкушая нечто радостное. Она даже иногда напевала, встав ото сна, словно грядущий день должен был принести ей исполнение желаний! Просто не могла дождаться, когда же отец вернется из своей канцелярии. Догадаться об истинной причине этих перемен было не слишком трудно, стоило лишь чуточку навострить уши. Отец по совету матери подал прошение о переводе. Захолустный городишко был для нее слишком тесен, ей, с ее жизненными планами здесь негде было развернуться. Согласно сведениям, доходившим до отца от его друзей, все складывалось наилучшим образом.
Я не придавал большого значения таинственным беседам родителей. Уже не впервые отец устремлялся навстречу будущему, как игрок, делающий крупную ставку. Наша семья, подобно многим чиновничьим семьям, жила надеждами. По прошествии нескольких лет отец, комиссар уездной управы, претендовал на должность начальника уезда. В порядке вещей было упиваться этими надеждами все последующее время, пока они не будут осуществлены. Такую же роль играли и чудные грезы о переводе из Старых Градов.
Все чаще обращался ко мне отец с вопросами типа: «Что бы ты сказал, если бы мы переехали в другой город, где есть, к примеру, средняя школа? Неплохо бы, правда? Нам не пришлось бы помещать тебя у чужих людей. Жил бы дома. Но, как мне кажется, тебя это не трогает? По твоему лицу незаметно, чтобы тебя это радовало!» Как могли занимать меня все эти воздушные замки, когда существовала более доступная и интересная реальность в виде Дориного письма в дупле яблони, за которым уже пять дней никто не приходил? Возможно, что как раз сегодня, высвободясь из клешней учителя французского языка, я обнаружу в созданном природой почтовом ящике долгожданную перемену.
Мать, заложив одну руку за спину, а мизинцем другой прижав губы, расхаживала по комнатам. Мысленно она уже переставляла предметы меблировки в других, более просторных помещениях. Выбрасывала те, что, по ее представлению, уже не годились для будущей квартиры. Перспектива переселения захватила ее целиком; одной ногой она уже стояла вне Старых Градов. Отказ от этой надежды явился бы для нее огромным разочарованием. А для меня как раз наоборот! Остаться в кругу семьи, отступившая в далекое будущее необходимость жить у чужих людей — все это весьма слабо умеряло боль, какую я испытал бы при мысли, что должен навсегда оставить городок, где жила Дора. Я и думать не хотел, что планы родителей могут осуществиться, что не суждено мне больше наслаждаться сиянием бархатных очей, ощущать мимолетное прикосновение ее нежной руки, видеть ласковую улыбку на ее полных губах!
Отъезд в училище означал разлуку, но лишь временную. С этой неизбежностью я уже кое-как примирился. У меня оставалась все же надежда, почти что романтическая надежда на возвращение. После двух-трех месяцев жизни в пустыне спешить навстречу Дориным объятиям! Но расстаться навсегда? Навсегда — какое ужасное слово! В своем безрассудстве я даже в мыслях не допускал подобного несчастья. Таким безрассудным может быть лишь уже вкусивший обманчивого блаженства человек, который, даже видя тучи на дотоле безоблачном небе, не сознает, что надвигается буря.
ТЬМА ПЕРЕД БУРЕЙ
Стоит упомянуть, что в том критическом месяце, июне, который таил в себе столько возможных развязок, учитель Пирко, словно бы наконец преисполнясь решимости, осаждал дом Ганзелиновых настойчивей, чем когда-либо прежде! Видно, и он поддался психозу, охватывающему людей, когда над их головами сгущаются тучи и внутренний голос подсказывает им, что приговор судьбы трепещет на острие грядущего мгновения. Учителя, как всякого мямлю, должна была постичь кара провидения, а чтобы разочарование его оказалось впоследствии еще горше, жаркое лето разожгло в его жилах чувство, до тех пор подавлявшееся соображениями выгоды. После многих месяцев колебаний учитель потерял голову затем лишь, чтобы позднее кусать себе локти: ведь сделай он этот шаг своевременно, он мог бы получить сокровище, которое прежде не ценил и которое вечно будет маячить перед его глазами во всем своем волшебном блеске.
А уж Дора! Если раньше она хоть изредка терпела его, то ныне откровенно давала понять, что он ей противен. Мужчины — поразительные создания. Хотя Дорин отказ глубоко уязвил самолюбие учителя, любовь к ней запылала в нем еще сильней. Червеобразные губы Пирко уже не улыбались. Он либо торчал в экстазе под окнами докторского дома, либо прогуливался по деревенской площади с опущенной головой, задумчиво крутя за спиной свою трость. Он пребывал тут постоянно, точно насовсем переселился сюда, храня страдальческое выражение на лице, искаженном любовной мукой. Молодой человек, известный своей заносчивостью, трезвонивший по всему городку, что он свою молодость задешево не продаст, вдруг утратил даже признаки былого высокомерия, нимало не заботясь о том, что смешон. Покорно, со связанными руками, отдал себя на растерзание злоязычным староградским сплетницам.
— Гляньте-ка, его просто шатает! Вот она, любовь! У него, верно, и до пива пропала охота. Сидит себе один в трактире в уголочке, курит и ни с кем не разговаривает. А потом снова несется опрометью к своей избраннице, которая его в грош не ставит. Забыл небось, спесивец, что мошна-то у Ганзелина пустая? А девчонка ломается, чтобы покрепче его к себе привязать. Либо еще настолько глупа, что рассчитывает на лучшую партию, а это уже и вовсе напрасно.
Учитель ничего не видел и не слышал, хотя мог бы слышать и догадываться, что о нем злословят. Он заказал себе новую пару — брюки с широкими штанинами и короткий пиджак, надел на голову престранную шляпу, по тем временам последний крик моды — из тех жестких черных соломенных шляп, которые украшали мужские головы лишь один сезон, чтобы год спустя оказаться на свалке. Черная, лихо сдвинутая набекрень шляпа на голове учителя, была пиршеством для очей Гелимадонн. Даже худая и неразговорчивая Лида улыбнулась, увидев, как сей умопомрачительный головной убор поплыл мимо окон амбулатории. А Гелену словно бес обуял, в восторге она хлопала себя по ляжкам, и ее грубым шуточкам не было конца.
Однако в ухаживаниях Пирко за Дорой Ганзелиновы видели не только повод для насмешек. Переменчивые в своих настроениях, наивные старые девы часто корили Дору, что она чрезмерно сурова с учителем. Еще бы! Разве хоть одной из них повезло в жизни так, как Доре! Разве хоть за одной кто-нибудь ухаживал с такой настойчивостью? Нет, ни за одной! И как легкомысленно она относится к браку!
— Ты, верно, вообразила, гусыня, что за тобой принц с изумрудом во лбу явится! Образумься, примирись с его низкорослой фигурой, одутловатым лицом, кривыми ногами, а то будет поздно. Привяжи его, пока он сгорает от любви. Быть может, это твой последний шанс. Не полагайся чрезмерно на свою красоту, красота увянет, вот увидишь! Погляди на нас! Все это и тебя ждет. Морщины, распухшие суставы, впалая грудь. Если Пирко хочет жениться — хватай его и не отпускай. Какой-никакой, а все же мужчина и, по-видимому, позабыл, что ты бесприданница.
Я оскорблялся за Дору. Меня огорчали эти мучительные для нее разговоры. Чтобы она, желаннейшая из женщин, ожидала снисходительного приглашения от Пирко вместе идти по жизненному пути! А почему бы и не явиться тому принцу из сказки, о котором они говорят? На мой взгляд, она была бы ему под стать.
Однажды, романтическим вечером — над деревенской площадью, подобно гигантскому лампиону, висела луна — я подходил к дому Ганзелина, как вдруг до слуха моего донеслись причитания и женский, похожий на младенческий, плач. Затаив дыхание, я подкрался ближе, тенью проскользнул в калитку. Они сидели на ступеньках крыльца, одна над другой, будто куры в курятнике. На самом верху, прислонившись к перилам, гордо вскинув голову, сверкая очами, сидела Дора — олицетворенное высокомерие. У ее ног, скорчившись — Эмма. Ниже, обхватив руками колена, — Мария, дальше — Лида, спрятав лицо в ладонях. Рыдания исторгались из костлявой груди Гелены. Она выла, как шакал на луну, слезы градом катились ко ее щекам. Ничего подобного мне еще не доводилось видеть и слышать.
— Боже ты мой, — упрекала Гелена Дору, — ты любишь одну только себя! У нас троих жизнь, почитай, прошла. Ни я, ни Лида, ни Мария никогда уже не дождемся такого счастья, чтобы отпраздновать свадьбу Да что там свадьба, что жених — мы уже давно все это оплакали. Плевать! Но ведь каждая из нас в глубине души еще женщина. Я, к примеру, была бы так счастлива подержать на руках дитя! Своего ребенка мне уж не видать, как и Лидиного, или Марииного, но это мог быть твой ребенок, Дора! Понимаешь? Ребенок, которого ты родила бы для нас всех, чтобы и мы сподобились иных радостей, чем перевязки, стряпня да поденка. Твой долг, пойми, дать нам хоть это, раз во всем остальном отказано судьбой!
Дора могла бы быть настолько благоразумной, чтобы спокойно ответить на этот крик души. Но куда там! Дора, известно, была злой и бесчувственной. Покраснев от злости, как индюк, она вскричала — оскорбленно, негодующе:
— Вы, глупые, противные старые девы! Чтобы вам на старости лет было чем позабавиться, я должна загубить свою молодость. Ну и мерзкие же мысли у тебя, Гелена! Ребенок от Пирко! Замурзанное, большеголовое, страховидное Пирково дитя! Я прямо вижу, как оно открывает свой жабий губастый рот, какая у него шишкастая голова, рыжие волосы! Как склоняется над ним этот недотепа, его отец! Гелена, мой ребенок, если он когда-нибудь у меня появится, должен быть прекрасен, как сама любовь. Он будет пахнуть сиренью, а глаза у него будут бездонны, как синие дали! Его минует наша черная кухня; над своей головой он увидит не бревенчатый потолок — небо! Деревья будут петь ему колыбельные песни, и всякий новый день будет ему в радость. Если у меня когда-нибудь появится ребенок, это будет темноволосое, кудрявое, цыганское дитя! Как ненавистна мне стоячая вода домашнего мирка! Затхлое общество кумушек, выставка мишуры в салонах городских дам, супружеская, похожая на берлогу, постель! Моя жизнь… — Она продолжала бы и дальше повествовать о своих безумных мечтах, если бы они все, даже Лида, не накинулись на нее. Одна Эмма была за Дору. Я вновь почувствовал к ней симпатию.
— Дора права, я думаю в точности, как она. Ни за что не хочу быть старой. Лучше умереть, чем состариться.
На Эмму никто не зашикал. Гелена улыбнулась ей сквозь слезы, вытерев ладонью мокрое лицо.
— А мы вот состарились и, как видишь, не умерли, — печально возразила она девочке.
Разгоревшаяся было семейная ссора погасла. Когда Ганзелин вернулся из трактира, в доме царило меланхолическое спокойствие. Эмма, прижавши к груди руки, расхаживала в сенях и напевала, как бы баюкая невидимого младенца. Гелена с жаром, самозабвенно скоблила в кухне деревянную разделочную доску. Мария в большой комнате стучала на швейной машинке, а Лида, негромко шаркая башмаками, с помелом, точно пугало, бродила по двору.
Я, все еще под впечатлением страстной Гелениной исповеди, сидел на опустевшем крыльце и чертил на земле палочкой контуры головы с моржовыми усами — силуэт своего учителя французского языка. С равнодушной покорностью мерцали на небе звезды. Было темно, безветренно. Внизу под откосом журчала Безовка, словно бы это серебряные волны Млечного Пути катились в океан времени.
КОЧУЮЩЕЕ КИНО
Когда оно прибыло — установить не удалось, наверное, ночью. Утром перед трактиром «У долины», словно с неба свалившись, обнаружился странного вида фургон. После урока французского с учебниками под мышкой, я тоже торчал возле него в толпе своих сверстников. Усатый мужчина в синей рабочей форме копался в его внутренностях; чумазый парень подавал оттуда инструменты. От фургона в трактирный зал, тянулись сплетения проводов. Внезапно усач нажал на какой-то рычаг, и большое колесо с приводными ремнями начало вращаться. Машина гудела, громыхала, так что сотрясался и сам фургон. Бух-бух-бух-бух…
— Это динамо, — просвещал меня Рудольф Циза.
Мужчина в синей форме вразвалку прошагал в трактир, Циза схватил меня за руку.
— Идем!
Мы вошли в зал. Занавес был закрыт белым, натянутым на раму полотном. Окна затемнены. Вдоль стены слабо светилось несколько лампочек. Электричество! На галерее стоял проекционный аппарат, укрытый за черной жестяной ширмой, в которой было вырезано прямоугольное окошечко. Внезапно лампочки загорелись ярче, и одновременно из прямоугольника в ширме вырвался сноп желтого света. На полотне возникло мутное, расплывчатое изображение — улица большого города.
— Эй, молодые люди, выметайтесь-ка отсюда! — прогремел откуда-то с галереи голос усача. — До встречи на сеансе!
Потом мы с Цизой стояли перед афишей. Световой театр обещал пробыть в городке целую неделю и каждый день давать новую разнообразную программу. Сегодня вечером десять фильмов. До первого антракта: «Магическая клетка» (тонированный!), «Преступление на вилле» (самый напряженный сюжет!), «Не копай другому яму» (общественные вопросы), «Маленький Боско» (тонированный, чудо кинотехники!), «Черный князь» (самый драматический фильм). После антракта — следующие пять фильмов, два трагических, два веселых, а на прощанье — еще одно чудо цветной кинотехники.
В тот день я, по правде говоря, даже не заметил, что подавалось на обед. От нетерпеливого ожидания у меня горели уши. Никогда еще не был я на кинематографическом представлении! По всей вероятности, это была еще более замечательная штука, чем чародейство Бальды. На губах отца играла улыбка. Я не спускал с него жадного, молящего взгляда; он положил ложку и с напускным равнодушием углубился в газету. Я разочарованно вздохнул. Тут отец сжалился:
— Тебе, верно, хочется пойти на эту новую комедию? — Я меланхолически кивнул головой. — А подходит ли для тебя эта программа? — Теперь я уже понял, что он шутит. Мать снисходительно улыбалась. — Ну ладно, ладно, — утешил он меня, — вечером пойдем все вместе. — Он любовно погладил свои кайзеровские усы. Видно, сам был рад не меньше меня.
После обеда я помчался прямо к Ганзелиновым. Первой увидел Марию.
— Вы уже знаете?
— Конечно, конечно, само собой, знаем. И даже идем!
— А кто идет?
— Ну, Эмма, Гелена и я. И папа тоже.
Малышка Эмма… Ясно, это она и выпросила. Дора на сей раз не шла со всеми. Сначала она вроде как хотела идти, а потом — я не верил своим ушам — отказалась.
— Представь себе, по кухне должна была дежурить как раз Гелена, но Дора поступилась своим правом в ее пользу. Не то Гелена пострадала бы во второй раз.
Самопожертвование для Доры неслыханное! Я побежал к ней. Она бесцельно бродила по саду, заложив руки за спину, опустив голову, словно о чем-то упорно размышляя.
— Я слышал, — закричал я ей еще издали, — что вы не идете в кино, хотя и могли бы!
Она обернулась.
— Нет, я не пойду, — отрывисто бросила она. — Мне не хочется.
— Как или возможно, — подивился я, — а я думал…
— Ты думал, — ответила она, хмуря лоб, — а я размыслила иначе. — Потом, будто приняв какое-то решение спросила уже спокойнее: — Тебе не кажется, что и Гелене нужно хоть разок поразвлечься?
Петля, еще одна петля — и вот я уже рядом с ней. Смотрю с нескрываемым любопытством. Почему она так строга, как давно уже не бывала? Вдруг я вспомнил. Залился краской.
— Барышня Дора, — смиренно прошептал я, — простите меня, я не посмотрел сегодня, есть ли что для вас в дупле. Это все из-за кинематографа.
— И не надо смотреть, — резко возразила Дора. — Я лазала сама, ничего там нет. Да, знаешь что? — помолчав, прибавила она. — Я решила освободить тебя от этой обязанности. С сегодняшнего дня ты свободен. Не годится, чтобы из-за меня ты забрасывал учение и игры.
Я судорожно глотнул. У меня защипало глаза. Совершенно ясно — она на меня рассердилась. Заныл:
— Вы уж простите меня, барышня Дора, это в последний раз! Больше такого не будет, вот увидите! Примите во внимание, что до сих пор ведь я ни разу не забыл!
Она усмехнулась.
— Успокойся, я не сержусь, право, не сержусь. Выбрось это из головы, — мягко увещевала она меня. — Я расстроена совсем по другой причине.
Теперь уж я непременно захотел узнать, что ее так огорчило. Поскольку я продолжал настаивать, она отослала меня домой.
— Если не хочется домой, иди к Марии или к Гелене. Поговори с ними. Пойми, я сейчас хочу побыть одна.
Она прикрыла глаза рукой. Что-то и вправду мучило ее.
Я сделал несколько шагов, но потом опять остановился. По каким-то подсознательным мотивам мне было очень тяжело покидать сегодня Дору. Я сорвал с одной яблони скрученный листик. Внутри него оказалась извивающаяся зеленая гусеница. Я бросил ее на землю и раздавил. С упреком оглянулся на Дору, наши глаза встретились. Наверное, она поняла мою печаль, а может, ей и самой неприятно было таким образом меня прогонять. Она ласково поманила меня пальцем. В мгновение ока я очутился возле нее.
— Ну что ж, — сказала она слабым, прерывающимся голосом и несколько раз повторила. — Ну что ж! — Положила обе руки мне на плечи, заглянула в лицо. Почудилось мне или на самом деле в глазах ее заблестела влага? Меня это взволновало до глубины души. Дора разгладила мне волосы ото лба на обе стороны, точно хотела разделить на пробор. Помолчала.
— У вас какая-нибудь неприятность? — с сочувствием спросил я. — Кто-нибудь огорчил вас или обидел? Как рад был бы я чем-нибудь вас утешить! Да не знаю, чем.
— Нет, никаких неприятностей не произошло, никто ничего худого мне не сделал, — быстро проговорила она с какой-то болезненной улыбкой. — Правда, правда. А ты славный мальчуган. Очень славный. Я не всегда обращалась с тобой так, как ты того заслуживал. Думаю, частенько обижала. Прости меня, пожалуйста.
— Барышня Дора, — бормотал я, — барышня Дора… — Я хотел сказать, что слова ее отдаются во мне печалью, а похвала звучит так, будто она прощается со мной. Но Дора не дала мне договорить. Взяла за плечи, круто повернула к себе спиной.
— Ну, а теперь ступай, — ласково промолвила она. — Слышишь? Ступай же. — И легонько подтолкнула вперед.
Я неохотно подчинился. На языке у меня вертелось множество невысказанных вопросов. Почему она так странно вела себя? Откуда такой не свойственный ей ласковый, материнский тон? У меня защемило сердце. Я присел на порог Ганзелинова дома, где еще так недавно радовался предстоящему вечернему киносеансу. Дора садом спускалась к Безовке. Мне были видны ее голова, плечи, на которых лежал соскользнувший с головы красный платок, затем лишь только грива ее черных волос — и все. Она ни разу не обернулась.
Мимо прошла Лида, пытливо заглянула мне в лицо. Я с трудом попытался изобразить беспечную улыбку. Прикусил губу, чтобы превозмочь волнение. Почему вдруг овладела мной такая тоска? Может, это было предчувствие?
ПОБЕГ ЛЮБОВНИКОВ
Черный принц уносился от своих преследователей, а граммофон хрипло пел одну и ту же смешную песенку: «Пикколо, пикколо…» Копыта призрачных коней били по моему мозгу, обтрепанная кинолента прокручивалась с мучительной назойливостью. Порою на ней возникала просвечивающая звездообразная дырка. Вдруг вместо джунглей на экране появилась одинокая вилла с садом, грабители в масках дергают звонок у калитки. Прежде чем ты, несчастный соня, оденешься, они задушат ничего не подозревающую служанку, сумеют увлечь из дома хозяина, а жене его не останется ничего иного, как укрыться со своими детьми в спальне и забаррикадировать дверь. Неописуемо волнительная минута! Слава богу, в комнате у хозяйки — телефон, на другом конце провода — испуганное лицо мужа, и два полицейских уже садятся на велосипеды. «Пикколо, пикколо…» — мило щебечет граммофонная пластинка. Баррикада из столов и стульев рушится, но тут на плечо грабителя опускается тяжелая рука. Это не значит, что можно перевести дух. Вот мужчина и девушка целуются в саду; из кустов злобно поблескивают чьи-то ненавидящие глаза. Обеденный перерыв окончен, мужчина, целовавший девушку, влезает в бадью, его соперник, крутя ворот, спускает бадью в глубокий колодец. Там, внизу, в темноте, бадья повисает над водой, а человек наверху с сатанинской улыбкой вытаскивает из кармана нож, чтобы перерезать веревку. Легкий ветерок шевелит во дворе травку, видно, как покачиваются стебли, куры спокойно разгребают песок, клюют, кудахчут. Кино, правда, немое, но куры кудахчут громко. Может, это и не куры? Неужели уже утро и это во дворе под окнами судачат служанки? Уж очень оживленно они что-то обсуждают. Я не мог разобрать слов, глаза у меня слипались, их щипало от вчерашнего переутомления, побаливала голова. Да и во́рот колодца — это тоже не из кино, — какая-то женщина сноровисто качает воду из старой проржавевшей колонки. Что же, собственно, было дальше? Да, бадья с всплеском падала в воду, мужчина во тьме отчаянно барахтался на черной поверхности, к счастью, ему удалось уцепиться за выступ на срубе… Господи, но что же так взбудоражило служанок? Галдят, будто стая ворон. Я перевернулся на постели, приподнял голову, с трудом разлепил веки. В глаза ударил слепящий поток света.
— Ну и ну! Кто бы мог поверить? — изумляется внизу писклявый голосок. — Вот это сюрприз для доктора Ганзелина! В доме пусто, а на столе записка. От нее. А самой девчонки след простыл! Боже святый, как он был, наверное, потрясен!
В то же мгновение я вскочил и сел на краю кровати. Страшный киносон прервался! Я еще ничего толком не понял, но сердце мое забилось часто и тревожно.
— Что было в записке?
— А никто не знает. Он сунул ее в карман.
— Матерь божья, ну и дела! Барышня убежала с бродягой!
Голос захлебывался от восторга. Тут же послышалось недовольное бормотание — то наша старая Гата.
— Могли бы хоть это про себя держать, а то раструбили по всему городу! Приличнее-то было б промолчать.
Противный, визгливый голос подхватил:
— Да уж куда как приличнее! Ан нет, старшая с раннего утра бегает из дома в дом по деревенской площади и разносит эту новость.
Я никак не мог отыскать чулки. Проклятье, куда они только запропастились? Чулки, правда, оказались там, где были брошены вечером: потом я никак не мог натянуть штаны и долго плясал на одной ноге, прямо исполнял какой-то акробатический танец. Коленки у меня дрожали, руки тряслись, перед глазами плыли темные круги. Конечно, это Дора! Дора и фокусник! Они сбежали вдвоем. Ночью, когда все остальные были в кино. Все теперь стало мне ясно — и Дорино самопожертвование, и ее желание остаться дома, и ее задумчивость. Я слышал за стеной мерное дыхание отца. Да, было еще очень рано. Пускай себе спят, а мне ждать невмоготу! Кубарем скатившись по лестнице на кухню, я увидел Гату. Она уже вернулась домой и заливала спиртовку, готовясь варить кофе.
— Гата, — с мольбой кинулся я к ней, — это правда?
— Да уж коли весь город только об этом и трезвонит, стало быть, правда, — рассудительно ответила Гата.
Забыв надеть шапку, я выбежал на площадь. Я был уверен, что мир перевернулся вверх тормашками, что бушует потоп, дома развалились, горы рухнули и дымящаяся серная лава хлынула на город от вратенского родника. Я хотел своими глазами видеть последствия катастрофы. Ничего подобного! Площадь выглядела как обычно. Лавочница подметала тротуар перед своим порогом, на ее затылке подрагивал жидкий пучок волос. Я укрылся за столбом.
— Ну, что вы на это скажете? — спросил кельнер из трактира «У солнца».
Метла на мгновение замерла.
— Вроде бы девица совсем ничего с собой не взяла. Лишь кое-что из белья; да его, впрочем, не больно-то у нее и много было. Ну, еще платье, которое на ней.
Мне следовало догадаться, что они будут говорить лишь об этом, о чем же еще им говорить?
Брезжившая в моем сознании мысль проступала все отчетливее: Доры нет, и она больше не вернется. Я уже никогда не увижу ее. Все мое существо сковала безнадежность: никогда мне больше не увидеть Дору. У меня подкашивались ноги.
Я обогнул палатку булочника. Булочница, уперев руки в бока, стояла на порожке и внимала рассказу своей служанки, глупой бабы с утиным носом.
— Старый Ганзелин только что вышел из дому. Наверно, в жандармерию. Боже правый! Куда она могла убежать с этим фокусником? Далеко-то им не уйти.
— Поди знай! — возразила ей булочница, — девица совершеннолетняя. Жандармам тоже не просто будет вмешаться.
Бывает так: дождь непрерывно льет над рекой, вода в ней помутнеет, но с виду остается в своих берегах. Нечто подобное происходило у меня на душе. Непрестанные толки, дополняющие и уточняющие одну и ту же новость, однообразные маленькие круги, расходящиеся по водной глади, а под поверхностью — мое душевное отчаяние, безмерная усталость… Случилось что-то непоправимое. Там, за неким пределом, осталась вся радость моей жизни. Вокруг меня пустота, и нет соломинки, за которую я мог бы ухватиться! Я тонул, погружаясь все глубже и глубже. Солнце сияло не для меня, не для меня веял свежий ветерок с душистых лугов. Мне хотелось кричать, прижаться к чьей-то груди и плакать. Как я был одинок в то сиротливое утро!
Мне вспомнилась женщина с Чигаржской Гарты, что приезжала осенью с мужем к Ганзелину. Передо мной всплыло ее лицо: вместо рта — сплошная гноящаяся рана, красные глаза, смрадное дыхание. Оборотная медаль похождений! Ведь и она убежала со своим любовником! Меня охватил ужас: та женщина — и Дора… Не вернется ли она когда-нибудь в подобном же обличье? А я собственными руками вручал ей письма, и они подталкивали ее на этот безумный шаг! Я — непосредственный виновник ее несчастий, я споспешествовал побегу!
Ноги сами несли меня к деревенской площади. Это был поистине крестный путь. Возле пивоварни мне повстречался учитель Пирко. Щегольская шляпа его была надвинута на глаза, лицо хмурое. Я поздоровался, он не ответил, вероятно, просто не видел меня. У сторожевой башни учитель в нерешительности остановился, затем повернул обратно. Я слышал позади себя его неуверенную поступь. Он никак не мог выйти за границы деревенской площади. Обманутый влюбленный брел — по кленовой аллее, а я, покинутый влюбленный, робко шел впереди него.
Звук наших шагов гулко раздавался на мостовой. В кронах деревьев беззаботно распевали птицы.
Перед домом Ганзелина на скамейке кто-то сидел, — чья-то съежившаяся фигурка в белом. Глаза мои застилала пелена, я не мог различить лица. Подойдя ближе, я увидел, что это Эмма; остановился перед ней.
Она сидела спиной ко мне в какой-то странной позе, одну ногу положив на скамейку и свесив другую, будто она была сломана. Лица ее не было видно. Мимо нас, как голодный бездомный пес, прошел Пирко. Я робко сел возле Эммы на скамейку, на самый краешек. Она бросила на меня пронзительный взгляд. Я что-то пробормотал, она не ответила. Я устроился поудобнее. Мы оба молчали.
— А что твой папа? — спустя какое-то время выдавил я из себя, тяжело ворочая языком. — Папа еще не вернулся?.
Она качнула головой.
— Говорят, он пошел за жандармами, — продолжал я, глядя в землю. — Это правда?
Она опять помотала головой, теперь более решительно.
— А куда же он пошел?
— Пошел немного пройтись, — прошелестела она.
Я облегченно вздохнул.
— А он что-нибудь собирается делать? Что вы все будете делать? — Зубы мои выбивали дробь. Что предпримет доктор Ганзелин? Я не представлял, как он поступит в этом случае. И с ужасом ждал ответа Эммы.
Она ничего не отвечала. Неожиданно соскочила со скамейки и шмыгнула в калитку; я последовал за ней. Однако тщетно оглядывался я по сторонам. Эмма будто провалилась сквозь землю.
С опаской вступил я в сени. Повсюду тишина. Постучал в дверь, ведущую на кухню, — ни звука. Я приоткрыл ее. В ноздри мне ударил запах кофе, пар из кипящего чайника поднимался к потолку. И здесь не было никого. Я осторожно притворил дверь. Дом стоял словно зачарованный. Меня взяла оторопь. Я вышел, остановился на пороге.
Вдруг под чьими-то шагами заскрипела лестница. Я отшатнулся к стене. Мимо прошла Лида, точно безгласный призрак, Она не заметила меня, а я не отважился ее окликнуть. Лида скрылась в конюшне. Как быть дальше?
Я решил идти домой, но у самой калитки столкнулся с Марией.
Обняв меня за плечи, она ласково и печально заглянула мне в глаза. Я опустил голову.
— Дора покинула нас, — сказала она тихо. — Никто ничего не подозревал. А она ушла.
— Знаю, — с огромным усилием выговорил я. И тут вдруг весь затрясся от судорожных рыданий. Я приник к ее плечу, тяжко, надрывно всхлипывая.
— Ну вот и ладно, и поплачь себе, поплачь, — нежно гладя меня по голове, приговаривала Мария. — Выплачешься, оно и полегчает.
КРУГОВОРОТ СОХРАНЕН
Вернувшись поздно вечером из кино, Ганзелиновы долго и безрезультатно стучали в ворота, удивляясь, до чего крепко спит Дора. Наконец Лида в каком-то озарении пошарила в стенной нише за скамейкой, где обычно висел ключ в тех редких случаях, когда вся семья отлучалась из дома. Странно, но ключ был там! Охваченные недобрым предчувствием, они молча вошли в кухню. Пол был тщательно подметен, стол выскоблен, кастрюли аккуратно выстроились на полке. Однако Доры не было ни слышно, ни видно. На столе лежала записка.
Ничем не выдавая своего волнения, не торопясь, Ганзелин прочитал при свете свечи густо исписанный листок. Дочитав, аккуратно сложил и сунул в карман. Затем повернулся к дочерям, которые, замерев, следили за его действиями, обвел их мутным, тяжелым взглядом. Щеки его побагровели более обычного, выражение лица стало еще более напряженным. Губы доктора с трудом шевелились, будто ему хотелось избавиться от неприятного вкуса с трудом проглоченного горького куска.
— Дора ставит нас в известность, — начал он хрипловатым голосом, подчеркивая каждое слово, — что навсегда покинула наш дом. Она собирается выйти замуж за фокусника, который был тут весной и у которого умерла жена. Дора ничего не требует от нас и ни у кого не просит прощения. Она в совершенстве овладела мнемотехникой и научилась разным трюкам: ей кажется, что она станет хорошей помощницей своему мужу. Она не пожелала раньше открыть нам свои намерения, опасаясь, что мы этому воспрепятствуем. Жизнь в городке была ей не по душе, работа по дому, дежурства в амбулатории невыносимы. Я был недостаточно добр к ней, а вы никогда по-настоящему ее не любили. Она уверяет, что нашла свое счастье и, даст бог, никогда не ощутит желания вернуться к нам.
Губы его исказились усмешкой, на щеках выступило по красному пятну величиной с кнедлик.
— Никто из нас, ни я и ни вы, не в состоянии убедить ее, что счастье, как она себе его представляет, не есть счастье и не будет им. Она просит нас больше не беспокоиться о ней. Полагаю, самое разумное в данном случае — удовлетворить ее просьбу.
Он помолчал и еще раз обвел всех взглядом.
— Я естественно чувствую себя оскорбленным. — Он громко откашлялся, голубые жилки проступили на его висках. — А посему отныне об этом у нас разговора больше не будет.
Он сел на стул у двери; ссутулясь и тяжело кряхтя, снял сначала один ботинок, затем второй и аккуратно поставил их возле плиты. Потом в одних носках вышел в сени и стал подниматься по лестнице в свою комнату. Даже не хлопнул дверью.
Эмма, — все-таки она была еще ребенком, — заплакала. Гелена разразилась бессмысленной и грубой бранью. Лида, неестественно прямая и тихая, заложив руки за спину, расхаживала по горнице. В ту ночь спала только Эмма, успокоившаяся в конце концов в объятиях Марии.
Рано утром Ганзелин встал и отправился на прогулку, и это было единственным отклонением от привычного распорядка.
— Куда же он, собственно, пошел? — спросил я Марию, которая все это рассказала мне спокойным, чуть грустным голосом.
Я еще питал сомнения относительно загадочной вылазки доктора, о которой по городку кружили ошеломительные слухи.
— Точно не знаю, но в одном уверена — он не пошел заявлять о розыске Доры, — нехотя усмехнулась Мария. — Раз он сказал, что не станет более беспокоиться о ней, то уж сдержит слово. У нашего отца твердый характер. А ведь на самом деле он чувствует себя глубоко несчастным, хотя и скрывает это. Если бы Дора вернулась, уж не знаю, чего бы ей стоило вымолить у него прощения.
— Наверное, это вы только так думаете, барышня Мария, — возразил я, слабо надеясь на утешение, — ведь он все-таки любит ее и не оставит — случись с ней какое несчастье.
— Только ничего подобного никогда не произойдет, — поспешно заключила Мария. — Дора так же упряма, как и отец. Если уж она на что-то решилась, то ни себе, ни кому еще не сознается в своей ошибке.
Мария была права. Верить в Дорино возвращение было просто-напросто бессмысленно. Я лишь судорожно сглатывал слюну. Горечь слез, выпитых мною, обжигала мне горло. Я хмуро уставился в землю. А когда поднял глаза, вздрогнул от невыразимого страха. Передо мною, будто выросши прямо из мостовой, стоял доктор Ганзелин.
Устремив на меня острый, пронзительный взгляд, он точно хотел им измерить глубину моего к нему сыновьего чувства. Этим взглядом он как бы предостерегал: «Никогда не допусти предательства, подобного тому, какое узнал я от своей родной дочери!», как бы вбивал мне в голову четвертую заповедь. Я вспыхнул до корней волос. Он закряхтел, мотнул головой, тщательно вытер ботинки у порога и вошел в сени.
Мы с Марией молча, покорно двинулись за ним. Широко распахнув дверь в амбулаторию, он не затворил ее за собой. Сдвинул шапку на затылок, постоял у стены, где висел календарь. Было ясно, что его действия рассчитаны на зрителей. Некоторое время он шарил в карманах, словно что-то искал. Наконец вынул карандаш. Послюнив его, как это делают дети, склонился над внутренним картонным кругом и жирно, крест-накрест, зачеркнул слог «До», знак имени Доры. Затем столь же твердо, со стиснутой челюстью, вывел над «До» букву «Э». С той минуты Эмма сделалась частью неумолимого круговорота.
Вот каков был помысел, который вынашивал Ганзелин во время своей утренней прогулки!
Эмма, любимая дочь, до той поры вольная, как пташка, не будет больше носиться по своим незапретным дорогам. Хилая девчушка, за чье здоровье опасались все, кто ее знал, будет обихаживать больных, работать на кухне, в саду, на конюшне, в поле. Не найдется у ней времени навещать свою милую подружку, что стоит на вратенском холме, вить веночка из полевых цветов, беседовать с ветром и птицами. Она натянет белый медицинский халат, сунет маленькие ножки в почерневшие деревянные башмаки, нахлобучит на голову бесформенную соломенную шляпу, а на руку повесит старую кошелку. И, оснащенная этими символами труда, покорится участи Гелимадонны, изо дня в день живущей лишь своими будничными заботами.
Чья же головка прильнет к отцовскому плечу, если Эмма окажется привязанной к кастрюлям, если ее пальчики почернеют от картофельной шелухи, если ей придется гнуть спину над грудами белья? Раз в четыре дня Ганзелину придется ехать на заднем сиденье одному.
— Но этого делать нельзя! — воскликнула Мария, когда Ганзелин оборотился, точно желая похвалиться содеянным. — Она такая слабенькая, такая юная и так непривычна к тяжелой работе!
Доктор взглянул на нее с той суровостью, на какую имеет право лишь господь бог, укрытый за святой Троицей, но ничего не ответил. Что ему возражения? Чего стоил этот отпор? Достоинство отца не позволяло ему препираться с дочерьми!
Смысл поступка Ганзелина был, разумеется, ясен насквозь. По его собственному признанию, он чувствовал себя глубоко оскорбленным. Великий гнев должен повлечь за собой справедливое возмездие. Но поскольку виновница скрылась, то Ганзелин наказал самого себя. Он превозмог в себе слабость, питаемую к младшей дочери. На чью же голову падут укором последствия этого решения? Разумеется, на Дорину! Кто причина того, что имя Эммы появилось на палаческом круге? Дора! Поскольку Дора ушла, бросила свои обязанности, ее должен кто-то заменить. Именно она надела ярмо на шею девочки с глазами цвета незабудок. Немигающим взором, стиснув зубы, Ганзелин будет глядеть, как это хрупкое создание тащит на спине мешок с клевером, до кровавых мозолей отскабливает старое деревенское крыльцо, из последних сил рыхлит мотыгой твердую землю. Мученически подавляя в себе жалость к Эмме, будет Ганзелин укрепляться в своем праве гневаться на неблагодарную Дору.
Дора бросила знамя. Думала лишь о себе, забыв, что кто-то другой пострадает из-за нее. Нет, нарушить логический исход ее преступного деяния означало бы облегчить ей ее бремя.
Нет, пусть распластается под тяжестью смертельного греха! А Дорина совесть, даже если сама она об этом и не ведает, будет делаться чернее день ото дня. Ганзелин ее не пощадит. Пускай она теперь блистает там, в своей земле обетованной, пускай морочит головы деревенским олухам своими дешевыми трюками! Ганзелин — человек благочестивый. Наступит день, когда при раскатах грома и грозных звуках небесных труб он встретится лицом к лицу с дочерью и, указуя перстом, молвит: «Видишь, — вот твоя вина, она росла, подобно снежному кому, в то время как ты беспечно нежилась в любовных объятиях своего фокусника. А посему нет тебе прощения!»
Покинутый отец, Ганзелин, станет жертвой злоязычных городских сплетниц. Однако он не опустит головы, хоть язвительные слова тысячекратным эхом отдадутся в его душе. Причиной позора, который падет на его седины, тоже будет Дора. А он, важно надув щеки, застегнув пальто на единственную пуговицу над круглым брюшком, пройдет по тротуару, победно стуча своей палкой, словно забивая гвозди в собственный гроб. Дора укоротит дни его жизни. Вот как все должно быть. И да будет так. Но час расплаты настанет. Ганзелин дождется его — на этом либо на том свете.
Эмма, это счастливое, свободное дитя, — как много она могла бы пережить хорошего! Юность, какой не выпало на долю ни одной из ее сестер. Первое очарование самой собою, первое, действительно прелестное девичье платье, первый бал, первая любовь, радужные, крепнущие, осуществленные мечты. Но отныне всякие надежды она должна выкинуть из головы — из-за Доры. Наверное, в конце концов она ее возненавидит. Семя брошено и прорастет. А он, Ганзелин? Виноват ли он в том, что не смог выполнить данное самому себе обещание? Подобно злой ядовитой змее, поползет цепочка последствий. Однажды она затянется на Дориной шее. На ее прекрасной, смуглой шее!
Я вырвался из рук Марии и побежал в сад. Почему именно в сад? Разве не понятно? Повинуясь тому же внутреннему побуждению, которое вело Иуду к подножию Кальварии, манившей его трепетанием листьев на осиновом дереве.
Я, съежившись, сидел под яблоней, которая протянула над оградой свою проклятую, дуплистую руку. Содрогался от ужаса. Ведь не только Дора, но и я тоже! Я тоже понесу это бремя на своих плечах. И моя ноша будет увеличиваться день ото дня, а совесть чернеть и чернеть. Дора виновна, но наравне с ней виновен и я. Не рассказал, хотя должен был рассказать. Все выглядело бы теперь иначе, не поддайся я искушению, внушенному нежным голосом. Ах, если бы я мог завыть в голос! Но теперь я оказался начисто лишен малейшей способности плакать. Уперся взглядом в склоненное дерево, будто на его коре были вырезаны письмена, в которых заключался мой приговор.
Внутри меня поселилась пугающая тишина — казалось, что даже и сердце не бьется.
Солнце поднималось надо мною все выше и жгло, словно адский огонь.
РУХНУВШИЙ МИР ДЕТСТВА
Что-то во мне разбилось. Я утратил интерес ко всему, что до сих пор меня занимало, в душе образовалась непостижимая пустота. Я тупо смотрел в одну точку, вздыхал без причины, не понимая, что со мной происходит.
Однажды, сидя в своей комнатке, я повторял историю. В окно влетела оса и с яростным жужжанием начала метаться вдоль занавески, точно подрубала края. Она то приближалась, то отлетала прочь на средину открытого, голубого четырехугольника; потом что-то снова влекло ее назад, и оса возвращалась, запутываясь в тюлевой сетке. Я совсем забыл о раскрытой передо мной книге, весь сосредоточился на одном: удастся ей вылететь или нет? И не услышал, как скрипнула дверь. Внезапно меня обволокло ароматное облако. Этот аромат! Полузакрыв глаза, я вбирал его всеми своими расширившимися легкими; в груди моей разливалось блаженство. Дора! Вдруг она заговорила. Ну, разумеется, это был всего лишь холодный, насмешливый голос матери. Я испуганно вздрогнул. На лбу моем выступили капли холодного пота словно меня застигли за каким-то нехорошим делом.
— Отчего ты так испугался? — спросила мать. — Почему сидишь и все смотришь в окно?
Мурашки пробежали у меня по спине; я покраснел так же сильно, как перед тем побледнел — на сей раз — от глубочайшего разочарования…
Небрежно сунув под мышку книги и тетради, я брел под аркадами с урока французского языка, — удивительно, как еще книги не валились у меня из рук, В голове — пустота. Жаркий августовский день обручем сжимал голову. Руки-ноги как ватные. Прежде я любил сладости и не мог пройти мимо лавчонок, без того чтобы хоть одним глазком не взглянуть на груды лакомств. Теперь же с полнейшим равнодушием я взирал на самые заманчивые витрины. Ничего не хотелось. Запах подгнивших фруктов, смешавшийся с запахом подвальной сырости, даже вызывал тошноту. Я мечтал только о том, как бы поскорей добраться до дома, лечь на кушетку и закрыть глаза. Дремота приносила мне некоторое облегчение. Вдруг кто-то коснулся моего плеча. Воспоминание о чем-то давнем и дорогом нахлынуло на меня. Дора вернулась! — подсказывало мне гулкими толчками забившееся сердце, Я не решался обернуться. Голова моя странно кружилась. Меня шатало.
— Что с тобой, что с тобой? — проскрипел за моей спиной голос Гаты. — Никак, тебе дурно?
Как мог я подумать? Откуда бы тут взялась Дора? Она далеко-далеко отсюда. Я стоял и думал: где сейчас находится Дора?
Старушка потрясла меня за плечо.
— Ты чего не отвечаешь? Что стоишь, будто прирос к земле?
Я стряхнул ее руку и в исступлении бросился прочь. Она собирала мои рассыпавшиеся по мостовой учебники и тетради.
За ужином отец испытующе поглядывал на меня, но ни о чем не спрашивал. Мать слегка хмурилась. Ел я мало; прожевав несколько кусочков, отложил вилку.
— Что еще за новости, — рассердилась мать, — у тебя нет аппетита? Объелся чего? Хочешь ослабеть и захворать? И это теперь, когда на носу экзамены?
Я молчал, но она продолжала допытываться. Не в силах этого перенести, я вышел из-за стола. В соседней комнате, гостиной, прилег на кушетку. Здесь было слышно, как родители разговаривали меж собой; я с радостью заткнул бы уши, но необыкновенная вялость овладела мной.
— Это у него уже не первый день, — вполголоса говорил отец. — Он сам не свой, то краснеет, то бледнеет. Ты что-нибудь понимаешь? Я — нет.
— Наверно, боится экзаменов, — предположила мать, — либо перетрудился. Ужасное пекло. Лучше бы не заниматься в такую жару.
— Он оказался без товарищей. Возможно, ему недостает общества. О чем-то все время думает.
Потом они оба пришли ко мне. И, хотя видели, что я валяюсь просто так, на этот раз не стали упрекать. Мать села у меня в ногах. Протянула руку, и, расстегнув пуговицу на рубашке, приложила ладонь к моей голой груди. Сердце мне пронзила такая острая боль, что я вскрикнул. Отчаянно стараясь не показать своей муки, я улыбнулся, но лицо мое, вероятно, исказилось гримасой. Мать обиделась, решив, что я над ней издеваюсь.
На следующий день меня отвел в сторону отец.
— Ты не хотел бы немножко со мной пройтись? — неуверенно спросил он. — После обеда я свободен, а у мамы нет желания гулять. Если ты не составишь мне компанию, придется идти одному.
Я вовсе не жаждал отцовского общества, но он был так ласков, что у меня не хватило духу отказать ему. Он вел меня за руку, как в детстве, когда я был еще маленьким мальчиком. Мы двинулись вверх вдоль аркад. Я шел понурив голову.
Внезапно перед нами открылся вид на деревенскую площадь. Аллея кленов, старинный фонтан посредине. У одного из домов белый щипец, скамеечка под окном. Я глядел на дом во все глаза. Как же давно я здесь не был! С того памятного дня, когда Ганзелин произвел изменения на своем круге. Мне показалось, будто с тех пор минуло не меньше столетия. Я чувствовал, что бледнею, ноги отяжелели, точно приросли к месту, Отец испытующе смотрел на меня:
— Ты не хочешь идти в ту сторону? — негромко спросил он. Я отчаянно завертел головой. — Но из-за этого не обязательно так волноваться. Пойдем куда-нибудь еще. — Он попытался улыбнуться.
Мы вернулись, прошли через городские ворота. Отец без умолку говорил: о домах, мимо которых мы шли, о знакомых, встречавшихся нам, всячески старался наладить разговор. Когда мы вышли на милетинское шоссе, он умерил шаг, пригладил свои пушистые бакенбарды. Заговорил серьезно, понизив голос. Дескать, последнее время я ему не нравлюсь. Не могу ли я довериться ему отцу, и рассказать, что мучает меня? Не случилась ли со мной какая неприятность? Не обременяет ли мою совесть какой-нибудь проступок, которого я стыжусь? Он пообещал мне что любое мое признание будет встречено снисходительно. Нет на свете греха, коего нельзя было бы простить. Я упрямо молчал. Он остановился. Приподнял пальцем мой подбородок и пристально посмотрел в глаза.
— Ну скажи мне! Или ты мне не веришь?
Я с усилием помотал головой.
— Ну теперь вижу, — с горечью промолвил отец, — что ты уже забыл, сколько страдания доставила мне твоя болезнь. Помнишь?
Я кивнул, равнодушно заметив, что не совершил никаких проступков и ничто меня не тяготит. Мы двинулись дальше. Отец не унимался:
— Но твоя хандра не могла возникнуть без причин! Будь же умницей, приди мне на помощь, ведь я хочу тебя от нее избавить!
В это мгновение за спиной у нас послышался топот копыт. Нас догоняла легкая бричка. Уже слышно было, как из-под колес разлетается щебень. Я спрыгнул в кювет и опрометью бросился напрямик через поле. Оказалось, однако, что это не Ганзелин с дочерьми, а деревенская двуколка. На козлах восседала какая-то толстуха, а в пустой повозке лежал только мешок из-под муки.
Отец догнал меня ближайшей тропинкой.
— Чего ты испугался? Чего? А, понимаю. Понимаю, где собака зарыта. Ты побледнел, увидев перед собой дом доктора, а теперь испугался, что это — его коляска. Там у тебя произошла какая-то неприятность. И напрасно далее отпираться. Ну-ка, выкладывай! Ты же видишь, что пойман с поличным!
— Нет, — глухо ответил я, — я ничего никому плохого не сделал. Ничего не натворил. — Ложь царапала мне горло, хотя ведь на самом-то деле я не лгал.
— Ладно, — холодно промолвил отец, — если ты не хочешь сказать, я сам спрошу непосредственно доктора, он мне расскажет. Не в моих правилах выведывать что-либо на стороне, я предпочитаю откровенное признание, но другого мне не остается. Ты что-то скрываешь, тебе изменяет мужество, свойственное, как мне казалось, твоему характеру. Расспросы падут тенью не на меня, а на тебя.
— Не делай этого, прошу тебя, папа! — жалостливо молил я отца. — Ты ошибаешься! Доктор Ганзелин не сможет ничего сказать тебе. — Я представил себе, с каким изумлением взглянул бы маленький багроволицый лекарь на высокого отца, который деликатно, обиняками, о чем-то стал бы у него допытываться. По всей вероятности, Ганзелин сам взял бы меня в оборот. До сих пор не могу понять, почему я тогда так настаивал, чтобы отец отказался от своей ненужной затеи.
— Прошу меня простить, — официальным тоном заявил отец, — но я вынужден предложить тебе досадный ультиматум. Либо ты объяснишь, с чем связана твоя хандра, либо я завтра же исполню свое намерение, независимо оттого, нравится тебе оно или нет.
— Хорошо, я скажу, папа, — с тяжелым сердцем решился я. — Понимаешь, мне нельзя теперь бывать у Ганзелиновых. С того дня, как ушла барышня Дора, там все переменилось. Они все в горе, а меня от этого берет тоска. И я боюсь повстречаться с ними, боюсь, как бы меня туда не пригласили. В этом все дело, ни в чем другом. Поэтому я такой странный. Мне там грустно после ухода Доры. Она мне нравилась больше всех барышень Ганзелиновых.
Отец задумчиво сбивал тростью головки одуванчиков, видимо не зная, верить мне или нет? Сказал ли я всю правду или только часть? Очевидно, уже тогда он начал подозревать что-то. В конце концов лишь молча покачал головой и больше ни словом не обмолвился об этом происшествии. Когда мы возвращались домой, я робко попросил ничего не рассказывать матери. Моя просьба удивила его, но он мне это пообещал.
СОН
Об ту пору мне снились странные сны; чаще всего, будто я летаю. Из ночи в ночь — все один и тот же сон! Привстану на цыпочки, взмахну руками — и вот, небольшим усилием воли, поднимаюсь в воздух и свободно парю. Все выше и выше, под небеса. При этом я был поразительно уверен в себе и ничего не опасался! Внизу снуют люди, дивятся на меня. Они тоже пробуют взлететь, но у них не выходит. А ведь это так легко!
Днем после этих снов я ходил грустный. Во сне летать проще простого, — почему же наяву это совершенно неосуществимо? В конце концов однажды я впал в такое умопомрачение, что на просеке под милетинским холмом, где никто не мог увидеть, принялся неистово взмахивать руками, подпрыгивать, пытаясь оторваться от земли. Потом возвращался домой разбитым и презирал сам себя.
Видимо, от безысходной тоски я тогда несколько тронулся в уме. Сны о полетах мучили меня. И почему бы вместо этих глупостей не увидеть во сне Дору, ее бархатные глаза, полные, яркие губы, смуглое, персикового цвета лицо? Я чувствовал себя вдвойне несчастным оттого, что она и ночью не является мне. Я страстно желал, чтобы мне привиделось нечто чудесное. Наконец мое желание исполнилось.
Мне снилось, будто люди в синей форме, усачи, похожие на того человека, что однажды перед трактиром «У долины» манипулировал с динамо-машиной, снимают с вавржинецкого собора кованый купол. На площади вразброс валялись составные части барабана. Медные пластины походили на разобранный панцирь некоего великана, шпиль стоял наподобие железного обелиска; блестящий золотой петух, прислоненный к стене у аркад возле аптеки, достигал высотою второго этажа. По площади разгуливали диковинные птицы, гигантские голуби ростом с человека, — черные и сизые, они ходили прямо, как люди. Из реплик взволнованных зевак я понял, что птицы эти обитали в разобранной башне, которая со своими голыми балками выглядела теперь точно после пожара, а птицы, лишенные крова, в растерянности бродят по городку. К одной из них я подошел совсем близко. Удивительно, но этот голубь оказался снежно-белым. Я взял огромную птицу на руки, она была легкой, словно из ваты! Я баюкал ее, напевал какую-то грустную песенку, а она нежно прижалась ко мне, положив свой тяжелый, влажный клюв на мою грудь. Я принес ее домой, устроил на кушетке в гостиной. И вдруг, о ужас! Вижу, что птица смотрит на меня тоскующими темными глазами. Боже милостивый, да птица ли это? Ну, конечно, нет — каким-то странным образом она превратилась в женщину. Белоснежная женщина лежала на кушетке, а то, что перед тем было крыльями, теперь стало прозрачной тонкой накидкой, которая распахнулась и обнажила высокую крепкую грудь. Я стоял в углу, не в силах отвести от нее глаз, и, снедаемый стыдом и страхом, молил бога придти мне на помощь. Тогда я не имел еще точного представления о женском теле, а потому у этой птицы — теперь уже было совершенно ясно, что это грешная, жаждущая любви Дора, — грудь была похожа на утиный зоб, все тело было мягким и напоминало бесформенный пуховик. Более всего трогало меня ее молчание и покорность.
Вдруг она подняла тонкие, длинные, извивающиеся руки, дотянулась ими до того угла, куда я забился, и потащила к себе, будто в слоновьем хоботе. Поднесла ко рту, будто намереваясь съесть — ее упругие, полные губы разжались, но только для того лишь, чтобы прильнуть к моим губам таким страстным и крепким поцелуем, что я потерял всякое ощущение реальности. Твердые груди не прогибаются под моей тяжестью, я ощущаю, как их оконечности входят в мое тело, будто гвозди… Меня пронзило чувство такого неописуемого, острого наслаждения, что я проснулся.
В комнате было светло. Около кровати стоял, наблюдая за мной, отец. Я лежал на своем пуховом одеяле, полуодетый, все еще во власти неведомого мне дотоле чувства. Я видел отца, видел, что он пристально смотрит на меня, но, не отрешившись еще от своего волшебного сна и будучи не в состоянии овладеть собой, жарко и сладострастно прошептал: «Дора! Ах, Дора!»
Отец подошел к кровати и осторожно укрыл меня. Укрыл, вполне понимая, что со мной произошло, а я сгорал от стыда и блаженно улыбался. Он погладил меня. Из глаз моих ручьем хлынули слезы. Он сел с краю постели, подле меня; руки у него дрожали.
— Ну вот, видишь, — прошептал он, — видишь, ты уже совсем взрослый. Я вошел к тебе, потому что ты стонал. Решил, что у тебя температура. Мама ни о чем не знает, — И неожиданно, наклонясь к моему уху, спросил:
— Чем все-таки была для тебя Дора Ганзелинова?
Я не успел ничего до конца осознать и чувствовал себя совершенно обезоруженным, открытой книгой, которую легко прочесть. Отрицать что-либо было бесполезно. Отец словно все сам знал заранее, а мне оставалось лишь подтвердить это. Сопротивляться не имело смысла.
— Я так любил ее, папа!
Весь трепеща, я рассказал ему, как сильно меня влекли к ней ее женственность, ее стройное, исполненное тайны молодое тело. Отец задавал краткие вопросы в тоне сострадательного судьи, и я признался ему во всем. Как застал ее с фокусником у Безовки, в какое отчаяние это меня повергло, как убегал я на кладбище, как горько было мне узнать, что она встречалась там со своим любовником, и, наконец, рассказал, как она, допытавшись, что я проник в ее тайну, сделала меня посыльным своей любви. То, что произошло у Ганзелиновых, моя вина, — с горечью исповедовался я. Если бы я не промолчал, побег бы не состоялся, на картонном диске не произошло бы изменений, имя маленькой Эммы не оказалось бы вписанным туда. Отец расхаживал взад-вперед по комнате. К моему удивлению, он улыбался. Он совсем не был сердит, мягко и даже с лукавством посмеивался надо мной. Он высоко держал голову, он был счастлив, в то время как я заливался слезами.
— Ну, — радостно воскликнул он, — слава богу! Слава богу! — Глаза его сияли. — Ты просто не представляешь, мальчик, как я рад, что нынче ночью тебе плохо спалось. Не случись этого, я, верно, никогда бы и не узнал истинную причину твоих страданий. А теперь я могу тебе помочь. Слышишь ли, могу тебе помочь!
Тут он сделался серьезным.
— Дорогой Эмиль, не берусь утверждать, хорошо ты себя вел или плохо. Трудно сейчас судить об этом. То, что ты хранил чужую тайну, поступок, по-своему, честный, но последствия, как видишь, оказались для тебя тяжелыми. Хочешь ли ты следовать моим советам? Поверишь мне? — Он повернулся ко мне, ожидая ответа. Я слабо кивнул. — От тебя потребуется определенное мужество. Тебе следует признать свою вину. Этот жестокий экзамен будет твоим очищением. Необходимо обо всем откровенно рассказать Ганзелину.
Я вздрогнул от ужаса.
— Да ну, не бойся же! Будь тверд. Поверь, нельзя уклоняться от исполнения своего долга. Пройдя через это, ты снова станешь таким, как прежде. Понимаешь? Уверяю тебя, ты вновь станешь таким, как был.
— Но, папа, — оборонялся я, — он на меня до смерти рассердится и никогда этого не простит! Он меня любил, верил мне, а теперь я потеряю и его доверие, и любовь!
— Разве тебя прельщают любовь и доверие, основанные на лжи? — с неподдельным удивлением посмотрел на меня отец. — То, что достается тебе не по праву, равнозначно украденному. В конце концов, доктор Ганзелин, хоть и чудаковат, но человек разумный. Может, и не рассердится. Однако я не хотел бы внушать тебе особых иллюзий. Ведь если заранее предположить, что он простит, то для такого шага вовсе и не требуется никакого геройства. Ну, как? Дай мне руку и обещай, что завтра ты это исполнишь. Вот единственное лекарство для твоей больной души — иного я не знаю.
Вот как вышло, что я дал слово. Был точно в дурмане. Предстоящий мне завтра тяжелый визит решительно отвлек меня от любовных сновидений. Ночь я провел без сна. Отец сидел у моей постели, ожидая, пока я успокоюсь. Не дождался. Такими и застало нас обоих — помятыми, бледными — новорожденное летнее утро.
ИСПОВЕДЬ ГРЕШНИКА
Взявшись за ручку двери, ведущей в амбулаторию Ганзелина, я испытывал такое чувство, будто должен подвергнуться болезненной операции. Впрочем, и этим еще не все сказано. Предложи мне кто-нибудь в ту минуту взять мои душевные муки в обмен на телесные, я с радостью согласился бы, хотя никаким героем не был: пломбирование зубов было для меня неслыханной мукой, а перевязку самого пустякового пореза я не мог перенести иначе, как испуская стоны и покачивая пораненную конечность.
В амбулатории были доктор и Лида — единственный человек, чье присутствие я вполне мог бы стерпеть во время своей исповеди, но перестроиться уже не мог, поскольку заранее заготовил первую фразу и теперь, ступив на порог, был не способен сказать что-либо иное. Поэтому, запинаясь, попросил Ганзелина уделить мне немного времени, чтобы я — с глазу на глаз — мог ему сообщить нечто важное.
— Ты — и нечто важное? — спросил он, в изумлении уставясь на меня. — Что случилось? Ты являешься ко мне по какому-то важному делу? И если я правильно тебя понял, при этом даже Лида присутствовать не имеет права?
Я поспешно кивнул и немедля изрек вторую заученную фразу, логически вытекающую из первой:
— Это важно, по крайней мере, для меня… Папа знает о том, что я к вам пошел, и одобряет это…
Лида не стала ждать приказа отца. Она отошла от шкафчика, у которого перетирала медицинские инструменты, и неслышно скрылась за дверью. Доктор спросил, в чем состоит то сверхважное дело, о котором осведомлен даже мой уважаемый отец.
— Такие мальчики, как ты, обыкновенно не имеют секретов, которые возбранялось бы слышать третьему лицу.
— Пан доктор, — с неимоверным усилием произнес я. — Я перед вами виноват и пришел просить у вас прощения. Быть может, вы не простите меня, но я больше не могу молчать о том, что уже долгое время мучает меня. Я знал, — тут я проглотил застрявший в горле комок, — я давно знал, что барышня Дора встречается с этим… фокусником… Я сам их два раза застал вместе, но не сказал вам. Но и это еще не все, — торопливо, с храбростью, рожденной отчаянием, прибавил я, заметив, что Ганзелин хочет что-то возразить, — они переписывались, а я был посвящен в тайну и даже сам передавал им их письма, которые они прятали поочередно в дупле вашей старой яблони, той, что перевешивается через плетень, у Безовки.
— Вот как, — промолвил доктор. — Вот как!
Он не казался рассерженным. Пожалуй, был даже спокоен. Но мне было не до того, чтобы улавливать его настроение. Главное, что я с этим разделался! Опустив голову, я ждал приговора. Ганзелин, засунув руки в карманы брюк, расхаживал по амбулатории; фалды халата свивались у него сзади в длинный белый трепещущий хвост.
Внезапно он остановился передо мной и взглянул так строго, что у меня потемнело в глазах.
— Почему же ты, зная обо всем, не сказал мне вовремя? Только говори правду — почему?
— Я не сказал вам потому, — ответил я, заливаясь краской, — что я любил барышню Дору. С превеликой радостью готов был сделать все, что она ни пожелает.
Доктор разразился демоническим хохотом, — как сатана, которому удалось застигнуть праведника в момент грехопадения. Под конец закашлялся.
— Это хорошо, — сурово продолжал он, — просто замечательно, что ты готов был сделать для нее все, что бы она ни приказала… Очевидно, тем самым ты хочешь сказать, что был влюблен в нашу Дору?
— Да, — серьезно, с сокрушенным сердцем подтвердил я, глядя ему прямо в глаза. Большего позора для себя я уже не в состоянии был вообразить и преисполнился глубокого равнодушия ко всему, что могло произойти дальше. Пускай теперь Ганзелин бранит меня, пускай хоть на куски разорвет, — мне это совершенно безразлично.
— Соображаешь ли ты вообще, глупый мальчишка, что несешь? — закричал он на меня. — И ты признался в этом своему отцу?
— Да, — апатично ответил я, — и он послал меня к вам, чтобы я все рассказал.
— Для тебя это, разумеется, тяжкое испытание, — уже несколько спокойнее заключил Ганзелин.
Я молчал, видя, что возразить нечего.
— Ах, парень, парень, — говорил доктор, уже совсем смягчившись, — вот ты изложил тут мне все по-писаному, как посоветовал твой папа, образец чиновничьей честности (скрытая усмешка), и теперь ожидаешь приговора. А понятно ли тебе, что грехи подобного рода вообще не подлежат прощению?
Я растерянно кивнул головой.
— А твой отец, разумеется, хорошо сознавал, что посылает сына прямо в логово льва! Он, вероятно, предупредил тебя, что, быть может, я, ввиду твоего искреннего раскаяния, прощу предательство? Ну, отвечай! Либо остерег, что, возможно, легко это не сойдет?
Мне было неясно, куда клонит Ганзелин, но я был далек от всякой хитрости, считая, что обязан говорить только правду. Да, подтвердил я, отец ободрил меня, говоря, что, возможно, я буду помилован, но отнюдь за это не ручался.
— А как ты полагаешь, глупый, по уши влюбленный юнец, — выкатил на меня свои безжалостные светлые глаза Ганзелин, — если б ты выдал мне Дорины планы, сбежала бы она в таком случае или нет?
Смешавшись, я ответил, что не знаю. Я и впрямь не был вполне убежден.
— Ты не знаешь, зато знаю я! — с раздражением воскликнул Ганзелин. — И я скажу тебе — она все равно ушла бы от нас. Да, да, я абсолютно уверен. Если уж нашей Доре вздумалось идти за своим фокусником, то она сбежала бы, невзирая ни на какие преграды, на мои просьбы или мое вмешательство. Понимаешь?
Теперь я согласился уже охотней. В моей голова что-то прояснилось.
— А раз она все равно сбежала бы, независимо от того, изобличил бы ты ее или нет, то в чем же ты видишь свою вину? Ну скажи, в чем?
— Ни в чем! — обрадованно вскричал я.
— Дурень! — с отвращением сплюнул Ганзелин. — Какой ты, однако, глупый, нахальный мальчишка! Значит, ты ни в чем не виноват? Как бы не так! Ты обманул мое доверие — во-первых. В пятнадцать лет влюбился в девушку много старше себя — во-вторых. Да рассуди сам — эдакий сопливый мальчишка и женщина! За ее лживую улыбку ты готов был на любое безрассудство. Где же твой характер? Перестань так неуверенно улыбаться! Как же ты пойдешь по жизни, если в тебе столь мало твердости?
Я стоял оцепенев. Это громоизвержение, да еще в тот момент, когда я уже думал, что худшее позади, доконало меня. Я был уничтожен.
— Итак, чтобы нам зря не тратить времени, вот тебе мой сказ: ты вел себя постыдно. Крайне постыдно, с какой стороны ни взглянуть.
— Но… — я позволил себе перебить его, — я ведь не мог выдать чужого секрета! Папа…
— Ага, чужого секрета! — снова захохотал доктор. Папенька внушил тебе, что в этом отношении ты поступил правильно. Ну, это на него похоже. А по-моему, это дурость, понимаешь? — он уже опять весь побагровел, раскричался еще грознее, чем прежде. — Я подобной изворотливости не приемлю. Я обыкновенный деревенский мужик, и посоветовал бы тебе на будущее не путать очевидные вещи. Ведь ты знал, что замышляется некое дело в нарушение моей воли, хорошо знал, не так ли? И не сообщил мне. Выражаясь в твоем стиле — не выдал. Но так мы никогда ни до чего не договоримся. Надобно уже тебе знать, что и жизни ты еще не раз будешь попадать меж двух огней, окажешься перед выбором — промолчать или рассказать все до конца. На твое решение должен повлиять один-единственный довод: кто из двух тебе дороже? В данном случае ты решил в пользу Доры. В пользу жестокой девчонки, которая ни в грош тебя не ставила, расчетливо играла на твоем чувстве, хотя для нее не было тайной, насколько опасна подобная игра. Ты принял сторону непослушной дочери, бросившей свою семью. Тем самым ты противопоставил себя этой семье. Понятно уже или еще нет?
Я только молча хлопал глазами.
Он подошел ко мне вплотную.
— С этой точки зрения — ты меня обманул, ведь ты же знал, что я люблю тебя, верю тебе. Другой вопрос — прощу ли я. Ну что ж, прощаю, поскольку ты еще зеленый, неискушенный, глупый мальчишка. Мужчине я бы такого не простил. Тебе прощаю, поскольку, несмотря на твои ошибки, продолжаю тебя любить. Но запомни раз и навсегда, — он повысил голос и приблизил свое лицо к моему лицу, — жалок тот мужчина, кто поддается женским чарам. Оправдания, — ах, мол, я сделал это ради женщины, — абсолютно несостоятельны. А потому советую: держись от женщин подальше. Они — все без исключения — ненадежны, вероломны, эгоистичны, Способны разве что охмурить мужчину, сбить с пути истинного. Либо превратить его в раба. А то и вовсе погубят. — Он махнул рукой. Пробежался взад-вперед по комнате. — Но сие уж забота твоего отца, пусть он сам разъяснит тебе это подробнее. Однако я хотел бы еще кое на что обратить твое внимание. Ты разыгрывал из себя пажа, трубадура, — короче, в тебе взяла верх романтичность. Я уже давно тебя подозревал в этом грехе; теперь мои подозрения оправдались. Ты и сам убедился, к чему ведет романтичность. Она мешает человеку прочно стоять на земле. Старайся быть всегда рассудительным, смотри на вещи трезво. Этого требует жизнь. — Он еще некоторое время поучал меня в том же духе. Затем, опять вдруг рассвирепев, подскочил ко мне, топал, кашлял. Наконец его прорвало. — А теперь иди покажи мне, где именно прятала Дора свои письма!
Я уныло поплелся к выходу. Шедший за мной доктор приоткрыл дверь в кухню и крикнул:
— Гелена! Идем с нами. Да возьми с собой ножовку!
Я ринулся в сад. Ганзелин топал следом, полы халата развевались за его спиной. С угрюмым, враждебным видом он остановился перед яблоней. С холма к нам вниз мчалась Гелена, размахивая на бегу ножовкой. Точно дикарка. Ганзелин указал на свесившуюся ветку.
— Обрежь ее!
Она непонимающе посмотрела на него.
— Спили, спили, да поживее!
Он злился. Гелена, ни о чем не спрашивая больше, принялась за дело.
Я стоял с открытым ртом. Скрежещущие звуки вызывали у меня такое ощущение, будто стальные зубы пилы вгрызаются в мое тело. Я наблюдал, как клонится ветка, как она надломилась и, наконец, отпала от ствола. Стукнувшись об ветхий забор, она свалилась на другую сторону — к Безовке.
— Вот так! — с удовлетворением произнес Ганзелин. — Оно и лучше. Горе всему, что служит непотребству!
Несколько птичек возбужденно чирикали в кроне соседнего дерева, перепрыгивали с ветки на ветку, вертели головками. Как же они своими птичьими мозгами расценили эту исступленную расправу? Я чувствовал, что эта ветвь принесена Ганзелином в жертву. Вместо того чтобы вырвать меня из своего сердца, он отомстил ей, без вины виноватой. У меня сжалось сердце.
Он стоял, подобно полководцу, одержавшему победу в кровавой битве, и это был все тот же, хорошо знакомый, старый Ганзелин — вспыльчивый, непостижимый, обходительный и твердый.
Гелена глуповато улыбалась.
ПОСЛЕСЛОВИЕ ОТЦА
За столом отец посматривал на меня сияющими глазами. Мать хмурилась. Она была недовольна, что между нами есть нечто, о чем она не осведомлена. Я старался смягчить ее досаду смиренными и искательными улыбками.
После обеда отец позвал меня с собой в соседнюю комнату.
Он хотел знать во всех подробностях, что мне говорил Ганзелин. Я пересказал ему все, стремясь быть правдивым и точным. Странно, эта история перестала меня волновать. То, что еще утром казалось мне верхом стыда и ужаса, теперь оставляло меня равнодушным. Очевидно, кульминационный пункт моих страданий был пройден. Я уже изнемог. О некоторых умозаключениях Ганзелина отец переспрашивал меня по нескольку раз, размышлял над ними. Покачивал головой. Судя по всему, окончательное впечатление его было благоприятным. Он улыбнулся, поглаживая усы:
— Ну как, ты доволен?
Я пожал плечами. Он не мог взять в толк, почему я не излучаю радость.
— Ты еще чем-то удручен? Право же, больше нет повода. Подумай, ведь все уже позади. Можно сказать, счастливо отделался.
Я не знал, могу ли я это безоговорочно подтвердить.
— Ну, а теперь, — просияв, сказал отец, — теперь мы должны нашего маленького грешника за все его страдания как-то вознаградить. — Он глядел на меня с торжественным видом. Я затрепетал, боясь того, что за этим последует. Меня вполне устраивало отсутствие каких-либо перемен. — Раз ты так добросовестно изложил мне свою беседу с доктором Ганзелином, то и я тебе кое-что расскажу. Кое-что весьма интересное. Нам с мамой эта новость стала известна несколько дней назад, но мы ее умышленно от тебя скрывали, считая, что в прежнем своем состоянии ты не насладился бы ею в должной мере. Вернее, не осознал бы всей ее значительности.
Намеки отца теперь стали прозрачны. Ему уже не требовалось ничего прибавлять, я все понял. Припомнил секретные перешептывания родителей и частые их недомолвки в канун того несчастного дня, когда Дора сбежала с фокусником. Ну да, по всей видимости, отец получил распоряжение о переводе из Старых Градов. Я опустил голову, чтобы скрыть лицо. Особого волнения я не испытывал и все же чувствовал, что веки мои набухли подозрительной влагой. Я боялся, как бы отец не заметил, что при его замечательном известии на глаза мои навернулись слезы.
— Полагаю, теперь, когда твои мрачные мысли рассеялись, — а в ближайшее время остатки их совсем улетучатся, — я могу тебе открыть секрет. Ты уже способен слова разумно рассуждать. Так вот, наши планы переезда из Старых Градов наконец осуществились. Да, да, — он с гордостью постучал по нагрудному карману: — вот оно, написанное черным по белому. Никаких неприятных разочарований не предвидится. С первого октября я назначен начальником уезда в Ичине.
Он умолк, дабы насладиться произведенным впечатлением. Мне не оставалось ничего иного, как играть роль облагодетельствованного сына. Подняв голову, я широко раскрыл глаза. Изобразил на лице беспредельное изумление.
— В Ичине несколько средних школ. Там есть реальное училище, гимназия, учительский институт. Ты поступишь в реальное, в чем нет никакого сомнения. Я говорю тебе это лишь для того, чтобы ты осознал, как много там учащейся молодежи. Я знаю Ичин, бывал там несколько раз. Это красивый город. У самого Чешского рая[21]. Совсем недалеко от Праховских скал. Есть озеро, научишься плавать. Там мы не будем жить в темном доме с затхлым воздухом и черной кухней, где днем надо зажигать свет, в том доме не будет скрипучих лестниц и двора, где шныряют крысы. На сей раз мама будет полностью ублаготворена. А для меня это означает продвижение по службе, наши финансовые условия станут лучше.
Я поддакивал, стараясь принять самый беззаботный вид.
— Самым важным во всем этом является, конечно, то (я тебе раньше объяснял, но ты тогда не вник), что отпадает тягостная для нас необходимость помещать тебя на время учебы у чужих людей. Мы с мамой все продумали. Вы и Бетка поедете в Ичин уже в конце месяца — скажем, через неделю либо дней через десять. Поживете пока в гостинице. Гата еще некоторое время останется здесь со мной и будет тут вести хозяйство, пока мама не присмотрит подходящую квартиру, после чего я пошлю вслед за вами Гату и мебель. Ты сдашь экзамены — я твердо уверен, что ты их выдержишь хорошо, — и начнешь ходить на занятия. Не успеете оглянуться, как наступит первое октября, и я уже буду с вами. Возможно, мне удастся передать дела раньше. Ну а потом снова потечет прежняя, славная семейная жизнь. Могу сказать без преувеличения, что это будет более спокойная жизнь, поскольку мама будет довольна, а это всем нам тоже сулит хорошее настроение. А ты станешь гимназистом, что тебе, безусловно, понравится. Вот такие дела, — заключил он, явно взволнованный. — Теперь мне хотелось бы услышать твое мнение. Ты рад? Сознаешь ли выгоды нового местожительства, где уже и речи не будет о разлуке?
— Да, да, еще бы! — бормотал я, пытаясь изобразить доброго сына, пришедшего от сообщенной новости в полный восторг, — какая неожиданная радость, папочка! Мама и вправду будет более счастлива на новом месте… Я знаю, ей здесь никогда не нравилось… и я… останусь с вами. О, это больше, чем можно было ожидать! Твое назначение, прямо сказать, — изумительно счастливый случай!
— Никакой случайности, — обиженно возразил отец, — никакой случайности нет, а есть тщательно продуманный план, который наконец удался. Это стоило много трудов, мне пришлось нажать на все педали! — Он уже снова хвастался, надменно улыбаясь. — Когда у человека есть нужные знакомства, хорошие друзья, а также отличная репутация…
Я переминался с ноги на ногу, словно у меня колонки подкашивались от такого восхитительного известия. Между тем на душе у меня отнюдь не посветлело. Я всячески понуждал себя освободиться от необъяснимого равнодушия: вот ведь, свершилось, мы переезжаем. Переезжаем! Но какая-то часть моего существа пребывала в сонном отупении, не просыпалась. Я представил себе страшную картину: Дора, быть может, вернется, а меня здесь уже не будет. Я навеки потеряю ее. Теперь уж я действительно никогда ее не увижу, никогда! Но злополучный соня, обитавший во мне, — мое сердце, измученное бесконечными перепадами, даже на этот вопль не отозвалось учащенным, патетическим биением. Боже, какая в душе тишина! Неужто я так одеревенел, что меня ничто не способно пронять? Подумай, — прикасался я к своим нервам, как к чувствительным струнам, — ведь осталось так мало времени! Еще какая-нибудь неделя, и все свершится. Мы расстанемся с городком. Никогда не доведется тебе впоследствии услышать звон колокола с милетинской часовни, разгуливать, заложив руки за спину, вдоль излучины Безовки, стаи гусей и уток не будут разбегаться в стороны при звуке твоих шагов, когда ты входишь на деревенскую площадь или прогуливаешься под трепещущими кленами. Прощайте, Ганзелиновы! Мария, Гелена, доктор…
Я не понимал сам себя. Мало того, что я не испытывал грусти, но еще некий внутренний голос брюзгливо возражал: «А чего тебе тут, собственно, делать? Ну что доктор? Что барышни Ганзелиновы? Доры нет… А Ганзелин, хотя и уверял, что прощает тебя, быть может… И разве отъезд — не самое лучшее из всего, что могло статься? Не самое ли чудесное? Уехать — и забыть. Уехать — и позабыть навсегда».
Я подошел к отцу и машинально поцеловал ему руку. Было ли это последним звеном в моем неискреннем поведении или, вернее всего, признательностью за то, что мои терзания благодаря ему вдруг приняли такой непредвиденный оборот?
РАССТАВАНИЕ
В предотъездной суете и хлопотах неделя промелькнула быстро. Хотя я был свободен от уроков, но за все это время ни разу не зашел к Ганзелиновым. Меня просто не тянуло туда. Я бродил по лесам и полям, поскольку дома было просто невыносимо. Мать стала чрезмерно раздражительной, обидчивой. Маленький кожаный чемодан был уже заперт и стянут ремнями, а большой все еще стоял с откинутой крышкой в спальне, вещи в нем то и дело перекладывали, добавляли новые. Оставались еще мой ручной саквояж и Беткин сундук. Все стулья были завалены бельем и платьями; куда ни повернись, наткнешься то на выброшенную коробку, то на расставленную обувь. Бетка бродила по комнатам как привидение, с опухшими от слез глазами. Она была родом из этих мест, и ей не хотелось уезжать отсюда.
Возвращаясь домой, отец находил все перевернутым вверх дном, вследствие чего в значительной степени утратил свой победоносный вид. Душа приверженного к порядку чиновника страдала, когда обед подавали с опозданием или когда мать, внезапно поднявшись из-за стола, кидалась засунуть в узлы какую-нибудь едва не забытую мелочь.
Наконец наступил последний день нашего пребывания в Старых Градах. За завтраком отец, прикрывая волнение добродушной улыбкой, сказал:
— Настало время попрощаться тебе со своими знакомцами! Что касается твоих приятелей, то тут ты решай сам. А вот к обоим своим учителям и к доктору Ганзелину ты должен зайти непременно. Им ты обязан выразить свою признательность.
— И Ганзелину? — с кислой миной переспросила мать, высокомерно кривя губы.
— Да, — ответил, слегка нахмурясь, отец, — непременно, и к Ганзелину. Не только потому, что Ганзелин два года по-отечески относился к нему, но главным образом потому, что Ганзелину он обязан своим выздоровлением!
Мне пришлось облачиться в свой лучший, совершенно новый, ни разу еще не надеванный костюм. Припоминаю, что на мне был синий пиджак с двумя рядами блестящих пуговиц. Высокий воротник жестко подпирал шею; вокруг щиколоток полоскались штанины белых, в тонкую полоску, фланелевых брюк, Я скорее уж походил на неудачную копию своего дяди моряка, чем на будущего ученика четвертого класса реального училища. Мать смочила мне волосы своими духами и собственноручно расчесала на безупречно прямой пробор. В кармане — белые перчатки, в руках — круглая соломенная шляпа.
Входя в мастерскую, где работали два чумазых жестянщика, Ян Кописта и Рудольф Циза, я, конечно, понимал, что в этом своем наряде ужасно смешон. Они провожали меня с грустными лицами. Мне тоже было совсем не весело. Я долго тряс им обоим натруженные, с кровавыми мозолями руки и унес твердое чувство, что их грязная рабочая одежда выглядит несравненно благороднее, чем мое изысканное выходное платье.
Зато учитель Матейка оценил его по достоинству. Он даже попросил меня несколько раз повернуться на месте, чтобы иметь возможность рассмотреть мой наряд со всех сторон. Моя наружность молодого барича поразила его в большей степени, чем мой предстоящий отъезд. Слова благодарности он принял с невероятно самодовольным видом. Проводил меня, как и мои приятели, до калитки, не скупясь на преувеличенные похвалы и без конца повторяя просьбу передать поклоны моему достопочтенному батюшке.
Старый Фриц не столь сильно был ослеплен моим великолепием и вовсе не проявил готовности воздать почести моему высокопоставленному отцу. Однако и он не преминул буркнуть, что выгляжу я замечательно. К изъявлениям благодарности он отнесся с высокомерием, так, словно это в порядке вещей и ничего иного он и не предполагал. Под конец, к моему большому удивлению, старик вдруг обнаружил патетические чувства:
— Bon vent — bonne mer[22], — твердил он, махая мне вслед своей костлявой рукой. Попрощаться со своим учеником на французском языке представлялось ему, видимо, признаком хорошего тона.
К Ганзелиновым мне удалось попасть только после обеда. Я торопился в надежде застать доктора до того, как он отправится вздремнуть. Однако мне не повезло. Когда я вошел, доктор был уже наверху и, значит, не оставалось ничего другого, как задержаться дольше, чем я предполагал. К удивлению, оказалось, что меня ждали. Сестры были облачены в свои выходные платья, кухня была уже чисто прибрана, а на столе стояла, дешевая вазочка с несколькими георгинами. Без сомнения, отец предупредил Ганзелина о моем сегодняшнем визите.
Этим обстоятельством, конечно, все неприятно осложнилось. Сестры церемонно приветствовали меня, а я чувствовал себя не в своей тарелке. Бормотал что-то, заикался, весь красный как рак, от их похвал по поводу моего нарядного вида, от притворного всплескивания руками и закатывания глаз. На меня вдруг напала такая тоска, что в пору бы убежать вниз, в сад, забиться куда-нибудь и горько заплакать. Мне стало ясно, что сегодня я присутствую здесь в ином качестве, что ко мне относятся иначе, нежели в минувшие времена и что происходит нечто совершенно не свойственное нашим истинным взаимоотношениям.
Прощание приняло форму убогой помпезности. Я был не в состоянии произнести ни одного искреннего, живого слова; Гелена с комическим поклоном подала мне руку и подвела к столу, будто почетного гостя. Куда подевалась свойственная ей развязность, ее приятельская болтовня, которую я с таким трудом переносил, но без которой просто не мог себе представить Гелену? Мария улыбалась несколько натянуто. Кажется, она была искренне огорчена, но не знала, какое выражение придать лицу, чтобы разрядить обстановку. И Лида, неулыбчивая Лида, тоже пыталась улыбаться. Боже, к чему эта чопорность, непривычные церемонии, попытка устроить официальные проводы? Я понимал, что выпал из их круга. Явились ли виною те две недели, когда я не приходил к ним? Или непреложный теперь факт отсутствия здесь человека, сильней всего привлекавшего меня сюда? С горечью думал я, что лучше бы мне не приходить.
— Какая у него великолепная прическа, — заметила Гелена с оттенком язвительности.
— И как чудно пахнет, — меланхолически добавила Мария.
Эммы нигде не было видно. Я спросил о ней. Мне ответили, что Эмма сегодня дежурит по амбулатории, что, как всегда в эти дни, она воспользовалась отцовским послеобеденным отдыхом и где-нибудь бродит.
— Впрочем, она скоро вернется! Ты еще увидишься с ней!
Поразительно, что Гелена не сконфузилась, говоря мне «ты». Но все-таки неожиданно поперхнулась на этом фамильярном обращении.
Мария, тщательно вытерев руки о подол, взяла со стула мою шляпу и повесила ее на вешалку. Мой расфранченный вид, без сомнения, сильно навредил мне.
— Что желает молодой господин? Кофе или шоколад? — услужливо спросила Лида. Я опять вспыхнул, не готовый к тому, чтобы меня здесь потчевали. Мне ничего не хотелось, но и отказаться было невозможно. Я выбрал кофе только потому, что кофе, на мой взгляд, больше соответствует их скромному домашнему укладу.
Я сидел за столом между смущенными сестрами. Сейчас это видится мне как старая картинка из детского журнала: крохотный мальчик-с-пальчик стоит на столе перед изумленными дочерьми великана, которые скалят на него в улыбке свои страшные зубы. Сестры задавали мне множество вопросов касательно моего отъезда и моей будущности, а я им вежливо отвечал. Мне стало жарко. Снять хотя бы отвратительный синий пиджак и сдернуть душивший меня воротничок! Но они мне этого не предложили, видно, не желая нарушить приличия.
Когда на стол был поставлен кофе, а вместе с ним неразрезанный пока кулич с маком, мои страдания достигли апогея. Напиток был такой горячий, что я до волдырей обжег нёбо. Я весь взмок, рубашка прилипла к телу. Настроение мое соответственно ухудшалось с каждой минутой.
— Ты к нам совсем охладел, — посетовала Гелена, а я весь сник от меткого замечания. — Неужто тебе не грустно, что мы уже никогда не увидимся?
— Почему же никогда, Гелена? Так уж и никогда? — словно бы заученно возразила Лида. — Он наверняка соберется как-нибудь приехать, посмотреть на нас!
Я горячо уверял, что приеду, заведомо зная, что это ложь, что уже не преодолеть мне возникшего чувства взаимного отчуждения.
ПЕСНЯ ОКАРИНЫ
Ганзелин вошел, когда я меньше всего этого ожидал. Весь распаренный, я выбрался из-за стола и двинулся ему навстречу, стряхивая крошки кулича и торопливо дожевывая последний кусок. Доктор шел, заложив руки за спину, широко распахнутые полы халата реяли позади него, под застегнутым на верхнюю пуговицу черным пиджаком выпирал живот. На щеках его горели красные пятна — это был отсвет улыбки, предназначенной для торжественного приветствия.
Я отвесил ему глубокий поклон, как ученик, пришедший с поздравлениями. Сказал, понемногу смелея, что вот, мол, пришел со всеми проститься, что хорошо сознаю, сколько добра выказывали мне он сам и его дочери, что буду всю жизнь хранить благодарную память о том, как самоотверженно он выхаживал меня во время моей болезни. Потом, — не вполне логично добавил я к этому патетическому заявлению, — мне всегда было исключительно приятно приходить сюда, и без них всех я буду очень скучать.
Во чреве Ганзелина зарокотало, как в старых часах. Думаю, это был своего рода презрительный смех, которым он давал мне понять, как неуместны мои взволнованные слова.
— Так я тебе и поверил! Прямо умираешь с горя! Через неделю и думать забудешь, что есть на свете какой-то Ганзелин! Я ведь тоже был молод и неопытен, прими во внимание! — Он добродушно глядел на меня своими голубыми навыкате глазами. Похлопал по плечу.
— Ну да, жизнь возьмет свое, так что незачем сокрушаться по этому поводу. Оставим ненужные сантименты. Подобные излияния не имеют ни малейшей цены. Будущее с их помощью нам не построить и мгновение не остановить. Вот русские в этом отношении мне очень нравятся. Соберутся попрощаться, но все время говорят о посторонних вещах и только уж напоследок кто-нибудь произнесет напутствие, да все хором крикнут: «До свидания!» Последуем их примеру. Поговорим о чем-нибудь другом.
— Я был бы очень рад побыть еще, — лепетал я, страшась, что надо продолжать эту нудную и бесцельную беседу, — но мне пора домой. Меня ждут. — Я робко потянулся за своей шляпой.
— Уже? — неискренне удивилась Гелена. По ее лицу я видел, что она страшно рада, что я наконец решил уйти; не потому, верно, что так уж ей хотелось избавиться от меня, просто праздно проведенное послеобеденное время дорого ей встанет. Придется наверстывать упущенное.
— Ну, парень, — бодро сказал Ганзелин, — я уж не могу нашарить в своей голове ни единой подходящей мысли, которая годилась бы тебе в напутствие. Все, что я считал необходимым сказать, я сказал. Может, достаточно будет, если я напомню тебе, что все мы тебя любили.
Я снова низко ему поклонился и, когда он крепко пожал мне руку, прильнул к ней горячим лицом. Поцеловать не посмел.
Затем подступил к Гелене. Она по-матерински посмотрела на меня, пожеманничала, но потом вдруг решилась и влепила мне в каждую щеку по сочному звонкому поцелую. Глаза ее увлажнились — Гелена легко переходила от смеха к слезам. Лишь теперь в комнате немного посветлело. В последнюю минуту сюда вернулись искренность и непосредственность. Приняв участие в обряде, начало которому положила Гелена, сестры по очереди целовали меня — Мария, за ней Лида. Когда фиолетовые круги под Марииными глазами приблизились к моему лицу, я инстинктивно зажмурился. Лидин поцелуй напоминал прикосновение выделанной кожи, пахнущей дубильным корьем.
Начался разговор без ладу и складу, всем знакомая шумная мешанина ничего не значащих слов и восклицаний. Понурив голову, я направился к двери. Ганзелин, опередив меня, вышел в сени, приоткрыл дверь в амбулаторию и огорченно воскликнул:
— Эмма, подойди же и ты сюда, разве ты не хочешь даже попрощаться с Эмилем?
Я удивился. Стало быть, Эмма давно уже дома! Затаилась в амбулатории… Почему? Почему же так? Сердце мое вдруг громко заколотилось, у меня перехватило дыхание. Эмма была дома и спряталась от меня! Неужели возненавидела? Внезапно, будто сквозь толщу давно минувших лет, пробился волшебный луч и высветил вратенский родник, букетик ночных фиалок в маленьких руках, босые ножки, что смешно потирали одна другую. Сколько времени утекло с тех пор! Да и вообще — я ли в тот раз был там? Теперь я и сам не знал, что же на самом деле было сном, может, мне приснилось как раз все то, другое, что встало впоследствии между нами? Смутное сожаление томило меня. Словно нечто неизмеримо более дорогое в сравнении с тем, другим, произошедшим после моей болезни, явилось вдруг передо мной во всей своей отныне недосягаемой красоте!
— Да иди же, иди, — ласково уговаривал девочку Ганзелин, — Эмиль уже собрался уходить. Ведь вы были большими друзьями!
Она змейкой проскользнула в узкую дверную щель. Что выражалось на ее лице, насмешка или грусть? Этого я уже никогда не узнаю. Лицо скрывала тень. В слишком просторном для нее, неуклюжем медицинском халате Эмма показалась мне совсем худенькой и бледной. И еще — светлые косы не были перекинуты на грудь, как обычно, а уложены на голове в скромную прическу.
— Ты уже не носишь косы? — тихо спросил я.
Она ответила так же тихо, с заметными паузами:
— Нет… уже не ношу. Я… я уже… взрослая!
«Взрослая»… С укором произнесено или с гордостью? Боже, какое мучительное, горькое чувство! Она взрослая! На сей раз по ее губам явственно скользнула мимолетная улыбка, приоткрыв два ряда маленьких, словно еще молочных зубов. Теперь одна-единственная мысль владела мною, а сердцем — единственное желание: получить и от нее, как от ее сестер, прощальный поцелуй. Но нет — она протянула мне свою белую тоненькую ручку и, помахав ею, как в тот раз под аркадами, когда не взяла от меня апельсин, исчезла в амбулатории.
Я поплелся на улицу, однако во дворе, вместо того, чтобы пройти в калитку, свернул в сад.
— Куда ты, милок? Позабыл уже, где у нас выход? — деланно засмеялась Гелена.
Я смутился. Правда, я сперва решил хоть на мгновение заглянуть в сад, где пережил столько волшебных минут, но теперь это стало почему-то невозможно. Мне хотелось зайти в конюшню погладить лошадку, посмотреть на кроликов, встающих в клетках на задние лапки, на голубей, что ворковали под крышей. Было горько, что всего этого я не смогу сделать, не смогу со всеми ними попрощаться.
Я направился к калитке; Мария, Гелена и Лида шли за мной, как при выносе покойника. В последний раз оглянувшись на окна амбулатории, я увидел там одного лишь Ганзелина. В тот момент он вынимал из цветка свою трубку и, сунув ее в уголок рта, начал развязывать кисет.
Я бежал по деревенской площади и чем дальше от нее удалялся, тем сильнее росло у меня нежелание возвращаться домой. Начнутся всякие глупые расспросы… Однако все обошлось. Дома никого не оказалось, кроме Гаты. Она предложила мне на полдник кофе. Я, понятно, его отверг. Прошел в свою комнату, сел у окна и так просидел до самых сумерек. Внизу, под крепостными валами, виднелся больничный сад, в котором мелькали полосатые халаты. Ясновидящая… Мнемотехника… Цифры и магические слова. Кладбище с затерянной могилой. Все это теперь оставляло меня равнодушным. С горестным недоумением спрашивал я себя: это и есть прощание? И это — все?
Ничего, однако, уже не удалось изменить. Никогда уже ничего изменить не удастся.
Эмма не выходила у меня из ума. Она стояла передо мной, оправляя на голове свою новую прическу, шепча: «Я уже взрослая». Лидин поцелуй с его кожаным привкусом горел на моей щеке.
После ужина я попросил у родителей позволения пойти ненадолго погулять. Мать разрешила с условием, что я скоро вернусь.
Я шел — нет, я летел к Безовке. Уже темнело. Спотыкаясь о корни верб, о камни, попадавшиеся в траве, я вскоре очутился за садом Ганзелиновых. Там все еще лежала спиленная ветка яблони. Срез уже подсох, листочки свернулись. Я пошарил в знакомом, греховодном дупле. По моему пальцу вполз на рукав жук-щелкунчик, суматошно забегал взад-вперед. Я глубже запустил руку в дупло — там не было ничего, кроме древесной трухи.
…Я сидел на траве, обняв руками колени и положив на них голову. Покачивался из стороны в сторож ну, точно факир, стремящийся достичь состояния блаженного забытья. «Дора, — шептал я, — Дора!» Но теперь это был всего лишь пустой звук. Всеми фибрами души я ощущал: Эмма! Эмма! Моя детская любовь! Мое выздоровление представлялось мне теперь величайшей несправедливостью судьбы. Почему я тогда не умер? Зачем Ганзелин вылечил меня? Я мечтал о рае, где поблизости от меня стояла бы младшая дочка Ганзелина и вратенская дева Мария приветливо глядела бы на нас.
И вдруг меня осенило: да ведь я же не побывал там на прощанье. И на змеиной тропке не был, в чимелицком лесу не побродил, но горше всего — не посидел у вратенского родника! Мне хотелось услышать аромат ночных фиалок. Они, быть может, еще цветут. Однако сегодня уже поздно. Всюду я опоздал. Столько времени было у меня в последний месяц, а я не воспользовался им! Все ушло на тупые, бесплодные думы о Доре. Ох, Дора! Теперь, вспоминая августовские события, свое смятение, свой грешный сон, я испытывал неописуемое отвращение.
Эмма! Я с трудом набирал воздуху, будто у меня сузилось дыхательное горло. Но все-таки удержался от слез. И я тоже стал взрослым.
Незаметно сгустилась тьма. На небе, мерцая, сияли звезды. Меня охватил страх — как долго я сижу тут? Мать напустится с упреками: «Тебе нельзя верить, я позволила выйти ненадолго, а ты даже в последний день умудрился меня расстроить…» Я тяжело оторвался от земли, словно был деревом и выдирал из нее свои корни.
Трава была влажной. Журчала Безовка. Контуры городка казались очертаниями погруженного во тьму Вифлеема, где погас извечный свет.
Когда я торопливо шел вдоль покосившихся заборов наверх, к деревенской площади, откуда-то донесся тоскливый, протяжный звук. Это плакала окарина.
МЕЧТАЮЩАЯ ЖЕНЩИНА
«Та-та-та, та-та-та», — неумолчно стучат колеса. Мы уезжаем из Старых Градов. Мимо окон проносится холодная утренняя земля. Над лугами пеленою висит туман, горы подобны спустившимся с неба тучам. Солнце кровавыми брызгами окропило горизонт. Сжавшись в своем уголке, я не мог оторвать глаз от этой однообразной картины: хатенки, морщинистые склоны, геометрические фигуры полей, заборы из прогнивших досок, изгороди из обгоревших еловых жердей. Напротив меня сидит побледневшая мать. Она ежеминутно роется в сумочке и нюхает одеколон. Подле нее, выпучив глаза и стиснув на коленях кулаки красных, точно обваренных рук, Бетка. Она пугается каждого свистка, и вздрагивает всякий раз, едва поезд прибавит скорости. Та-та-та, та-та-та — едем! Все вокзалы одинаковы, на каждой станции, будто перед пунктом метеослужбы, стоит на перроне фигурка в синей форме и красной фуражке. Одинаковые деревянные мосты над путями, одинаковая пряжа то прямых, то прогнувшихся проводов. Едем, едем, едем! Навстречу другой жизни, другим событиям, навстречу новому, неведомому — все дальше, дальше от вчерашнего дня!
Сколько же раз с тех пор доводилось мне уезжать! Переживать трудное или не очень трудное прощание. Но никогда потом не запечатлевалось оно так отчетливо, живо, горячо. Ведь в то время критический разум еще не сдерживал бурлящего чувства, а разлука, хоть она и не ощущалась столь остро и болезненно, тем не менее была горька. Где-то остались мещанские домишки с их разноцветными оштукатуренными фасадами, сторожевая башня, похожая на копну сена, вытянутый фронтон монастыря, камень Гуса, ворота крепости, стены с дырами бойниц, булыжные мостовые! Где-то остались Гелимадонны, Ганзелин, все, все — непонятная и немного смешная и драматическая история с Дорой, и легкое, словно птичье перышко, забытое и вновь возникшее влечение к болезненной девочке, к Эмме.
Эмма! Не знаю, вследствие какого обратного хода мыслей это произошло, но однажды я создал в своем воображении наивную идиллическую и совершенно нереальную картину нашего прощания. Оно состоялось будто бы не в сенях докторского дома с их кирпичным полом, в присутствии стареющих сестер и грузного, снисходительно улыбающегося доктора, но где-то в саду, высоко над тихой, отсвечивающей на поворотах Безовкой, и не в пору августовской жары, а весной, под ветвями цветущих яблонь. А может, и на вратенском холме, у родника, пробившегося посреди зарослей вереска, на краю вырубки с красноватой каймой из верб? Кто способен точно описать декорации той сцены, что не имела под собой сколько-нибудь жизненной основы? Может, картина эта возникла в каком-нибудь из позднейших обманных снов? Не знаю, не могу сказать. Нередко бывает, что на поэтическом сюжете, дополненном элегическим художником — быстротекущим временем, — оказывается накручено столько чужих одеяний, что до сути и не доберешься. Впрочем, я вижу перед собой только силуэты. Вот стоит, устремив взор вдаль, девушка — нежная, мечтательная, жаждущая любви. И потому так пустынен лес, потому так глубок обрыв перед ней, что стоит она на некоем острове, вознесенном над миром, словно она и тот туманный, неясный призрак — я, — словно мы двое и есть средоточие Вселенной. Где-то позади нас светит солнце, и кажется, будто лучи его исходят от очертаний наших фигур, а там, вдали, на белом облаке, лежат наши гигантские черные тени. Губы девушки полуоткрыты — мы, верно, беседовали о чем-то очень важном и, видимо, наконец пало то желанное, магическое слово, которое в действительности никогда не было произнесено.
Знаю, что у каждой волшебной картины, запечатленной в нашем сердце, там, глубоко, возле самого проектора, имеется свой маленький серый позитив. Мне вовсе не трудно установить, на чем основывается моя фантазия. Та, сотканная из миражей фигурка, что прислонилась к стволу воображаемого дерева, собственно говоря — Дора, ибо именно Дору видел я в такой мечтательной позе. Однако эта преображенная, идеализированная Дора стоит на мертвом острове моего детства и глядит в беспросветное будущее со слезами на глазах. Впрочем, нет, нет, я еще не все точно пояснил. Речь идет совсем не о Доре, а просто о женщине, которая сознает, что ее красота никому не нужна, и ждет, когда из облака дорожной пыли, из тумана бессодержательной жизни явится мужчина, принц или фокусник, который мановением руки окружит ее роскошью павлиньих перьев, бумажных роз, бенгальского огня.
Они желали большего, чем имели. Родимое болото было чересчур мелким и отвратительно воняло тиной, кваканье товарок было до ужаса однообразным. А им мечталось о шуме и грохоте прибоя, о бескрайней, подобной серебряному зеркалу глади вод, о благоуханных нивах, пестреющих вечно юными цветами, о ликующем пении небесных арф.
Любая из женщин, чья молодость лет тридцать тому назад прошла в захолустных городишках, в кругу родителей с диковинными привычками, любая из них, зашнурованных в корсеты предрассудков, прежде чем сдаться, хоть раз да всхлипнула. Растревоженная свежим восточным ветром, она ожидала чуда от летнего ветра, от падающей звезды. На том зачарованном месте стояла некогда и Мария, еще до того, как под глазами у нее появились пугающие фиолетовые круги, стояла там и Лида, прежде чем перестала смеяться и нашла утешение в стоическом молчании и тайных, задушевных беседах с куклой, узницей ее чемодана. Быть может, и Гелена стояла там?
Да, да! Только я-то объявился среди них в ту пору, когда они уже перестали протягивать руки к будущему. Дверь с грохотом захлопнулась, и никто уже не мог войти. Постепенно они сделались такими, какими я их узнал. Сколько мук они претерпели, сколько тут было пролито горестных слез, проведено бессонных ночей — это осталось для меня тайной. Прежде чем человек превратится просто в оболочку, скрывающую плоть и кровь и, вздохнув, распростится с последней иллюзией, он пройдет путь, полный тревог и бед. Все в жизни определяет случай. Если бы Гелена, Лида или Мария встретились со своим чародеем, мерзавцем, рыцарем, они иначе устроили бы свои судьбы. И если бы не состоялось достопамятное представление фокусника в Старых Градах, если бы не вырос могильный холмик на староградском кладбище, укрывший бледную, истерзанную жизнью женщину, такая ли участь ожидала Дору? Перед ней, очевидно, не встала бы проблема выбора: Пирко либо долгое мучительное старение. Какую форму обрела бы Дорина вспыльчивость? Темные, бархатные глаза утратили бы свой блеск, округлости укрыла бы грубая одежда работящей, в строгих правилах воспитанной девушки, исхудали бы руки: по всей вероятности, они приблизились бы к одному из трех уже имеющихся типов: грубоватый, молчаливый, преувеличенно ласковый. А может, нашла бы свой собственный стиль старой девы?
Как-то раз я присутствовал на сеансе гипноза. Пожилой господин на сцене играл детским шариком и плакал, когда у него шарик отняли, — он верил, что ему всего еще седьмой годик. Две дамы, сидя в креслах, усердно гребли, устремив напряженный взгляд к потолку, — они полагали, что в утлой лодке плывут по морю, а надвигается буря. Таких забавных номеров в программе было много, однако меня сейчас занимает лишь один: гипнотизер, поставив несколько человек в ряд, на расстоянии нескольких шагов от них провел пальцем черту и затем предложил им ее перейти. Это не удалось никому. Они подбегали и падали, натолкнувшись на невидимую стену. Публика каталась со смеху. Зрелище было уморительное.
Предрассудки, преданность семье, привычка к послушанию, страх перед неизвестным — вот та заколдованная черта, которую не умели перейти женщины, страстно мечтавшие об иной доле. Тогда… И сегодня. А собственно, о какую преграду они ушибались? О ровное место, о пустоту, способную лишь рассмешить веселящуюся публику. Бедные овечки, усыпленные коварным гипнотизером, общественным мнением! Как много их в испуге, понурив голову, вернулись к своей жалкой кормушке! Некоторым все-таки удалось вырваться. Дора — в их числе. С победным смехом перешагнула она воображаемую черту. Пошла за своей фата-морганой, за серебристыми морскими волнами, за белоснежными барашками, разбивающимися о голубые берега. Но один жестокий вопрос по-прежнему остается разрешить: что же оказалось за той чертой? Вольные просторы? На самом ли деле звучали там небесные арфы? И сколь долго?
Не знаю. Распахнув клетку затворнице-птице, мы видим ее лишь краткий миг, пока она, взмыв, не растворится в небесах. Наше сердце преисполнено сладостного волнения. Однако нам не угадать, что обретет на воле наш мятежник, какая ему улыбнется судьба и какая его поджидает смерть. Да и не наше это дело — заглядывать дальше, чем следует. Удовольствуемся отрадным сознанием того, что распахнутая клетка означает счастье. Во все века люди будут верить в это счастье. Стоит им утратить свою веру, как с лица земли исчезнет золотая волшебная краина свободы.
ЛИЦОМ К ПРОШЛОМУ
Понятно, отчего плеск волн и пение окарины подвигли меня на то, чтобы я взял перо и сделал его выразителем своего элегического настроения.
Движение вод сходно с бегом времени: одинаково голова кружится, когда глядишь на стремительное течение или думаешь об увядании, о старости. Как же подле безостановочного движущегося потока не вспомнить молодые годы? А раковина, вылепленная из глины, издающая незатейливые и печальные звуки, — не само ли это наше далекое детство, не его ли трогательный голос?
На окарине может играть лишь мечтательный самоучка, и раз уж он играет, взялся за инструмент, значит — его гложет тоска. Под плеск волн может размышлять о молодости тоже лишь неисправимый мечтатель, имеющий привычку неустанно оглядываться назад и не способный ступить твердой ногой в будущее, ибо он вечно находится в плену у прошлого. Думаю, все мы — и те, кто одержим мечтой, и те, кто любит размышлять о быстротечном времени — в некотором роде братья и сестры. Мы, грезящие на берегу и играющие на грубом инструменте — одна семья! Я сам только для того и предпринял путь вверх по крутому склону, что воочию хотел увидеть бродягу-оборванца и убедиться, а не похож ли он на меня и не так ли чутки и трепетны его пальцы, перебирающие пять дырок, как некогда мои?
Чувство, привязавшее меня к Доре, не было ни простой любовью, ни подсознательным влечением подростка, жаждавшего ощутить женские объятия, вдохнуть возбуждающий запах плоти. Тут было нечто еще: роднящая обоих устремленность к неизведанному и романтическому, склонность к дешевым эффектам, переживаниям, мечтам о скитальчестве. Другого какого-нибудь мальчишку не приманила бы она так легко бессмысленным набором магических слов, другой не был бы заворожен фантастичностью разнородных понятий, нанизанных на стереотипы. Позднее я часто ловил себя на том, что с азартом сам с собой играю в эту нелепую игру. Ореховая скорлупка, подвешенная на цепи, бильярдный кий в руках марионетки, скелет, играющий в домино! В юности, подсаживаясь одинокими ночами к столу и при свете лампы, в папиросном дыму складывая первые свои стихи, исполненные чувства неразделенной любви, разве не пережил я, в сущности, то же самое? К счастью, стихи, бредовые, как сон, мрачные, как смерть, никогда не увидели света. На конструкции избитых форм и рифм я накладывал позолоту мыслей, развешивал пестрые лоскутки причудливых метафор, пел о заведомо несбыточных надеждах. И снова повторялась заманчивая и бессмысленная игра в слова, подобная вращению калейдоскопа, где одни и те же стекляшки складываются в разных сочетаниях: синее в соседстве с розовым, затем с оранжевым, наконец, с траурным черным. Но мы встряхиваем игрушку и начинаем все с начала. Мы, салонные фокусники.
Мы, салонные фокусники, порой веселим сами себя, а иногда сами себе морочим голову. Создаем призрачный рай в утешение за все жизненные неудачи. Уподобляемся моллюскам, что в своей раковине обволакивают перламутром песчинку, царапающую их внутренности.
Не утаю, что в некотором роде я потерпел кораблекрушение и, будучи выброшен морем, лежу на его берегу. Размышляю о жизни, которую не сумел пришпорить достаточно крепко, как надлежало бы энергичному мужчине. То обстоятельство, что твой успех одновременно — неудача соратника по жизненной борьбе, всегда заставляло меня смущаться и уступать. Многое из того, что я уже, казалось, обрел, в последнюю минуту ускользало промеж пальцев.
У меня не было достаточно сильных желаний — в том и суть! Я всегда предпочитал спрятаться в свою раковину, нежели поставить на карту свое достоинство и убеждения. Да, мир нуждается в том, чтобы его переделать, чтобы в нем беспрепятственно цвела радость, но для этого у нас недоставало борцовской отваги. Приговоренный быть непритязательной личностью, я вижу, как мои реальные возможности обращаются в дым и туман. Виной тому, вероятно, слишком нежное воспитание, а отчасти, может, и моя болезнь в детстве, которая расслабляюще подействовала на меня именно в ту пору, когда мои сверстники учились мыслить трезво. Во многом повинен мой характер, унаследованный от отца, порывистого человека с душой ребенка, который был под каблуком у своей властной супруги.
Странно — я отнюдь не сожалею, что не сумел выстоять в пресловутой жизненной борьбе. И даже похваливаю себя, даже почти что счастлив. Для меня всегда было естественней посторониться, чем расталкивать других локтями, улыбнуться, чем укусить. Я живу точь-в-точь как чудаковатый доктор среди обезьяньего стада мещан, как Ганзелин, который первым открыл мне суровую правду о человеческом обществе. Мизантроп, изображавший грубого жестокого мужлана, был, в сущности, лишь оскорбленным человеком, любившим людей, неколебимым защитником самых обездоленных. Презирая изнеженность и утонченность, он упрямо придерживался веры в беззаветный труд и справедливость для угнетенных. Своими безбоязненными высказываниями он приводил в негодование глупцов, но был не в состоянии изменить установленные ими порядки. Они отомстили ему, вытолкнули из своей среды колониста нового, лучшего общества, которого ему не дождаться, они сторонились его, как гуляющие господа обходят рабочего, что копает канаву у шоссе.
Детям из так называемых высших сословий суждено наследовать эгоизм своих родителей. И мне не избежать бы этой участи, не встреть я доктора Ганзелина. Если бы в ту пору, когда душа особенно восприимчива, я остался в окружении своей семьи и лицемерного общества, присвоившего себе права на привилегии, то вряд ли я усвоил бы взгляды, лежащие в основе моей нынешней жизненной философии. Уроки Ганзелина не прошли бесследно. В глубине души я такой же бунтарь, каким был он среди староградских мещан. Я заверяю тебя в своей преданности, от души благодарю тебя, мой учитель, который был слишком человеком, чтобы именоваться «светлым образом».
Он часто встает передо мной — неказистый человек, с лицом, краснеющим во гневе, с животом, выпирающим из-под полурасстегнутого пиджака, в высоких сапогах-мокроступах, с суровым взглядом светло-голубых глаз, в глубине которых таится сострадание. Нервный, раздражительный, комичный и гордый — из тех, что если и наносят рану, то разве лишь собственному сердцу, а если мстят, то лишь тому, кого больше всех любят.
Я стал таким, как он. У меня нет приятелей, нет друзей, меня не принимают с распростертыми объятиями ни в одном из кружков благовоспитанных людей. Худшие, чем я, возвысились надо мною, лучшие, чем я, не ведают обо мне, ибо я не искал их дружбы. Я остался в одиночестве — и не сетую. Только временами, когда меня выведет из равновесия очередной горький проигрыш и уколет мысль, что я опять позволил каким-то хитрецам обмануть себя, — строптивость ненадолго взыграет во мне, и я грожусь показать тем, другим, кто они такие и кто такой я. Но тут является он, Ганзелин. Уставится на меня своими бесцветными глазками, язвительно усмехнется, нахмурится и сочувственно посоветует: «Выше голову! Выше голову! Разве важно, удалось ли нам достичь желаемого, — важнее, какие дороги мы выбирали. Гей-гей! Прочь терзания! Жизнь не изменить, и единственно, что нам подвластно, это мы сами. Сотворим лад в своей душе. Одолеем в себе дьявола. Награда не на небе, а в нас самих. Но сколь бы прекрасным ни оказалось здание, которое мы воздвигнем в душе, мы не в силах воспрепятствовать тому, что оно однажды обратится в прах. И все же наши бесплодные усилия возвышенны и благородны. Будем же врачевателями, чьи пациенты все равно рано или поздно умрут. Воздвигнем свое собственное здание!»
Я вяло усмехаюсь. Мой гнев улетучивается. Закуриваю сигарету. Успокаиваюсь. Нет, я ничего не предприму, никому ничего не сделаю. А доктор Ганзелин удовлетворенно расхаживает по моей комнате, отведя за спину полы медицинского халата, и что-то бурчит себе под нос. Потом останавливается возле окна, шарит рукою в одном из несуществующих кустов герани, вытаскивает оттуда деревянную трубку, приминает табак толстым крестьянским пальцем. И все пускает дым, будто в намерении окутать и себя, и меня голубыми облаками хитроумной отрешенности ото всех жизненных невзгод.
НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ ПОБЫВАЛ Я В СТАРЫХ ГРАДАХ
Пусть эта фраза в конце моего повествования явится как бы надписью на лентах траурного венка. Никогда больше не побывал я в Старых Градах! Почему? Разве не представлялось возможности? Только ли по простой случайности, как нередко бывает в жизни?
Настаивать на чем-то таком было бы с моей стороны пустой отговоркой. Если тебе хотя бы раз в жизни по-настоящему захочется навестить места, связанные со знаменательными событиями, со сладостными либо горькими воспоминаниями, ты найдешь время туда поехать. Да боже мой, ведь это же совсем близко, можно обернуться за день! Случайность? Неужто? Стоит лишь захотеть, вот и все. Но в том-то все дело. Я не хотел тогда — и не хочу теперь. Никогда не поеду в те края, никогда не поднимусь по крутой улочке к старым городским воротам. Почему?
Здесь нет никакой особой тайны. Все объясняется очень просто. Что мне делать в Старых Градах? Я уже не тот мальчик, который любил посещать кладбище. С кладбищенской романтикой покончено. В моем возрасте человек уже не питает иллюзий, что город, который он покинул более тридцати лет назад, по-прежнему верен себе и ни в чем не изменился.
Весьма правдоподобно, что отцы города, новые отцы города, пробудясь в своих просторнейших супружеских постелях под балдахинами, стряхнули блаженный сон и порешили, что заживут полной жизнью, как пристало гражданам новой эпохи. Возможно, они тоже яростно кинулись преобразовывать жизнь и со страстью преобразовывают ее доныне, так что после их вмешательства от прежнего не останется камня на камне. Быть может, на маленькой площади, где узкие, покосившиеся дома состязались в пестроте, теперь возвышается роскошная городская сберегательная касса с мраморным фасадом, украшенным вывеской с золотыми буквами и традиционным изображением улья с роем пчел. Быть может, клены на деревенской площади срублены, мостовая выровнена, остатки старого фонтана разобраны, а на этом месте сооружен некий малоэстетический памятник павшим на фронтах мировой войны. Русло Безовки, вероятно, спрямили, и не живописные излучины, а подновленные заборы, тянущиеся правильным полукружием, огибает она, лениво движась по своему наполовину высохшему руслу. Предполагаю, что старая больница наконец-то снесена, и где-нибудь за городом раскинулось ее новое здание с оборудованными по-современному палатами. Старая ратуша преображена в страховидной бетонный куб с плоской крышей, лавчонки под аркадами перестроены под магазины, вывески оснащены наивными световыми рекламами, а трактир «У долины» превращен в отель. Зрительному залу в новом здании теперь не к лицу принимать каких-то фокусников, так что им тут уже нечем поживиться. У городка имеется свой собственный кинематограф в помещении спортивного общества «Сокол». Молодежь в безупречно белых футболках и наглаженных брюках перебрасывается мячами у подножья чимелицкого холма, а на главной площади теперь — стоянка автодрожек. Поставлены бензиновые колонки — одна возле Гусова камня, другая сразу за полуразрушенной башней, очищенной от ее мшистых украшений. Наверняка есть там и свой городской музей, а старая школа заново оштукатурена и надстроена.
Не знаю, сколько еще перемен в Старых Градах, которые совсем уж не те знакомые Старые Грады. Никогда мне не хотелось в том убедиться. Новшества, вполне достойные уважения, лишь понапрасну растревожили бы мое сердце, где угнездился образ прежнего городка. Старики переселились на кладбище, перед которым больше не стоят безрукие стражи, а по краям его выросли новые мраморные надгробия состоятельных мещан и купцов.
А Ганзелин? Теперь ему было бы под девяносто. Весьма сомнительно, чтобы он дожил до такой глубокой старости. Что поделывают Гелимадонны? Вернулась ли Дора? И если да, то как это произошло? Воображаю, явилась однажды с ребенком на руках, худая, постаревшая… Нет, нынче я ужас как сентиментален. Тщетно пытался Ганзелин излечить меня от романтичности! Картонный диск в амбулатории — существует ли он до сих пор? Как поживает Эмма? Ныне у нее за спиной свои сорок пять лет — а то и побольше. Лошадка уже не возит по скользкому шоссе экипаж, звенящий песнями, девочка Эмма уже не убирает русую головку полевыми цветами, и голос ее не звучит серебряным колокольчиком. Вместо коляски по новому асфальтовому шоссе в Глоубетин и Вратню носится фордик нового врача и отвратительно квакает, извергая клубы вонючего выхлопного газа.
Эмма… Мне кажется, она умерла. Она была такая слабенькая, худенькая, такая болезненная и бледная! Изнурительный труд, навязанный ей картонным кругом, наверняка быстро подорвал ее невеликие силы. Либо вышла замуж и живет, как все люди, своими маленькими радостями и горестями; может, у нее есть дети и остальные Гелимадонны дождались потомка — племянника или племянницу, которых в свое время хотели получить из рук Доры? Гелена… Не могу себе представить ее еще более старой и увядшей, чем она была. Мариины фиолетовые круги под глазами превратились, верно, в глубокие, изборожденные морщинами ямы, а Лида — куда уж быть еще молчаливей? Так что докторовы домочадцы скорее всего уподобились сообществу страшных призраков. Если бы в один прекрасный день я появился у них, они вышли бы приветствовать меня как редкого, чужого им и не слишком желанного гостя. Вряд ли я ошибаюсь, — мне известно, как бывает в жизни. Они бы просто не поверили моим рассказам о том, что каждая из них на прощание поцеловала меня увядшими губами, что они были со мной на «ты», что они дразнили меня и запрягали в работу. Стереоскоп с африканскими видами — на какую свалку он попал? В качестве чего служит Ганзелиново зубоврачебное кресло, из которого уже тогда вылезали проржавевшие пружины?
Как-то я, возвращаясь со службы, шел по Праге. Только что открылась весенняя ярмарка, и на Карловой площади плотными рядами стояли палатки, карусели, качели, кукольный театрик, паноптикум, болгарин с турецким медом, прилавки с кружевами и с фарфором. В тесном пространстве между каруселью для малышей и такой же ветхой каруселью с облезлыми лошадками, возле бедняги, зарабатывавшего свой хлеб тем, что он показывал мельничное колесо, приводимое в движение белыми мышами с красными глазками, я заметил толпу людей и услышал хриплый голос испытанного предсказателя судеб. Не знаю, что заставило меня остановиться. На расшатанном стуле сидела женщина с завязанными глазами, а мужчина с испитой физиономией показывал предметы, которые чумазые мальчишки повытаскивали из своих карманов.
— Можете ли вы, медиум, сказать, что это такое?
— Перочинный ножик! — ответила медиум печальным, бесцветным голосом. Я не стал смотреть дальше, а, круто повернувшись, ринулся прочь, будто бежал от чего-то страшного. Не надо мне этого зрелища. Что, если тот убогий голодранец — волшебник из моей молодости, а растерявшее последние иллюзии существо, что сидит, бессильно опустив руки на колени, — моя прелестная Дора с алым пухлым ртом и бархатными глазами?
Я не допускаю и мысли, чтоб это были они. Разве мало подобных привидений бродят еще из города в город, от ярмарки к ярмарке, с вечно пустым желудком и дырявым карманом? Довольно, что я лицом к лицу столкнулся с карикатурой на то, чем был зачарован в далеком детстве, чем в течение целого года жизни была забита голова, так что ни для чего другого там не оставалось места, — и о чем я вначале столь искренне и мучительно тосковал.
Все вянет, все умирает. Мой отец с колбасками кайзеровских усов, детскими восторженными глазами смотревший на возникновение нового государства, пожил очень недолго: болезнь подтачивала его и скоро свела в могилу. Мать превратилась в ветхую старушку; она живет одиноко, ходит, постукивая палочкой, за покупками и прогуливает на поводке омерзительную разжиревшую собаку, какие бывают только у старых женщин. Тридцать лет! Они способны измять нежную молодую кожу, избороздить ее морщинами, стать кровавыми убийцами, да еще из года в год плодить новые надежды и новые разочарования. Другие дети на месте меня лакомятся другими сладостями и упиваются другими волшебными зрелищами. И утром, и вечером горизонт прочерчивают самолеты; то, что было некогда моими кошмарными снами, стало обыденным явлением, которому не дивится даже крестьянин из самого глухого медвежьего угла. Как нечто вполне привычное под облаками, куда прежде взмывали одни только жаворонки, рокочет мотор диковинной птицы. Люди стремительней передвигаются, интенсивней живут, быстрее стареют, яростнее ненавидят. Вслед за прежними катастрофами надвигаются новые, мир корчится в схватках, рождая лучшее будущее.
На этом фоне — не считает ли читатель, что я бесцеремонно навязываю ему свои сумбурные, смешные воспоминания, разбуженные плеском волн и лучами июльского солнца? Не лучше ли было бы разорвать и сжечь эти листки, где не найти ни одного из тех утешительных слов, которые с такой алчностью проглатывает наш больной век, где не содержится выводов, которые хотели бы увидеть представители тех или иных политических партий?
Прошу всех, кто ожидал большего, нежели безыскусная повесть о бурной поре отрочества, простить меня. Я понимаю, что горести и переживания подростка мало кого взволнуют — в них нет ничего трагического. Но — люди добрые! Ведь даже гоночная машина останавливается на минуту, чтобы пополнить запас горючего. Почему бы и человеку, подхлестываемому ежедневной спешкой, не передохнуть, не поваляться немного на траве у реки?
Перед вами развлекательная повесть, написанная мной на рубеже великих страданий и великих надежд. Возможно, кое-кому вспомнятся свои Ганзелины, Доры, Эммы, ясновидящие и фокусники. Кто из нас не хранит в тайниках души память о быстро промелькнувшем детстве, эхо имени, составленного из нескольких имен, след недосмотренного сна, маленькую принцессу Гелимадоэ в дешевом платьице, с глазами, мокрыми от слез? В особенно тоскливые дни мы откапываем ее из-под груды наслоившихся разочарований, баюкаем и жадно всматриваемся в ее лицо — пленительное лицо прошлого, которое нам никогда уже не вернуть.