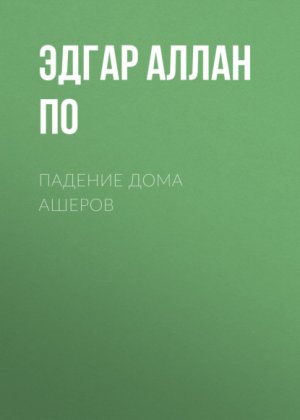
Son coeur est un luth suspendu;
Sitôt qu’on le touche il résonne.
De Béranger[1]
В течение всего унылого, темного, глухого осеннего дня, когда тучи нависали гнетуще низко, я в одиночестве ехал верхом по удивительно безрадостной местности и, когда сумерки начали сгущаться, наконец обнаружил в поле моего зрения Дом Ашеров. Не знаю отчего, но при первом взгляде на здание я ощутил невыносимую подавленность. Я говорю «невыносимую», ибо она никак не смягчалась полуприятным из-за своей поэтичности впечатлением, производимым даже самыми угрюмыми образами природы, исполненными запустения или страха. Я взглянул на представший мне вид – на сам дом и на незатейливый ландшафт поместья – на хмурые стены – на пустые окна, похожие на глаза, – на редкую, высохшую осоку – и на редкие белые стволы гнилых деревьев – и испытал совершенный упадок духа, который могу изо всех земных ощущений достойнее всего сравнить с тем, что испытывает, приходя в себя, курильщик опиума, – горький возврат к действительности – ужасное падение покрывала. Сердце леденело, замирало, ныло – ум безысходно цепенел, и никакие потуги воображения не могли внушить ему что-либо возвышенное. Что же – подумал я, – что же так смутило меня при созерцании Дома Ашеров? Тайна оказалась неразрешимою; не мог я справиться и с призрачными фантазиями, что начали роиться, пока я размышлял. Мне пришлось вернуться к неудовлетворительному выводу о том, что хотя и существуют очень простые явления природы, способные воздействовать на нас подобным образом, но анализ этой способности лежит за пределами нашего понимания. Быть может, подумалось мне, если бы хоть что-то в этом виде, так сказать, какие-то детали картины были расположены иначе, то этого оказалось бы достаточным, дабы изменить или вовсе уничтожить впечатление, им производимое; и, последовав этой мысли, я направил коня к крутому обрыву зловещего черного озера, невозмутимо мерцавшего рядом с домом, и посмотрел вниз – но с еще бо́льшим содроганием – на отраженные, перевернутые стебли седой осоки, уродливые деревья и пустые, похожие на глазницы, окна.
И все же я предполагал провести несколько недель в этой мрачной обители. Владелец ее, Родерик Ашер, был один из близких товарищей моего отрочества; но с нашей последней встречи протекло много лет. Однако недавно ко мне издалека дошло письмо – письмо от него, – на которое, ввиду его отчаянной настоятельности, письменного ответа было бы недостаточно. Оно свидетельствовало о нервном возбуждении. Ашер писал о тяжком телесном недуге – об изнуряющем его душевном расстройстве – и о снедающем желании видеть меня, его лучшего, да и единственного друга, дабы попытаться веселостью моего общества хоть как-то облегчить болезнь. Именно тон, каким было высказано это, и гораздо большее – очевидная пылкость его мольбы – не оставили мне места для колебаний; и я незамедлительно откликнулся на призыв, который все еще почитал весьма необычным.
Хотя в отрочестве мы были очень близки, я по-настоящему очень мало знал о моем друге. Он всегда отличался чрезмерной и неизменной замкнутостью. Однако я знал, что его весьма древний род с незапамятных времен отличался необычною душевною чувствительностью, выражавшейся на протяжении долгих веков в создании многочисленных высоких произведений искусства, а с недавних пор – в постоянной, щедрой, но ненавязчивой благотворительности, равно как и в страстной приверженности даже не к привычным и легко узнаваемым красотам музыки, но к ее изыскам. Узнал я и весьма замечательный факт: что родословное древо Ашеров никогда в течение многих столетий не давало прочных ветвей; иными словами, что весь род продолжался по прямой линии и что так было всегда, лишь с весьма незначительными и скоропреходящими исключениями. Быть может, раздумывал я, мысленно дивясь, сколь полно облик поместья соответствует общепризнанному характеру владельцев, и гадая о возможном влиянии, какое за сотни и сотни лет первое могло оказать на второй, – быть может, именно отсутствие боковых ветвей рода и неизменный переход владений и имени по прямой линии от отца к сыну в конце концов так объединили первое со вторым, что название поместья превратилось в чу́дное и двузначное наименование «Дом Ашеров» – наименование, которое объединяло в умах окрестных поселян и род, и родовой замок.
Я сказал, что мой несколько ребяческий опыт – взгляд на отражения в воде – лишь углубил необычное первоначальное впечатление. Несомненно, сознание быстрого роста моей суеверной – почему бы не назвать ее так? – моей суеверной подавленности лишь способствовало ему. Таков, как я давно знал, парадоксальный закон всех чувств, зиждущихся на страхе. И, быть может, лишь по этой причине, снова подняв глаза к самому дому от его отражения, я был охвачен странною фантазией – фантазией, воистину столь нелепою, что упоминаю о ней лишь с целью показать, сколь сильно был я подавлен моими ощущениями. Я так взвинтил воображение, что вправду поверил, будто и дом, и поместье обволакивала атмосфера, присущая лишь им да ближайшим окрестностям, – атмосфера, не имеющая ничего общего с воздухом небес, но поднявшаяся в виде испарений от гнилых деревьев, серой стены и безмолвного озера, – нездоровая и загадочная, отупляющая, сонная, заметного свинцового оттенка.
Отогнав от души то, что не могло не быть грезой, я с большею пристальностью осмотрел истинное обличье здания. Казалось, главною его чертою была крайняя ветхость. Века сильно переменили его цвет. Все здание покрывали плесень и мох, свисая из-под крыши тонкою, спутанною сетью. Но какого-либо явного разрушения не наблюдалось. Каменная кладка вся была на месте; и глазам представало вопиющее несоответствие между все еще безупречной соразмерностью частей и отдельными камнями, которые вот-вот раскрошатся. Многое напоминало мне обманчивую цельность старого дерева, долгие годы гнившего в каком-нибудь заброшенном склепе, не тревожимом ни единым дуновением извне. Однако, помимо этого свидетельства большого запустения, сам материал не обладал признаками непрочности. Быть может, взор дотошного наблюдателя разглядел бы едва заметную трещину, что зигзагом спускалась по фасаду от крыши и терялась в угрюмых водах озера.
Заметив все это, я по короткой аллее подъехал к дому. Слуга принял моего коня, и я вступил под готические арки, ведущие в холл. После этого неслышно ступающий лакей повел меня по темным и запутанным коридорам в кабинет своего господина. Многое по дороге туда, не знаю уж каким образом, усиливало неясные ощущения, о которых я ранее говорил. Если все вокруг – резьба потолков, мрачные гобелены по стенам, эбеновая чернота полов, а также развешанное оружие и фантасмагорические латы, громыхавшие от моих шагов, – было мне привычно с детства или напоминало что-нибудь привычное – и я не мог этого не признать, – я все же изумлялся, обнаруживая, какие неожиданные фантазии рождались во мне знакомыми предметами. На одной из лестниц нам повстречался домашний врач. Лицо его, как мне показалось, носило смешанное выражение низменной хитрости и растерянности. Он испуганно поздоровался со мною и пошел своей дорогой. Затем лакей распахнул дверь и ввел меня к господину.
Комната, в которой я очутился, была очень большая и высокая. Длинные, узкие, остроконечные окна находились так высоко от черного дубового пола, что до них никак нельзя было дотянуться. Слабые отблески красноватых лучей пробивались сквозь частые оконные переплеты, отчего более крупные предметы в комнате были достаточно видны; однако глаз тщетно пытался достичь отдаленных уголков покоя или углублений в сводчатом, покрытом резьбою потолке. На стенах висели темные драпировки. Стояло много мебели, неудобной, старинной, изношенной. В обилии разбросанные книги и музыкальные инструменты не оживляли вида. Я почувствовал, что дышу атмосферою скорби. Все пронизывала суровая, глубокая и безысходная мрачность.
Когда я вошел, Ашер поднялся с дивана, где лежал, вытянувшись во весь рост, и приветствовал меня с веселостью и жаром, заключавшими в себе многое, как мне сперва показалось, от преувеличенной сердечности, от принужденных потуг пресыщенного светского человека. Но один взгляд на лицо его убедил меня в его совершенной искренности. Мы сели; и несколько мгновений, пока он молчал, я взирал на него наполовину с жалостью, наполовину в испуге. Нет, никогда за столь краткий срок не менялся человек так ужасно, как изменился Родерик Ашер! С трудом заставил я себя признать в изможденном существе, сидевшем предо мною, товарища моего раннего отрочества. Но все же лицо его было замечательно в любую пору. Мертвенный цвет лица; большие влажные глаза, полные несравненного блеска; губы, довольно тонкие и очень бледные, но поразительно красивые по рисунку; тонкий нос еврейского типа, но с необычно широкими для подобной формы ноздрями; изящно вылепленный подбородок, недостаточно выступающий вперед, что говорило о душевной слабости; волосы мягче и тоньше паутины – эти черты, в сочетании с непропорционально высоким лбом, составляли в совокупности облик, который нелегко забыть. А теперь сама преувеличенность главного характера этих черт и их выражения так их меняла, что я усумнился, с кем же я разговариваю. Ужасающая бледность кожи и сверхъестественный блеск в глазах более всего поразили и даже испугали меня. А шелковистые волосы, давно не чесанные, тонкие и почти невесомые, не обрамляли ему лицо, а как бы парили вокруг него, и я даже с усилием не мог объединить его фантастическое выражение с понятием о простом смертном.