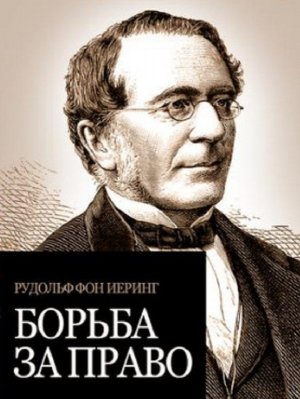
Motto: Въ борьбѣ обрѣтешь ты право твое.
Предисловие переводчика
Чтобы не потеряться въ мелочныхъ подробностяхъ обыденной жизни, необходимо время отъ времени становиться яа извѣстную высоту и посмотрѣть что дѣлается вокругъ. Всякая практическая дѣятельность, какъ бы ни была она почтенна сама по себѣ, необходимо вовлекаетъ человѣка, ей отдающагося, въ извѣстный кругъ идей, представленій; занятія кладутъ печать на всю личность человѣка. Чтобы не уклониться далеко отъ представленія справедливости, что весьма возможно, практическодіу'юристу время отъ времени также необходимо, какъ и всякому практическому дѣятелю, имѣющему дѣло съ жизненнымъ омутомъ, освѣженіе. ІІо при этомъ можетъ представится весьма существенный вопросъ — какъ и гдѣ практическоіГу дѣятелю найти такое, конечно весьма желательное благо. Если обратимся къ области отвлеченной мысли, или къ исторіи, то конечпо это можетъ быть весьма поучительно, но практику пужпа прежде всего непосредственная польза для его дѣла. Хотя такого рода польза можетъ несомнѣнпо послѣдовать и при занятіяхъ исторіей, или философіей, но практикъ можетъ возразить, что это отвлекаетъ его отъ дѣла. Въ особенности это часто приходится слышать отъ практическихъ юристовъ, которые обыкновенно имѣютъ дѣло съ касаціонными рѣшеніями Правительствующаго Сената и массами всякаго рода бумагъ. Вышедшее недавно сочиненіе профессора Игеринга, который пользуется въ Германіи и вообще въ ученомъ мірѣ почтенной извѣстностью, по мнѣнію нашему, вполнѣ удовлетворяетъ выставленной нами цѣли. "Борьба за право", есть именно такое драгоцѣнное сочиненіе, которое вовсе не отвлекаетъ человѣка отъ его практической жизни, но несомнѣнно освѣщаетъ ему эту жизнь. Ученый авторъ духа Римскаго права не требуетъ отъ читателя, чтобы онъ, хотя временно отказался отъ своихъ занятій, дабы освѣжиться духомъ, но онъ, напротивъ, самъ приходитъ въ область его практическихъ занятій и интересовъ и своею книгой "Борьба за право" проливаетъ яркій свѣтъ на всѣ ^жизненныя правовыя отношенія. И что весьма замѣчательно, книга своею свѣжестью, глубокою простотой мысли въ ней высказанной, производитъ такое впечатлѣніе, какъ будьто бы все это уже извѣстно. Въ этомъ-то именно и состоитъ заслуга знаменитаго автора, что онъ, если можно такъ выразиться, реставрировалъ правовое чувство, снялъ съ него всю шелуху, всѣ наслоенія, которыми покрыли его различные ученые юристы. Какъ искусно реставрированная картина стараго мастера, съ которой снятъ толстый слой красокъ, положенныхъ неумѣлыми руками, для любителя представляетъ величайшее наслажденіе, такъ и книга Игеринга "Борьба за право" реставрируя свѣтлый образъ правовой идеи, присущей читателю, и освобождая его отъ стараго хлама ложной учености, доставляетъ ему величайшее наслажденіе. Кромѣ изложенныхъ нами соображеній, предлагаемая нами въ переводѣ книга, по мнѣнію нашему, русской читающей публикѣ принесетъ еще ту пользу, что послѣ ея прочтенія, всякій будетъ смотрѣть нѣсколько иначе на тѣ уступки, которыя онъ самъ ежедневно дѣлаетъ всѣмъ и каждому во всемъ, что касается его права, только бы его оставили въ покоѣ. Примѣръ неуступчиваго въ своемъ правѣ англичанина въ особенности можетъ быть для насъ поучителенъ. Въ настоящее время, когда необходимо запасаться твердостью въ борьбѣ противъ неправды, когда на каждомъ шагу, въ особенности въ общественной дѣятельности, строгое отношеніе къ закону считается придирчивостью, когда всѣ, поступаясь правомъ, расплываются во взаимныхъ уступкахъ другъ другу — мы понимаемъ подъ этимъ вообще усвоенный характеръ общественной службы въ мировыхъ, земскихъ, городскихъ учрежденіяхъ и т. д. — гдѣ прежде всего требуется не точное исполненіе закона и долга, но умѣнье уживаться со всѣми — распространеніе здравыхъ воззрѣній профессора Игеринга весьма желательно. Наконецъ, мы желали бы подѣлиться съ Русскою публикой, нечитающей по нѣмецки, тѣмъ наслажденіемъ, которое сами мы испытали при чтеніи этого почтеннаго сочиненія.
Предисловие к первому изданию
11 Марта въ здѣшнемъ юридическомъ обществѣ я прочелъ лекціи о борьбѣ за право, которыя я издаю въ обработанномъ видѣ. Предметъ понятенъ и имѣетъ высокій интересъ не для однихъ юристовъ и я старался въ этомъ небольшомъ сочиненіи сдѣлать его доступнымъ вообще для образованной публики. Это опытъ психологіи права, который каждый образованный читатель можетъ провѣрить на себѣ самомъ.
Появленіе этого сочиненія совпадаетъ со временемъ моего отъѣзда изъ Вѣны и я пользуюсь настоящимъ случаемъ, чтобы повторить публично моимъ сотоварищамъ юристамъ, которые удостоили меня вниманіемъ, въ особенности моему уважаемому другу президенту юридическаго общества, бывшему министру юстиціи г. фонъ Ге, выраженіе глубокой благодарности, которое я уже высказалъ по окончаніи моихъ чтеній. Къ выраженію горячей благодарности за благосклонный пріемъ, который люди, призванные къ практической дѣятельности, оказывали человѣку науки, въ его научныхъ стремленіяхъ, я присоединяю чувство искренняго сожалѣнія, что я долженъ оставить ихъ кружекъ, и просьбу, чтобы они въ свою очередь сохранили и обо мнѣ дружеское воспоминаніе. Сочувствіе, съ которымъ они отнеслись къ моимъ чтеніямъ, даетъ мнѣ надежду, что и они одушевлены тѣми же стремленіями, и что на борьбу за право, къ которой въ настоящее время призвана Австрія, въ ихъ рядахъ найдется много храбрыхъ борцевъ. Вотъ горячее желаніе съ которымъ я оставляю Австрію.
Борьба за право
Право есть понятіе практическое, т. е. представленіе цѣли; каждое представленіе цѣли по самой природѣ своей двойственно; ибо оно заключаетъ въ себѣ цѣль и средство. Недостаточно указать только одну цѣль, но необходимо дать средство къ ея достиженію. Слѣдовательно, право должно дать отвѣтъ на оба эти вопроса — будутъ ли они касаться всей области права, или отдѣльнаго правоваго института, и дѣйствительно вся систематика права есть непрерывный отвѣтъ на эти оба вопроса. Всякое опредѣленіе правоваго института, напр. собственности, обязательства, необходимымъ образомъ распадается на двѣ части. Оно указываетъ цѣль этого института, и въ тоже время даетъ средства для ея достиженія. Всѣ средства, какъ бы они разнообразны ни были, сводятся къ борьбѣ противъ неправды. Въ представленіи права заключаются два противоположныя понятія: борьба и миръ; миръ какъ цѣль, борьба, какъ средство права, оба необходимо дополняютъ другъ друга и нераздѣльно соединены въ немъ.
На это могутъ возразить: борьба, отсутствіе мира, есть именно то, чему право должно препятствовать. Въ ней заключаются разрушеніе, отрицаніе правоваго порядка, а не моментъ правоваго представленія. Возраженіе было бы справедливо, енли бы дѣло шло о борьбѣ неправды противъ права, но дѣло идетъ о борьбѣ права противъ неправды. Везъ этой борьбы, т. е. безъ сопротивленія, противополагаемаго неправдѣ, право отрицало бы само себя. До тѣхъ поръ пока право будетъ подвергаться нападеніямъ со стороны неправды, — а это будетъ продолжаться до тѣхъ поръ пока стоитъ свѣтъ, — не прекратится борьба со стороны права. Слѣдовательно, борьба не есть нѣчто постороннее праву, но она неразрывно соединена съ самымъ существомъ его, она есть одинъ изъ моментовъ этого понятія.
Всякое право въ мірѣ должно быть добыто борьбой. Всякое правовое положеніе, заключающееся въ немъ, встрѣчается съ противоположными положеніями и должно ихъ уничтожить. Каждое право, будетъ ли то право народа, или отдѣльнаго лида, ставитъ себѣ задачею собственное огражденіе. Право, понятіе не логическое, а понятіе силы. Поэтому справедливость изображаютъ въ одной рукѣ съ вѣсами, которыми она вѣситъ право, а въ другой съ мечемъ, которымъ она его ограждаетъ. Мечъ безъ вѣсовъ былъ бы голымъ насиліемъ, вѣсы безъ меча — безсиліемъ права. Оба неразрывно связаны и совершенная полнота права царствуетъ только тамъ, гдѣ сила справедливости, управляющая мечемъ, равна точности, съ которой она управляетъ вѣсами.
Право есть непрерывная работа и не только исключительная работа государственной власти, но и цѣлаго народа. Если мы окинемъ однимъ взглядомъ всю совокупность правовой жизни, то она представитъ намъ тоже зрѣлище неустанной борьбы и работы всей націи, какое представляется намъ въ области экономической и умственной дѣятельности. Каждый индивидуумъ, который поставленъ въ необходимость защищать свое право, принимаетъ участіе въ этой національной работѣ, приноситъ свою лепту для осуществленія правовой идеи на землѣ. Конечно, это требованіе не относится ко всѣмъ въ одинаковой степени. Безъ борьбы протекаетъ жизнь тысячей индивидуумовъ по установившимся путямъ права, и если бы мы имъ сказали: право есть борьба — они бы насъ не поняли, ибо они знаю/гъ право, какъ состояніе мира и порядка. И съ точки зрѣнія ихъ собственнаго опыта, они совершенно правы, какъ правъ богатый наслѣдникъ, которому безъ труда достались плоды чужой работы, если онъ оспариваетъ положеніе, что собственность есть трудъ. Ошибка обоихъ заключается въ томъ, что обѣ стороны понятія собственности и права въ отдѣльныхъ случаяхъ могутъ распадаться, такъ что, одному достается наслажденіе и миръ, а другому трудъ и борьба. Если мы спросимъ послѣдняго, то отвѣтъ будетъ совершенно противоположный. Собственность и право есть именно та Янусова голова съ двойнымъ лицомъ; одному показываетъ она только одну сторону, другому только другую. Оттуда полнѣйшее различіе тѣхъ образовъ, которые видитъ тотъ и другой. По отношенію къ праву это бываетъ не только съ отдѣльными лицами, но и съ цѣлыми поколѣніями. На долю однихъ выпадаетъ война, на долю другихъ миръ, и потому народы впадаютъ въ туже ошибку какъ и отдѣльные индивидуумы. Длинный періодъ мира, вѣра въ возможность его вѣчнаго продолженія, процвѣтаютъ до тѣхъ поръ, пока первый пушечный выстрѣлъ не разсѣетъ прекраснаго сна, и вмѣсто одного поколѣнія, которое безмятежно наслаждалось миромъ, выступаетъ другое, которое въ тяжелыхъ трудахъ войны должно снова завоевать его. Такъ дѣлятся въ собственности, какъ и въ правѣ, трудъ и наслажденіе. Но ихъ взаимная связь отъ этого не прекращается, для одного, который наслаждается и пользуется миромъ, другой долженъ работать и бороться. Миръ безъ борьбы, наслажденіе безъ труда, принадлежатъ ко временамъ райскимъ, исторія знаетъ ихъ какъ результаты непрерывной, трудной борьбы. Эту мысль, что борьба есть работа права и то, что по отношенію къ ея практической необходимости, также какъ и ея нравственному достоинству, борьба стоитъ совершенно на одной линіи какъ и трудъ въ собственности, я предполагаю развить далѣе. При этомъ я думаю, что моя работа не будетъ излишня, напротивъ я думаю пополнить пробѣлъ, который оставила наша теорія (я полагаю не только философія права, но и наше законовѣдѣніе).
Надо замѣтить, что наша теорія, занималась болѣе вѣсами, Чѣмъ мечемъ справедливости. Односторонность чисто научной точки зрѣнія, съ которой теорія разсматриваетъ право и которая сводится къ тому, что право представляется не съ его реальной стороны, какъ понятіе силы, но преимущественно съ его логической стороны, какъ система отвлеченныхъ правовыхъ положеній, по мнѣнію моему, такъ извратило понятіе права, что оно болѣе не согласуется съ грубой дѣйствительностью; справедливость этого упрека нашей теоріи я постараюсь доказать моимъ дальнѣйшимъ изложеніемъ. Выраженіе право, какъ извѣстно, заключаетъ въ себѣ двойной смыслъ, право въ объективномъ и въ субъективномъ смыслѣ, подъ первымъ мы понимаемъ совокупность дѣйствующихъ правовыхъ положеній, закономъ установленный порядокъ жизни, подъ вторымъ приложеніе абстрактнаго правила къ конкретному правовому положенію лица. Въ обоихъ направленіяхъ право встрѣчаетъ сопротивленіе, въ обоихъ случаяхъ оно должно его побѣдить, т. е. свое бытіе установить и ограждать путемъ борьбы. Главнымъ образомъ я имѣю въ виду въ моемъ изложеніи борьбу во второмъ направленіи, но также утверждаю, что борьба лежитъ въ существѣ права и не отказываюсь попробовать доказать это и въ отношеніи къ первому направленію.
Неоспоримо, а потому и не требуетъ дальнѣйшихъ доказательствъ, осуществленіе права со стороны государства; поддержаніе правоваго порядка есть ни что иное со стороны государства, какъ непрерывная борьба противъ беззаконія, которое стремится его нарушить. Но нѣчто другое представляется въ отношеніи происхожденія права, и не только его первоначальнаго происхожденія при началѣ исторіи, но и его ежедневнаго, на нашихъ глазахъ повторяющагося обновленія, возвышенія существующихъ институтовъ, ограниченія прежнихъ правовыхъ положеній новыми, короче сказать, поступательное движеніе права. Представленному мною взгляду на происхожденіе права, въ которомъ образованіе и бытіе права подчиняются одному и тому же закону, противополагается другой взглядъ, который, по крайней мѣрѣ въ нашей романической наукѣ, еще господствуетъ и въ настоящее время, и который я коротко обозначу именами его двухъ главныхъ основателей — теорія Савиньи-Пухты о происхожденіи права. Слѣдуя ей, образованіе права совершается также незамѣтно, безболѣзненно, само собою, какъ и образованіе языка, оно не требуетъ не только усилія, борьбы, но даже и попытокъ, — это есть дѣйствующая въ тиши сила истины, которая безъ всякаго насилія, медленно, но вѣрно пролагаетъ себѣ путь, сила убѣжденія, которая овладѣваетъ умами, и которая выражается въ ихъ поступкахъ — новое правовое положеніе вступаетъ такимъ образомъ въ бытіе также безболѣзненно, какъ и правило въ языкѣ. Положеніе древняго римскаго права, что вѣритель можетъ несостоятельнаго должника продать въ рабство, или что владѣлецъ можетъ потребовать (виндицировать) свою вещь отъ каждаго, у кого Онъ ее найдетъ, по этому воззрѣнію образовалось въ древнемъ Римѣ точно также, какъ правило, что cum управляетъ творительнымъ падежемъ.
Съ этимъ воззрѣніемъ на происхожденіе права я самъ въ свое время оставилъ университетъ и долгое время находился подъ его вліяніемъ. Но можетъ ли это имѣть притязаніе на истину? Надо согласиться, что право, точно также какъ и языкъ, имѣетъ невидимое, безсознательное, назовемъ его обычнымъ выраженіемъ: органическое развитіе изъ внутри. Къ этому принадлежатъ всѣ тѣ правовыя положенія, которыя изъ самостоятельно дѣйствующихъ въ области права отдѣльныхъ правовыхъ случаевъ мало по малу складываются въ обычаи, также какъ и тѣ отвлеченія, послѣдовательныя заключенія и правила, которыя беретъ наука изъ предшествующаго права и путемъ діалектики образуетъ изъ нихъ понятія и возводитъ до сознанія. Но сила этихъ обоихъ Факторовъ: обычая, какъ и науки, есть ограниченная, она можетъ регулировать движеніе по существующимъ уже путямъ, помогать ему, но она не можетъ прорвать плотины, которая препятствуетъ проложить потоку новое направленіе. Это можетъ только законъ, т. е. намѣренное, къ этой цѣли направленное дѣйствіе государственной власти, а слѣдовательно это не случай, но глубоко, въ существѣ права коренящаяся необходимость, въ силу которой, къ дѣйствію закона сводятся всѣ реформы, касающіяся, какъ судопроизводства, такъ и матеріальнаго права. Но иногда эта перемѣна которую законъ производитъ въ существующемъ правѣ, имъ, т. е. областью абстрактною, только и ограничивается, не простирая своего дѣйствія въ область конкретныхъ отношеній, образовавшихся на почвѣ существующаго до сихъ поръ права, чисто механическая перемѣна въ правѣ, въ которой негодный винтъ или валъ замѣняется новымъ. Но часто дѣло происходитъ такимъ образомъ, что перемѣна затрогиваетъ слишкомъ сильно существующее право и частные интересы. На существующемъ правѣ въ продолженіе долгаго времени основывались интересы тысячи личностей и цѣлыхъ общественныхъ положеній, такъ что это право нельзя устранить, не причинивъ имъ существеннаго ущерба, отмѣнить правовое положеніе, или учрежденіе, значитъ объявить войну всѣмъ этимъ интересамъ, вырвать полипъ изъ больнаго организма, который всосался въ него тысячами отростковъ. Всякій подобный опытъ вызываетъ такимъ образомъ, основанное на стремленіи къ самосохраненію, сильное сопротивленіе со стороны угрожаемыхъ интересовъ, а слѣдовательно и борьбу, въ которой, какъ и во всякой борьбѣ, беретъ перевѣсъ не убѣжденіе, но отношеніе силъ взаимно борющихся сторонъ, причемъ нерѣдко происходитъ тотъ же результатъ какъ въ параллелограмѣ сиііъ: уклоненіе отъ первоначальной линіи по діагонали.
Только этимѣ и можно объяснить, что учрежденія, противъ которыхъ давно уже возстаетъ общественное мнѣніе, еще долго существуютъ: не vis inertiae ихъ удерживаетъ, но сила сопротивленія заинтересованныхъ въ ихъ сохраненіи интересовъ. Такимъ образомъ во всѣхъ подобныхъ случаяхъ, гдѣ существующее право находится въ связи съ интересами, новое право установляется только путемъ борьбы, которая часто продолжается цѣлыя столѣтія. Высочайшей степени напряженія она достигаетъ тогда, когда интересы приняли видъ (Форму) пріобрѣтеннаго права. Здѣсь одна противъ другой стоятъ двѣ партіи, изъ которыхъ каждая становится подъ священное знамя права: одна историческаго права, права прошедшаго, другая вѣчно творящагося, обновляющагося права, первообразнаго права человѣчества на бытіе, — столкновеніе идеи права въ себѣ самомъ, которое имѣетъ нѣчто по истинѣ трагическое, ибо въ немъ выражается вся сила и все существо его, и надъ которымъ только имѣетъ силу судъ исторіи.
Всѣ великія пріобрѣтенія, отмѣченныя исторіей права: уничтоженіе рабства и крѣпостнаго права, свобода поземельной собственности, промысла, вѣры и т. д., всѣ они должны были выдержать на своемъ пути жестокую борьбу, продолжавшуюся часто цѣлыя столѣтія, которая нерѣдко обозначалась потоками крови, вообще же разрушеніемъ права, ибо здѣсь уничтожалось самое право. Такимъ образомъ "право это Сатурнъ, пожирающій собственныхъ дѣтей своихъ"[1]. Право тѣмъ только и можетъ обновляться, что оно убираетъ прочь прошедшее. Конкретное право, разъ оно установилось, имѣетъ притязаніе на неограниченное, вѣчное продолженіе. Это дитя, которое поднимаетъ руки противъ своей собственной матери, оно смѣется надъ идеей права, не смотря на то, что на ней основывается. Идея права есть непрерывное дѣяніе, такъ какъ совершившееся должно уступать мѣсто новому бытію, ибо
Такимъ образомъ право въ своемъ историческомъ движеніи представляетъ намъ картину исканій, усилій, борьбы, короче, неустаннаго стремленія. Человѣческому духу, который безсознательно работаетъ надъ образованіемъ языка, при этомъ не представляется никакого сильнаго сопротивленія. Искусство также не имѣетъ другаго противника, кромѣ своего собственнаго прошедшаго и господствующаго вкуса. Но право, какъ понятіе цѣли, поставленное среди хаотическаго броженія человѣческихъ стремленій, интересовъ, должно, непрерывно двигаться ощупью, искать, чтобы попасть на вѣрную дорогу, и когда она найдена, еще должно преодолѣть сопротивленіе, чтобы идти этимъ путемъ. Несомнѣнно, что и развитіе права, также какъ и развитіе искусства и языка, слѣдуетъ опредѣленнымъ законамъ, какъ и то, что оно удаляется по существу и Формѣ отъ послѣдняго, и потому мы должны въ этомъ смыслѣ совершенно отказаться отъ проведенной Савиньи параллели, которой поспѣшно придалитакое общее значеніе, между правомъ съ одной стороны, и языкомъ и искусствомъ съ другой. Какъ Фальшивое, но неопасное теоретическое воззрѣніе, это ученіе, возведенное въ политическое правило, представляется совершеннымъ заблужденіемъ, какое тодыкчмгебѣ можно представить, ибо оно обольщаетъ человѣка, вѣ такой области, гдѣ онъ долженъ дѣйствовать, съ полнымъ, яснымъ сознаніемъ цѣли, полагая всѣ свои силы, обольщаетъ тѣмъ, что дѣло дѣлается само собой, что онъ лучше сдѣлаетъ, если положитъ руки въ карманъ и будетъ довѣрчиво ждать что мало по малу появится на свѣтъ изъ источника права: національнаго правоваго убѣжденія. Оттуда происходитъ отвращеніе Савиньи и всѣхъ его послѣдователей отъ поступательнаго движенія законодательства[2], оттуда совершенное непониманіе истиннаго значенія обычая въ теоріи обычнаго права Пухты. Обычай для Пухты есть ни что иное, какъ простой способъ познать правовое убѣжденіе; что это убѣжденіе образуется только въ дѣйствіи, что оно только посредствомъ дѣйствія пріобрѣтаетъ силу и значеніе и становится господствующимъ въ жизни, короче, что къ обычаю приложимо изрѣченіе: право есть понятіе силы — на это глаза проницательнаго Пухты были совершенно закрыты. Этимъ онъ платилъ дань своему времени. Ибо это было время романтическаго періода въ нашей поэзіи и кто не откажется прослѣдить вліяніе романтизма на юриспруденцію, и приметъ на себя трудъ сравнить въ этихъ обѣихъ областяхъ соотвѣтствующія направленія, тотъ быть можетъ не признаетъ неправильнымъ то, что я утверждаю, что историческая школа можетъ также правильно быть названа романтической. И дѣйствительно, это есть поистинѣ романтическое представленіе, основанное на Фальшивой идеализаціи прошедшаго, что право образуется безболѣзненно, покойно, безъдѣятельно, какъ растеніе въ полѣ; суровая дѣйствительность учитъ насъ противному, и не только та дѣйствительность, которая у насъ передъ глазами, которая намъ представляетъ повсюду сильнѣйшее стремленіе народовъ къ образованію ихъ правовыхъ отношеній — вопросы самаго жгучаго свойства, изъ которыхъ одинъ вытѣсняетъ другой; но впечатлѣніе остается тоже, куда бы мы не обратились въ прошедшемъ. Такимъ образомъ для приложенія теоріи Савиньи остается только доисторическое время, о которомъ мы не имѣемъ никакихъ извѣстій. Но если мнѣ будетъ позволено выразить свое мнѣніе объ этомъ времени, то я противопоставлю теоріи Савиньи, по которой на этомъ театрѣ происходитъ безработное, мирное образованіе права изъ внутри народнаго убѣжденія, мою теорію, діаметрально ей противоположную. Вѣроятно со мной согласятся, что за нее стоитъ по крайней мѣрѣ аналогія очевиднаго историческаго развитія права, и я думаю, большая психологическая вѣроятность. Первобытное время! Нѣкогда была мода надѣлять его всѣми прекрасными качествами: истиной, откровенностью, вѣрностью, дѣтскимъ простодушіемъ, благочестивой вѣрой, и на такой почвѣ вѣроятно развивалось право, безъ всякой другой силы, только силою правоваго убѣжденія; оно не нуждалось ни въ кулакѣ ни въ мечѣ. Но теперь всякій знаетъ, что доброе старое время имѣло совсѣмъ противоположныя черты, и предположеніе, что оно болѣе легкимъ способомъ дошло до своего права, чѣмъ всѣ послѣдующія времена, подлежитъ сильному сомнѣнію. Я съ своей стороны убѣжденъ что работа, которую это время на него положило, была гораздо болѣе трудной, и что даже самыя простыя правовыя положенія, подобныя вышеприведеннымъ изъ самого древняго римскаго права, что собственникъ имѣетъ право свою вещь виндицировать отъ каждаго владѣльца, а вѣритель несостоятельнаго должника можетъ продать его въ чужестранное рабство, могли образоваться только въ дикой борьбѣ, пока они установились и каждый сталъ имъ подчиняться. Какъ бы то ни было, намъ нечего заниматься здѣсь первобытнымъ временемъ. Мы должны довольствоваться тѣми свѣдѣніями о происхожденіи права, которыя намъ даетъ первоначальная исторія. А изъ этихъ свѣдѣній мы узнаемъ, что рожденіе права, также какъ и человѣка, сопровождалось тяжелыми родильными страданіями. Но должны ли мы сѣтовать, что это такъ было? Напротивъ, что право народовъ не упало имъ безъ труда съ неба, что они должны были дѣлать всевозможныя усилія, бороться, проливать кровь, это и послужило между ними и правомъ крѣпкою связью, какая происходитъ при рожденіи между ребенкомъ и его матерью. Безъ труда добытое право стоитъ въ томъ же положеніи въ какомъ находятся дѣти принесенные аистомъ;[3] то что принесъ аистъ, можетъ унести лисица, или коршунъ. Но мать, которая родила ребенка, не даетъ его унести, также какъ и народъ свои права и учрежденія, добытыя имъ въ кровопролитной борьбѣ. Можно утверждать съ достовѣрностыо: степень любви и привязанности народа къ своему праву, съ которыми онъ отстаиваетъ его, опредѣляется именно тѣми усиліями и борьбой, которыми онъ добылъ это право. Не просто привычки, но принесенныя народомъ жертвы, составляютъ несокрушимую связь между нимъ и его правомъ. Тому народу, къ которому благоволитъ Богъ, онъ не даруетъ что ему нужно, не облегчаетъ, но напротивъ затрудняетъ трудъ добыть необходимое. Въ этомъ смыслѣ я не колеблясь скажу: борьба, которой требуетъ право что бы произойти на свѣтъ, есть не проклятіе, но благословеніе.
Теперь я обращусь ко второй части моего изложенія, къ борьбѣ за конкретное право. Оно вызывается нарушеніемъ, устраненіемъ права. Такъ какъ ни права частныхъ лицъ, ни право народовъ, не стоятъ внѣ этой опасности, то изъ этаго слѣдуетъ, что эта борьба происходитъ и повторяется во всѣхъ сферахъ права: въ низшихъ слояхъ частнаго права, также какъ и въ высшихъ сферахъ государственнаго и народнаго права. Война, бунтъ, революція, такъ назыв. законъ Линча, кулачное право, поединки среднихъ вѣковъ, и ихъ послѣдній остатокъ въ настоящее время — дуэль; наконецъ право необходимой обороны, и мирная борьба: процессъ — что все это, не смотря на все различіе объекта спора, Формъ и размѣровъ борьбы, какъ не сцены той же драмы: борьбы за право? Если я изъ всѣхъ этихъ Формъ борьбы избираю для изложенія самую незначительную: легальную борьбу за частное право, то это происходитъ не потому, что для всѣхъ насъ, которые собрались здѣсь, она имѣетъ высшій интересъ, но и потому, что въ ней-то истинное положеніе дѣла и подвергается опасности быть не признаннымъ не только со стороны обыкновенныхъ смертныхъ, но и юристовъ. Во всѣхъ другихъ случаяхъ оно ясно само собой. Тамъ гдѣ дѣло идетъ о благѣ имѣющемъ высочайшее значеніе оно понятно самому простому уму и никтоне будетъ поднимать вопросъ: зачѣмъ бороться, не лучше ли уступить? Возвышенность зрѣлища, какую представляетъ развитіе человѣческихъ силъ и самопожертвованіе, неудержимо возбуждаетъ каждаго и поднимаетъ его на высоту идеальнаго сужденія. Но совершенно иначе представляется дѣло, когда возникаетъ борьба за частные интересы. Относительная ничтожность интересовъ, около которыхъ она вращается, неизбѣжный вопросъ о моемъ и твоемъ, обыденная проза, которая связана съ этими вопросами, касающимися самыхъ мелочныхъ расчетовъ, самыя Формы, которыя принимаетъ борьба, ихъ, механическая сторона, исключеніе всякаго свободнаго, сильнаго проявленія личности, все это мало способствуетъ ослабленію неблагопріятнаго впечатлѣнія. Было время, когда личность еще не выдѣлялась изъ ея границъ, а потому истинное значеніе борьбы достигало совершенной очевидности. Когда еще мечъ рѣшалъ споръ о моемъ и твоемъ, когда средневѣковой рыцарь посылалъ другому вызовъ на бой, тогда могъ и посторонній зритель догадаться что въетой борьбѣ дѣло идетъ не объ одной стоимости вещи, не для того только чтобы избѣжать денежной потери, но что съ вещью соединены судьбы лица, ограждается его право, его честь.
Но мы не имѣемъ болѣе надобности вызывать давно изчезнувшія тѣни чтобы объяснить значеніе того, что происходитъ въ сущности и въ настоящее время, хотя въ другой Формѣ. Для этого достаточно одного взгляда на явленія нашей теперешней жизни и психологическихъ наблюденій надъ самимъ собой.
При всякомъ нарушеніи права, въ каждомъ правообладателѣ возникаетъ вопросъ: долженъ ли онъ охранять право, оказать сопротивленіе противнику, слѣдовательно бороться, или онъ долженъ оставить, уклониться отъ спора; права сдѣлать такое заключеніе ни кто конечно отнять не можетъ. Каково бы ни было это заключеніе въ обоихъ случаяхъ дѣло идетъ о пожертвованіи, въ одномъ, правомъ жертвуютъ спокойствію, въ другомъ, спокойствіемъ праву. Вопросъ по видимому сводится къ тому: какое пожертвованіе удобнѣе перенести при данныхъ обстоятельствахъ и отношеніяхъ лица. Богатый пожертвуетъ для мира незначительной для него спорной суммой. Бѣдный, для котораго эта сумма важна, пожертвуетъ миромъ. Такимъ образомъ вопросъ о борьбѣ за право принимаетъ характеръ счета, при которомъ съ обоихъ сторонъ одинаково взвѣшиваются выгоды и убытки и ими опредѣляется рѣшеніе. Каждый изъ насъ знаетъ, что этого вовсе нѣтъ въ дѣйствительности. Каждый день мы видимъ процессы, въ которыхъ стоимость спорнаго предмета не имѣетъ никакого отношенія ни къ издержкамъ, ни къ труду, ни къ возбужденію, съ которыми они ведутся. Никто, у кого талеръ упалъ въ воду, не употребитъ двухъ на то, чтобы его вытащить — для него вопросъ сколько онъ на это долженъ употребить, дѣйствительно есть простое вычисленіе. Нопочему не употребляетъ онъ этого вычисленія при процессѣ? Нельзя сказать: онъ расчитываетъ выиграть дѣло и ожидаетъ, что издержки падутъ на его противника. Каждый изъ насъ знаетъ, что даже полная увѣренность, что побѣда будетъ стоить дорого, не удерживаетъ нѣкоторыхъ отъ процесса; часто случается, что на совѣтъ воздержаться отъ процесса, причемъ указывается возможность дурнаго исхода, получается отвѣтъ: я буду вести его, во что бы мнѣ это ни стало.
Чѣмъ объяснимъ мы подобный, безсмысленный съ точки зрѣнія разумнаго вычисленія пользы, образъ дѣйствій?
Отвѣтъ на это извѣстенъ: это печальное послѣдствіе страсти къ процессамъ, чистая любовь къ спору, неудержимое стремленіе повредить противнику, даже съ полнымъ сознаніемъ, что это обойдется также дорого, а быть можетъ еще дороже чѣмъ ему.
Оставимъ на минуту споръ двухъ частныхъ лицъ, поставимъ на ихъ мѣсто два народа. Одинъ неправильно отнялъ у другаго квадратную милю пустой, не имѣющей цѣны земли; долженъ ли второй начать войну? Будемъ смотрѣть на вопросъ совершенно съ той же точки зрѣнія, съ которой теорія называетъ его страстью къ процессамъ у крестьянина, у котораго сосѣдъ отпахалъ нѣсколько Футовъ земли, или набросалъ камней на его поле. Что квадратная миля пустой земли въ сравненіи съ войной, которая стоитъ тысячи жизней, вноситъ бѣду и горе въ хижины и дворцы, поглощаетъ милліоны и милліарды государственныхъ сокровищъ и даже угрожаетъ существованію государства! Какая глупость за такой предметъ приносить такія жертвы!
Вотъ каковъ былъ бы приговоръ, если бы дѣло крестьянина и народное дѣло мѣрять однимъ и тѣмъ же аршиномъ. Къ счастію никто не дастъ такой же совѣтъ народу, какъ крестьянину.
Всякому понятно, что народъ, который будетъ молчать при подобномъ нарушеніи его правъ, подпишетъ свой смертный приговоръ. Если у народа можно безнаказанно отнять квадратную милю земли, то у него можно отнять и остальную, до того, что у него ничего не останется, до уничтоженія самаго государства — лучшаго онъ и не заслуживаетъ.
Но если народъ долженъ защищать себя изъ за квадратной мили, не справляясь съ ея стоимостью, почему же не долженъ такъпоступать крестьянинъ изъ за клочка земли? Или мы должны отвѣтить ему поговоркой: quod licet Jovi, non licet bovi[4]? Какъ народъ, не за одну только квадратную милю вступаетъ въ борьбу, но за себя самого, за свою честь и независимость, также точно и крестьянинъ въ такомъ процессѣ, въ которомъ представляются вышеупомянутыя, неблагопріятныя отношенія между стоимостью спорнаго предмета и предвидимыми издержками и пожертвованіями, конечно будетъ бороться не за одинъ только незначительный, спорный предметъ, но и для того, чтобы достигнуть идеальной цѣли: огражденія собственной личности и своего правоваго чувства[5]. Въ виду этой цѣли въ глазахъ правообладателя всѣ жертвы и непріятности, которыя влечетъ за собой процессъ, не имѣютъ значенія. Цѣль вознаграждаетъ за средства. Не низкій денежный интересъ, побуждаетъ оскорбленнаго начинать процессъ, но нравственная боль испытанной имъ неправды; здѣсь для него дѣло идетъ не о томъ, чтобы снова возвратить предметъ, быть можетъ, какъ это часто бываетъ при подобныхъ случаяхъ, чтобы показать дѣйствительную причину возбужденія процесса, онъ уже заранѣе этотъ предметъ отдаетъ въ пользу бѣдныхъ, но для того, чтобы заставить признать свое право. Внутренній голосъ говоритъ ему, что онъ не долженъ поступаться, что дѣло идетъ не объ одномъ только не имѣющемъ цѣны предметѣ, но о личности, его правовомъ чувствѣ, о томъ что онъ долженъ поступить такъ изъ уваженія къ самому себѣ — короче, процессъ принимаетъ Форму не разрѣшенія только простаго имущественнаго вопроса, но вопроса о его характерѣ: конечно опытъ тѣмъ не менѣе указываетъ, что многіе въ подобномъ случаѣ поступаютъ совершенно наоборотъ — предпочитаютъ миръ безпокойству огражденія права. Какъ же мы должны отнестись къ этому? Должны ли мы просто сказать: это дѣло личнаго вкуса и темперамента, одинъ любитъ борьбу, другой предпочитаетъ миръ? Съ точки зрѣнія права, оба въ одинакой мѣрѣ заслуживаютъ почтенія, ибо право предоставляетъ правообладателю выборъ: защищать его, или отказаться отъ защиты. Я считаю этотъ взглядъ который, какъ извѣстно, нерѣдко встрѣчается въ жизни, въ высшей степени извращеннымъ, противнымъ внутреннему существу права; если бы было мыслимо, что когда либо это воззрѣніе сдѣлается всеобщимъ, то съ правомъ случилось бы то, что вмѣсто того, чтобы для своего утвержденія указывать на необходимость мужественной борьбы противъ неправды, само право стало бы проповѣдывать трусливое бѣгство. Я напротивъ поставлю такое положеніе: сопротивленіе противъ неправды есть обязанность, есть долгъ правообладателя, по отношенію къ самому себѣ— ибо это есть заповѣдь нравственнаго самосохраненія — долгъ по отношенію къ обществу — ибо для того, чтобы всѣ ему слѣдовали, это воззрѣніе должно быть всеобщимъ. Двумя этими положеніями я опредѣляю мою задачу, на которую въ слѣдующихъ чтеніяхъ обращу ваше вниманіе.
Борьба за право есть долгъ каждаго правообладателя по отношенію къ себѣ самому.
Огражденіе собственнаго существованія есть высочайшій законъ всего живущаго; влеченіе къ самосохраненію проявляется въ каждомъ живомъ существѣ. Но у человѣка этотъ законъ является условіемъ не только Физической жизни, но и его нравственнаго существованія, — условіе же нравственнаго существованія есть право. Въ правѣ ограждаетъ и отстаиваетъ человѣкъ условіе своего существованія — безъ права опускается онъ на степень животнаго, какъ поэтому Римляне совершенно послѣдовательно смотрѣли на рабовъ съ точки зрѣнія абстрактнаго права, ставя ихъ наравнѣ съ животными[6].
Огражденіе права есть такимъ образомъ обязанность нравственнаго самосохраненія. Совершенное отреченіе отъ права, что теперь представляется не возможнымъ, но что прежде было возможно, есть нравственное самоубійство.
Право есть только сумма единичныхъ институтовъ, изъ которыхъ въ каждомъ выражаются соотвѣтствующія условія нравственнаго бытія[7]: въ собственности, такъ же какъ и въ бракѣ — въ договорѣ, такъ же какъ и въ понятіи о чести. Отреченіе отъ котораго либо изъ нихъ, въ правовомъ смыслѣ, также невозможно, какъ и отреченіе отъ совокупности правъ. Но конечно возможно насильственное вторженіе въ которое либо изъ этихъ условій и это вторженіе каждый обязанъ отражать. Ибо недостаточно еще имѣть право пользоваться этими жизненными условіями, но они должны быть субъектомъ права на дѣлѣ твердо охраняемы. Поводъ къ тому представляемся каждый разъ когда произволъ осмѣливается нападать на нихъ.
Но не каждая несправедливость есть произволъ, т. е. движеніе направленное противъ идеи права. Владѣлецъ моей вещи, который себя считаетъ ея собственникомъ, не отрицаетъ въ моемъ лицѣ идеи собственности, онъ только предъявляетъ на эту вещь свое право; вопросъ въ этомъ спорѣ сводится къ тому, кто изъ насъ обоихъ собственникъ. Но воръ и разбойникъ совершенно иначе относятся къ праву собственности. Они отрицаютъ въ моей собственности самую идею оной, а вмѣстѣ съ тѣмъ и существенное условіе моего бытія (личности). Если бы подобный образъ дѣйствій признать всеобщимъ, правовымъ, то тогда собственность отрицалась бы и въ принципѣ и на практикѣ. А потому такое дѣло не просто завладѣніе моею вещью, но въ тоже время нападеніе на мою личность, и если для меня существуетъ вообще обязанность ограждать послѣднюю, то она существуетъ и въ этомъ случаѣ. Только тогда можетъ имѣть основаніе нѣкоторое отступленіе отъ исполненія этой обязанности, когда происходитъ ея столкновеніе съ другой еще высшей, сохраненіемъ жизни, когда напр. разбойникъ ставитъ вопросъ такимъ образомъ: жизнь или кошелекъ. Но кромѣ этого случая, моя обязанность отражать всѣми находящимися въ моемъ распоряженіи средствами это неуваженіе къ праву въ моемъ лицѣ. Терпѣливо вынося подобное дѣйствіе, я тѣмъ самымъ допускаю моментъ безправія въ моей жизни. Но на свое право никто не долженъ налагать руки. Относительно добросовѣстнаго владѣльца моей вещи я нахожусь въ совершенно другомъ положеніи. Здѣсь вопросъ, что мнѣ дѣлать, не представляется для меня вопросомъ, относящимся къ моему правовому чувству, моему характеру, моей личности, но только вопросомъ касающимся моего интереса, ибо здѣсь идетъ дѣло только о цѣнности вещи. Здѣсь я могу разсчитать потерю и выигрышъ, взвѣсить возможность того или другаго исхода и затѣмъ вывести заключеніе: возбуждать процессъ, или воздержаться отъ него[8]. Сравненіе представляющихся съ обоихъ сторонъ вѣроятностей возможнаго исхода есть совершенно вѣрное разрѣшеніе спора. Но если, какъ часто бываетъ, трудно самимъ разобраться въ такомъ спорѣ, то это значитъ, что стороны не могутъ согласиться въ расчетѣ, что не только далеко расходятся вѣроятности взаимныхъ вычисленій, но что каждая спорящая сторона при этомъ предполагаетъ въ другой завѣдомо неправое, злой умыселъ. Тогда вопросъ принимаетъ тоже положеніе, хотя процессуально дѣло идетъ о неправдѣ объективной, принимаетъ психологически для сторонъ тотъ же какъ и въ вышеприведенномъ случаѣ характеръ сознательнаго нарушенія права, и отпоръ со стороны субъекта, считающаго свое право нарушеннымъ, является точно также нравственнымъ и правильнымъ какъ и по отношенію къ вору. Въ этомъ случаѣ желаніе удержать сторону отъ процесса, указывая ей на его издержки и послѣдствія, неизвѣстность исхода, было бы психологической ошибкой; для нея вопросъ уже состоитъ нё въ одномъ интересѣ но и въ правовомъ чувствѣ; но такой оборотъ дѣла единственно возможенъ только въ томъ случаѣ, если удастся опровергнуть это предположеніе — дурнаго намѣренія противника, противъ котораго собственно и возстаетъ сторона, этимъ разрѣшится существо пререканія и получится возможность для стороны разсматривать дѣло только съ точки зрѣнія интереса, а слѣдовательно становится возможнымъ расчетъ. Никто не знаетъ до какой степени можетъ простираться упорное сопротивленіе стороны противъ всѣхъ подобныхъ попытокъ, лучше чѣмъ она сама и я думаю, что всякій согласится со мной, что эта психологическая неуступчивость, эта недовѣрчивость не есть нѣчто индивидуальное, обусловленное личнымъ характеромъ, но что при этомъ имѣютъ еще вліяніе степень образованія и положеніе лица. Это недовѣріе всего труднѣе побѣдить въ крестьянинѣ[9]. Такъ называемая страсть къ процессамъ, въ которой его обвиняютъ, есть продуктъ двухъ въ высшей степени присущихъ ему Факторовъ: во первыхъ сильнаго чувства собственности, можно даже сказать скупости, и во вторыхъ недовѣрія. Никто не понимаетъ лучше своего интереса и не держится за то, что онъ имѣетъ, крѣпче крестьянина и тѣмъ не менѣе, какъ извѣстно, никто легче его не пожертвуетъ всѣмъ своимъ состояніемъ ради процесса. Очевидное противорѣчіе, но въ дѣйствительности совершенно понятное. Ибо именно при его сильно развитомъ чувствѣ собственности, нападеніе на нее ощущается сильнѣе, а слѣдовательно происходитъ и сильная реакція. Страсть къ процессамъ у крестьянина есть ничто иное какъ извращеніе недовѣріемъ чувства собственности, извращеніе которому подобное мы встрѣчаемъ въ любви: ревность сама на себя обращаетъ оружіе, разрушая то, что она хочетъ спасти.
Интересное подтвержденіе только что сказаннаго мною представляетъ древнее Римское право. Въ немъ это недовѣріе крестьянина, предполагающее при всякомъ правовомъ столкновеніи злое намѣреніе противника, выражается въ Формѣ правовыхъ положеній. Вездѣ, даже и тамъ, гдѣ дѣло идетъ о чисто объективной неправдѣ, являются такія же послѣдствія какъ бы дѣло шло о неправдѣ субъективной, т.е. наказаніе побѣжденной стороны. Оскорбленное правовое чувство недовольствуется простымъ возстановленіемъ права, но оно еще требуетъ особеннаго удовлетворенія за то, что противникъ сознательно или безсознательно задѣлъ наше право. Если бы наши теперешніе крестьяне создавали право, оно вѣроятно гласило бы также, какъ и право ихъ древнеримскихъ собратій. Но уже и въ Римѣ недовѣріе въ правѣ вслѣдствіе культуры уничтожено въ принципѣ дѣленіемъ на два рода неправды: сознательной и безсознательной или субъективной и объективной (по Гегелю непосредственной).
Это противоположеніе имѣетъ для вопроса, которымъ яздѣсь занимаюсь: т. е. какое положеніе долженъ принять оскорбленный въ своемъ правѣ относительно неправды, только второстепенное значеніе. Оно выражаетъ только какъ право относится къ дѣлу и опредѣляетъ послѣдствія которыя влечетъ за собой неправда. Но оно никакимъ образомъ не можетъ служить маштабомъ для понятія субъекта, для того, на сколько правовое чувство, которое возникаетъ вовсе не по понятіямъ системы, можетъ быть возбуждено причиненной ему неправдой. Исключительныя обстоятельства могутъ быть таковы, что обладатель права, при столкновеніи, которое законъ считаетъ объективнымъ, имѣетъ основаніе подставить со стороны своего противника злое намѣреніе, сознательную неправду и направить противъ нихъ свои дѣйствія. То, что право ставитъ меня относительно наслѣдника моего должника, который ничего не знаетъ о долгѣ, и уплату его ставитъ въ зависимость отъ доказательства, совершенно въ такое же condictio ex mutuo, какъ и относительно самаго должника, который безстыднымъ образомъ оспариваетъ заемъ или безъ всякаго основанія отказывается отъ его возвращенія, не можетъ помѣшать мнѣ смотрѣть на поступки обоихъ съ совершенно различныхъ точекъ зрѣнія и сообразно съ ними направить мой образъ дѣйствій. Самъ должникъ становится для меня на одну доску съ воромъ: онъ завѣдомо старается лишить меня моего, это произволъ, который направляется противъ права, только здѣсь онъ облекается въ легальную Форму. Напротивъ того наслѣдникъ должника равняется добросовѣстному владѣльцу моей вещи, онъ отрицаетъ не то положеніе, что должникъ долженъ платить, но только то, что онъ должникъ, и все, что я сказалъ о первомъ, относится также и къ нему. Относительно наслѣдника я могу кончить дѣло полюбовно, отказаться отъ процесса, но относительно самого должника обязанъ защищать свое право, чего бы это мнѣ ни стоило; если я этого не сдѣлаю, то я поступаюсь не только этимъ правомъ но и правомъ вообще,
Я ожидаю на свои слова возраженія: знаетъ ли народъ, что право собственности, обязательства, суть необходимыя условія нравственнаго существованія лица? Знаетъ ли? — нѣтъ! но что онъ это чувствуетъ, это несомнѣнно, что я и надѣюсь доказать. Знаетъ ли народъ, что почки, легкія, печень, суть условія Физической жизни? Но колотье въ легкихъ, боль въ печени и почкахъ ощущаетъ каждый и понимаетъ что это значитъ. Физическая боль указываетъ на растройство въ организмѣ, на присутствіе вреднаго ему вліянія, она открываетъ намъ глаза на угрожающую опасность и представленіемъ страданія, которое можетъ послѣдовать, вынуждаетъ насъ во время уничтожить е!е. Тоже самое и относительно нравственной боли, причиняемой намѣренной неправдой, произволомъ. Эту боль хотя и съ различной интенсивностію, какъ и Физическую смотря по степени субъективной чувствительности, по Формѣ и предмету правонарушенія и другимъ обстоятельствамъ, ощущаетъ каждый индивидуумъ, не лишенный совершенно чувствительности, т. е. который не привыкъ къ Фактическому безправію, какъ нравственную боль и требуетъ уничтоженія ея причины не затѣмъ только чтобы положить конецъ этой боли, но для того чтобы возстановить здоровье, которому угрожала бы опасность вслѣдствіе апатичнаго терпѣнія. Это тоже указаніе на обязанность нравственнаго самосохраненія, которое производитъ Физическая боль по отношенію къ Физическому самосохраненію. Возмемъ самый наглядный случай, — оскорбленіе чести и общественное положеніе въ которомъ чувство чести развилось въ высшей степени — военное званіе. Для офицера, который снесъ терпѣливо оскорбленіе чести, дѣлается невозможнымъ его званіе. Почему? — Защита чести есть обязанность каждаго, почему же военное званіе строже всякаго другаго налагаетъ эту обязанность? Потому что оно имѣетъ правильное сознаніе того, что мужественная защита личности есть необходимое условіе его существованія, что званіе, которое по самой своей природѣ должно быть олицетвореніемъ личнаго мужества, не можетъ терпѣть трусости въ своихъ сочленахъ, этимъ оно само подняло бы на себя руки[10]. Наоборотъ почему нашъ крестьянинъ, упорно защищающій свою собственность не дѣлаетъ этого по отношенію къ своей чести? Именно потому что онъ имѣетъ также правильное представленіе о собственности, какъ условіи своего существованія. Его призваніе не храбрость, а трудъ, и его собственность есть ни что иное какъ видимый образъ его труда; лѣнивый крестьянинъ, нехорошо обработывающій свое поле или легкомысленно проматывающій свое имѣніе, также презирается своими сочленами какъ и офицеръ, не защищающій своей чести, презирается своими сослуживцами; какъ ни одинъ крестьянинъ не упрекнетъ другаго за то, что онъ вслѣдствіе оскорбленія не учинилъ драки или не возбудилъ процесса, такъ и офицеръ не упрекнетъ своего собрата за то, что онъ дурной хозяинъ. Для крестьянина поле, которое онъ обработываетъ, скотина, которую онъ держитъ, есть основа всего его существованія, и онъ вступаетъ съ сосѣдомъ, который отпахалъ у него кусокъ земли, или съ торговцемъ, который утянулъ у него плату за его быка, по своему, т: е. въ Формѣ самаго страстнаго процесса, въ туже борьбу за свое право, какую и офицеръ ведетъ съ шпагой въ рукѣ. Оба при этомъ жертвуютъ собой безъ всякаго разсужденія о послѣдствіяхъ. И они должны это дѣлать, оба повинуются при этомъ существенному закону нравственнаго самосохраненія.
Если посадить этихъ людей на мѣста присяжныхъ засѣдателей и предложить военнымъ первоначально вопросъ о преступленіи противъ собственности, крестьянамъ же объ оскорбленіи чести, въ другой разъ перемѣнить роли, какъ будутъ различны въ обоихъ случаяхъ вынесенные приговоры! Извѣстно, что нѣтъ болѣе строгихъ судей по отношенію къ преступленіямъ противъ собственности, какъ крестьяне. И хотя я самъ не имѣю въ этомъ достаточно опытности, но однакожь я могу побиться объ закладъ, что судья въ рѣдкомъ случаѣ когда къ нему придетъ крестьянинъ съ жалобой на оскорбленіе, не можетъ отговорить его отъ процесса, представивъ ему неизвѣстность исхода; тогда какъ съ этимъ же человѣкомъ, когда дѣло идетъ о собственности, судья ничего не можетъ сдѣлать. Древній Римскій крестьянинъ охотно мирился, получивши 25 ассовъ за пощечину, и если ему кто выбивалъ глазъ, то онъ допускалъ возможность соглашенія вмѣсто того, чтобы отплатить ему тѣмъ же, но онъ неуклонно требовалъ, чтобы воръ, котораго онъ поймалъ на мѣстѣ, былъ ему отданъ въ рабство, и если воръ будетъ сопротивляться, то чтобы законъ предоставилъ ему право убить его и законъ ему въ этомъ не отказывалъ.
Возьмемъ еще третье положеніе — положеніе купца. Что для Офицера честь, для крестьянина собственность, то для купца кредитъ. Сохраненіе его есть для купца вопросъ жизненный, и если ему сдѣлаютъ упрекъ, что онъ не точно исполняетъ свои обязательства, то это задѣваетъ егоза живоесильнѣе всякой личной обиды и воровства, между тѣмъ какъ офицеръ, по всей вѣроятности засмѣется на подобное обвиненіе, а крестьянинъ и не пойметъ, что въ немъ заключается какое то оскорбленіе. Вслѣдствіе этого особеннаго положенія купца, новѣйшія законодательства совершенно правильно ограничиваютъ примѣненіе легкомысленнаго и злостнаго банкротства только къ лицамъ куиеческаго званія. Цѣль всего предшествовавшаго изложенія состояла не въ томъ, чтобы констатировать простой Фактъ, что правовое чувство обнаруживаетъ различную чувствительность смотря по положенію и призванію лица, при чемъ конечно степень чувствительности измѣряется интересами извѣстнаго общественнаго положенія, но этотъ Фактъ долженъ служить еще для того, чтобы освѣтить должнымъ образомъ ту истину, имѣющую несравненно большее значеніе, что каждый обладатель права, въ немъ защищаетъ свои самыя существенныя, самыя жизненныя условія. То именно обстоятельство, что высшая степень, правоваго чувства въ трехъ приведенныхъ нами положеніяхъ проявляется въ тѣхъ случаяхъ, которые мы признали существенными, жизненными условіями этихъ положеній, показываетъ надгь, что реакція правоваго чувства не можетъ быть опредѣляема, какъ обыкновенный аффектъ, только по моментамъ темперамента и характера, но что въ то же время въ этомъ дѣйствуетъ нравственная причина: чувство необходимости именно этого правоваго института для особенной жизненной цѣли этого общественнаго положенія или лица. Степень энергіи, съ которою правовое чувство реагируетъ противъ правонарушенія, есть въ моихъ глазахъ вѣрный масштабъ для измѣренія степени крѣпости и силы, съ которыми лице, общество или народъ относятся къ значенію права, какъ права вообще, или хотя отдѣльнаго правоваго института, касающагося его жизненныхъ цѣлей. Это положеніе въ моихъ глазахъ имѣетъ характеръ общей истины. Оно приложидю какъ къ общественному, такъ и къ частному праву. 1) [Здѣсь не мѣсто приводить дальнѣйшія доказательства относительно этого направленія, я позволю себѣ только сдѣлать нѣсколько замѣчаній. Та же самая чувствительность, которая проявляется различными сословіями, когда дѣло идетъ о нарушеніи тѣхъ институтовъ, которые главнымъ образомъ составляютъ основаніе ихъ существованія, повторяется и въ государственной жизни въ отношеніи тѣхъ учрежденій, въ которыхъ осуществляются его жизненные принципы. Мѣриломъ чувствительности, а слѣдовательно и значенія этихъ учрежденій служитъ уголовное право. Рѣзкое различіе, которое наблюдается законодательствами въ отношеніи снисхожденія или строгости къ преступнымъ дѣяніямъ, главнымъ образомъ основывается съ приведенной выше точки зрѣнія на необходимости извѣстныхъ нравственныхъ условій. Каждое государство наказываетъ строже тѣ преступленія, которыя угрожаютъ его существенному жизненному принципу. Во всѣхъ остальныхъ оно придерживается обыкновеннаго размѣра наказанія. Теократія считаетъ Богохульство и идолопоклонничество преступленіями достойными смертной казни, между тѣмъ какъ къ перемѣщенію межевыхъ границъ она можетъ быть найдетъ достаточнымъ примѣнить наказаніе, какъ за воровство. Между тѣмъ какъ земледѣльческое государство за послѣднія будетъ наказывать по всей строгости законовъ, а въ отношеніи Богохульства удовлетворится самымъ снисходительнымъ наказаніемъ. Торговое государство важнымъ преступленіемъ будетъ считать фальсификацію и поддѣлку монеты, военное — нарушеніе дисциплины, проступки противъ обязанностей службы и т. д., абсолютное государство — оскорбленіе Величества, республика — стремленіе къ королевской власти, и каждое, по отношенію къ этимъ преступленіямъ, будетъ дѣйствовать съ такою строгостью, которая будетъ въ явномъ противорѣченіи съ тѣми наказаніями, которыми облагаются другіе преступленія. Короче, реакція прароваго чувства, какъ государствъ, такъ и индивидуумовъ, будетъ всего сильнѣе тамъ, гдѣ имъ представляется большая опасность для существенныхъ жизненныхъ условій. Читатель видитъ, что я этими замѣчаніями только хочу указать на важность идеи, развитіе которой составляетъ безсмертную заслугу Монтескье (sur Pesprit des Lois).] Хотя особенныя условія общественнаго положенія и призванія придаютъ правовымъ институтамъ, которые ихъ касаются, болѣе высокое значеніе и слѣдовательно усиливаютъ правовую чувствительность при ихъ нарушеніи, но они же могутъ быть причиной ослабленія этой чувствительности. Служащіе классы не могутъ въ той же мѣрѣ поддерживать и развивать въ себѣ чувство чести, какъ и прочіе слои общества; ихъ положеніе носитъ въ себѣ извѣстныя неудобства, противъ которыхъ напрасны единичныя усилія, дотѣхъ поръ, пока они выносятся терпѣливо цѣлымъ сословіемъ; индивидууму съ чуткимъ чувствомъ чести въ такомъ положеніи ничего не остается другаго, какъ или отказаться отъ своихъ притязаній на защиту чести, или оставить это званіе. Только когда это чувство сдѣлается общимъ, открывается для индивидуума надежда вмѣсто того, чтобы истощаться въ безполезной борьбѣ, вмѣстѣ съ единодіыслящими направить свои силы къ тому, чтобы поднять не только уровень сословной чести, но и ея объективное признаніе со стороны остальныхъ классовъ общества и законодательства. Въ этомъ отношеніи соціальное развитіе послѣднихъ пятидесяти лѣтъ сдѣлало огромный шагъ впередъ; если мы обратимся за полтораста лѣтъ назадъ, то мы увидимъ тотъ же успѣхъ по отношенію къ другимъ классамъ общества — ихъ болѣе развитое чувство чести есть результатъ и выраженіе ихъ болѣе прочнаго правоваго положенія.
Что я сказалъ о чести, то же самое можно сказать и о собственности. Таже чувствительность по отношенію къ собственности, правильное пониманіе собственности — я понимаю подъ этимъ, не стремленіе къ наживѣ, погоню за деньгами и состояніемъ, но тотъ здравый смыслъ собственника, образцевымъ представителемъ котораго я выставилъ крестьянина-собственника, защищающаго свое не потому только, что это есть цѣнность, но потому, что эта цѣнность принадлежитъ ему— также и это пониманіе подъ вліяніемъ нѣкоторыхъ нездоровыхъ условій и положеній можетъ ослабѣть въ извѣстныхъ кружкахъ, чему лучшее доказательство представляетъ та мѣстность, въ которой мы живемъ. Быть можетъ меня спросятъ, какое отношеніе можетъ имѣть вещь къ моей личности? Она служитъ мнѣ средствомъ для поддержанія жизни, для пріобрѣтенія, для наслажденія. И также какъ я не вижу для себя нравственной обязанности въ томъ, чтобы пріобрѣтать много денегъ, также мало я вижу ее и въ томъ, чтобы начать процессъ изъ за пустяковъ, процессъ, который мнѣ будетъ стоить много денегъ и нарушаетъ мое спокойствіе. Единственный мотивъ, который можетъ руководить мною при правовой защитѣ состоянія, есть тотъ же, которымъ я руковожусь при его пріобрѣтеніи, или растратѣ: моя польза — процессъ о моемъ и твоемъ есть чистый вопросъ интереса. Я съ своей стороны вижу въ такомъ пониманіи собственности только извращеніе здороваго чувства собственности, а основаніе къ тому — уклоненіе отъ естественнаго происхожденія собственности. Не богатство и не роскошь считаю я въ томъ отвѣтственными — въ нихъ я не вижу никакой опасности для правоваго народнаго смысла — но безнравственную наживу. Историческое происхожденіе и нравственная правовая основа собственности есть трудъ, я понимаю не только матеріальный, но трудъ ума и таланта, и я признаю, что право на произведенія труда имѣетъ не только самъ трудящійся, но и его наслѣдники, а потому я въ правѣ наслѣдованія вижу совершенно послѣдовательное развитіе принсипа труда, ибо я стою за то, что нельзя запретить трудящемуся отказываться отъ наслажденія и какъ при жизни, такъ ипослѣ смерти передать возможность его другимъ. Только въ неразрывномъ союзѣ съ трудомъ можетъ здраво поддерживаться собственность, только въ этомъ ея источникѣ, изъ котораго она непрерывно должна истекать, оказывается она тѣмъ, что она дѣйствительно есть для человѣка; здѣсь ее можно видѣть ясно до самаго дна. Но чѣмъ болѣе удаляется она отъ него въ область легкой или совершенно лишенной труда наживы, тѣмъ мутнѣе становится потокъ, пока наконецъ не потеряетъ въ тинѣ биржевой игры и акціонерномъ омутѣ всякій слѣдъ того, чѣмъ онъ былъ первоначально.
Здѣсь, гдѣ теряется всякій остатокъ нравственной идеи собственности, разумѣется, не можетъ быть и рѣчи о чувствѣ нравственной обязанности ея защиты. Здѣсь нѣтъ и тѣни того понятія собственности, которое присуще всякому въ потѣ лица добывающему свой хлѣбъ. Къ несчастію, понятія и привычки, вытекающія изъ подобныхъ основаній, распространяются мало помалу и на тѣ классы, въ которыхъ онѣ сами собой, безъ столкновенія съ другими, не могли бы произойти. 2) [Интересное доказательство этому представляютъ наши небольшіе университетскіе города, въ которыхъ живутъ преимущественно студенты: нривычки и обычаи послѣднихъ въ денежныхъ отношеніяхъ невольно раздѣляются и гражданскимъ населеніемъ.] Вліяніе пріобрѣтенныхъ биржевой игрой милліоновъ, отражается даже и въ хижинахъ и тотъ же самый человѣкъ, который при другой обстановкѣ, по собственному опыту считалъ бы трудъ благословеніемъ, теперь подъ разслабляющимъ давленіемъ подобной атмосферы считаетъ его проклятіемъ. Коммунизмъ развивается только въ болотѣ, въ которомъ исчезла всякая идея собственности; вблизи источника собственности онъ немыслимъ. Мнѣніе, что воззрѣніе на собственность высшихъ классовъ не ограничивается только этими классами, а сообщается и другимъ, можно доказать совершенно противоположнымъ воззрѣніемъ, существующимъ у деревенскихъ жителей. Кому удавалось долго пожить въ деревнѣ и не атоять внѣ всякаго общенія съ крестьянами, если даже его личныя обстоятельства ничего не имѣютъ съ ними общаго, все таки на немъ невольно отразятся крестьянское пониманіе собственности и ихъ бережливость. Тотъ же самый человѣкъ при совершенно одинаковыхъ условіяхъ будетъ въ деревнѣ съ крестьяниномъ бережливъ, а въ городѣ, подобномъ Вѣнѣ, съ милліонеромъ расточителенъ. Откуда бы не происходило подобное равнодушіе, которое ради удобства устраняется отъ борьбы за право, если только стоимость предмета не увлекаетъ ее къ сопротивленію, наше дѣло состоитъ въ томъ, чтобы указать на него и назвать его настоящимъ именемъ. Жизненная практическая философія, которая его проповѣдуетъ, что она такое, какъ не политика трусости? И трусъ убѣгающій съ поля битвы спасаетъ то, чѣмъ жертвуютъ другіе, свою жизнь; но онъ спасаетъ ее цѣною своей чести. Только то обстоятельство, что другіе остаются въ бою, защищаетъ его и общество отъ послѣдствій, которыя неизбѣжно слѣдовали бы за его способомъ дѣйствій; если бы всѣ думали также, какъ и онъ, то всѣ бы погибли. Тоже самое можно сказать и о томъ, кто не защищаетъ свое право. Какъ дѣйствіе отдѣльнаго индивидуума, оно безвредно, но если поднять его на степень общаго закона — право погибнетъ. Также и въ этомъ отношеніи безвредность подобнаго образа дѣйствій возможна только потому, что борьба права противъ неправды въ цѣломъ не прекращается. Ибо эта борьба не лежитъ на отдѣльномъ лицѣ, но въ развитыхъ государствахъ, въ значительной степени въ ней принимаетъ участіе государственная власть, привлекая къ суду за болѣе тяжкія преступленія противъ правъ личности, жизни, и состоянія — полиція и уголовный судъ принимаютъ на себя вмѣсто отдѣльнаго лица, самую трудную часть этой работы. Даже и по отношенію къ тѣмъ правонарушеніямъ, преслѣдованіе которыхъ исключительно предоставлено частному лицу, приняты мѣры, чтобы борьба никогда не прекращалась, потому что не всякій слѣдуетъ политикѣ трусовъ и даже трусъ становится между борцами, когда стоимость предмета беретъ перевѣсъ надъ удобствами спокойствія. Но представимъ себѣ такое состояніе общества, въ которомъ не существуетъ полиціи и уголовнаго суда, перенесемся во времена, когда, какъ въ древнемъ Римѣ, преслѣдованіе вора и разбойника было дѣломъ потерпѣвшаго лица. Не ясно ли до чего довело бы при подобныхъ обстоятельствахъ равнодушіе къ праву. Ни къ чему къ другому какъ поощренію воровъ и разбойниковъ. То же самое можно сказать и относительно цѣлаго народа. Ибо каждый народъ предоставленъ исключительно самому себѣ. Никакая высшая власть не заботится о защитѣ его правъ. Я напомню только мой прежній примѣръ о квадратной милѣ, чтобы показать, какое значеніе имѣетъ для народной жизни это воззрѣніе, которое допускаетъ измѣрять сопротивленіе противъ неправды матеріальной стоимостью предмета. Правило, которое повсюду, куда бы мы его ни прилагали, оказывается немыслимымъ и влечетъ за собой ослабленіе и уничтоженіе права, не можетъ считаться хорошимъ и тамъ, гдѣ его послѣдствія парализируются случайнымъ образомъ другими обстоятельствами. Потомъ я буду имѣть случай показать вредное вліяніе, которое оно имѣетъ даже въ такомъ относительно благопріятномъ положеніи.
Отстранимъ такимъ образомъ отъ насъ эту нравственность удобства, которую никакой народъ, никакой индивидуумъ съ здравымъ правовымъ чувствомъ не можетъ признать своею. Она есть признакъ и продуктъ болѣзненнаго, жалкаго правоваго чувства, ни что иное какъ грубый, голый матеріализмъ въ области права. И послѣдній имѣетъ въ этой области свое примѣненіе, но во всякомъ случаѣ въ опредѣленныхъ границахъ. Пріобрѣтеніе права, пользованіе имъ и даже осуществленіе его въ случаяхъ, касающихся чисто объективной неправды, есть вопросъ просто пользы; самое право, по моему собственному опредѣленію, есть ни что иное, какъ законно защищаемый интересъ. Но противъ произвола, поднимающаго руку на право, это матеріалистическое воззрѣніе не находитъ оправданія, ибо ударъ, наносимый имъ праву, вмѣстѣ съ тѣмъ наносится и лицу.
Все равно какая бы вещь не была предметомъ права. Если случайно вещь попадаетъ въ область моего права, то она, безъ всякаго для меня лично оскорбленія, можетъ быть снова изъята изъ этой области; но не случай, а моя воля завязываетъ узелъ между мной и вещью и только въ силу прежняго собственнаго или чужаго труда я владѣю и защищаю въ ней часть собственной, или чужой силы и прошлаго. Сдѣлавши ее своей, я наложилъ на нее печать моей личности; кто трогаетъ ее, тотъ трогаетъ и меня, Ударъ, направляемый на нее, падаетъ на меня самого, ибо я присутствую въ ней — собственность есть только вещественно расширенная периферія моей личности. Эта связь права съ личностію придаетъ всѣмъ правамъ, какого бы рода они не были, несоизмѣримую стоимость, которую я въ противоположность къ чисто вещественной стоимости, какую она имѣетъ съ точки зрѣнія интереса, назову идеальной стоимостью. Въ ней коренится то самопожертвованіе и энергія при защитѣ права, которыя я описалъ выше. Это идеальное пониманіе права не составляетъ преимущества высшихъ натуръ. Оно одинаково доступно какъ самому грубому такъ и самому образованному, богатому и бѣдному, дикимъ народамъ и образованнымъ націямъ, а это именно и показываетъ какъ глубоко этотъ идеализмъ коренится въ существѣ права — онъ ничто иное, какъ здоровое правовое чувство. Такимъ образомъ право, повидимому удерживающее человѣка въ низкой области эгоизма и расчета, снова поднимаетъ его на идеальную высоту, гдѣ онъ забываетъ всѣ умствованія и вычисленія, которымъ онъ тамъ научился, а также свой маштабъ пользы, которымъ онъ все мѣрялъ, для того чтобы совершенно предаться одной идеѣ: проза въ области эгоизма, въ борьбѣ за право возвышается до поэзіи, ибо борьба за право есть дѣйствительно поэзія характера.
И чѣмъ же производится все это чудо? Не сознаніемъ, не образованіемъ, но простымъ чувствомъ боли. Боль есть вопль, призывъ на помощь издаваемый угрожаемою природой. Это относится, какъ я уже прежде замѣтилъ, какъ къ нравственному, такъ и къ Физическому организму, и что для медика патологія человѣческаго организма, то для юриста и философя права— патологія правоваго чувства, или правильнѣе этимъ она должна бы быть для него, ибо было бы ошибочно утверждать, что это такъ въ дѣйствительности. Въ этой то боли по истинѣ и кроется все таинство права. Боль которую чувствуетъ человѣкъ, при нарушеніи его права, заключаетъ въ себѣ насильственно вынужденное инстинктивное самосознаніе того, что такое для него право, прежде всего что оно для него, какъ отдѣльнаго лица, а потомъ что оно для него какъ единицы рода. Въ одинъ этотъ моментъ проявляется въ Формѣ аффекта, непосредственнаго чувства, сознаніе истиннаго значенія и истиннаго существа права, болѣе чѣмъ въ продолженіи сотни лѣтъ безмятежнаго наслажденія. Кто на самомъ себѣ, или на другомъ не испыталъ этой боли тотъ не знаетъ, что такое право, если бы даже въ его головѣ былъ весь Corpus Joris. Не разсудокъ, но чувство можетъ отвѣтить намъ на этотъ вопросъ, по этому языкъ совершенно справедливо называетъ психологическій источникъ всякаго права право вымъ чувствомъ. Правовое сознаніе, правовое убѣжденіе суть отвлеченности науки, которыхъ не знаетъ народъ — сила права лежитъ въ чувствѣ, точно также какъ сила любви; разсудокъ не можетъ замѣнить недостающаго чувства. Но какъ любовь часто не знаетъ сама себя, и какъ иногда одного момента достаточно, чтобы привести ее къ этому сознанію, такъ и правовое чувство въ спокойномъ состояніи не знаетъ хорошо, что оно такое и что въ немъ скрывается. Но правонарушеніе есть мучительный вопросъ, который заставляетъ это чувство высказаться, выноситъ на свѣтъ истину и силу. Въ чемъ эта истина состоитъ, я изложилъ выше. Право есть нравственное условіе существованія лица, защита его есть собственное, нравственное самосохраненіе. Сила, или устойчивость, съ которыми правовое чувство реагируетъ противъ нанесеннаго ему оскорбленія, есть пробный камень его здороваго состоянія. Но простое ощущеніе боли — степень боли, которая при этомъ испытывается, только показываетъ какую цѣну придаютъ угрожаемому предмету — но чувствовать боль и не принимать къ сердцу лежащаго въ ней напоминаніЯк отражать опасность, переносить ее терпѣливо, не защищаясь, есть отреченіе отъ правоваго чувства, извиняемое быть можетъ въ частныхъ случаяхъ обстоятельствами, но немыслимое при его продолжительности безъ вредныхъ послѣдствій для самаго правоваго чувства,! ибо существо послѣдняго есть дѣяніе — тамъ же гдѣ оно бездѣйствуетъ, оно ослабѣваетъ и мало по малу совершенно притупляется, до того что наконецъ едва чувствуется боль. Чувствительность есть способность ощущать боль отъ правонарушенія и дѣйствующая сила т. е. мужество и рѣшимость отстранить его, вотъ два, критерія здороваго правоваго чувства.
Я долженъ отказаться отъ дальнѣйшаго изложенія этой интересной, богатой содержаніемъ темы патологіи правоваго чувства, но да позволено мнѣ будетъ сдѣлать еще нѣкоторыя указанія. Каждый изъ васъ знаетъ, какъ различно дѣйствуетъ, на разныхъ лицъ ина членовъ различныхъ слоевъ общественныхъ одно и тоже правонарушеніе. Выше я старался объяснить это явленіе. Изъ этого мы можемъ вывести заключеніе, что сила правоваго чувства дѣйствуетъ не одинаково по отношенію къ нарушеніямъ всякаго рода правъ, но она ослабѣваетъ, или усиливается, по мѣрѣ того, на сколько индивидуумъ, сословіе, народъ считаютъ оскорбленное право существеннымъ условіемъ своего нравственнаго бытія. Тотъ кто хочетъ развивать далѣе это воззрѣніе можетъ расчитывать на успѣхъ. Къ выше мною приведеннымъ институтамъ чести и собственности, я совѣтую вамъ въ особенности присоединить еще бракъ, — сколько размышленій возникаетъ по поводу того, какъ отдѣльные индивидуумы, народы, законодательства относятся къ нарушенію брака.
Второй моментъ въ правовомъ чувствѣ: сила дѣйствія есть чисто дѣло характера; поступокъ человѣка или народа при видѣ правонарушенія есть самый вѣрный пробный камень его характера. Если мы понимаемъ подъ словомъ характеръ, полную, въ себѣ самой покоющуюся, саму себя защищающую личность, то нѣтъ лучшаго повода доказать это свойство, какъ тѣмъ, когда произволъ вмѣстѣ съ правомъ затрогиваетъ и лице. Формы, въ которыхъ оскорбленное правовое и личное чувство реагируютъ противъ этого произвола, выразится ли это подъ вліяніемъ аффекта въ дикомъ, страстномъ поступкѣ, или въ законномъ, но сильномъ сопротивленіи, не могутъ служить мѣрою для интенсивности правоваго чувства, и было бы величайшей ошибкой живое правовое чувство приписывать только народу дикому, у котораго первая Форма есть нормальная, точно также какъ приписывать его необразованному человѣку, болѣе чѣмъ образованному, который избираетъ второй путь. Формы, это дѣло образованія и темперамента; но сила и страстность въ одномъ случаѣ равняется рѣшимости и непоколебимости сопротивленія въ другомъ;* было бы печально, если бы было иначе: это-бы значило, что вмѣстѣ съ образованіемъ какъ у отдѣльнаго человѣка такъ и у народа, ослабляется правовое чувство. Одного взгляда на исторію и общественную жизнь совершенно достаточно чтобы опровергнуть это мнѣніе. Богатство и бѣдность имѣютъ на это также мало вліянія. Какъ бы ни была различна экономическая мѣра, которой оба измѣряютъ одну и ту же вещь, но она вовсе не принимается въ расчетъ, какъ уже выше было сказано, при нарушеніи права собственности; здѣсь дѣло идетъ не о матеріальной стоимости вещи, но объ идеальной стоимости права, слѣдовательно объ энергіи правоваго чувства по отношенію къ собственности, и перевѣсъ беретъ неимущественное состояніе, а правовое чувство. Лучшее этому доказательство представляетъ англійскій народъ, его богатство не нанесло ущерба его правовому чувству и мы имѣемъ на континентѣ не мало случаевъ, чтобы убѣдиться съ какой энергіей оно проявляется даже въ обыденныхъ вопросахъ, касающихся собственности; достаточно взглянуть на ставшую типической фигуру путешествующаго англичанина, который при всякомъ обманѣ со стороны хозяина гостинницы или извощика, мужественно вступаетъ въ борьбу, какъ будто-бы дѣло шло о защитѣ правъ Англіи, въ случаѣ нужды откладываетъ свой отъѣздъ, нѣсколько дней остается на мѣстѣ и тратитъ въ десятеро болѣе того, что считаетъ себя въ правѣ не заплатить. Народъ смѣется надъ этимъ, не понимаетъ его. Было бы лучше если бы онъ понималъ. Ибо за нѣсколькими гульденами, о которыхъ здѣсь идетъ дѣло, дѣйствительно скрывается старая Англія и тамъ въ его отечествѣ каждый пойметъ это и не осмѣлится такъ поступить съ нимъ. Я не имѣю намѣренія оскорбить васъ, но серьезная сторона дѣла заставляетъ меня провести параллель. Я поставлю австрійца одинаковаго общественнаго положенія и съ одинаковымъ состояніемъ въ тѣ же самыя условія. Какъ онъ поступитъ? Если я имѣю право довѣрять собственному опыту, въ этомъ отношеніи, то изъ сотни едвали найдется десять, которые стали бы подражать примѣру англичанина. Всѣ же остальные побоятся непріятности спора, пересудовъ, насмѣшекъ, которымъ они могутъ подвергнуться, чего англичанинъ въ Англіи не имѣетъ надобности бояться и чему покойно подвергаетъ себя у насъ. Короче они платятъ. Но въ гульденѣ, за который стоитъ англичанинъ и который платитъ австріецъ, лежатъ цѣлыя столѣтія ихъ политическаго развитія и ихъ соціальной жизни[11]. Такимъ образомъ я дошелъ до мысли, которая представляетъ для меня удобнымъ переходъ къ слѣдующему. Позвольте мнѣ теперешнее разсужденіе кончить тѣмъ же положеніемъ, которымъ я его началъ: защита нарушеннаго права есть актъ самосохраненія лица и слѣдовательно обязанность обладателя права по отношенію къ самому себѣ.
Огражденіе права есть въ тоже время долгъ по отношенію къ обществу. Эту мысль я постараюсь развить въ послѣдующемъ изложеніи. Чтобы доказать это, мнѣ необходимо представить какое отношеніе имѣетъ право въ объективномъ смыслѣ къ праву въ субъективномъ смыслѣ: въ чемъ же оно состоитъ?
Я полагаю, что я совершенно вѣрно передамъ существующее (ходячее) представленіе, если я скажу: въ томъ, что первое предполагаетъ второе; конкретное право, находится только тамъ, гдѣ представляются условія, при которыхъ абстарактное правовое положеніе даетъ бытіе конкретному. Этимъ взаимныя отношенія обоихъ, по господствующему ученію, совершенно исчерпываются.
Но это представленіе въ высшей степени односторонне, оно выставляетъ, исключительно зависимостъ конкретнаго права отъ абстрактнаго, но упускаетъ изъ виду, что такое отношеніе зависимости также существуетъ и въ противоположномъ направленіи. Конкретное право не только просто получаетъ жизнь и силу отъ абстрактнаго, но отдаетъ ему ихъ назадъ. Существо права есть практическое одѣетвореніе. Правовое положеніе, которое не сдѣлалось дѣйствующимъ, или не употребляется, не можетъ имѣть притязаніе на это названіе, оно ни что иное, какъ сломанная пружина, которая не работаетъ въ механизмѣ права, и которую можно вынуть, не произведя этимъ никакого измѣненія. Это положеніе равно приложимо ко всѣмъ частямъ права, къ государственному праву, также какъ къ уголовному и гражданскому, и Римское право освѣтило это положеніе, признавши, что desuetudo[12] указываетъ на совершенно основательную причину отмѣны закона. Ему соотвѣтствуетъ утрата конкретнаго права вслѣдствіе продолжительнаго не осуществленія, (nonusus.) Осуществленіе общественнаго и уголовнаго права обезпечено тѣмъ, что обязанность ихъ осуществленія возложена государственной властью на ея различные органы, тогда какъ гражданскому (частному) праву присвоена Форма права частныхъ лицъ, т. е. его осуществленіе предоставлено ихъ свободной иниціативѣ и дѣятельности. Въ одномъ случаѣ это зависитъ отъ исполненія государственными чиновниками ихъ обязанности, въ другомъ отъ того, чтобы частные лица осуществляли свое право. Если послѣдніе перестанутъ при какихъ бы то ни было обстоятельствахъ долгое время, вообще охранять свое право будетъ ли это вслѣдствіе какихъ либо удобствъ, или просто страха, то тогда правовое положеніе дѣлается негоднымъ. Мы должны сказать: дѣйствительность, практическая сила правовыхъ положеній гражданскаго права основывается на осуществленіи конкретнаго права и какъ послѣднее получаетъ жизнь отъ закона, такъ въ свою очередь, оно даетъ закону жизнь. Отношеніе объективнаго, или абстрактнаго права и субъективнаго, или конкретнаго права между собою, представляетъ нѣчто подобное кровообращенію которое исходитъ отъ сердца и къ сердцу возвращается. Осуществленіе общественнаго права зависитъ отъ добросовѣстности чиновниковъ, осуществленіе же частнаго права зависитъ отъ силы тѣхъ мотивовъ, которые побуждаютъ обладателя права защищать свое право: отъ его интереса и отъ его правоваго чувства, если эти мотивы недостаточно сильны, значитъ и правовое чувство вяло и тупо, а интересы не такъ могущественны, чтобы преодолѣть неудобства, отвращеніе отъ ссоры и спора, и страхъ передъ процессомъ. Прямымъ послѣдствіемъ этого бываетъ то, что правовое положеніе не находитъ себѣ примѣненія.
Но кому отъ этого ущербъ, возразятъ мнѣ, если кто отъ этого и терпитъ, то только самъ обладатель права. Я опять приведу тотъ же примѣръ, который я приводилъ прежде. Бѣгство одного съ поля сраженія. Когда борятся тысячи людей, можно ли замѣтить удаленіе одного: но если сотни изъ нихъ оставятъ знамя, то положеніе остающихся становится хуже, вся тяжесть сопротивленія падаетъ на нихъ однихъ.
Въ этой картинѣ, я думаю, совершенно вѣрно представляется соотвѣтственное положеніе дѣла. Также точно и въ области частнаго права идетъ борьба права противъ неправды, общая борьба всей націи, въ которой всѣ должны принять участіе. Здѣсь также бѣглецъ измѣняетъ общему дѣлу, ибо онъ увеличиваетъ силу и смѣлость противника, давая ему перевѣсъ. Если произволъ и беззаконіе осмѣливаются дерзко поднимать голову, это вѣрный признакъ того, что тѣ, которые были призваны защищать законъ, не исполнили своей обязанности. Въ частномъ же правѣ, каждый призванъ защищать законъ. Каждый — стражъ, хранитель закона, по скольку это его касается. Конкретное право есть ни что иное, какъ уполномочіе данное ему государствомъ, становиться по поводу своихъ собственныхъ интересовъ, въ ряды защитниковъ закона и сражаться съ неправдой-уполномочіе условное и спеціальное, въ противоположность безусловному и общему уполномочію чиновниковъ. Защищая свое право онъ на короткое время становится борцемъ за право. Интересы и послѣдствія его способа дѣйствій не ограничиваются одной его личностью. Общій интересъ, который соединенъ съ этимъ, есть не только идеальный интересъ утвержденія авторитета и могущества закона, но реальный, въ высшей степени практическій, который для каждаго чувствителенъ и каждому понятенъ, даже и тому, кто не понимаетъ перваго, а именно интересъ упроченія и твердаго охраненія порядка общественной жизни. Если хозяинъ не смѣетъ требовать порядка отъ прислуги, вѣритель не можетъ описать имѣніе у должника, покупающая публика не можетъ требовать отъ продавцевъ, установленнаго вѣса и мѣры, развѣ отъ этого колеблется только авторитетъ закона? Этимъ отдается на произволъ въ извѣстномъ направленіи весь порядокъ общественной жизни, и трудно сказать куда приведутъ вредныя послѣдствія, напр. не поколеблется ли этимъ вся кредитная система. Тамъ гдѣ я могу предвидѣть ссору и споръ при осуществленіи моего права, если только то возможно, я устранюсь — помѣщу въ другихъ странахъ мой капиталъ, привезу необходимой для меня товаръ изъ за границы. Въ такомъ обществѣ, положеніе тѣхъ немногихъ, которые мужественно проводятъ въ жизнь законъ, принимаетъ характеръ настоящаго мученичества; ихъ сильное, энергическое правовое чувствое, привлекаетъ на нихъ проклятіе. Оставленные всѣми тѣми, которые должны бы быть ихъ естественными союзниками и товарищами, стоятъ они одиноко противъ произвола, раздувшагося при всеобщей беззаботности и трусости, и при всемъ этомъ, если они тяжелыми жертвами добыли сознаніе, что остались вѣрны самимъ себѣ, вмѣсто признанія заслуги, встрѣчаютъ только насмѣшку и порицаніе. Отвѣтственность за подобное положеніе падаетъ не на ту только часть общества, которая попираетъ законъ, но и на тѣхъ, которые не имѣютъ мужества его поддерживать. Не неправду слѣдуетъ порицать зато, что она вытѣсняетъ право, но право зачѣмъ оно допускаетъ это, и когда я сравниваю практическое значеніе обоихъ положеній: "не дѣлай беззаконія", ине терпи беззаконі я", чтобы опредѣлить которое болѣе важно, то я долженъ сказать, первымъ правиломъ слѣдуетъ поставить: не терпи беззаконенія, вторымъ не дѣлай беззаконенія. Сознаніе, что беззаконное дѣйствіе встрѣтитъ твердое сопротивленіе со стороны правообладателѣ, удержитъ человѣка сильнѣе всякой заповѣди, такъ что если мы сообразимъ все это, то придемъ къ заключенію, что въ сущности только практическая сила составляетъ основу нравственнаго закона.
Послѣ всего сказаннаго мною не будетъ ли излишнимъ утверждать: защита нарушеннаго права есть не только долгъ обладателя права по отношенію къ себѣ самому, но также и по отношенію къ обществу? Если вѣрно то, что мною изложено, что въ своемъ правѣ каждый защищаетъ законъ, а вмѣстѣ съ закономъ общественный порядокъ, кто будетъ отрицать, что этимъ выполняется долгъ по отношенію къ обществу? Если общество имѣетъ право призвать каждаго на борьбу противъ внѣшняго врага, въ которой онъ долженъ жертвовать, жизнью и имуществомъ, почему это не имѣло бы мѣста по, отношенію внутренняго врага, который не менѣе опасенъ? Если на войнѣ постыдное бѣгство считается измѣной общему дѣлу, почему же здѣсь мы не назовемъ подобный образъ дѣйствій тѣмъ же именемъ? Нѣтъ! Право, правосудіе въ странѣ не тѣмъ только охраняются, что судья сидитъ всегда въ готовности на своемъ креслѣj а полиція высылаетъ сыщиковъ, но что каждый съ своей стороны этому содѣйствуетъ; каждый долженъ считать своей обязанностью разбить голову гидры произвола и боззаконія, какъ только она осмѣливается показаться
Я не буду говорить, какъ облагораживается, въ силу приведеннаго мною воззрѣнія, призваніе каждаго по отношенію къ осуществленію своего права. Вмѣсто односторонняго ученія современной теоріи простаго подчиненія своихъ поступковъ закону, является отношеніе взаимности, въ которомъ правообладатель за услугу, оказываемую ему закономъ, отвѣчаетъ тѣмъ же. Всякій призывается къ у частію въ трудѣ при выполненіи великой національной задачи. При чемъ все равно сознаетъ ли онъ это самъ. Такова сила и значеніе нравственнаго мироваго порядка, что при этомъ принимаются въ расчетъ не только тѣ, которые понимаютъ его, но что въ немъ заключается достаточно средствъ, чтобы привлечь и тѣхъ къ содѣйствію, которые не понимаютъ его законовъ. Чтобы принудить людей къ браку, природа въ одного влагаетъ благороднѣйшее изъ всѣхъ человѣческихъ стремленій, въ другаго грубое чувственное влеченіе, въ третьяго стремленіе къ удобству, въ четвертаго жажду пріобрѣтенія — и всѣ они вступаютъ въ бракъ. Точно также въ борьбѣ за право, одинъ побуждается интересомъ, другой болью въ слѣдствіе нарушенія права, третій идеей права — всѣ они идутъ на полі| борьбы и подаютъ другъ другу руки для совмѣстной дѣятельности: защищать право противъ произвола.
Теперь мы достигли, если мнѣ позволено будетъ такъ выразиться, идеальной высоты воззрѣнія на борьбу за право. Восходя отъ низкихъ ступеней, гдѣ руководящимъ мотивомъ представляется интересъ, мы поднялись до точки зрѣнія нравственнаго самосохраненія личности и ея содѣйствія осуществленію правовой идеи.
Въ моемъ частномъ правѣ нарушается и отрицается право, въ немъ же оно ограждается и возстановляется. Какого высокаго значенія достигаетъ борьба субъекта за свое право! На какой глубинѣ, по отношенію къ идеальнымъ вершинамъ, на которые поднимаетъ насъ эта мысль, лежитъ область чисто индивидуальнаго, личныхъ интересовъ, цѣлей, страстей, которые невѣжда считаетъ существенными принадлежностями области права.
Но эти вершины, могутъ сказать, на такой высотѣ, что они остаются доступны только для философовъ права, для практической же жизни они не могутъ быть приняты въ соображеніе; никто не будетъ вести процессъ за идею права. Я могъ бы, чтобы опровергнуть этотъ взглядъ, сослаться на Римское право, въ которомъ осуществленіе этого идеальнаго правоваго смысла, нашло полнѣйшее выраженіе въ институтѣ публичныхъ жалобъ. 3) [Для тѣхъ моихъ читателей, которые незнакомы съ нравомъ, я замѣчу, что право на эти жалобы (actiones populares) каждому, кто желаетъ, даетъ возможность выступить защитникомъ закона и притянуть къ отвѣту правонарушителя, не только въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣло идетъ объ интересахъ вообще публики, а слѣдовательно и самаго жалующагося, нанрим. разрушеніе, порча общественныхъ зданій, но также и въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ дѣло касается частнаго лица, которое само не можетъ дѣятельно защищать себя противъ неправды такъ напр. обдѣлъ малолѣтнихъ, обманъ опекуномъ опекаемаго, взиманіе лихвенныхъ процѣнтовъ; объ этихъ и другихъ случаяхъ см. мой "Дух римскаго права" ("geist des Römischen Recht’s" т. S. 107). Эти жалобы заключали такимъ образомъ въ себѣ воззваніе къ тому идеальному смыслу, который безъ всякаго собственнаго интереса ищетъ права ради права; нѣкоторыя изъ нихъ впрочемъ указываютъ на обыкновенный мотивъ страсти къ наживѣ такъ какъ въ нихъ жалобщикъ имѣетъ въ виду взыскиваемые съ отвѣтчика штрафные деньги; если было очевидно, что страсть къ жалобамъ сдѣлалась выгоднымъ ремесломъ, то они считались позорными, какъ у насъ доносы.] (actiones populares), но мы были бы несправедливы къ нашему народу, если бы захотѣли ему отказать въ этомъ смыслѣ. Имъ владѣетъ всякій, кто при видѣ произвольнаго нарушенія права, испытываетъ нравственное негодованіе. Хотя къ чувству, вызываемому нарушеніемъ собственнаго права, примѣшивается эгоистическое побужденіе, тѣмъ не менѣе это чувство основывается исключительно на вліяніи нравственной идеи на человѣческій умъ, это протестъ крѣпкой нравственной натуры противъ оскорбленія права, прекраснѣйшее и возвышеннѣйшее доказательство здороваго состоянія нравоваго чувства, нравственное явленіе, равно возвышенное и привлекательное, какъ для наблюденія психологовъ, такъ и для художественнаго представленія поэтовъ. Я не могу представить себѣ другаго аффекта, который могъ бы произвести въ человѣкѣ такую глубокую перемѣну, при которой самыя посредственныя натуры приходятъ въ чуждое имъ до того времени страстное состояніе — вотъ доказательство того, что они затронуты въ томъ, что въ нихъ есть самаго благороднаго, задѣты до мозга костей. Это гроза въ нравственномъ мірѣ—возвышенная, величественная по своимъ Формамъ. Это мгновенное, непосредственное, непреодолимое, подобно урагану стихійное проявленіе нравственной силы. Нравственное очищеніе воздуха, для субъекта и для міра, вмѣстѣ примиряющее и возвышающее своими причинами и дѣйствіемъ. Но конечно когда ограниченная сила|субъекта ломается объ учрежденія, установленныя произволомъ, которыя преграждаютъ путь праву, тогда буря обращается на самаго дѣятеля и его самого ожидаетъ участь преступника, вслѣдствіе нарушеннаго правоваго чувства, о чемъ я потомъ буду говорить, или не менѣе трагическая судьба, — въ его сердцѣ останется кровавый слѣдъ отъ жала неправды и имъ утрачивается вѣра въ право.
Этотъ идеальный правовой смыслъ мужа, живо чувствующаго оскорбленіе и насмѣшку надъ идеей права, какъ бы личное оскорбленіе и безъ всякаго собственнаго интереса выступающій на защиту тѣснимаго права, такъ какъ бы оно было его собственное — этотъ идеализмъ всегда былъ преимуществомъ благородныхъ и сильныхъ натуръ.
Но даже и холодное, лишенное всякаго идеальнаго порыва правовое чувство, которое чувствуетъ неправду только потому, что она прямо его касается, способно понимать указанное мною отношеніе между конкретнымъ правомъ и закономъ, которое я выше выразилъ положеніемъ: мое право есть право общее, въ немъ оно (право) нарушается иограждается. Хотя это можетъ показаться порадоксомъ, но тѣмъ не менѣе справедливо, что даже юристы неспособны понять это воззрѣніе. Въ обычномъ представленіи, при спорѣ за конкретное право, законъ не принимаетъ участія; это не самъ абстрактный законъ, вокругъ котораго вращается споръ, но его воплощеніе въ образѣ этого конкретнаго права, до нѣкоторой степени его Фотографія, въ которой онъ только изображенъ, но непосредственно не присутствуетъ. Я не думаю оспаривать технической необходимости этого воззрѣнія, но мы не можемъ не признать, что противоположный взглядъ имѣетъ также Ьснованіе, взглядъ по которому законъ ставится за одно съ конкретнымъ правомъ, и по этому взгляду, въ нарушеніи послѣдняго, представляется нарушеніе перваго. Для непосредственнаго правоваго чувства это воззрѣніе гораздо ближе, чѣмъ наше юридическое. Лучшимъ доказальствомъ сему служитъ выраженіе; которое удержалось какъ въ нѣмецкомъ, такъ и въ латинскомъ языкахъ. Въ процессѣ истецъ говоритъ "взываю къ закону". Римлянинъ называлъ жалобу "legis actio". Самъ законъ является предметомъ борьбы, это споръ за законъ, который долженъ быть рѣшенъ въ частномъ случаѣ — воззрѣніе которое въ особенности важно для пониманія древне римскаго процесса legis actiones[13]. По этому представленію — борьба за право есть въ тоже время борьба за законъ; въ спорѣ дѣло идетъ не просто объ интересѣ субъекта, о частномъ случаѣ, въ которомъ воплотился законъ, Фотографія, какъ я назвалъ, въ которой удержано подобно колеблющемуся лучу свѣта, изображеніе закона, которое можно разбить, не касаясь самаго закона, но напротивъ не уважается, попирается самый законъ. Законъ, если онъ не игрушка и не Фраза, долженъ быть огражденъ — вмѣстѣ съ правомъ обиженнаго низвергается самый законъ.
Это представленіе, на которое я уже выше указалъ и которое я коротко назову солидарностью закона и конкретнаго права, обнимаетъ вполнѣ отношенія обоихъ. Однако оно вовсе не такъ глубоко скрыто, чтобы не было понятно простому, неспособному къ высшимъ воззрѣніямъ эгоизму, напротивъ онъ то и видитъ его яснѣе, потому что ему выгоднѣе имѣть въ спорѣ своимъ союзникомъ государство. И по этому эгоизмъ самъ того не сознавая и не желая, поднимается выше своего частнаго права, на высоту права вообще, на которой онъ выступаетъ защитникомъ закона. Истина остается истиною даже и тогда когда субъектъ признаетъ и защищаетъ ее только съ узкой точки зрѣнія собственнаго интереса. Ненависть и жажда мести привели въ Судъ Шейлока, для того, чтобы вырѣзать Фунтъ мяса изъ тѣла Антоніо, но тѣмъ не менѣе слова, которыя поэтъ заставляетъ его произнести, у него также вѣрны, какъ и у всякаго другаго. Это тотъ самый языкъ, которымъ вездѣ и всегда будетъ говорить оскорбленное правовое чувство, сила, непоколебимость убѣжденія, что право должно всегда оставаться правомъ; стремленіе и одушевленіе человѣка, который сознаетъ, что въ дѣлѣ, которое онъ защищаетъ, онъ дѣйствуетъ не просто въ защиту собственной личности, но и во имя идеи. Фунтъ мяса, заставляетъ говорить Шекспиръ Шейлока,
"Я требую исполненія закона". Поэтъ въ этихъ четырехъ словахъ такъ вѣрно выразилъ истинное отношеніе права въ субъективномъ къ праву въ объективномъ смыслѣ и значеніе борьбы за право, какъ не выразилъ ни одинъ философъ права. Этими словами сразу изъ частнаго правоваго вопроса, касающагося Шейлока, дѣло получило характеръ вопроса, касающагося права Венеціи. Какихъ могущественныхъ, громадныхъ размѣровъ достигаетъ образъ слабаго человѣка, когда онъ произноситъ эти слова! Это уже болѣе не еврей, который требуетъ фунтъ, принадлежащаго ему мяса, это самъ законъ Венеціи, который стучится въ двери суда — потому что его право и право Венеціи суть одно и тоже; съ его правомъ ниспровергается право Венеціи. Когда Шейлокъ, сломанный подъ тяжестью судебнаго приговора, презрительною остротой уничтожевшею его право, преслѣдуемый горькою насмѣшкой, не можетъ стоять на ногахъ и опускается на дрожащія колѣна, кто не почувствуетъ, что вмѣстѣ съ нимъ унижено право самой Венеціи, что это не еврей Шейлокъ, который ползаетъ по землѣ, но типическая Фигура средневѣковаго еврея, этого парія въ обществѣ, который тщетно взываетъ къ закону? Могущественный трагизмъ его судьбы заключается не въ томъ, что ему отказано въ правѣ, но въ томъ, что онъ средневѣковый еврей вѣрилъ въ право — какъ буд-то бы онъ былъ христіанинъ! — имѣлъ твердую какъ скала вѣру въ право, въ которомъ нельзя было сомнѣваться, которую питалъ самъ судья, пока не сломалъ его громовый ударъ катастраФы, не вывелъ его изъ заблужденія и не научилъ его, что ему, презираемому еврею среднихъ вѣковъ, дали право, для того только, чтобы его обмануть.
4) [На этомъ въ моихъ глазахъ основывается высокій трагическій интересъ Шейлока. Онъ дѣйствительно обманутъ относительно своего права. Такъ по крайней мѣрѣ долженъ юристъ смотрѣть на дѣло. Конечно поэтъ можетъ создать собственную юриспруденцію и мы не можемъ сожалѣть, что Шекспиръ такъ сдѣлалъ, или вѣрнѣе оставилъ безъ измѣненія старую Фабулу. Но когда юристъ подвергаетъ это критикѣ, то онъ не можетъ ничего сказать, кромѣ того, что росписка была недѣйствительна сама въ себѣ, такъ какъ она заключала въ себѣ нѣчто безнравственное; судья съ самаго начала долженъ бы такъ посмотрѣть на дѣло. Если онъ этого не дѣлаетъ, если мудрый Даніилъ допускаетъ годность росписки, то это только печальная увертка, жалкое крючкотворство: человѣку можно дать право вырѣзать изъ живаго тела фунтъ мяса, чтобы потомъ запретить неизбѣжное при этомъ пролитіе крови. Совершенно также могъ судья признать право обладателя Сервитута, и потомъ запретить ему дѣлать слѣды на землѣ, потому что это не было выговорено при установленіи Сервитута. Можно было бы подумать, что исторія Шейлока уже разыгрывалась въ древнемъ Римѣ; ибо составители 12 таблицъ считали необходимымъ ясно выразить, что при разсѣченіи должниковъ (in partes /есаге) со стороны вѣрителей относительно величины кусковъ имъ представляется полная свобода, (Si plus minusre secuerint sine fraude esto).]
Образъ Шейлока вызываетъ въ моемъ воображеніи другой не менѣе поэтическій, но въ тоже время историческій образъ Михаила Колхаса, который съ поразительною правдой изобразилъ Генрихъ Клейстъ въ Новеллѣ того же имени. Шейлокъ выходитъ униженный, его силы надломаны, безъ сопротивленія склоняется онъ передъ судебнымъ приговоромъ. Другое дѣло Михаилъ Колхасъ. Послѣ того какъ имъ были исчерпаны всѣ средства, чтобы добиться своего права, презрительно поруганнаго, послѣ того, какъ преступнымъ актомъ правительственной юстиціи для него былъ закрытъ законный путь, и правосудіе въ его высшихъ представителяхъ до государя включительно, стало открыто на сторону неправды, имъ овладѣло чувство безконечнаго страданія, при видѣ нанесеннаго ему оскорбленія: "Лучше быть собакой, если меня будутъ попирать ногами, чѣмъ человѣкомъ", (S. 23). Твердо принятое имъ рѣшеніе: "Кто отказываетъ мнѣ въ защитѣ закона, тотъ меня толкаетъ въ состояніе дикаря, онъ даетъ мнѣ въ руки дубину, которой я самъ буду защищать себя" (S. 44). Онъ вырываетъ изъ рукъ продажнаго правосудія оскверненный мечь и потрясаетъ имъ такъ, что страхъ и ужасъ распространяются въ странѣ, колеблются гнилыя связи государства, и трепещетъ самъ государь. Но его одушевляетъ не дикое чувство мести, онъ не дѣлается разбойникомъ и убійцей какъ Карлъ Мооръ, который "на весь міръ хотѣлъ протрубить призывъ къ возстанію, возбудить всю природу, чтобы воздухъ, землю и море вести въ бой противъ порожденій гіенны", который изъ оскорбленнаго правоваго чувства, объявляетъ войну всему человѣчеству; но Михаиломъ Колхасомъ руководитъ нравственная идея, идея* что "природа давъ ему силы, наложила на него обязанность достигнуть удовлетворенія за причиненное оскорбленіе, и своимъ согражданамъ дать въ будущемъ безопасность" этой идеѣ онъ приноситъ въ жертву все, — счастье своего семейства, свое уважаемое имя, состояніе, жизнь. Онъ не ведетъ безцѣльной войны ради одного уничтоженія, но онъ направляетъ ее, только противъ виновнаго и противъ всѣхъ его сообщниковъ и когда къ нему возвращается надежда достигнуть своего права, онъ добровольно кладетъ оружіе; но этотъ человѣкъ какъ будто бы былъ избранъ чтобы показать своимъ примѣромъ, до какой степени въ тѣ времена простиралось безправіе и отсутствіе чувства чести, ибо по отношеніи къ Михаилу Колхасу было нарушено данное ему обѣщаніе — охранный листъ и амнистія — и онъ кончилъ жизнь на эшэфотѢ. Но его право было уже возстановлено, и мысль, что онъ боролся не напрасно, что онъ заставилъ уважать право, что онъ оградилъ свое человѣческое достоинство, успокоиваетъ его сердце при видѣ ужасовъ смерти; примиренный съ собой, міромъ и Богомъ, онъ бодро слѣдуетъ за далачемъ. Сколько размышленій возникаетъ по поводу этой правовой драмы. Человѣкъ добросовѣстный, честный, любящій свое семейство, съ дѣтски добрымъ чувствомъ, дѣлается Аттилой, огнемъ и мечемъ разрушаетъ мѣсто, гдѣ скрылся его противникъ и вслѣдствіе чего? Именно вслѣдствіе тѣхъ свойствъ, которые такъ нравственно высоко поднимаютъ его надъ всѣми его противниками, не смотря на то, что они надъ нимъ торжествуютъ: вслѣдствіе его высокаго уваженія къ праву, вѣры въ его святость, дѣятельной силы этого уваженія и здороваго правоваго чувства. Въ этомъ и заключается глубоко потрясающій трагизмъ его судьбы, что именно преимущество и благородство его натуры: идеальный порывъ его правоваго чувства, его героическое, все забывающее самопожертвованіе для идеи права, въ столкновеніи съ жалкимъ тогдашнимъ міромъ: своеволіемъ великихъ и сильныхъ, забвеніемъ долга и трусостью судей, дѣлаются причиной его погибели. Его преступленіе двойною тяжестью падаетъ на государя, его чиновниковъ и судей, которые насильственно вытѣснили его съ пути права и толкнули его на путь беззаконнія. Ибо ни какая неправа да, которую терпитъ человѣкъ, какъ бы она ни была тяжела, по крайней мѣрѣ для непосредственнаго нравственнаго чувства, далеко не можетъ сравниться съ тою неправдой, которую совершаютъ отъ Бога установленныя власти, когда они сами нарушаютъ право. / Юридическое убійство, какъ нашъ языкъ его мѣтко опредѣляетъ, есть по истинѣ смертный грѣхъ права. Стражъ и блюститель закона превращается въ его убійцу — это врачь, отравляющій больнаго, опекунъ, который давитъ своего питомца. Въ древнемъ Римѣ продажный судья подвергался смертной казни. Для правосудія, нарушившаго право, нѣтъ болѣе сильнаго обвинителя, какъ мрачный, полный упрека образъ преступника, который сталъ таковымъ вслѣдствіе оскорбленнаго правовагочувства — этоего собственная кровавая тѣнь. Жертва продажнаго и пристрастнаго правосудія, почти насильственно сталкивается съ пути права, сама становится мстителемъ и исполнителемъ своего права и нерѣдко, не останавливаясь на ближайшей цѣли, дѣлается заклятымъ врагомъ общества, разбойникомъ и убійцей. Но даже и тотъ, котораго благородная и нравственная натура удержитъ отъ этого пути, какъ Михаила Колхаса, дѣлается преступникомъ, а претерпѣвая за это наказаніе, мученикомъ своего правоваго чувства. Говорятъ что кровь мучениковъ проливается не напрасно, и быть можетъ, это справедливо въ данномъ случаѣ; его угрожающая тѣнь сдѣлаетъ на долго не возможнымъ такое насиліе надъ правомъ, какое онъ вынесъ. Я самъ вызываю эту тѣнь, только затѣмъ, чтобы показать самый поразительный примѣръ, до чего можетъ дойти даже сильная и идеально одаренная правовымъ чувствомъ натура, въ тѣхъ обстоятельствахъ, когда несовершенство правовыхъ учрежденій отказываетъ ей въ удовлетвореніи[14]. Тогда борьба за законъ становится борьбою противъ закона. Оставленное Властью безъ помощи противъ насилія, отъ котораго власть должна бы его защищать, правовое чувство само оставляетъ почву закона, и путемъ самообороны старается достигнуть того, въ чемъ непониманіе, злая воля, безсиліе, ему отказываютъ. Даже не только отдѣльныя, особенно сильныя и богато одаренныя натуры, въ которыхъ, если я могу такъ выразиться, національное правовое чувство поднимается въ жалобѣ и протестѣ противъ подобнаго правоваго состоянія, случается иногда что эти жалобы и протесты находятъ отголосокъ во всемъ народонаселеніи и выражаются въ извѣстныхъ явленіяхъ, которые мы, смотря потому какъ народъ или опредѣленное сословіе ихъ понимаетъ или приводитъ въ исполненіе, можемъ назвать народнымъ противовѣсомъ государственнымъ учрежденіямъ. Таковыми были: средневековые Vehmgericht[15] и судебный поединок (Fehderecht) ― вѣскія доказательства безсилія тогдашнихъ уголовныхъ судовъ и бездѣйствія государственной власти; въ настоящее время дуэль служитъ очевиднымъ доказательствомъ, что наказаніе налагаемое государствомъ за оскорбленіе чести не представляетъ никакого удовлетворенія развитому чувству извѣстныхъ классовъ общества. Сюда же можно отнести кровавую месть корсиканца щнародную расправу въ Сѣверной Америкѣ, такъ назыв. законъ Линча. Всѣ они показываютъ, что государственныя учрежденія не соотвѣтствуютъ правовому чувству народа, или общественнаго положенія; во всякомъ случаѣ въ нихъ заключается упрекъ государству, или за то, что оно дѣлаетъ ихъ необходимыми, или за то, что оно ихъ терпитъ. Для отдѣльныхъ лицъ, они могутъ, если законъ хотя и запрещаетъ, но не можетъ подавить ихъ, быть источникомъ тяжелыхъ столкновеній. Корсиканецъ, который, въ силу предписаннаго государствомъ запрещенія, воздерживается отъ кровавой мести, презирается своими, тотъ же, который, подъ давленіемъ народнаго правоваго воззрѣнія, ему слѣдуетъ, попадаетъ въ мстительные руки юстиціи. Тоже самое въ нашей дуэли. Кто отъ нее отказывается, въ тѣхъ случаяхъ, когда это требуется долгомъ по отношенію чести, вредитъ своей чести, кто соглашается на дуэль, будетъ наказанъ — положеніе въ равной мѣрѣ тяжелое какъ для отдѣльнаго лица, такъ и для судьи. Въ древнемъ Римѣ мы напрасно стали бы искать аналогическихъ явленій; государственныя учрежденія и національное правовое чувство тамъ находились въ полномъ согласіи. Только со времени появленія христіанства, христіане стали бѣгать отъ мірскихъ судовъ къ мировому суду епископа, совершенно также какъ въ средніе вѣка евреи отъ судовъ христіанъ къ суду своего Раввина.
Такимъ образомъ я достигъ конца моего изложенія о борьбѣ отдѣльнаго лица за свое право. Мы прослѣдили эту борьбу во всѣхъ мотивахъ, отъ побужденій чистаго расчета пользы, восходя до идеальныхъ мотивовъ — огражденія личности и ея нравственныхъ жизненныхъ условій, и наконецъ достигли точки зрѣнія осуществленія идей правосудія — высочайшей вершины, съ которой одинъ ложный шагъ оскорбленнаго въ своемъ правовомъ чувствѣ доводитъ его до состоянія преступника и повергаетъ въ пропасть беззаконія. Но интересъ этой борьбы ни какимъ образомъ не ограничивается частнымъ правомъ или частною жизнью, но далеко выходитъ за предѣлы оныхъ. Нація есть только сумма отдѣльныхъ индивидуумовъ и какъ чувствуютъ, думаютъ и поступаютъ отдѣльные индивидуумы, такъ чувствуетъ, думаетъ, поступаетъ нація. Если правовое чувство отдѣльныхъ лицъ, въ отношеніяхъ частной жизни, оказывается вялымъ, трусливымъ, апатическимъ, не находитъ простора для свободнаго и сильнаго развитія, вслѣдствіе препятствій, которыя полагаются не справедливымъ закономъ, или худо устроенными учрежденіями, если происходитъ преслѣдованіе, тамъ гдѣ слѣдовало бы ожидать поддержки; гдѣ вслѣдствіе этого образуется привычка переносить терпѣливо неправду, какъ нѣчто такое, чего нельзя перемѣнить; кто повѣритъ, что такое рабское, приниженное, апатическое правовое чувство, будетъ способно мгновенно подняться до живаго ощущенія и энергической реакціи, когда будетъ идти дѣло не о частномъ правонарушеніи, ной объ оскорбленіи правоваго чувства всего народа: покушеніи на его политическую свободу, нарушеніи или уничтоженіи государственныхъ учрежденій, нападеніи внѣшнихъ враговъ?
Кто не привыкъ мужественно защищать свое право, какимъ образомъ будетъ онъ чувствовать стремленіе положить свою жизнь и имущество за общественное дѣло? Въ комъ нѣтъ пониманія, что его чести и личности наноситься оскорбленіе, кто предпочитая удобства, поступается своимъ неподлежащимъ сомнѣнію правомъ, кто до того времени въ дѣлахъ, касающихся права, все мѣрялъ только однимъ аршиномъ матеріальныхъ интересовъ, можно ли ожидать, чтобы тамъ гдѣ дѣло будетъ касаться права и чести цѣлой націи, имъ былъ принятъ другой способъ измѣренія. Откуда вдругъ можетъ придти идеализмъ пониманія, который до того отрицался. Нѣтъ! Борецъ за государственное и народное право тотъ же самый, который долженъ бороться за частное право: тѣ же самыя свойства которыя имъ пріобрѣтены въ борьбѣ за свое частное право будутъ ему необходимы при борьбѣ за государственное право — что посѣяно и созрѣло въ частномъ правѣ, то для націи принесетъ плоды въ государственномъ и народномъ правѣ, На нижнихъ ступеняхъ частнаго права, въ малыхъ, незначительныхъ обстоятельствахъ частной жизни, капля по каплѣ долженъ образоваться и накопляться тотъ нравственный капиталъ, чтобы потомъ государство могло употребить его въ большихъ размѣрахъ для своихъ цѣлей. Частное, а не государственное право есть истинная школа политическаго воспитанія народа. Если хотятъ знать какъ, въ случаѣ надобности, будетъ народъ защищать свои политическія права и свое народноправовое положеніе, то должны обратиться къ тому какъ отдѣльное лице защищаетъ свое частное право. Выше я привелъ примѣръ охотника до борьбы Англичанина, здѣсь только повторю тоже что сказалъ: въ гульденѣ, за который онъ твердо стоитъ, скрывается политическое развитіе Англіи. У того народа, у котораго въ обычаяхъ, чтобы каждый твердо защищалъ свое самое малѣйшееправо, никто не осмѣлится отнять его высшія блага и потому не случайно произошло, что въ древности тотъ народъ, которой обладалъ внутри высшимъ политическимъ развитіемъ, извнѣ проявилъ величайшее развитіе силъ, Римскій народъ, вмѣстѣ съ тѣмъ обладалъ достигшимъ совершенства частнымъ правомъ. Право есть идеализмъ, какимъ бы парадоксомъ это не звучало. Не идеализмъ Фантазіи, но идеализмъ характера т. е. человѣка, который себя самого сознаетъ какъ цѣль и не обращаетъ ни на что вниманія, если онъ затронутъ въ этомъ святилищѣ. Отъ кого бы ни исходило, это нападеніе на его право: отъ отдѣльнаго ли лица, или отъ правительства, отъ чужаго народа — ему все равно? Сопротивленіе, которое противопоставляется нападенію, опредѣляется не тѣмъ отъ кого исходитъ нападеніе, но энергіей его правоваго чувства, нравственною силой, съ которою онъ самъ заботится оградить себя. По этому всегда вѣрно изрѣченіе: политическое положеніе народа, какъ внутреннее такъ и внѣшнее, соотвѣтствуетъ его нравственнымъ силамъ. Серединное царство съ своими бамбуками, розгами для взрослыхъ дѣтей, не смотря на свои сотни милліоновъ, никогда не займетъ относительно другихъ націй, того почтеннаго положенія, которое занимаетъ маленькая Швейцарія. Естественныя свойства Швейцарцевъ представляются съ точки зрѣнія искусства и поэзіи конечно не менѣе идеальными и также трезвыми и практическими какъ и Римлянъ. Въ томъ смыслѣ, въ которомъ я до сихъ поръ говорилъ, по отношенію къ праву, это приложимо къ Швейцарцамъ также какъ и къ Англичанамъ. Этотъ идеализмъ здороваго правоваго чувства подкапывалъ бы свой собственный Фундаментъ, если бы ограничился только защитой своего собственнаго права, впрочемъ же, въ поддержаніи права и порядка не принималъ участія. Онъ долженъ сознавать не только то, что въ своемъ правѣ онъ защищаетъ право вообще, а также и то, что въ правѣ онъ защищаетъ свое личное право. Въ такомъ обществѣ, гдѣ преобладаетъ чувство строгой законности, напрасно стали бы искать того печальнаго явленія, которое въ другихъ мѣстахъ такъ обыкновенно, того, что масса народа, когда полиція преслѣдуетъ нарушителя закона и хочетъ его арестовать, принимаетъ сторону послѣдняго, т. е. въ государственной власти видитъ своего естественнаго противника. Здѣсь же наоборотъ всякій знаетъ, что дѣло закона его собственное дѣло — преступнику сочувствуетъ только преступникъ, а не честный человѣкъ, который напротивъ охотно въ этомъ случаѣ помогаетъ полиціи и начальству.
Мнѣ почти нѣтъ надобности въ какомъ либо заключеніи всего сказаннаго. Это заключеніе можетъ быть выражено однимъ положеніемъ: для государства, которое желаетъ быть почитаемымъ изъвнѣ, непоколебимымъ и твердымъ внутри, нѣтъ болѣе драгоцѣннаго блага, о которомъ слѣдуетъ «заботиться, какъ народное правовое чувство. Эта забота должна быть одною изъ высшихъ и важнѣйшихъ задачь политической педагогики, Въ здоровомъ, сильномъ правовомъ чувствѣ отдѣльныхъ лицъ государство владѣетъ неизсѣкае. мымъ источникомъ своей собственной силы, вѣрнѣйшею гарантіей прочности своего положенія, какъ внѣшняго такъ и внутренняго. Правовое чувство есть корень всего дерева. Не годиться корень, если онъ попалъ въ каменистый или песчаный грунтъ, слабо и все остальное — придетъ буря и вырветъ съ корнемъ все дерево. Стволъ и вершина имѣютъ то преимущество, что они видимы, тогда какъ корень скрытъ въ землѣ и не видимъ для глаза. Разлагающее вліяніе, которое производятъ на нравственную силу народа, несправедливые законы и худо устроенныя учрежденія, дѣлаютъ свое дѣло подъ землей, въ тѣхъ областяхъ, которыя неудостоиваютъ своимъ вниманіемъ такъ многіе диллетанты политики; они думаютъ только о государственной вершинѣ, не принимая въ соображеніе, что ядъ изъ корня восходитъ до вершины. Но деспотизмъ знаетъ съ чего ему начинать, чтобы ниспровергнуть дерево; онъ не трогаетъ вершины, но онъ разрушаетъ корень. Всякій деспотизмъ начиналъ вторженіемъ въ частное право и нарушеніемъ права отдѣльныхъ лицъ; если ему удавалось здѣсь сдѣлать свое дѣло, то дерево падало само собой. Поэтому здѣсь-то и важно ему противодѣйствовать, и Римляне хорошо понимали, что они дѣлали, когда за покушеніе на женское цѣломудріе и честь, изгнали сначала царей, а потомъ децемвировъ. Отягощать крестьянина налогами и податями, ставить гражданина подъ опеку полиціи и даже свободу передвиженія связать паспортной системой, наложить оковы на перо писателя, распредѣлять налоги по произволу — самъ Макіавелли не могъ бы подать лучшаго совѣта, чтобы убить въ народѣ всякое чувство мужества и всякую нравственную силу и проложить безпрепятственный путь деспотизму. Правда, что при этомъ не принимается въ расчетъ, что тѣже самые ворота, въ которыя входятъ деспотизмъ и произволъ, открыты и для внѣшняго врага и только тогда, когда онъ уже подошелъ къ нимъ, мудрецы приходятъ къ позднему сознанію, что нравственная сила и правовое чувство народа могли бы быть лучшей обороной противъ внѣшняго врага! Въ то время когда крестьянинъ и гражданинъ были во власти Феодальнаго произвола и абсолютизма, Германія потеряла Лотарингію и Эльзасъ. Какъ имъ было отстаивать государство, когда они разучились отстаивать самихъ себя! Но мы сами виноваты въ томъ, что слишкомъ поздно понимаемъ уроки исторіи. Она не виновата въ томъ, что мы ихъ не сознаемъ вовремя, ибо она громко и внятно не перестаетъ повторять ихъ. Сила народа однозначуща силѣ его правоваго чувства— забота о національномъ правовомъ чувствѣ есть забота о здоровьѣ и силѣ государства. Подъ этимъ я, разумѣется, понимаю не школы и образованіе, но практическое приложеніе справедливости ко всѣмъ случаямъ жизни. Одного внѣшняго механизма права еще недостаточно. Не смотря на все его совершенство и на весь внѣшній порядокъ, указанное мною требованіе можетъ быть вовсе не выполнено. Законъ и порядокъ были и въ крѣпостномъ правѣ, и во многихъ другихъ положеніяхъ и учрежденіяхъ прошедшаго времени, которыя стояли въ полнѣйшемъ противорѣчіи съ требованіями здороваго правоваго чувства и которыми государство быть можетъ болѣе ѣредило себѣ, чѣмъ гражданамъ, крестьянамъ, евреямъ, надъ которыми они тяготѣли.
Твердость, ясность, опредѣленность матеріальнаго права, ограниченіе всѣхъ положеній, при которыхъ приходитъ въ соблазнъ правовое чувство, во всѣхъ сферахъ права, нетолько частнаго, но полиціи, управленія, Финансоваго законодательства, независимость судовъ, возможное совершенство процессуальной стороны учрежденіи — вотъ болѣе вѣрный путь къ подъему государственной силы, чѣмъ увеличеніе военнаго бюджета. Всякоепроизвольное и несправедливое опредѣленіе, которое допускается, или поддерживается государственною силой, наноситъ сильный вредъ національному правовому чувству, а вмѣстѣ съ тѣмъ инаціональной силѣ, есть такимъ образомъ грѣхъ противъ идеи права, который потомъ отзывается на самомъ государствѣ и который часто приходится ему платить съ процентами на проценты — при случаѣ это можетъ стоить провинціи; конечно я самъ того мнѣнія, что государство должно избѣгать этихъ грѣховъ, не въ силу только этого взгляда, я считаю высшимъ и священнѣйшимъ долгомъ государства осуществлять эту идею для нея самой; но это ученая Фантазія и не будетъ удивительно, если государственный человѣкъ или практическій политикъ на подобное предположеніе пожмутъ плечами. Но потому то я и выставилъ практическуюсторону вопроса, которая совершенно понятна. Идея права и интересъ государства идутъ рука объ руку. На почвѣ худаго права не выростетъ здоровое правовое чувство, его развитіе задерживается, притупляется. Существо права есть, какъ уже было замѣчено, дѣйствіе: что свѣжій воздухъ для пламени, то для правоваго чувства свобода дѣйствія, отказать ему въ ней или задержать его, значитъ заглушить.
Я могъ бы теперь окончить мое чтеніе, ибо моя тема изчерпана. Но я надѣюсь, что вы мнѣ позволите остановить ваше вниманіе еще на одномъ вопросѣ, который тѣсно связанъ съ предметомъ моего изложенія, а именно: на сколько соотвѣтствуетъ развитымъ мною требованіямъ наше дѣйствующее право, или точнѣе дѣйствующее общее римское право[16], о которомъ я только осмѣливаюсь высказать мнѣніе. Я не колеблясь отвѣчу на этотъ вопросъ отрицательно. Оно далеко остается назади отъ правовыхъ притязаній здороваго правоваго чувства, не только потому, что нѣкоторыя изъ его положеній неправильны, но потому что оно въ цѣломъ проникнуто такими воззрѣніями, которыя діаметрально противоположны тому, на что я въ своихъ чтеніяхъ указалъ какъ на сущность здороваго, правоваго чувства — я разумѣю подъ этимъ тотъ идеализмъ, который въ правонарушеніи видитъ не только нападеніе на объектъ, но и на лице. Наше общее право не представляетъ никакой поддержки для этого идеализма; масштабъ, которымъ онъ мѣряетъ всѣ правонарушенія, за исключеніемъ оскорбленія чести, есть только масштабъ матеріальной стоимости, безплодный, плоскій матеріализмъ, который развился въ немъ вполнѣ. Но что же другое можетъ право предоставить оскорбленному, когда дѣло идетъ о моемъ и твоемъ, какъ не самый предметъ иди его стоимость[17]? Если бы это было справедливо, то можно было бы отпустить вора, если онъ отдаетъ назадъ украденную вещь. Но воръ, возразятъ мнѣ, совершаетъ преступное дѣяніе не только противъ потерпѣвшаго, но и противъ законовъ государства, противъ правоваго порядка, противъ нравственнаго закона. Развѣ этого не дѣлаетъ должникъ, который сознательно отказывается отъ полученія заимообразно ссуды, повѣренный, который безстыднымъ образомъ злоупотребляетъ довѣренностью, чтобы меня обмануть. Развѣ будетъ удовлетворено мое правовое чувство, если послѣ долгой борьбы я получу только то, что мнѣ принадлежало сначала? Но даже независимо удовлетворенія, которое я не колеблясь признаю совершенно правильнымъ, какое извращеніе естественнаго равновѣсія между двумя сторонами! Опасность, которою угрожаетъ имъ неблагопріятный исходъ процесса, состоитъ для одной стороны въ томъ, что она теряетъ свое, для другой же только въ томъ, что она должна выдать неправильно удержанное; преимущество, которое представляетъ благопріятный исходъ — состоитъ для одной стороны въ томъ, что она ничего не теряетъ, для другой же въ томъ, что она обогащается на счетъ противника. Развѣ это незначитъ потворствовать безстыдной лжи и давать премію за недобросовѣстность? Таково по мнѣнію моему наше дѣйствующее право. Впослѣдствіи я буду имѣть случай привести основанія моего взгляда, но я думаю, что это будетъ удобнѣе, если первоначально будетъ представлена совершенная противоположность, съ которою римское право относилось къ этому вопросу.
Въ этомъ случаѣ я различаю три степени развитія. Первый періодъ, въ которымъ правовое чувство еще такъ сказать не знало мѣры своей стремительности, не достигло самообладанія, въ древнѣйшемъ правѣ; второй періодъ соразмѣрнаго развитія силы правоваго чувства, въ правѣ средняго времени; третій періодъ ослабленія и помраченія онаго въ позднѣйшее императорское время и въ особенности въ Юстиніановомъ правѣ.
Относительно характера, который носитъ на себѣ право, на первой, низшей ступени развитія, я представилъ прежде изслѣдованіе и здѣсь повторю только вкратцѣ результатъ. Горячее правовое чувство древняго времени каждое оскорбленіе или нарушеніе собственнаго права считаетъ субъективной неправдой, не принимая приэтомъ въ расчетъ ни невинности, ни степени вины противника и требуетъ соотвѣтствующаго удовлетворенія одинаково какъ отъ невиннаго, такъ и отъ виновнаго. Кто явно отрицаетъ долгъ (nexum) или нанесенныя противнику убытки, тотъ въ случаѣ проиграннаго процесса, платитъ вдвое, тоже самое въ искахъ о возстановленіи нарушеннаго владѣнія (vindicatio), тотъ кто сниметъ плоды какъ владѣлецъ, долженъ заплатить вдвое; кромѣ того, въ случаѣ проигрыша, онъ терялъ деньги, внесенные на обезпеченіе иска (sacramentum). Тому же подвергается и истецъ, если онъ проиграетъ процессъ, ибо онъ имѣлъ притязаніе на чужую собственность; если онъ хотя на minimum ошибался въ суммѣ, выставленной въ искѣ, вообще основательномъ, то онъ лишался всего, на что имѣлъ право. Изъ этихъ положеній древнѣйшаго права многое перешло въ право средняго періода, но самостоятельное твореніе этого права проникнуто совершенно инымъ духомъ. Этотъ духъ можно обозначать однимъ словомъ — приложеніе въ различной степени виновности ко всѣмъ отношеніямъ частнаго права. Объективная и субъективная неправда строго различаются, первая влечетъ за собою простое возстановленіе спорнаго права, вторая же кромѣ того наказаніе, иногда денежное, иногда лишеніе чести, и именно это оставленіе въ силѣ наказанія въ правильныхъ границахъ, составляетъ одну изъ самыхъ здравыхъ мыслей римскаго права средняго періода. Чтобы лицо, получившее на сохраненіе вещь и вѣроломно отрицающее поклажу, или желающее ее удержать, чтобы повѣренный или опекунъ, который оказанное ему довѣріе употребитъ въ свою пользу, или завѣдомо пренебрегаетъ своею обязанностью, могли отдѣлаться простымъ возвращеніемъ вещи или уплатой ея стоимости, этимъ не могъ удовлетвориться здоровый смыслъ римлянъ. Онъ требовалъ еще кромѣ этого наказанія, вопервыхъ для удовлетворенія оскорбленнаго правоваго чувства, а во вторыхъ для устрашенія другихъ отъ совершенія подобныхъ поступковъ. Наказанія, которыя тогда употреблялись, были во-первыхъ лишеніе чести (Infamia) — по римскимъ понятіямъ одно изъ самыхъ тяжелыхъ, ибо оно влекло за собою, кромѣ общественнаго презрѣнія, еще потерю всѣхъ политическихъ правъ: политическую смерть. Оно примѣнялось тамъ, гдѣ правонарушеніе являлось послѣдствіемъ особеннаго вѣроломства. Затѣмъ слѣдовали имущественныя наказанія, которыя употреблялись весьма часто. Кто неправильно даетъ поводъ къ процессу, или самъ несправедливо его возбудитъ, для того готовъ былъ цѣлый арсеналъ подобныхъ устрашающихъ средствъ; они начинались съ дробныхъ частей спорнаго предмета (1/10, 1/5, 1/3, 1/2) восходили до взысканій въ нѣсколько разъ превышавшихъ стоимость предмета и могли быть возвышаемы смотря по обстоятельствамъ, если упрямство противника было непоколебимо, до безконечности, т. е. до той суммы, которую истецъ подъ присягой призналъ достаточнымъ удовлетвореніемъ. Въ особенности были два процессуальные установленія, которыя имѣли цѣлію поставить отвѣтчика въ такое положеніе, что онъ долженъ былъ во избѣжаніе дальнѣйшихъ вредныхъ послѣдствій, или не настаивать на своемъ запирательствѣ, или быть готовымъ къ тому, что онъ будетъ обвиненъ въ сознательномъ нарушеніи закона и съ нимъ будетъ поступлено по всей строгости закона: запретительные интердикты претора и асtiones arbitrariae. Въ случаѣ упорнаго сопротивленія со стороны отвѣтчика оскорбленіе переносилось съ лица истца на государственную власть. Такимъ образомъ дѣло уже шло не о правѣ истца, но о защитѣ самаго закона, въ лицѣ его представителей. Цѣль этихъ взысканій была та же самая, какъ и наказаній въ уголовномъ правѣ. Они налагались для того, чтобы твердо оградить чисто практическіе, матеріальные интересы частной жизни, отъ нарушеній которые не подходили подъ понятіе преступленій, а вмѣстѣ съ тѣмъ чтобы дать нравственное удовлетвореніе оскорбленному правовому чувству — я понимаю подъ этимъ не только чувство непосредственно участвующаго, но также и всѣхъ тѣхъ, кому этотъ случай сдѣлался извѣстенъ — и достигалось то, что возстановлдлся униженный авторитетъ закона въ подобающемъ ему величіи. Деньги были такимъ образомъ не цѣлью, но только средствомъ для достиженія цѣли 5) [Въ особенности это ясно выразилось въ такъ называемыхъ actiones vindictam spirantes. Идеальная точка зрѣнія, что тутъ дѣло идетъ не о деньгахъ и о имѣніи, но объ удовлетвореніи оскорбленнаго права и личнаго чувства ("Magis vindictae, quam pecuniae habet rationem", (1, 2 § 4 de coli. bon. 37. 6), проводится въ нихъ со всею строгостью. По этому они не переходятъ на наслѣдниковъ, не могутъ быть переданы другому лицу, или въ случаѣ конкурса, не могутъ уплачиваться наравнѣ съ другими долгами. Поэтому погашаются они въ самое короткое время и недѣйствительны вовсе тамъ, гдѣ сдѣлалось извѣстнымъ, что оскорбленный не чувствовалъ нанесенной ему неправды. ("ad animum suum non revocaverit," 1,11, § 1. de injur. 47. 10).]. Въ моихъ глазахъ это положеніе дѣла въ римскомъ правѣ средняго періода есть образцовое. Оно одинаково далеко, какъ отъ излишней строгости древняго права, которое объективную неправду подводило подъ понятіе субъективнаго дѣянія, такъ и отъ противоположнаго понятія нашего времени, которое субъективную неправду совершенно уравниваетъ съ объективной, удовлетворяя вполнѣ справедливымъ требованіямъ здороваго, правоваго чувства, причемъ строго различались не только оба вида неправды, но также принимались въ расчетъ, съ самымъ тонкимъ пониманіемъ, степень, родъ, вѣсъ правонарушенія.
Когда я обращаюсь наконецъ къ послѣдней ступени развитія римскаго права, какъ оно выразилось въ Юстиніановой компиляціи, я не могу воздержаться отъ невольнаго замѣчанія, — какое значеніе имѣетъ, какъ для жизни отдѣльнаго лица, такъ и для жизни цѣлаго народа, право наслѣдованія. Каково было бы право этого времени, если бы ему самому пришлось создавать свое право. Но какъ наслѣдникъ, который жалкимъ образомъ влачилъ бы жизнь, если бы былъ предоставленъ собственнымъ силамъ, живетъ богатствомъ, оставленнымъ ему наслѣдодателемъ, точно также чахнетъ слабое, истаскавшееся поколѣніе еще долгое время, питаясь духовнымъ капиталомъ предшествовавшаго, полнаго силъ, времени. Я понимаю это не просто только въ томъ смыслѣ, что оно наслаждается, безъ собственныхъ усилій, плодами чужаго труда, но преимущественно въ томъ смыслѣ, что дѣла, произведенія и учрежденія прошедшаго, происхожденіе которыхъ обусловлено извѣстными силами духа, могутъ еще нѣкоторое время поддерживать этотъ духъ и проявлять его; въ нихъ заключается извѣстный запасъ скрытыхъ силъ, которыя при соприкосновеніи съ ними, переходятъ въ живую силу. Въ этомъ смыслѣ частное право республики, въ которомъ воплотилось сильное, могущественное правовое чувство древнеримскаго народа, оказывало услуги императорскому времени, оживляя и освѣжая его; это былъ оазисъ въ великой пустынѣ позднѣйшаго міра, въ которомъ одномъ только текла свѣжая вода. Но при разрушающемъ дуновеніи деспотизма не могла вырости самостоятельная жизнь, и одно частное право не могло проводить и отстаивать тотъ духъ, который повсюду былъ презираемъ — и здѣсь онъ долженъ былъ впослѣдствіи уступить мѣсто духу времени. Странную печать носилъ на себѣ этотъ духъ новаго времени! Можно было бы ожидать, что на немъ отразятся слѣды деспотизма, суровость, твердость, безправіе; напротивъ его внѣшность представляла совершенную противоположность: кротость и человѣчность. Но эта кротость была деспотическая, т. е. она отнимала у одного то, что дарила другому — это кротость произвола и прихоти, но не человѣчности — пресыщеніе жестокости. Здѣсь не мѣсто приводить всѣ доказательства для подтвержденія этого мнѣнія[18], мнѣ кажется достаточнымъ указать на одну многознаменательную и заключающую въ себѣ богатый историческій матеріалъ черту характера этого времени, это стремленіе улучшить положеніе должника на счетъ вѣрителя 6) [Доказательство тому представляютъ такие опредѣленія Юстиніана: поручителям предоставлено возражение о преждевременном иске, <...> должникам ― возражение о разделе: для продажи залога установлен ни с чем не сообразный двухлетний срок, и после поступления залога в собственность другого лица должник может выкупить его еще в течение двух лет, но даже и по прошествии этого переода он продолжает сохранять право на излишек, полученный кредитором при продаже вещи. Сюда принадлежат еще неподобающее расширение права компенсации <...>, а также привилегия церквей при ней, ограничение исков за убытки при договорных отношениях двойной суммою, безсмысленное распространение запрета <...>, дарование наследнику при <...> безграничного произвола относительно удовлетворения кредиторов. Юстинианом же введенному требованию, ставившему заключение должника под стражу в зависимость от согласия большинства кредиторов, предшествовал уже, как его достойный прообраз, <...> мораторий, появляющийся впервый при Константине; точно так же и относительно <...> и так называемой <...>, а так же относительно <...> Юстиниан должен предоставить заслугу их изобретения своим предшественникам по трону, тогда как слава перваго государя, признавшаго всю яко бы безчеловечность личной экзекуции и уничтожившаго ее из-за соображений гуманности, принадлежит Наполеону III. Конечно, последняго нисколько не смущала безкровная гильотина в Кайене, точно так же как позднейшие римские императоры не смущались уготавливать совершенно невинным детям государственных изменников такую учать, которую они сами характеризуют словами: <...>; тем прекраснее выделялась, с другой стороны, гуманность по отношению к должникам! Нельзя удобнее разделаться с человечностью как на чужой счет! И преимущественное право на залог, предоставленное Юстинианом законной жене, тоже возникло из той гуманности его сердца, с которой он не упускает случая радостно поздравить самого себя при каждом новом ея припадке. Но это была гуманность святого Криспина, который крал кожу у богатых, чтобы изготовлять из нее сапоги бедным.]. Я полагаю: симпатія къ должнику есть признакъ слабаго времени. Оно же зоветъ это гуманностью. Сильное время прежде всего заботится о томъ, чтобы вѣритель добился своего права, если бы даже должнику пришлось отъ этого погибнуть. Привилегированное залоговое право, которое Юстіанинъ предоставилъ женѣ, обязано было своимъ происхожденіемъ, той гуманной чертѣ его сердца, которой онъ самъ не сознавалъ, при проявленіи которой каждый разъ онъ самъ удивлялся и былъ въ высшей степени доволенъ собой; но это была гуманность святаго Криспина, который дралъ кожу съ богатыхъ, чтобы сшить бѣднымъ сапоги.
Наконецъ наше теперешнее римское право! Я почти сожалѣю, что упомянулъ объ немъ, ибо этимъ я поставилъ себя въ необходимость высказать объ немъ свое мнѣніе, не имѣя возможности здѣсь привести, какъ бы я желалъ, достаточныя основанія. Но тѣмъ не менѣе я выскажу свое мнѣніе.
Если я долженъ выразить его въ немногихъ словахъ, то я скажу, что сущность всей исторіи и все значеніе новѣйшаго римскаго права, указываютъ на необходимый, быть можетъ вслѣдствіе извѣстныхъ обстоятельствъ, перевѣсъ отвлеченной учености надъ всѣми тѣми Факторами, которые нѣкогда били основными чертами характера и развитія нрава: националънымъ правовымъ чувствомъ, практикою, законодательствомъ. Чужое право, на чужомъ языкѣ, введенное учеными, и имъ только доступное и съ самаго начала ставшее въ противорѣчіе съ двумя совершенно различными и часто борющимися интересами, т. е. непосредственнымъ историческимъ познаніемъ и практическимъ примѣненіемъ и образованіемъ права, съ другой стороны практика, не имѣвшая на столько силы, чтобы овладѣть духовнымъ матеріаломъ права и вслѣдствіе этого обреченная на постоянную зависимость отъ теоріи, т. е. на постоянное несовершеннолѣтіе, партикуляризмъ въ судопроизводствѣ и въ законодательствѣ, преобладающій надъ слабыми, мало развитыми началами централизаціи. Можно ли удивляться, что между національнымъ правовымъ чувствомъ, и подобнымъ правомъ происходилъ постоянный раздоръ, что народъ не понималъ права, а право не понимало народа. Установленія и положенія, которыя въ Римѣ, при тогдашнихъ обстоятельствахъ и обычаяхъ, были понятны, стали при отсутствіи этихъ причинъ, совершеннымъ проклятіемъ, и никогда съ тѣхъ поръ какъ стоитъ міръ, не могло судопроизводство такъ сильно разкачать въ народѣ довѣріе къ праву. Что долженъ сказать простой здравомыслящій человѣкъ, когда онъ приходитъ съ роспиской къ судьѣ, въ которой его противникъ сознается, что долженъ ему сто гульденовъ, а судья признаетъ эту роеписку необязательной, какъ cautio indisjcreta, или тогда, когда росписка, въ которой поклажа явно признается долгомъ, не имѣетъ никакой силы, за истеченіемъ двухлѣтняго срока?
Но я не хочу вдаваться въ подробности, иначе не будетъ конца. Я ограничусь только тѣмъ, что укажу на два заблужденія — я не могу назвать ихъ иначе — нашей юриспруденціи, заблужденія въ принципѣ и заключающія въ себѣ сѣмя неправды.
Первое состоитъ въ томъ, что новая юриспруденція совершенно утратила выше развитую мною простую мысль, что въ правонарушеніи дѣло идетъ не объ одной денежной стоимости, но также и объ удовлетвореніи оскорбленнаго правоваго чувства. Она все мѣряетъ аршиномъ одного простаго, голаго матеріализма: простаго денежнаго интереса. Я слышалъ объ одномъ судьѣ, который при видѣ незначительной стоимости спорнаго предмета, чтобы избѣжать утомительнаго процесса, предложилъ истцу уплату изъ своего кармана, и былъ очень опечаленъ, когда истецъ отказался отъ предложенія. Этотъ ученый мужъ не могъ понять, что истецъ хлопоталъ о своемъ правѣ, а не о деньгахъ; мы не станемъ его сильно обвинять за это, онъ могъ бы этотъ упрекъ отпести къ наукѣ. Денежныя взысканія, которыя въ рукахъ римскаго судьи, были самымъ дѣйствительнымъ средствомъ для достиженія справедливости[19], т. е. удовлетворенія идеальнаго интереса за правонарушенія, подъ вліяніемъ нашей теперешней теоріи доказательствъ, превратились, за неимѣніемъ лучшаго, въ слишкомъ слабую замѣну наказанія, которымъ правосудіе когда либо облагало правонару шеніе. Требуютъ отъ истца, чтобы онъ точно доказалъ свой искъ до послѣдняго гроша. Посмотримъ, что выходитъ изъ права на судебную защиту, когда нѣтъ денежнаго интереса. Хозяинъ запираетъ отъ жильца садъ, которымъ послѣдній по контракту имѣетъ право пользоваться; можетъ лй онъ доказать денежную стоимость прогулокъ въ саду! Или когда хозяинъ отдаетъ квартиру другому, прежде чѣмъ выѣхалъ жилецъ, и тотъ долженъ довольствоваться полгода самымъ печальнымъ пристанищемъ, пока не найдетъ новаго жилища. Пусть переложатъ это на деньги, или точнѣ, пусть попробуютъ получить какое либо удовлетвореніе черезъ судъ. Во Франціи тысячи Франковъ, въ Германіи ровно ничего, ибо нѣмецкій судья возразитъ, что непріятности, какъ бы они велики небыли, неоцѣниваютя на деньгщЧастный учитель, котораго пригласили въ частное училище, находитъ потомъ болѣе выгбдное мѣсто и нарушаетъ контрактъ, а другаго вскорѣ нельзя найти. Пусть кто нибудь вычислитъ денежную стоимость того, что ученики нѣсколько недѣль или мѣсяцевъ не имѣли уроковъ Французскаго языка или рисованія, или до какой степени простирался денежный ущербъ содержателя училища. Кухарка, безъ веякой причины, оставляетъ Мѣсто и этимъ причиняетъ хозяйству значительное безпокойство, такъ какъ ее сейчасъ нельзя замѣнить. Пусть кто нибудь опредѣлитъ денежную стоимость этой непріятности. Во всѣхъ этихъ случаяхъ, человѣкъ, по нашему гражданскому праву, находится въ совершенно безпомощномъсостояніи, ибо помощь, которую право даетъ правообладателю, для него также безполезна, какъ орѣхъ для того, у кого нѣтъ зубовъ, чтобы его разгрысть. Такимъ образомъ это прямо — состояніе безправія. При этомъ не то оскорбительно и тяжело, что приходится испытывать непріятность, но то горькое чувство, что наше, веподлежащее сомнѣнію, право ставится ни во что, и что противъ этого нѣтъ никакой помощи.
За этотъ недостатокъ нельзя возложить отвѣтственность на римское право. Хотя въ немъ считалось основнымъ положеніемъ, что окончательный приговоръ долженъ быть выраженъ въ деньгахъ, но денежное наказаніе примѣнялось такъ, что при этомъ удовлетворялись не только денежные, но и всѣ остальные правовые интересы. Денежное взысканіе было въ рукахъ судьи гражданскою мѣрой понужденія, чтобы его приговоры исполнялись въ точности; отвѣтчикъ, который сопротивлялся исполнить то, къ чему его присуждалъ судья, не отдѣлывался просто денежнымъ взысканіемъ, но денежное взысканіе принимало характеръ наказанія и именно это послѣдствіе процесса доставляло истцу нравственное удовлетвореніе за легкомысленное правонарушеніе, что ему, при нѣкоторыхъ обстоятельствахъ, было гораздо дороже денегъ. Этого удовлетворенія нашъ теперешній процессъ никогда не доставляетъ; онъ его не понимаетъ и знаетъ только одинъ матеріальный интересъ.
Къ этому непониманію нашимъ теперешнимъ правомъ идеальныхъ интересовъ при правонарушеніи, присоединяется устраненіе новой практикой римскихъ частныхъ наказаній. Вѣроломный приниматель поклажи, или повѣренный, неподвергается упасъ болѣе лишенію чести. Величайшее мошенничество, если оно только съумѣетъ обойти уголовный законъ, остается теперь совершенно безнаказаннымъ[20]. А между тѣмъ въ учебникахъ все еще Фигурируютъ различные денежные штрафы и наказанія за легкомысленное запирательство, но они не примѣняются въ судахъ. Что же это значитъ? Да то, что у насъ субъективная неправда низведена на степень объективной. Между должникомъ, который безстыднымъ образомъ отрицаетъ данную ему ссуду, и наслѣдникомъ, который дѣлаетъ это bona fide, между повѣреннымъ, который меня обманулъ, и тѣмъ, который самъ ошибся, короче, между сознательнымъ, явнымъ правонарушеніемъ и незнаніемъ или ошибкою наше теперешнее право не знаетъ никакого различія — процессъ вертится только около одного голаго денежнаго интереса. Мысль, что вѣсы фемиды точно также должны вѣсить неправду въ гражданскомъ правѣ, какъ и въ уголовномъ, такъ далека отъ нашего теперешняго юридическаго представленія, что я высказывая ее, уже заранѣе приготовился къ возраженію: именно въ томъ то и состоитъ различіе гражданскаго права отъ уголовнаго. Для теперешняго, права? Къ сожалѣнію да! для права вообще? нѣтъ! Ибо пусть мнѣ сначала докажутъ, что есть какая, н и будь область права, въ которой идея справедливости можетъ не осуществлятся въ полномъ объемѣ, но идея справедливости нераздѣльна съ проведеніемъ понятія виновности.
Второе изъ приведеннымъ выше заблужденій новой юриспруденціи состоитъ въ принятой ею теоріи доказательствъ[21]. Можно подумать, что она изобрѣтена именно съ тою цѣлью, чтобы исказить право. Если бы всѣ должники всего свѣта поклялись уничтожить прако своихъ вѣрителей, то они для этой цѣли не нашли бы болѣе дѣйствительнаго средства, какъ то, которое открыла наша юриспруденція своей теоріей доказательствъ. Ни какой математикъ не можетъ придумать болѣе точнаго метода доказательствъ, чѣмъ тотъ, который примѣняетъ наша юриспруденція. Высшей степени непониманія она достигаетъ въ процессахъ за вредъ и убытки. Ужасающій безпорядокъ, который здѣсь, употребляя выраженіе римскаго юриста 7) [Paulus in I. 91 §. 3. de Y. 0. (45. 1) in quo genere ple-rumque sub autoritate juris scientiae perniciose erratur, только юристъ имѣлъ при этомъ въ виду другое заблужденіе.] "производится самимъ правомъ" и благодѣтельный контрастъ, представляемый Французскими судами, такъ ярко выставленъ во многихъ новыхъ сочиненіяхъ, что я могу воздержаться отъ дальнѣйшихъ словъ, только одного я не могу не сказать: горе при этомъ истцу и благо отвѣтчику!
Выражая въ немногихъ словахъ все, что я сказалъ, я могъ бы послѣднее восклицаніе выставить какъ пароль нашей новой юриспруденціи и практики. Она далеко ушла по пути, проложенному Юстиніаномъ; должникъ, а не вѣритель возбуждаютъ ея симпатію: лучше сотнѣ вѣрителей оказать явную несправедливость, чѣмъ слишкомъ строго поступить хотя съ однимъ должникомъ.
Едвали можно было бы повѣрить, что это пристрастное безправіе, которымъ мы обязаны превратной теоріи цивилистовъ и процессуалистовъ, было способно къ дальнѣйшему развитію, а между тѣмъ это случилось вслѣдствіе заблужденія прежнихъ криминалистовъ, заблужденія, которое можетъ считаться покушеніемъ на идею права и смертнымъ грѣхомъ противъ цравоваго чувства, какой когда либо былъ учиненъ со стороны науки. Я понимаю подъ этимъ постыдное извращеніе права необоходимой обороны, того основнаго права человѣка, которое, какъ говоритъ Цицеронъ, есть врожденный человѣку законъ природы, въ которомъ, какъ наивно вѣрили римскіе юристы, никакое право міра не можетъ отказать человѣку. ("Ѵіш ѵі repellere omnes leges omniaque jnra permitt nnt"). Въ прошломъ столѣтіи и даже въ нашемъ они убѣдились бы въ противномъ. Хотя въ принципѣ ученые мужи признаютъ это право, но руководимые тою же симпатіей къ преступнику, какъ цивилисты и процессуалисты къ должнику, они на практикѣ постарались его такъ ограничить и урѣзать, что въ большинствѣ случаевъ преступникъ пользуется защитой, а тотъ на кого нападаютъ остается беззащитнымъ. Какое глубокое извращеніе личнаго чувства, отсутствіе мужества, совершенное извращеніе и отупѣніе простаго здороваго правоваго чувства открываются намъ когда мы обратимся къ литературѣ этого предмета. Можно было бы подумать, что мы очутились въ обществѣ нравственныхъ кастратовъ. Человѣкъ, которому угрожаетъ опасность или оскорбленіе чести, долженъ отступить, убѣжать — слѣдовательно обязанность права очистить мѣсто для неправды — и только въ одномъ не соглашались мудрецы, должны ли также бѣжать офицеры и лица благородныхъ и высшихъ сословій; 8) [Все это сгруппировано въ сочиненіи Левита "Право необходимой обороны".] бѣдный солдатъ, который слѣдуя этому указанію, два раза воздерживался, но въ третій разъ, преслѣдуемый своимъ противникомъ, поставленный въ необходимость обораняться, убивалъ его, былъ присуждаемъ къ смертной казни мечемъ, "себѣ самому въ назиданіе, а другимъ въ устрашеніе". Людямъ высокаго общественнаго положенія и высокаго рожденія, также и Офицерамъ позволяется для защиты чести употреблять соразмѣрную оборону, но прибавляетъ другой, ограничивая это тѣмъ, что они не могуть при словесной обидѣ убивать противника. Другимъ лицамъ и даже государственнымъ чиновникамъ подобное не дозволяется, на долю гражданскихъ чиновниковъ судебнаго вѣдомства выпало то, что они какъ "простые служители закона должны обращаться къ суду и затѣмъ не должны имѣть ни какихъ дальнѣйшихъ притязаній". Хуже всего купцамъ. "Купцы, даже самые богатые", говорится, "не составляютъ исключенія, ихъ честь есть кредитъ, у нихъ до тѣхъ норъ есть честь, пока есть деньги, они могутъ переносить ругательства безъ опасности потерять свою честь или доброе имя, а если принадлежитъ къ низшему классу то и нѣсколько болѣзненное подергиваніе за бороду и щелчки по носу."Если несчастный просто крестьянинъ или еврей, то онъ при превышеніи этого предписанія, подвергаотся наказанію за запрещенную оборону, по всей строгости законовъ, тогда какъ другія лица наказываются "повозможности кротко".
Въ особенности назидателенъ способъ приложенія необходимой обороны къ защитѣ собственности. Собственность, полагаютъ одни, точно также какъ и честь, есть замѣнимое благо, ее можно замѣнить черезъ reiveindicatio, а честь черезъ actio injuriarum. Но какъ же поступить, когда разбойникъ скроется съ вещью за тридевять земель и не знаешь кто онъ и гдѣ онъ? Тогда всетаки остается reiveindicatio, и "это только дѣло случая и обстоятельствъ, не зависящихъ отъ самой природы права собственности, если въ единичномъ случаѣ искъ не приведетъ къ цѣли". Этимъ можетъ утѣшиться тотъ, кто все свое имущество носитъ въ цѣнныхъ бумагахъ, и безъ сопротивленія отдаетъ его; у него все-таки остается право собственности и reiveindicatio, а у разбойника остается только Фактическое владѣніе? Другіе допускаютъ въ томъ случаѣ, гдѣ дѣло идетъ объ очень значительной цѣнности, по нуждѣ употребленіе силы, но понятно, что тотъ на котораго нападаютъ іі здѣсь должёнъ очень точно расчитать, не смотря на сильный аффектъ, сколько нужно силы, чтобы отразить нападеніе, — онъ отвѣчаетъ если разобьетъ нападающему безполезно черепъ, какъ будто бы можно заранѣе изслѣдовать твердость черепа, упражняться въ этомъ, для того, чтобы ограничиться болѣе безвреднымъ ударомъ. Напротивъ, при менѣе цѣнныхъ предметахъ, напр. золотыя часы, или кошелекъ съ нѣсколькими гульденами, а быть можетъ и съ нѣсколькими сотнями гульденовъ, онъ не долженъ наносить противнику тѣлеснаго поврежденія. Ибо что такое часы въ сравненіи съ тѣломъ, жизнью и здоровыми членами. Одно совершенно замѣнимое, другое же вполнѣ незамѣнимое благо. Непререкаемая истина! — при которой только не обращается вниманія на два обстоятельства, первое, что часы мои, а члены разбойника, и что хотя для него они имѣютъ высокую цѣну, для меня же никакой, а затѣмъ возникаетъ вопросъ о замѣнимости моихъ часовъ: кто ихъ мнѣ замѣнитъ? Но довольно объ ученой глупости! Какое негодованіе возникаетъ въ насъ при видѣ того, что наука не усвоила той простой мысли, свойственной всякому человѣку съ здоровымъ правовымъ чувствомъ, что въ каждомъ правѣ, если бы даже предметомъ были только часы, самое лицо и все его право подвергается нападенію и оскорбленію, что наука возвела на степень правовой обязанности оставленіе на произволъ собственнаго права и постыдное бѣгство передъ неправдой! Можно ли удивляться, что въ то время когда подобные взгляды проявлялись въ наукѣ, духъ трусливости и апатическаго терпѣнія неправды опредѣлялъ судьбы націй? Благо намъ, что мы пережили это, что настало другое время; подобные взгляды теперь не возможны, они могли развиваться въ болотѣ выродившейся, какъ въ политическомъ, такъ и въ правовомъ отношеніи, національной жизни. Рядомъ съ только что приведенной теоріей трусости, обязанностью оставить на произволъ угрожаемое право, я долженъ упомянуть о научной, повидимому противоположности защищаемаго мноювоззрѣнія, считающаго за обязанность мужественную борьбу за право. Не въ такой степени низко, но все таки далеко отъ высоты здороваго правоваго чувства, лежитъ воззрѣніе новаго Философа Гербарта о конечныхъ основаніяхъ права. Онъ видитъ ихъ, если можно такъ выразиться, въ эстетическомъ мотивѣ: отвращеніи отъ спора. Здѣсь не мѣсто доказывать совершенную несостоятельность этого воззрѣнія, для этого я укажу только на трудъ моего присутствующаго друга. 9) [Глазеръ "Собраніе сочиненій объ уголовномъ правѣ, гражданскомъ и уголовномъ процессѣ".] Если бы эстическое воззрѣніе при оцѣнкѣ права могло имѣть мѣсто, то я не знаю не помѣстилъ ли бы я эстетически прекрасное въ правѣ тамъ, гдѣ оно заключаетъ въ себѣ борьбу за право, а не тамъ гдѣ оно исключаетъ эту борьбу, и я имѣю мужество открыто признаться въ любви къ борьбѣ, въ противоположность гербартовскому постулату отвращенія отъ борьбы. Разумѣется, я подъ этимъ понимаю не словесную брань, не споръ изъ за пустяковъ, но ту возвышенную борьбу, на которую личность полагаетъ всѣ свои силы, будетъ ли то за собственное право, или за право націй. Кто не одобритъ любви къ борьбѣ въ этомъ смыслѣ, тотъ пусть просмотритъ всю нашу литературу и искусство отъ Иліады Гомера и художественныхъ произведеній грековъ до нашего теперешняго времени; онъ увидитъ, что нѣтъ другаго матеріала, имѣющаго такую притягательную силу, какъ борьба и война, и надо поискать того человѣка, которому зрѣлище высшаго напряженія человѣческихъ силъ, прославленнаго искусствомъ и поэзій, внушило бы вмѣсто чувства эстетическаго удовольствія, эстетическое отвращеніе.
Но не эстетика, а этика должна дать намъ объясненіе того, что соотвѣтствуетъ или противорѣчитъ существу права.
Этика не отрицаетъ борьбы за право, напротивъ она налагаетъ ее какъ обязанность. Элементъ спора и борьбы, который Гербартъ хочетъ исключить изъ понятія права, есть вѣчно ему присущій — борьба есть вѣчная работа права, заповѣди: "въ потѣ лица твоего, снеси хлѣбъ твой", противополагается съ такою же правдой другая: въ борьбѣ долженъ ты найти свое право. Съ той минуты, когда право откажется отъ готовности на борьбу, оно должно отказаться отъ самаго себя, ибо къ праву можно отнести слова поэта[22]: