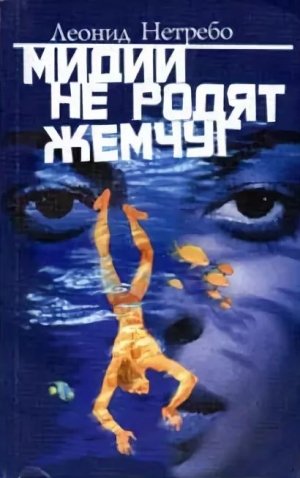
ИМИДЖ
1
Свеча оплывала, медленно и спокойно плача на дне большого аквариума с розовыми тюльпанами. Воск таял, время от времени перекатываясь густыми струйками через похожие на мозолины, набрякшие окаемки мраморного столбика. Чтобы увидеть это, нужно было надолго вмяться в базарную грязь, чавкающую от полуденного солнца и десятков подошв, еще утром бывшую снегом и мерзлой землей; стоять крепко, не обращая внимания на человеческие потоки, не отдавая себе отчет в нелепости картины, которой ты — главный персонаж: лохматые унты, дубленый полушубок, щедро отороченный свалявшейся в кисть овчиной, огромная собачья шапка рыжего колера, в которой теряется вся верхняя часть могучего туловища. Все это инопланетно — паче, чем тюльпановый южанин на подмосковном снегу, — не сезон, и зовут тебя Андерсон.
— Э, земляк! Выбирай любой, которая на тебя смотрит!.. — добродушно пророкотал кавказец, гортанными децибелами возвещая о…
…О, это было точно здесь и почти так же. «Дорогой! Бери гвоздики! Девушка будет рада. Это, наверное, за девушку воевал?» — пожилая шустрая торговка показала на себе, имея ввиду лиловую гематому вокруг пиратского глаза с розовой медузкой из лопнувших капилляров.
Тогда, шесть весен назад, Андерсон сбежал из нейрохирургического отделения, чтобы сделать Барби подарок. Он стоял здесь, тараща выпуклый фиолетово-красный глаз, дико озирая цветочный ряд, как небритый безумец, в длинном плаще, который час назад нашел в раздевалке санитаров, и в больничных тапочках, мокрых от весенней жидкой грязи. Плащ был без пуговиц одной рукой Андерсон сжимал вместе парусиновые борта на груди, скрывая полосатую пижаму, а другой мял бумажные деньги — словно клок газеты перед запалом. Он держал голову прямо, боясь наклониться, — недавнее сотрясение серого вещества иногда сказывалось кратковременным головокружением, птичьим клеваньем головой и предательским подгибанием коленей.
Гвоздики даме, принесенные полуживым поклонником, пострадавшим из-за этой же дамы. Это уже подвиг. Но, впрочем… Для этого совсем не обязательно быть Андерсеном.
— За девушку воевал, — подтвердил Андерсон, удивляясь собственному голосу, который он слышал только одним, здоровым ухом, и впервые после того, как первый раз Барби навестила его в больнице, ощущение сумасшедшей детской, прямо песьей радости сменилось донкихотовой гордостью: он победитель! Раненый, но победитель.
А началось все это… Когда же это все началось. А ведь, черт побери, все началось со Светланы — а он уже и думать об этом забыл, приписывая только себе все свои пороки и добродетели, от которых закрутилась эта дьявольская карусель! Бог ты мой, неужели Светлана, подруга Светка, надежная шалава Светик, с которой можно было целоваться или сидеть в баре, просто так, от скуки, без всяких последующих взаимных претензий… Неужели она, всего какой-то парой фраз! — могла так круто вывернуть его жизнь.
…Чего ему не хватало? А Светлане? Четыре курса института позади, еще бы год — и все разлетелись кто куда. Часть однокашников уже определилась, создав семьи де юре или хотя бы де-факто. А он был вольная птица и искренне этому радовался: молодость впереди, не стоит стареть раньше времени. Светлана, в отличие от своих сверстниц, озабоченных к пятому курсу, как бы не улететь к черту на кулички не закольцованными, казалось, относилась к своему будущему сообразно настоящей разбитной жизни — никак. С чего вдруг она ляпнула тогда, в тот вечер…
И вечер был для них как вечер, каких уже минуло сотни: томно грустящая осень, тягучий запад необремененого заботами дня. Он взял Светлану, благо она тоже слонялась без дела, и вышел с ней в парк. Как обычно присели на открытую скамейку, спиной к умирающему солнцу. Говорить было не о чем, просто курили. Помнится, он случайно повернул голову и вдруг загляделся на закатное эхо, которое таяло за липовыми кронами. Шуршащие звуки окраинного микрорайона, поздний закат и горьковатый запах желтеющей листвы внушали такое безотчетное счастье, наверное, определенное молодостью, здоровьем и неясной перспективой — чуть сладкой и чуть тревожной, что можно было заплакать рядом с такой же, родственной Светкиной душой. Он перевел взгляд на свою подругу. И удивился, по новому выхватив ее профиль, отдавая себе отчет в том, что видел это уже много раз: прямой греческий нос над красивым, всегда красным и без помады, ртом с чуть выдающейся вперед рельефной верхней губой — при поцелуях нижнюю, якобы несмелую, приходилось отыскивать. Под детским, трогательно тяжеловатым подбородком, по белой гусиной шее, вверх и вниз, плавает нежный подкожный шарик. А какие у его подруги волосы: хлопковый пук, как будто на голову навалили белоснежной пожарной пены, — все это сейчас, в закатных волнах, играющих желтыми зайчиками в Светкиных клипсах, выглядит гигантским, пропитанным янтарным светом, одуванчиком.
Они приехали сюда из одного маленького городишки, до этого закончив одну школу, где все десять лет не обращали друг на друга никакого внимания. Однако ничего необычного в том, что в студенческом общежитии земляки стали не разлей вода. Ходили вместе в столовые, в кино, на танцы. Он научил ее красиво курить, она его — правильно целоваться. Это совершенно органично стало обыкновенным и бесстрастным их занятием — курить и целоваться. Они ни куда не спешили, поэтому, как водится, незаметно прошли годы. Только иногда, сдувая с сигареты пепел, который целеустремленно летел в выпуклый вырез кофточки, чтобы нежным комочком уютно устроиться в тесной ложбинке, Светлана усмехалась:
— Андрюша, тебе пора бы влюбиться, а то и меня замуж никто не возьмет.
— А зачем! — искренне и эгоистично набрасывался Андрей на первую часть сложного Светкиного предложения, в котором уже имелся и ответ на этот вопрос. — Куда мне спешить?
Он потом иногда думал, что, возможно, тогдашнее его чудесное открытие образа вечернего «одуванчика» могло придать иное направление жизни, согласно закону «ветвистости» судьбы — «если бы»… Однако… это могло иметь значение для «того» Андрея, но не теперешнего Андерсона. Сейчас он, осознавая сложности своего современного бытия, все же ни о чем не жалел, а если точнее, гнал от себя все сомнения.
— Какая ты, Светик, оказывается, красивая, — как принцесса!.. вырвалось у него тогда.
— Оказывается… — Светлана сдула пепел, как обычно, на себя, в этот раз он рассыпался серой пудрой по светлой, Андрею показалось, чуть дрогнувшей коже, и грустно продолжила, глядя в сторону: — Андрей, ты знаешь, как меня девчонки в комнате прозвали? Леди Холидей. Твоя, Андрей, леди выходного дня или, точнее, свободного дня. Мне обидно, Андрюша, меня это перестало устраивать… Пятый курс…
— Что ты предлагаешь? — Андрей автоматически произнес эту фразу, которая могла означать начало обороны, или, наоборот, капитуляции на каких-то взаимовыгодных условиях, но на самом деле ничего тогда не обозначала. Осознанно же, пользуясь повисшей паузой, вызревала паническая мысль, похожая на катастрофически тяжелеющую каплю: все пропало: спокойная жизнь, ощущение надежности, предсказуемости… То, что давалось целые годы легко, и поэтому, казалось, ничего не значило, — на глазах разрушаясь, обретало меркантильный, дорогой смысл. Да, Светлана порой неделями пропадала, в основном, по безразличной воле Андрея, в каких-то кампаниях, общежитиях, квартирах. Но, тем не менее, оставалась близко, нужно было только, не открывая от лени и уверенности глаз, пошарить рядом рукой.
Она ответила ему словами, которые не попадали в следы его мыслей, но имели то же самое направление — они были о драгоценном Андрее, единственно о нем и ни о ком больше. Эту жертвенную адресность он тогда стыдливо заметил, и ему даже стало впервые жалко Светлану.
— Тебе нужно менять имидж, Андрей, — она сказала это несколько легковесно, даже развязно, но в то же время по-матерински напутственно. Кому ты такой нужен, кроме меня идиотки? Посмотри на себя в зеркало. Трын-трава — рохля!.. — Ее явно понесло, но Андрей, как оглушенный горем и при этом загипнотизированный обаянием ее многолетней, бескорыстной дружбы, внимал совершенно серьезно всеми уровнями своего молодого, еще гибкого, еще восприимчивого сознания. — Стань более решительным и отчаянным, стань орел-мужчиной. Понаблюдай за болгарами с транспортного — отбою от наших дур нет!.. Ладно, — она встала, лихо отщелкнула окурок в кусты, а потом нарисовала в воздухе аналогичный, но нежный, падающим кузнечиком, щелчок по носу Андрея, от чего он даже зажмурился, — короче, стань, к примеру… Ну, что ли, — Андерсеном: имя Андрей, имидж — Андерсон.
И она ушла тогда — не насовсем, не исчезнув. Просто резко и бесповоротно трансформировалась ее суть. Под воздействием такой метаморфозы, а также сказанных последних фраз еще «той», до превращения, Светланой, а потому значимых, как заклинание, — Андрей, подобно удачно закодированному, стал быстро превращаться в Андерсона.
2
Одна из самых дорогих фотографий в родительском альбоме: лихой офицер царской армии, с кудрявым чубом из-под форменной фуражки, усы черными кольцами, смелый, слегка ироничный взгляд, — жених; одна рука покоится на резном стуле с высокой спинкой, на которой сидит красивая грустная невеста с веером, тонкие руки в высоких белых перчатках. Это прапрадедушка и прапрабабушка Андрея по линии матери. О них почти ничего не известно. Были и все. Начало века… Какая-то нерусская фамилия… Кажется, он, этот, наверное, если судить только по запечатленному фото-мгновению, неулыбчивый поручик, ушел добровольцем в армию барона Врангеля, где сгинул в безвестности… Очень хотелось, чтобы «пра» были какими-нибудь известными людьми — дворянского происхождения или артисты… Тогда бы к Андрею, их потомку, было другое отношение, да и сам он ощущал бы себя по-иному — более уверенно, внимательнее бы относился к своим корням. А так: бабушки-дедушки, дяди-тети — ни спортсменов, ни дипломатов, ни-ни… Поэтому — что его держало в родном городе после одиннадцатого класса? Ничего: сорвался, как перекати-поле, и уехал без всякого сожаления. Кем уехал? Просто Андреем, плюс среднерусская фамилия, плюс «средний балл» в аттестате, плюс еще несколько формальных параметров…
…Он принял предложенную, возможно, в шутку, великовозрастной баловницей Светланой формулу: имя — имидж.
Нет, дело, конечно, было не в том, кому он такой нужен, посмотри на себя в зеркало и так далее. С этим, как раз таки, все обстояло нормально. После разговора со Светланой Андрей впервые серьезно задумался над своим образом, который, как показалось после недолгих размышлений, и определял его место, как и место каждого, в среде обитания: не имеет значения, что у тебя внутри — тебя принимают согласно твоему поведению, которое есть зримая форма образа. Ты можешь совершать видимое другому глазу действие легко, с большим запасом, экономя ресурсы, и наоборот — с великим напряжением сил, на грани возможностей, либо даже имитируя, всего лишь рисуя его, — но именно увиденное, или воображенное увиденным, «от и до» будут границами, очерками твоего образа. Андрей был откровенен сам с собой, поэтому понимал, что ему больше подходит английское слово «имидж» — в котором для русского человека больше маскировки, это как бы подделка под реальный образ. Что ж… Говорят, иногда способ становится сутью — посеешь привычку, пожнешь характер. Впрочем, как он уже вывел для себя, это не является важным. Главное во всей его намеченной «перековке» — добиться определенного отношения окружающих. Ведь впереди еще целая жизнь, в которой нужны острые локти, боксерский нос без костей и крепкие зубы. И он слепит, воспитает себя таким, как сказала Светка, — орел мужчиной!.. Тем более, что кое-какая база имеется: здоровье — дай бог каждому, метр восемьдесят пять росту плюс третий, правда еще детский, со школы, разряд по вольной борьбе.
Он набросал стиль поведения: уверенный, смелый, решительный. Все поступки — наотмашь, до конца, без остатка, чего бы ни стоило. Смотрел на себя со стороны — сошедший с древней пожелтевшей фотографии царский офицер. То ли немецкая, то ли французская фамилия. Но — русский. Рано или поздно гены дадут о себе знать… Он заметил, к радости, что многое стало удаваться неожиданно быстро, и, что самое приятное, ему показалось, он стал внутренне изменяться. Поначалу было жалко тех людей, которые на себе стали испытывать его крутость, которые раньше знали его другим, более мягким, более терпеливым и терпимым человеком. Его изменения до боли неожиданны для них, но Андерсон, понимая это, топил свою жалость, как топят «из гуманности» нежелательного котенка, в глубине души надеясь, что люди скоро привыкнут к новому имиджу и перестанут страдать от его проявлений, которые усугубляются предыдущими знаниями — о прежнем Андрее.
Светлана так и не прибилась ни к какому надежному острову и «доплывала» пятый курс рядом с… Андерсеном — с Андреем, осененным свежим имиджем. Для окружающих в их отношениях ничего не поменялось. Сами же они знали, что стали более чем друзья — они стали компаньонами, отношения которых зиждутся не на чувствах, ненадежных в силу своей воздушной, капризной сути, а на договорном фундаменте, трезво заложенном: мы нужны друг другу, но при этом абсолютно свободны. Светлана шутила, применяя формулу из диамата: свобода это осознанная необходимость… И грустно добавляла, что после защиты диплома придется ехать вслед за Андерсеном, куда он, туда и она, — в силу этой самой заносчивой, но порой такой беспомощной, «осознанной» мадам.
Да, все началось со Светика, все-таки чудной, необычной девчонки. Но перелом произошел в ресторане — центральном кабаке города, куда они со Светланой стали частенько наведываться, следуя настойчивым пожеланиям нового имиджа.
…Тот визит с самого начала был несколько необычен по сравнению с предыдущими. Весь зал как бы вращался вокруг двух центров, что было странно для заведения. Первый центр состоял из группы городского криминала: столик на шестерых мужчин, стрижки-ежики, втянутые в острые плечи, лица с показной угрюмостью… Официанты мелькали кометами, ансамбль оплачен на весь вечер вперед, посторонние заказы не принимаются. Бородатый электроорганист, он же сидячий конферансье, блистал, кроме потной лысины, эзоповой, как ему казалось, речью, сквозящей безвкусицей, угодливостью и елеем: «А теперь для уважаемого Шуры из нашего центрального собора, только вчера покинувшего жестокие и несправедливые места, звучит эта песня!..» Тягучий скрежет бас-струны, фоновый свист микрофона и: «Меж высоких хлебов затеряла-ася небогатое на-аше село, горе горькое по свету шлялося…» или: «Были мы карманнички, были мы домушнички, корешок мой Симочка и я!..»
Второй центр неброско, но с достоинством закрутила группа кавказцев: два стола вместе на дюжину крупных человеков, среди которых всего одна маленькая розовая дамка. Свободное, без комплексов и оглядки на «авторитетов», гортанное общение, стол ломится от жареного мяса и цветастых бутылок. Музыка заказана, говоришь, «дарагой»? Грустно, жаль, опоздали, ничего, бывает, Илларион, давай, генацвали, нашу: «Шемтвалули!..» Песня, аккуратно и грамотно разложенная на два, три голоса, рокот и эхо гор. Ансамбль безмолвствует в вынужденной паузе, не смея перебить, «авторитеты» делают вид, что это их не интересует, с великодушным видом посматривают на альтернативный центр. Им не нужны разборки, не нужен шум в людной точке, подмечает Андерсон, их авторитет в данный вечер, в данном месте держится не на прямой угрозе немедленной возможной расправы, а на имидже, который, впрочем, имеет вполне реальную основу. Вес же кавказцев — образ раскованных горцев, который является манерой их повседневного поведения, посему легко им дается. Горцы отдыхают, криминалы — напряжены. Однако суть расстановки сил это не меняет — вполне могло быть и наоборот: в том и другом случае сумма векторов равна нулю.
Они со Светланой сели за столик-малышку у окна. Чтобы не было рядом посторонних, Андерсон попросил официанта убрать два оставшихся свободными кресла: приятель, нужно с невестой поговорить, проблемы, понимаешь… Официант кивнул — скорее, кинул поклон: как прикажите. Понял, что перед ним не лох, подумал Андерсон и огляделся: с чего начать?
Нет, он сегодня не хотел играть собой и Светланой, как клиенты остальных полутора десятков столиков, роль наполнителя, среды, подставки, на которой, как шумные юлы, вращаются чужие центры. Андерсон решил стать… третьим «центром», таким образом нарушить векторную гармонию. Для этого решения ему пришлось внутренне зажмуриться и приподнять планку своей уже каждодневной наглости немного выше обычного: на величину приращения «дельта», — как он математически выражался. Этих «дельт» было уже много позади, поэтому от высоты планки порой захватывало дух. Но ни разу еще Андерсон не отступил, хоть это стоило ему уже потери нескольких друзей, обиды многих малознакомых и, еще больше, совсем незнакомых людей, сбитых в хроническое растяжение больших пальцев обеих рук, шатающегося зуба и красивого, но трудно обриваемого шрама на подбородке.
Светлана ушла танцевать со студентом-африканцем. Неплохой получился дуэт для танго, отметил Андерсон не без гордости: его роскошная женщина с гигантским сиреневым бантом на гибкой талии умеет танцевать, таскает негра только так. Да и он, видать, способный бой. Тарам-та-ра-рам!.. Раз-два!.. Черное-белое, черное-белое! Длинная белая юбка не успевает за танцующими и, как бы боясь отстать, то и дело обхватывает черный смокинг по узким брючинам, залетая то справа, то слева. Пробегающий мимо официант смотрит на Андерсона удивленно-сочувственно, Андерсон пожимает плечами: мол, я же говорил, проблемы…
Светлана подсела к интернациональному столику, оттуда донеслись английские слова. Это в ее стиле: тренинг английского — превыше всего, не упустит случая. Что ж, самый удобный момент для начала. Андерсон еще раз оценил объекты для своего возможного нападения и еще раз оправдался перед собой: дело не в симпатиях или антипатиях, просто «третий центр» нужен ему лично, Андерсону, а всякое самоутверждение быстрее всего проходит через конфликт. Итак, приоритеты. «Криминалы» — разумеется, ничего хорошего, но все же более свои, чем грузины. Хотя бы потому, что местные. Значит, решено, — грузины. И тут же выявил самое уязвимое место в кампании горцев: женщина. Он представил этот и без того говорливый улей растревоженным: вах, слушай, зачем себя так ведешь, ты мужчина — я мужчина, ладони к небу, палец в твою грудь, в свою — кулак, клянусь мамой!.. Вмешаются криминалы, вступятся за «своего», все закончится миром, но Андерсона здесь запомнят, следующий раз швейцар с орденской планкой встретит его «элитно»: поклон-поклон, ладонь к фуражке, здрасс-сь… ждем! Ждем!..
Он пригласил ее на медленный танец… Компаньоны почти не обратили на это внимания, ну ничего… Она оказалась худенькой девочкой в коротком, но пышном, под балерину, розовом платье, с незамысловатой прической из гладких темно-русых волос, в которой самой заметной деталью был непослушный пружинистый завиток на виске, словно спиралька серпантина, украшающего перламутровое маленькое ушко. По тому, как она держала голову на тонкой шее, чуть набок, можно было предположить, что волосы в обычные дни жили аккуратной мягкой косичкой, уютно мостящейся на хрупком плече и теребимой тонкими смуглыми пальцами, которые сейчас лежали, как крошечные усталые балеринки, почти без прикосновения, на предплечьях Андерсона.
— Меня зовут Андерсон. А вас, извините, наверное, величают Ниной или Тамарой. Или Наной?…
— Я Варвара, — просто ответила девушка, — очень приятно. — Глянула внимательно и добавила: — Варя.
— Ва-ря… — растягивая, повторил Андерсон, вслушиваясь, как будто оценивая на звук собственного голоса необычное слово. — Редкое имя… Тем более, для грузинки.
Варя усмехнулась:
— Так же, как и ваш «форин нейм» — для, наверное, русского. Кстати, с чего вы взяли, что я — грузинка?
— А разве нет? Вы что, не с Кавказа? — в его голосе просквозили неприязненные нотки. Он не любил, когда местные девушки ходили под руку с выходцами из Кавказа, Средней Азии, с болгарами, африканцами — которых полно училось в местных институтах. Он обернулся, нашел глазами Светку, уже, казалось, хохочущую по-английски. «Оу, йес!.. Оу, ноу!..» Нет, все-таки правильно, что он выбрал сегодня объектом для нападения иноземцев.
— С Кавказа, — подтвердила Варя, проследив направление его взгляда, — с Кавказа. Красивая у вас девушка.
— А… эта! — Андерсона застали врасплох. — Это сестра. Как сестра, друг. А вы тоже не одна? Я не имею в виду всю вашу кампанию…
— Да, я пришла с Володей Беридзе, — она вывернула голову, указывая на свой стол. — Вон тот, он отличается от всех. Огненные волосы.
— Рыжий?
— Огненный, — без эмоций поправила Варя.
«Оу!.. Кис ми, плиз!» — завизжала Светка, барахтаясь на коленях у африканца.
Андерсон обеспокоено завертел головой:
— Варя, вы какой язык изучали? Я, например, немецкий… Что она там глаголет?
Варя лукаво улыбнулась, состроив вопросительную паузу.
— Это сестра, сестра. Это сестра! — успокоил ее Андерсон.
— Ничего особенного, мистер Андерсон. Ваша сестра говорит: «Поцелуй меня, пожалуйста».
— А!.. — Андерсон выдал хриплое междометие, смесь разочарования и облегченности. — А я то думал… А, скажите, Варвара, Барбара, Барби… можно я буду вас так называть?…
— Нет.
— Спасибо. Скажите, все-таки. Ваш этот… Володя — грузин?
— Возможно, — ответила Варя. — Спасибо.
— Что значит «возможно» и за что спасибо? — не понял Андерсон.
— За танец, — Варя мягко отделилась от него, — музыка, мистер Андерсон, умолкла шестьдесят секунд тому назад.
Воспоминания о последнем часе пребывания в ресторане зыбки и неуверенны. Не только в силу того, что природа предусмотрела автоматически вытирать из памяти болевые сектора, имеющие способность бесконечно, цикл за циклом, травмировать прошлым выздоравливающее настоящее. Скорее всего еще и оттого, что в какое-то мгновение в ресторане Андерсон ощутил себя бесконечно, непоправимо обманутым. Такое бывает с разочарованно пробудившимся человеком: только что там, за порогом сна, в руках была какая-то прохладная розовая сказка — он соприкасался с нею, слышал ее мятное дыханье, чистый ровный голос… И тогда утреннее настоящее, отрицающее сон, которое наплывает всеми обычными радостными красками и звуками, раздражающе, неприятно, вероломно…
Именно такое пробуждение стушевало, лучше коньяка, ресторанную картину, смутило ее осмысленную палитру. Куда подевалась логика (осталась одна решительность, став отчаянной), которая уверенно прописывала последовательность действий? Туда же, куда вдруг провалилась цель имидж?…
…Андерсон косвенной походкой, трогая для устойчивости все попутные предметы — кресла, спины, — подошел к столику, где смеялась Варя, окинул дерзким долгим взглядом кампанию. Заиграла какая-то идиотская музыка. Он неумело имитировал светский поклон. Варя, перестав смеяться, вопросительно посмотрела на Огненного, тот отрицательно покачал головой. Варя, кротко глянув на Андерсона, повторила движения. Андерсон молча протянул девушке руку, нетерпеливо вздрогнула напряженная кисть. За столом перестали разговаривать, Огненный освободил свои ладони от предметов и жестов и выложил их кулаками на стол перед собой. Андерсон усмехнулся. Варя, не поднимая глаз, медленно встала и пошла с ним в центр танцевального пятачка. Музыка закончилась, но он ее не выпустил из рук, отчаянно сцепленных на тонкой розовой талии борцовским замком, — боялся проснуться… Далее все произошло быстро и не так, как предполагал Андерсон. Как сквозь туман он увидел быстро встающих и гуськом устремляющихся к выходу «криминалов»… Решительно отстраняясь от причитающей Светки и жестикулирующего африканца, подошел Огненный-Рыжий-Беридзе, вырвал сказку из рук уже теряющего сознание Андерсона, левой рукой зацепил его челюсть, легко выворачивая послушную голову в нелепый вздернутый профиль, а затем правой, высоко размахнувшись, ударил…
3
…Жила-была девочка. С того самого времени, когда она начала понимать, что она — Варя, у нее было много братишек и сестренок, много теть и один дядя, — он был один на всех, он был самым главным, — его называли Директором. Позже она узнала, что у детей, которые живут за стенами этого большого дома, в котором жила она, есть не только братья и сестры, но папы и мамы — такие особые дяди и тети…
…Ему приятно слышать этот прохладный, мятный, розовый голос. Он Андрей, ему не желательно волноваться, но скоро это кончится и все будет хорошо, как прежде… Андрей — такое славное имя, зачем ему понадобилось скрываться за личиной какого-то американца или шведа? Нет-нет, не беспокойся, как хочешь, я больше не буду… Смуглые балеринки отрываются от маленьких круглых колен, вспархивают над головой, опускаются невесомыми мотыльками на горячие веки, — темнота с тающим отпечатком оконного проема, все, поспи немного — хочешь воды? — поспи…
…Они пришли к нему в палату все четверо — все такие разные по цвету. Как раз таки их разноцветие и было той задоринкой, за которую впервые после провала, зацепилось сознание, и начало пульсировать, восстанавливая обратным порядком предыдущие события, попутно сопоставляя их с больничной койкой и неприятными ощущениями — звон в голове, полуглухота и онемевшая, как деревянная, левая половина лица.
Иссиня-черный африканец, высокий и худой, словно на дипломатическом приеме, счастливо улыбался и безостановочно совершал утвердительные кивки, больше походившие на безотчетные подергивания замшевой головой. «Кис ми плиз», — вежливо проскрипел Андерсон. Африканец слегка притушил толстогубую улыбку и вопросительно повернул голову-фломастер к Светлане. Пассия, алебастровая на его фоне, ослепительно просияла мстительной веселостью, пухлая рука демонстративно нырнула в прозор локтевого изгиба африканца, повисла, как белая рыбина хвостом вниз на черной перекладине, — и с преувеличенной нежностью представила нового друга: «Фердинанд!..» И, не отводя взгляда от Андерсона, громко пояснила Фердинанду поведение «больного брата»: «Нет, Федя, у него все нормально в этом плане, просто он дубина… в английском. Хотел сказать: хау ду ю ду?…»
Огненный Беридзе — бескровная кожа, покрытая мелкими коричневыми веснушками, красные волосы, голубые глаза, — у него оказались неожиданно тонкие черты лица. Он возник перед блуждающим взглядом — точнее, до него, неподвижно стоящего, дошла очередь, — возник скромным, но гордым юношей, ровесником Андерсона, не раскаявшимся, не извиняющимся, без поправок на ситуацию — в этом было его мужское уважение к горизонтальному сопернику. Но и это являлось только первой половиной его присутствующей перед больным сути… В небесных очах с гневными, колкими агатовыми точками посредине читалось: «По делам — воздастся!» — и это относилось не только к прошлому: показалось, он почти вытолкнул вперед, к больничной койке, хрупкую девочку на самом деле только снял руку с ее плеча, и, повернувшись, вышел.
… Да, все были такие до смешного цветные: черный, белая, огненный… и розовая девочка Варя. Он улыбнулся и слабо произнес: «Барби… Можно?» Она кивнула.
Варя согласилась стать Барби. Зачем ему нужна была смена чужого имени, ведь он не собирался ее переделывать, ее, которая поразила его в одно мгновение — своим естеством. Почему — Барби? Наверное потому, что так она становилась ближе к «Андерсону», принимая правила игры, в которую Андрей уже, казалось, безвозвратно погрузился? Поначалу Андерсон отнес ее быстрое согласие в счет жалости к нему. Но, как оказалось, это было верно лишь отчасти…
Барби интересно рассказывала, как они жили в детском доме на Северном Кавказе. Все были очень разные: смуглые и белые, рыжие и вороные, но все говорили на одном языке — по-русски и считали себя, наверное, русскими. Впрочем, это не вопрос… Это вопрос-мнимость, он из ничего, — да-да, из ничего! Ведь тогда, в том детском мире об этом не задумывались — потому что это было вторично. Да, каждый из них знал, что может стать грузином, осетином, ингушом… если… Если за ним приедут какие-нибудь папа и мама. Какие-нибудь, любые. Это, наверное, самое важное — понимать, что главное в жизни не то, как называться… Барби умолкала и с грустным молчанием что-то искала в его глазах. Однажды, после такого разглядывания, она вздохнула и сказала, как будто найдя что-то: «Ты — Андрей!..» Андерсон не придал этому значения, как и многому из того, что она говорила, тогда и потом. Как порой не вслушиваются в смысл слов полюбившейся песни, полюбившейся — больше за музыку…
У нее был друг Вовка. Он часто дрался: за то, что его дразнили рыжим, за то, что Варю — еврейкой или цыганкой, почему-то ему это было неприятно, и за то, что их вдвоем вместе называли «жених и невеста». Потом его усыновила грузинская семья, — у них погиб сын в армии, говорят, был с красными волосами, а Вовка походил на него маленького, — так он сделался Беридзе. Володя, став «семейным», не забыл про Варю, как мог, опекал, пока она жила в детдоме. Вообще, они с Володей, будучи еще совсем маленькими, поклялись, что когда станут взрослыми, ни за что, никогда в жизни не бросят своих детей, не допустят, чтобы они стали сиротами… После окончания школы-интерната ее направили в этот подмосковный город, она закончила училище, стала работать. Недавно приехал Володя с друзьями и сделал ей предложение. Они устроили в ресторане что-то наподобие помолвки, хотя она не давала согласие на свадьбу, ведь Володя — как брат… Правда, если быть до конца точной, то нет никакой ясности… Все перепуталось, она просила время подумать, разобраться в себе. Но друзья не могли просто уехать, поэтому все пошли в ресторан…
4
Третье или четвертое утро в больнице было необычным. Оно разбудило не привычной капелью, а уже только солнцем, теплым и стреляющим фотовспышками из-за частых, плотных, но маленьких облаков, коротко печатающим на белой стене копии приоконных предметов: занавески, цветок в горшке, березовые прутья.
Мысли скакали и путались, но логика побеждала… Хватит лежать! Пора вставать и делать поступки. Ведь чем он ее поразил? Если коротко: ее поразил «Андерсон». В этом суть и в этом ключ. К будущему в том числе. А Варя — она станет Барби, — только для того, чтобы забыть прошлое… Нельзя останавливаться. Если остановишься, Андерсон, — Светлана, вот твой удел (дело не в конкретной Светлане — это типаж…). Хотя, и она уже вроде отрезанный ломоть. Засияла ее быстрая стремительная звезда, прямо метеор, в образе принца Сахарского. Да не принц он, — раздраженно закипает Светка, папа мелкий дипломат, а Федя… Фердинанд — будущий врач. Сказал, что она, его будущая жена, может там и не работать… — скорее всего так, там у них с женским равноправием небольшие проблемы… Ладно, соглашается Андерсон, благословляю, только с фотографией оттуда не медлить, и чтобы как положено: на фоне пирамид, в парандже, в окружении старших и младших жен… Светлана дует красивые губы, не спеша встает боком, еще раз демонстрируя новый джинсовый костюм, качнув тяжелой золотой сережкой, формой и величиной колесо африканской арбы… «Фараониха», — вслед ей весело думает Андерсон. Он доволен: за себя — прояснялся смысл его дальнейшей жизни, который он не собирается терять, чего бы ему ни стоило; за Светлану — экзотическая, но определенность; еще раз за себя — личная, дружеская, земляческая ответственность в образе неприкаянной Светланы — в прошлом… Все устраивается как нельзя лучше, никаких помех. Итак, вперед!..
— Это за девушку воевал!.. — гордо и радостно произнес Андерсон. Да, помнится, он дважды повторил одну и ту же фразу, наслаждаясь уважительным удивлением продавщицы гвоздик. Развернулся, под мокрыми тапочками зачавкала грязь, и пошел прочь, натыкаясь на прохожих, небрежно засовывая бумажные деньги, символ тривиальности, в глубокий карман санитарского плаща. Гвоздики, для дамы, за деньги — пресно до пошлости, не достойно Андерсона.
Он сошел на конечной остановке, где выгружали свои рюкзаки, ведра и корзины с пучками зеленой рассады пестрые дачники. Быстро, насколько позволяло здоровье, двинулся в редкий березняк.
Вечером он вновь появился на той же остановке, по колена мокрый, с грязным полиэтиленовым пакетом, полным подснежников, испугав одинокую бабулю с козой, видимо, из соседней деревни.
— Да вот, — кивая на рогатую питомицу, запричитала бабушка, таким образом беря себя в руки, — по травку ходили по свеженькую, кое-где на опушках уже повылазила. Автобус-то твой недавно полон ушел, а ты либо хвораешь, милый?… — она еще раз оглядела его с ног до головы, остановившись на пакете, из которого топорщились силосом короткие стебли и лепестки замученных белых цветов.
— Нет, мать! — устало улыбнулся Андерсон, у него кружилась голова, это у меня имидж такой.
— Что — такой?…
— Имидж.
— А это чего?
— Долго объяснять. Но это — ничего плохого, только не всегда комфортно… Когда следующий транспорт?
— Через час. Ничего плохого, говоришь?… — бабушка, недовольно дернув за веревку покорно стоящую козу, еще раз критически осмотрела Андерсона. Дай я тебе вместо пуговиц-то хоть нитками наживлю, а то полосатый… — Она вынула откуда-то из байкового платка иголку с готовой ниткой и ловко сшила в трех местах борта парусинового плаща. Подергала, проверяя на прочность: — Ну вот, красивый. А то — холодно, и в вытрезвитель могут забрать. Ты больно-то не слоняйся, сразу домой.
— Спасибо, мать, — чуть не прослезился Андерсон, клюнув головой, — вот тебе букетик на память… О нашей встрече. — Он поставил пакет на землю, осторожно, стараясь не наклонять голову, чтобы избежать сильного головокружения, запустил туда обе ладони, как фотограф, заряжающий пленку, выхватил на свет добрую половину снопа, протянул бабушке.
— Да что ты, что ты!.. — бабушка, смущаясь, прижала подарок к груди, роняя стебли. — Да зачем мне столько-то, рази только Машке, — она показала глазами на козу, — можно было небольшой букетик, два три цветочка, — она кокетливо хихикнула.
— Не могу, мать: два-три — имидж не позволяет.
— А-а… — понимающе кивая головой, — че ж не понять-то.
Вахтерша камвольно-суконного комбината не рискнула встать поперек дороги здоровенного бомжа, который рвался на второй этаж к какой-то Барби. Она отпрянула, боясь быть зарезанной или испачканной, пропустила хулигана на лестничную площадку и сразу же вызвала милицию.
Варя открыла дверь и увидела страшного грязного человека с охапкой вялых цветов, который несколько секунд молча мученически улыбался, а затем, закатив глаза, могуче рухнул к ее ногам.
Нос Светланы — как таящая сосулька: безостановочная капель. Однако, в отличие от ледяного стручка, он не сходил на влажное «нет», а увеличивался, разбухал вместе с носовым платком. Можно было подумать, что сама Светлана неиссякаемый генератор горючей влаги. Да что там, вся она дремлющий источник, носитель какой-то потенциальной энергии, тайной мощности… Андерсон не мог ясно оформить ассоциацию, которую навевала Светлана, сейчас — красиво страдающая на общежитской койке: ноги под себя, белое ресторанное платье, широко распластанное вокруг, — опрокинутая лилия; лицо — мокрое под белым… Невостребованная, нерасщепленная энергия — вот! За пять лет пристегнулись к «кому-никому» факультетские тихони, повыскакивали замуж подружки-замухрыжки, а ты, янтарный одуванчик с чувственной бомбой внутри, которая могла бы разорвать в клочья любого, наградив последней женщиной в жизни, из-за которой — если теряют — потом до самой смерти не живут и не веселятся — только похмеляются и вспоминают!..
Закатилась твоя египетская планида: что-то там у них не только с женским равноправием, но и с мужской самостоятельностью. «Федя хороший, он не виноват! Его отец сказал: прокляну!.. Фердинанд говорит: надо ждать. Он уговорит отца… Ждать, может быть полгода, может, год… Он пришлет весточку, приедет!..» Может быть, Светик… Но ведь в твоих слезах и я виноват: «Леди Холидей…» Растянулись эти «холидейзы» на пять непоправимых лет — и сам не гам, и другим не дам. А может быть, ты сама не хотела иного?! Нет, ерунда — я просто друг, ты сама всегда так говорила. Друзья не бросают, Светик, поехали с нами. Мы с Барби — на Север, я туда добился направления. Почему Север? Эх, Светка, волосы длинные — память куриная: я ведь Андерсон. А тебе — какая разница, где ждать, на западе или на востоке? Север, Светка, это место, где люди себя ищут. И находят…
5
И вот теперь, через шесть быстрых лет, он стоит, Андерсон, бравый северянин шестьдесят пятой параллели, но здесь — нелепый нордоман, режиссер и жертва трансконтинентальной драмы, по уши в подмосковной грязи, с загустевшей кровью в жилах, с раскрытым пересохшим ртом — влага ушла горячим потом в собачью и овчинную шерсть. Снежный человек: могучий и страшный в лесу, но уязвимый на площадном асфальте. Он смотрит на оплывающую свечу в стеклянном кубе, согревающую солнцелюбивые тюльпаны, и вспоминает южную девочку Барби, которой чего-то не хватило — тепла, жара или еще чего-то, недавнюю жену, розовую рыбку из его аквариума…
…Он долго не давал ей опомнится: лихие поступки, дерзкие реакции на внешнее, необычные подарки, стремительная смена декораций, неистовые проявления любви… — все быстрое, сильное, веселое, все праздник и кураж. Феерический ореол, абсолютно довлеющий, с крепкими границами, без права на отрицательные эмоции, на то, что «за» и «вне»… Подспудно понимал: пока крутится карусель, Барби прижата, притиснута, придавлена к тому, кто служит ей единственной опорой, кто может быть фокусом для зрения в беспорядочном оптическом мелькании, — к нему, Андерсону. Позже понял, что не имеет права расслабляться: чем дальше, тем опаснее, — стоит ослабнуть креплениям, и центробежные силы вытолкнут, разобьют, покалечат… Вспомнил услышанную от Светланы африканскую пословицу (память о навеки канувшем в прошлое чернокожем «принце»): «Не хватай леопарда за хвост, а если схватил, — не отпускай».
Путь к Полярному кругу был чудесным движением, сам Север стал фантастической землей, но, как показала последующая жизнь, он же оказался конечной станцией, может быть, тупиком: исчезла динамика, романтические события стали буднями, и Барби время от времени стала становится Варей, Варварой. И став окончательно прежней, она уехала.
Так думал усталый несезонный Андерсон: одежда под минус сорок, на сердце тридцать семь, вокруг — ноль…
После того, как Барби уехала от него, оставив жалкую записку: «Прости, так надо… Я должна. Не ищи, — всем будет легче…» — которая ничего не объясняла, Андерсон поймал себя на мысли — его осенило, — что, к этому моменту, он ни разу не подумал о Беридзе, как о своем неприятеле. Никогда! Наградной платой за сотрясение мозга — пустяк, обычные издержки мужественности — стала Барби. (Хотя он всегда, с мучительной отчетливостью, помнил, как Беридзе ударил его тогда, в ресторане, — не кулаком в челюсть, а обидно, с демонстративной презрительностью — раскрытой ладонью по щеке. Сотрясение мозга получилось от удара затылком об бетонный пол.) Тем более, что Огненный, сразу после ресторанной истории, отошел от своей бывшей подруги, женился. И вот, когда Барби не стало рядом, да вдобавок, она не умерла, не растворилась в огромном мире, уехала не куда-либо, а к своему детдомовскому защитнику — да, да, в тот самый город студенчества Андерсона, где теперь его нет, но где проживает с семьей эта красноволосая сволочь!.. В считанные минуты, как только Андерсону стало известно, что это так, в нем закипела великая, пожирающая, сводящую на нет покой, самообладание, планирование перспектив, логику, — ненависть, зарезервированная, неистраченная, залежавшаяся, удвоенная предательством Барби, утроенная вероломством Беридзе, удесятеренная имиджем Андерсона, который стал сутью Андрея. Этот рыжий кавказец — кто: «утешитель» Барби, ее любовник? — с синими глазами стал лютым врагом. А это ох, как не просто — быть врагом Андерсона, многие об этом знают, и ты, желтокожий «инкубаторский» горец, тоже узнаешь об этом, узнаешь, что это — не только состояние, это начало неотвратимого движения: пусть день, пусть неделя, пусть месяц — но Андерсон идет к тебе!
В один из долгих бессмысленных межвахтовых вечеров ром ухнул не как обычно для последнего времени: в ноги, в унитаз… В голову. Он сгреб документы, деньги, влез в повседневную одежду — унты, полушубок, шапку вышел на трассу, остановил машину. «Аэропорт?… — боднул головой, — я с тобой!» Утром он был уже во «Внуково», к обеду — здесь… Еще час — через адресный стол, — и он, Андерсон, станет у дверей своего врага, и он, именно он, Андерсон, поставит точку в этой истории. Тот, кто думал, что с ним можно обойтись многоточием, жестоко ошибался!..
Но почему он, зигзагом, оказался здесь, в цветочном ряду? Ноги привели сами. Точнее — воспоминания о светлых мгновениях прошлого? Которые — словно золотые блески в серой породе, которые кричат поверженному рациональными буднями из безвозвратного прошлого: жизнь — не сказка, но сказочные минуты были, были!.. Но: не возвращайтесь туда, где было хорошо. И вправду: вместо продавщицы гвоздик с уважительными, восхищенными глазами — наглый кавказец, перелетный грач, с насмешливым взглядом.
— Ну, ты что, дорогой, заснул? Бери тюльпаны. На Северный полюс повезешь, девушке подаришь. Выберу который почти бутон — там раскроется…
Андерсон очнулся, подумал: в другой раз, наверное, взял бы весь аквариум, но сейчас у него другие задачи. И все-таки он не может просто так уйти, он должен повергнуть, хотя бы на мгновение, этого нахального торгаша, помидорного рыцаря, земляка ненавистного Беридзе. Он перевел взгляд с аквариума на хозяина тюльпанов, вколол два смелых глаза в смуглый лоб, под козырь огромной, анекдотической каракулевой фуражки «аэропорт». Через минуту насмешливость и стопроцентная уверенность напротив сменилась на фрагментальное, почти неуловимое сомнение, мелькнула тень испуга, которую малоуспешно пытались скрыть небрежными словами:
— Я заплатил за место, еще утром. Спроси у Нукзара… — и опустил глаза, даже наклонился под прилавок, якобы что-то разыскивая.
Достаточно. Андерсон усмехнулся. Подошел поближе, постучал по аквариуму. Торговец вынырнул из-под прилавка.
— Я беру. Все… Нет: все — только розовые.
Каракулевая фуражка облегченно улыбнулась:
— Давно бы так!.. А то — смотрит, смотрит!.. Розовых штук тридцать будет. Денег хватит? Понял, понял — дурацкий вопрос задаю, извини…
Торговец, довольный, пересчитал купюры, новые, только что из свежей пачки — как будто из другого мира, или из-под станка, — пару бумажек посмотрел на свет. Опять радостно поцокал языком. Нашел глазами «полярника», который только что купил у него почти дневную норму. Редкая удача! Загадал на будущее везенье: надо смотреть на эту шубу, пока она не скроется за воротами рынка. «Шуба» медленно дошла до ворот, остановилась, опять долгий монументальный статус, как недавно перед аквариумом. Наконец, что-то происходит: розовый букет, провожаемый рукой, улетает от шубы и падает по-басктбольному точно в большую урну. «Полярник» скрывается за воротами, а счастливый «помидорный рыцарь» спешит к урне — две удачи за день. Еще одним человеком, до конца жизни верящим в приметы, больше.
Восьмой этаж… Он остановился, шумно прислонился к стене, чиркнул спичкой: пустой подъезд — гулкий короб, отозвался выстрелом. Закурил, затянувшись несколько раз, бросил окурок под ноги. Еще раз сверил номер на дерматиновой двери с цифрами на клочке бумаги. Осмотрел ладони, сжал в костистые кулаки, расправил. Еще раз… Глубоко вздохнул, решительно вмял красный шарик в стену.
Взгляд уперся не в напуганные лица застигнутых врасплох заговорщиков, что ожидала возбужденная мстительностью несложная фантазия, — провалился в розовый дверной просвет: бахромчатый абажур, обои…
— Вам кого?
Андерсон опустил голову — на звук. За порогом стояла красноволосая девочка и, запрокинув головку, спокойно смотрела на пришельца большими синими глазами. Он оторвал руку от кнопки, отпрянул. Приснял, откинул на плечи полушубок, поправил шапку. Горло выдало безотчетный звук, затем язык почти автоматически сложил слово:
— А-а… Бе-ридзе…
— Правильно, это квартира Беридзе.
— А из взрослых кто-нибудь есть?
Девочка медленно покачала отрицательно головой и, пристально глядя на Андрея, спросила:
— А вы кто? Вы с Севера?
Андрей рукавом дубленки с силой провел ото лба к подбородку, стирая пот, присел на корточки, сравнялся ростом с девочкой.
— С чего ты взяла?
— У вас шапка собачья. Собачья? А вы кто? Может быть, мне дверь закрыть?
— Неправильно, — Андрей устало улыбнулся. — Вообще не надо было открывать. Но ты, наверное, очень-очень смелая?
— Да. Я даже мертвых не боюсь.
— Ух ты. И давно? Тебе сколько лет?
— С тех пор, как мама-Варя приехала. После того, как у нас с папой мама умерла — под машину попала и умерла… Мне пять лет. Скоро. Она с Севера приехала. Вот в такой вот шапке. Осень, еще не холодно, а она в такой вот шапке. Смешно, да? Там всегда холодно. Мне вот столько, — она подняла ладошку на уровень лица, повернула к себе, пошевелила пальцами и выставила вперед, — пять.
— А как тебя зовут?
— Меня зовут Варя…
Андерсон почувствовал головокружение, которое несколько лет назад часто напоминало о знаменитой ресторанной баталии. Он заслонил лицо руками и борясь со слабостью, глухо, уродуя слова сдавленными губами, спросил из-за ладоней:
— А как же вы… Как вы с новой мамой… У вас же одинаковые имена…
— Да, — оживилась девочка. — Вот так случайно получилась! Папа меня в честь какой-то девочки так назвал. Но мама-Варя сразу придумала. Она сразу сказала: давай, я останусь Варя, а ты, пока маленькая, будешь Барби, это то же самое по-иностранному. — Она обратилась к Андерсону: — Смешное имя, правда? Как у куклы… Я сказала: ладно…
…Андерсон никогда не приезжал с трассы с пустыми руками. Он привозил Барби то оленьи рога, то засушенный кустик тундрового ягеля, похожего на кораллы… Весь их жилой вагончик, «балок» — так он называется на Севере, был заполнен подобными безделушками. Он не разрешал ей работать — не желал, чтобы она, хрупкая девочка, изнашивалась в работе. Так он говорил ей. На самом деле, хотел, чтобы Барби всегда, когда это возможно, была с ним ждала, встречала и находилась рядом. Так и было — Барби слыла хорошей женой. Вокруг имелись другие примеры: жены, зарабатывая почти наравне с мужчинами, становились независимыми — требовали «равноправия»; или, вовсе не работая, «портились» от безделья — подавались на сторону. И то, и другое приводило к разводам. Барби жила особой жизнью: «Святая», — иной раз с удовольствием и обожанием думал Андерсон… Однако, время показало, — тот же результат. «Все они одинаковые!..» — часто доводилось слышать подобное от отвергнутых мужиков в состоянии беспомощной пьяной сопливости. Но это — ущербное самооправдание, чушь, так примитивно Андерсон никогда не думал, ни «до», ни «после».
Отпускную неделю он «закручивал» как мог: походы за грибами, ягодами, на рыбалку, на охоту, на шашлыки… Друзья, ресторан — единственный в вахтовом поселке — через вечер. Вместе с ними развлекалась и Светлана — куда же без нее, они с Барби стали почти подружками. Светлана, «фараонова вдова» — как она себя называла, — старший диспетчер нефтеналивной станции, за эти годы разбила несколько мужских сердец, но как только дело доходило до разрушения семьи, без колебаний уходила в сторону, не позволяя себе, как она говорила, сиротить семьи. «А если правда, — часто объясняла, смеясь, — кроме Андерсона и Фердинанда мужиков не доводилось встречать!..» Барби воскресала из грусти, становилась веселой, как живая игрушка. «Завода», полагал Андерсон, хватало на всю следующую неделю, пока он был в отъезде. Значит, он ошибался. Во многом… Зачем он здесь? Можно ли так завести машину времени, чтобы воскресить прошлое? Так не бывает. Он устал…
— Извини, Барби, ошибся… — Андерсон медленно поднялся. — Мне пора. Рад был случайной встрече, малыш… До свидания, подосиновик, будь здорова. — Он улыбнулся, поясняя: — Есть такие грибы на Севере — подосиновики, их еще называют красноголовиками. Ты — красноголовик. Жаль, но мне нужны другие Беридзе. Еще раз, извини, ошибся…
Он тяжело шагнул вниз, понурив голову.
— Ничего, — успокоила девочка. — Меня во дворе рыжей называют. Я им скажу: я — красноголовик. Вы идите. Я дверь не буду закрывать.
— Почему? — спросил Андерсон не оборачиваясь.
— А вон, слышите. Это мама поднимается. С покупками. Я ее по шагам узнаю. У нас лифт не работает. Вы идите.
Андрей остановился, как будто натолкнулся на стену. Быстро вернулся, наклонился, приставил палец к губам и торопливо, горячо зашептал:
— Нет, так не пойдет. Она расстроится. Дверь открыта, ты босиком. Ты лучше, знаешь, что? Сделай сюрприз. Она подходит к двери, то-о-олько за звонок, а ты — раз! — открываешь. Давай-давай!..
Он потянул за дверную ручку, девочка с заговорщицкой улыбкой молча подчинилась.
Знакомые — может быть, немного отчужденные необычной, едва уловимой тяжестью, как, наверное, у состарившейся балерины, — шаги приближались, становились громче и отчетливей.
Андрей панически огляделся, взгляд заметался по лестничной клетке… Шаги совсем рядом… Он решился и большими бесшумными шагами в мягких унтах быстро ушел на девятый, последний этаж. Там зашатался в обморочной волне, сел на ступеньки, уронил голову на высоко задранные коленки. Шапка, лохматым рыжим зверем, мягко скатилась по бетонному маршу, улеглась на промежуточной площадке.
Разговор в приоткрытую внизу дверь: «…Ну, я же говорю, в шапке! Как у тебя! Ты его разве не встретила? А может быть, он наверх пошел? Он же ищет людей с такой же фамилией…» — «Нет, нет, ты права — действительно, кто-то прошел мимо, я не разглядела… Иди на кухню, Барби. Разбирай покупки. Я сейчас, только посмотрю почту. Я сейчас…»
Вышла на площадку. Несколько минут тишины.
Мимо сверху по ступенькам прошла женщина — Андерсон углом глаза увидел полные ноги в резиновых сапожках. Послышался ее нарочито громкий голос внизу:
— Здравствуйте, Варенька. У вас запоры крепкие? Смотрите, не открывайте кому попало. А то ходят разные, дедами Морозами прикидываются. В март-то месяц. Потом вещи пропадают… Аферисты проклятые. — И, удаляясь, совсем громко: — В наш подъезд, между прочим, сегодня участковый собирался заглянуть!.. А у меня зрительная память о-о-очень хорошая!..
Андерсон знает как Барби сейчас стоит: прислонившись спиной к стене, запрокинув голову, пальцы-балеринки трут крашеную панель… Одна из ее обычных поз. Но в настоящий момент он вспомнил конкретное — так она стояла однажды, получив раздраженный ответ: «Нет!..» — на ее очередное навязчивое предложение завести ребенка. Через секунду последовали его обычные шутки, веселые отговорки: «Рано… Вот подзаработаем, уедем с Севера на „Землю“… и т. д….», примиряющие объятия… Но это мгновение — было: глаза, наполненные сиротливой тоской, смуглые пальчики, отчаянно растирающие стенку… Если она сейчас произнесет слово, у него прострелит сердце…
Дверь закрылась медленно. С ровным скрипом. С шорохом трущейся об косяк дерматиновой обивки. С последним хрустом.
Через долгую минуту щелкнул замок. Потом еще.
6
Дверь балка оказалась открытой. Светлана, вся белая от муки и разметавшихся волос, испуганно застыла около самодельной электрической плитки. На столе лежал противень с сырыми пельменями. Из форточки залетал и таял парной морозный воздух, пахло духами и тестом.
Андерсон медленно разделся и сел на стул у входа, оглядел чистую комнату.
— Не узнаю своей норы. Я туда ли попал?
— Туда, Андрюша. Это я вот… У меня был Варин ключ, ты не знал? Она когда уезжала, занесла мне — вон я на гвоздик повесила. Я знала, что ты сегодня вернешься. Завтра ведь на вахту. Я ставлю воду, будем варить пельмешки?
Она отвернулась, примостила кастрюлю на плитку, вставила вилку в розетку. Долго стояла спиной к Андерсону, приподнимала и возвращала на место большую, не по размеру кастрюли, эмалированную крышку. Он отметил: его старая верная подруга, его «одуванчик», в последнее время перестала краситься — русые волосы, начиная от корней, медленно вытесняли хлопковый цвет. Впрочем, от этого она не становилась менее красивой.
Светлана, не оборачиваясь, заговорила:
— Георгий Иванович ушел от жены, совсем. Пришел ко мне, с чемоданом. Я как была, ключ схватила, пальто накинула, и сюда. У тебя ночевала… Что делать?
Она повернулась. Они встретились глазами.
Он опустил голову.
Она вздохнула. Медленно сняла фартук.
— Пойду, темно уже. Завтра на работу. Не провожай, ты с дороги, устал.
— Останься, рано еще…
— Нет, Андрюша. Не рано и не поздно. Просто пора.
Задребезжала крышка.
Он подошел, наклонил голову, прикоснулся щекой к упругим душистым волосам, прижался лбом к плечу и, цепляя губами пуговицы на мягком домашнем платье, опустился на колени.
— Я даже цветов тебе не привез, что ли… Прости…
Обнял, сцепил ладони за ее спиной, глубоко уткнулся сморщившимся лицом в мягкий живот, со стоном потянул в себя воздух и — загудел, забухал, затрясся в мокрых рыданиях.
«Андерсон, Андерсон, — гладя по свалявшимся волосам. — Андрей, Андрюша? Какой же ты Андерсон? Прости меня. А я — тебя…»
Потомок царского офицера, сгинувшего от нежелания менять высокий природный образ ради нового, придуманного кем-то, бытия, — Андрей, не справившийся с имиджем, изобретенным ради необычной жизни, — стоя на коленях, уже почти успокоившись и лишь изредка вздыхая и всхлипывая, еще долго не отпускал Светлану.
Пока на его лице не стянула кожу горькая сухая соль…
Пока ее горячее тело не высушило тонкую фланель…
Пока не перестала дребезжать крышка….
Пока не застреляла раскаленной эмалью притихшая было кастрюля.
И отпустил.
ТРИ КИТА
— Бабу — жарить надо!.. Из всех орудий! — очередной раз уверенно восклицает Богдан и боковым зрением наблюдает за моей реакцией. Он очень хочет, чтобы моя реакция выражала восторг и восхищение. Тогда это его наблюдение за мной возвелось бы в ранг любования собой. Пока результат далек от ожидания, однако Богдан не унывает.
Моя реакция, как мне кажется, самая уместная, какую может изобразить посторонний тактичный человек, вынужденно внимающий разговору двух почти родных, волей обстоятельств, людей (шутовские откровения старого волка и наивные оправдывания начинающего жить). Я лежу на скрипучей кровати и делаю вид, что читаю, с преувеличенным средоточением впериваясь в потрепанную, без обложки, книгу, щерюсь улыбкой Монны Лизы — толи застывшее восхищение изысканным остроумием одного из беседующих, толи умиление содержанием бессюжетного, тягучего дамского романа. Редкий скрип моего «койко-места», когда я меняю положение тела, — самое, пожалуй, активное участие в разговоре (в это время собеседники, как по команде, взглядывают на меня).
Это происходит у черта на куличках — в северном трассовом поселке, куда «наладочный» зигзаг судьбы забросил меня своей командировочной небрежной дланью. Нужно менять работу — эта романтика не по мне. Я не писатель и не художник, коллекционирующий в дороге типажи, краски, образы…. Всего лишь слегка образованный, к тому же ленивый, обыватель, который ценит предсказуемость следующего дня и страдающий от необходимости искать и перестраиваться. Особенно если это относится к таким, казалось бы, совершенно не заслуживающим внимания вещам: где умыться, что поесть, как поспать… Эрзац-гигиена, эрзац-еда, эрзац… — и так далее. Эрзац-беседа. Эрзац-житие.
От стен вагончика, где мне доводится провести несколько бесполезных вечеров, исходит постоянный гул. Недалеко, в нескольких метрах «в сторону природы», как говорит один из моих временных сожителей, содрогается дизельная электростанция, снабжающая ненадежной, плавающей, мигающей энергией буровую установку и все, что к ней примыкает — походную столовую и небольшой хозблок. Жилая часть хозблока — несколько вагончиков на санях, в которых коротают тусклые вахтовые вечера буровики, покорители тундровых недр. Говорят, летом здесь рай: белые ночи, рыбалка, охота. Грибы, ягоды. Но сейчас осень, начало зимы, безлиственная пустошь, ожидание холодов, и мне хочется домой, в ремонтно-наладочное управление, где три месяца назад опрометчиво оказалась моя трудовая книжка. Я закрываю глаза и улыбаюсь, вижу себя в отделе кадров, пишущим простое, но заветное: «Прошу уволить меня по собственному желанию». Это будет единственное, по сути, предложение, хотя, я бы с удовольствием прописал и причину: мол, не желаю более носиться по вашим северам, степям и прочим опушкам цивилизации, пусть даже богатым географической экзотикой и геологической аномалией.
Наверное, сейчас Богдан опять поглядывает на меня и относит улыбку постояльца в счет своего остроумия.
В этом производственном вагончике постоянно проживают два человека пожилой электрик Богдан и молодой дизелист Вася. Они не имеют жилья в базовом приполярном городе, поэтому живут там, где в данный момент находится буровая. Я их окрестил: «цыгане-северяне». Я у них временно квартирую гостиниц в тундре, увы, еще не понастроили. «Лишние» кровати в подобного рода вагончиках — для таких же залетных, как я, наладчиков и ремонтников, которые эпизодически посещают объекты буровых работ, подлечивая работающее на износ оборудование.
— Семейная Жизнь, Вася, если отбросить шелуху, стоит на трех китах: быт, теща, секс!..
Последнего «кита» Богдан произносит с придыханием, через «э»: сэкс, как старый стиляга, вкладывающий в некогда оригинальное слово целую гамму воспоминаний о «твистовой», «саксофоновой» молодости.
— Три кита, — все на первый взгляд просто. Но только на первый, Вася, взгляд!..
В Богдане, за мелкими формами, просматривается большой оригинал. Известно, что самое заметное отличие какой-либо речи — региональный говор, своеобразный акцент, не замечаемый самим «регионалом». Но произношение у Богдана, несмотря на донецкое происхождение, «правильное», чуть ли не московское. Я бы назвал это произношение типично городским, в моем понимании, характерным для средних, достаточно образованных, хотя бы в объеме школы, слоев. Оригинальность же речи Богдана — явно выработанная (сказалось прошлое массовика-затейника?), которая достигается чрезмерной насыщенностью предложений распространенными словосочетаниями, а так же, порой, намеренно вольным с ними обращением. Кроме того, тут же, сплошь и рядом, — неходовые обороты и пафосный тембр. Некоторые из эпитетов — с умышленным гротеском, иной раз какой-нибудь мелочи придается прямо-таки эпопейный градус. Чтобы так притворяться, необходимо большое напряжение. Сейчас я думаю, что, скорее всего, это был тот случай, когда привычка стала второй натурой. Но тогда, в вагончике, больше склонялся к мнению, что речевые выкрутасы Богдана — для смеха, при понимании им того, что слушатели «юмора» — достаточно развитые люди.
— Вася, ты вот посчитай, да скажи-ка мне, сколько месяцев ты уже свою жену не… ну, мучаешь?
— Да уж, считай, полгода, как сюда приехал… Что значит, мучаю? опомнился Вася. — Я же говорил, начальник который месяц обещает вагончик или комнату в общаге: вот-вот да вот-вот. Вот-то да вот-вот. А то думаешь, я без твоих подковырок не устал ждать? Только об этом и думаю.
— Эх, Вася, бабу ведь жарить надо! Жарить!.. Как без этого! Э, нет. Пожил, — знаю. Ничего себе — полгода! Кто этот аспект супружества будет за тебя прорабатывать? Пушкин?
…По всему видно и слышно, что в основе своей это одни и те же вопросы, одни и те же ответы. И только небольшими вкраплениями, в виде не обозначенных ранее подробностей, незначительной сменой акцентов, да слегка обновленной интонацией для того или иного фрагмента Богдан окрашивает следующий вопрос и очередную поучительную историю из своей жизни, наковыривает изюминки из этого, как мне кажется, уже зачерствевшего и невкусного пирога. Изюминки предназначаются в том числе для меня, подневольного зрителя этой тундровой комедии.
Мне жаль Васю. Он не умеет воспринимать чужое слово, будь оно даже лишь элементом старческого словоблудия, иначе как серьезно.
Типичная картина: Богдан, в застиранной майке и трусах, габаритами и телосложением похожий на великовозрастного карлика, восседает по-турецки на койке. В «трапезных» случаях койка служит и стационарным стулом — рядом стоит самодельный металлический столик, оклеенный черной полимерной лентой, которой газовики изолируют магистральные трубы. Вася курит, сидя на своей кровати, расположенной напротив аналогичного Богданового ложа, уложив ноги под стол, нависая над крохотной столешницей покорным богатырем, великовозрастным детиной, для которого малы даже взрослые вещи.
— Вот Вася, ты мне ответь на такой простой вопрос. Ты жене помогаешь?… — преувеличенно громко вопрошает Богдан, невинно вскидывая вверх юркие червячки — подвижные черные бровки на маленьком лице.
Вася знает, что вопрос, как всегда, с подвохом. Мало того, он уже сто раз отвечал на него. Но хитрить Вася, в отличие от своего «прокурора» и «проповедника», не может. Поэтому отвечает по-прежнему, — как всегда, честно, как есть. Единственно, что он может себе позволить — отвечать лаконично, без излишних подробностей. При ответах он как-то странно подхохатывает, не улыбаясь. Впечатление, что бурные эмоции ему неведомы, что он никогда не засмеется и не заплачет.
— А как же, — Вася вздыхает. — Когда «тяжелая» была, как не помочь. Опять, когда пацанка родилась…. Одной воды сколько нужно. Из колодца-то. Опять, греть…. Это ж не в городе.
Кажется, что серьезным, с позитивной моралью, ответом на каверзный вопрос Василий пытается унять настроенного на словесное глумление Богдана. Напрасно.
— Вот-вот! Вот он, первый кит! Быт! Иди сюда на гарпун! — радостно восклицает Богдан. — Именно вот здесь, Вася, в этих благородных бытовых мелочах и кроются эти самые вредные корешки, вытягивающие все питательные соки из нашей, Вася, мужской, гусарской доброты. Потом эти корешки мощнеют, мощнеют… — Богдан, выпучив глаза, показывает, как «мощнеют» корешки, топыря и раздвигая перед лицом игрушечные ладошки. — Потом они, как змейки, целенаправленно переплетаются, — Богдан сводит ладошки в замок, — образуют крепчайший корень. — (Пытается вырвать ладошки из замка, якобы ничего не получается.) — На котором потом вырастает такая, знаешь, махровая проблема, непреодолимая анаконда, змеища, знаешь, толстозадая и непререкаемая. И ты, Вася, тогда против нее, какой бы крупный не был, — становишься…. Становишься — ну, прям как я ростом.
На этом самокритичность, которой Богдан, для убедительного контраста, жертвенно сдобрил страшную картину, заканчивается. Он быстро уточняет, выставив вперед указательный палец:
— Но я не про физический рост, Вася, я не про рост. Ты на мой рост не смотри. Лучше — слова слушай!.. Слова-то, признаем без ложной скромности, высокие!
Весь диалог, в котором ведущая роль принадлежит, разумеется, Богдану, и поэтому больше походящему на активный (в смысле живого контакта со зрителем) монолог, построен, с небольшими вариациями, по классической схеме: вопрос, предварительная мораль, пример, окончательная мораль. Оратор-моралист, по большому счету, творит речи для себя, наслаждаясь собственной проницательностью и, что немаловажно, покорностью зрителя, порожденной, естественно, убийственной простотой аргументов. Ибо все великое — просто. Часть этого самонаслаждения имеет возвышенно-бескорыстный окрас: рядом лежит незнакомый безмолвный истукан (это — я), который в скором времени, непременно напитаясь мудростью непризнанного метафизика-самоучки, уедет в неведомые теплые края и будет, если преодолеет жадность и лень, делиться этой мудростью с миром, который, увы, никогда не узнает имени того человека, который…
Который продолжает:
— Помню, жена меня попросила…. Это буквально в первый месяц нашей совместной жизни. Тоже, знаешь, такая «тяжелая» была. Не в смысле, там, будущего потомства (нет, рановато еще было), а в смысле — ме-е-едленная, то-о-омная, — Богдан вытягивает губы, прикрывает глаза, двигает плечами, изображая павлинью походку. — Говорит мне, Богдя, я пошла, дескать, в магазин или, там, на рынок, а ты, милый, полы, будь добр, помой в нашем гнездышке. Ага. Еще, помню, шутливо так, подмигнула, за щечку меня, вот так вот, потрепала и стервозно эдак пропела, как оперная певица: «Разделение труда-а-а!..» Вроде как шуточка с намекательным, понимаешь, аккомпанементом. Я уже тогда подсек, что из этих тонких намеков могут получиться толстые, как известно, обстоятельства.
Богдан делает внушительную паузу. Сердитыми, резкими ударами взбивает подушку. Все это для того, чтобы слушатели осознали серьезность момента, основанную на природном женском коварстве. Коварстве часто завуалированном, поэтому особенно опасном. Якобы справившись с благородным гневом, прочистив горло искусственным кашлем, он продолжает прежним, невинным тоном:
— Ладно, говорю, и улыбаюсь, ручкой ей в окошко машу: даси-даси, ходи по магазинам спокойно, Людмила Русланова. А сам думаю, сейчас я тебе спою арию маленьких лебедей. Так спою, что ты, солистка с погорелого театра, на всю жизнь поймешь, кто в доме истинный капельмейстер. Поймешь, что у тебя голоса нет, что тебе медведь на ухо наступил. А я, со своей генеральной стороны, по всем нотам разложу. Да. Отрегулирую. Весь труд сейчас разделю и распределю на всю нашу оставшуюся совместную биографию, кому хор петь, кому по балетам скакать!..
Здесь Богдан меняет пафосный тон на ремарочный:
— Но, разумеется, Вася, я слов подобных жене никогда не говорил — они, живучая половина человечества, к подобному красноречию быстро адаптируются и в дальнейшем пропускают его мимо своих пушистых ушей. Лучше эффективные дела делать.
Богдан закурил. Невероятно устойчиво примостил чумазую банку из-под консервов на свою воробьиную коленку, обтянутую потертым трико, как припаял. Несколько раз обстоятельно затянулся, стряхнул первый пепел.
— А жили мы тогда не в своем благородном доме, как сейчас, а в бараке коммунальном. Родители наши, сваты, значит, друг дружке, организовали нам сообща комнатку в этом рассаднике тараканов и дружбы различных слоев народа. Что-то там обменяли-поменяли. Какое-то шило на это мыло. Кстати, Вася, знаешь первейшую заповедь коммунального курятника? Не греши, где живешь, не живи, где грешишь. Ну, ладно, отвлеклись. Как свадебный подарок, стало быть, организовали нам эту комнатку. Отремонтировали, мелом побелили, подкрасили. Ничего не скажу, спасибо, папочки-мамочки, царствие небесное, не прогневитесь, что вспомнил.
Про тещу, Вася, чтобы пейзаж не смазывать, отдельный разговор, суверенная, можно сказать, сугубо трагическая тема. Отдельный кит. О нем позже.
Это я к чему? А хочу сказать, что в гнездышке-то после ремонта белизна и чистота. Набрал я два ведра воды, ага… Поставил на стол. В центре комнаты. И сам туда же полез, стервец. Ох, решительный был!.. Посвистываю так, залезая. Как на гору Голгофу. Знаю, на что иду. На святое дело. Только что не перекрестился, комсомольцем был. Лампочка, помню, с потолка, как знамение, затылок маленько так пригревала… Покурил, дождался, пока она, гулена магазинная, в окне обратным путем нарисуется. Взял ведро в крепки рученьки, прицелился. Да поближе к стене-то белым белой вдарил всем объемом воды из этой народной емкости. Брызги — до потолка. Сам представишь: пол-то у моей певуньи на тот момент… не очень так чтобы чистый был. Брызги, соответственно, грязные. Да плюс мел со стен поплыл. Я, значит, зрительно зафиксировал достижение нужного результата, повернулся на сто восемьдесят градусов. И другое ведро — та же судьба. На полу — картина Айвазовского «Девятый вал». Тут и она заходит — чуть не в обморок. А я-то ее вверх задницей встречаю, на карачках, с тряпкой в руках — полы, дескать, мою, аж язык вывалил от усердия, честно.
Концовка у Богдана несколько усталая, но от этой физической утомленности торжественность концовки приобретает особенный драматизм:
— …Генеральная философия в адрес супруги, за вычетом деталей, — как умею, так и мою. Тут, главное, не уступить: только так умею, и точка! Следующий раз попросишь, — непременно помою. Еще лучше постараюсь, потому как исполнительный и любящий муж. Ясный взгляд, выдающий чистоту помыслов. Никаких ультиматумов! Ни-ни!..
Мораль, Вася, в красноречивом итоге: это была моя — веришь-нет? последняя помывка половых, понимаешь, площадей. Отказ мне по этой теореме на всю оставшуюся жизнь. Что и требовалось доказать.
Повисает торжественная пауза, заглушающая все посторонние производственные шумы за стенами вагончика. Лампочка под потолком, слегка покачиваясь, сияет необыкновенно ярко.
— Брешешь, небось, — громко говорит Василий, без всякой маскировки глядя на меня. Это обращение к Богдану: не ври при человеке-то. И ко мне: врет компаньон, не обращайте внимания.
Богдан заметно смущается. Ища в памяти убедительную аргументацию, для начала прибавляет громкости, которая вкупе с грустной интонацией выдает цель: эта фраза больше не для Васи, а для постороннего слушателя, то есть для меня:
— Я, Вася, уже давно не вру. И, вообще, не допускаю аналогичных противоправных действий. — Казалось, Богдан начал издалека, чтобы опять рассказать что-то веское, которое напрочь развеет все сомнения относительно его порядочности:
— Во время войны, Вася, немцы у нас в городе стояли. В нашей квартире тоже один кратковременно присутствовал. Герр Ганс, как сейчас помню. Хер Ханс, как он сам говорил. Мы с матерью на кухне жили. Этот самый что ни на есть фашист, Вася, меня, знаешь чего?
— Чего?
— Отучил воровать, вот чего. А воровство, как известно, основано на лжи.
— А ты воровал, что ли?
— А я у него папироски, как истинный патриот своей родины, лямзил. В коробках, россыпью, хвать жменьку из кучки, где побольше, и побежал. Таким образом, насколько мог, подрывал могущество немецкой военной машины. На яблоках попался…
Богдан заерзал на кровати, нервно зачесал оголенные руки и давно немытую голову.
— Он, нацистская курва, поставил вазу с яблоками на подоконник, а сам-то спящим притворился. На живца, вроде как, охотился. Видно, давно «Бохтана», куряку малолетнего, заподозрил в партизанской деятельности. Ну и огрел меня, фриц гитлеровский, сапожищем кованным, каблук с подковой. Выхватил из-под кровати за голенище и каблуком с подковой хрясть по голове. Я отползаю в коридор, на карачках, хвост поджал, а он идет рядом в кальсонах и что-то лопочет. А меня в глазах радуга. Такая, знаешь, не полукружьем, как в природе, а прям замкнутой сферой, мерцает. Я думал, конец, если еще раз врежет. «Хайль Гитлер», — уважительно так говорю и дальше отползаю, вроде как степенно.
Богдан глубоко вздохнул:
— Больше, правда, не тронул, за что я ему благодарен. Только думаю, и думы эти весьма небеспочвенны, что через тот нокаут с тех пор я расти перестал. Почти. После войны сантиметров на несколько вытянулся, и все. Остальное в корень пошло. В смысле жизненной обстоятельности. После войны ФЗУ, детство, прямо скажем, несытное. Однако, по дачам или, там, по вагонам не лазал, и прочая, и прочая, как мои, так сказать, сверстники-современники из училища, — нет, ничем таким незаконным не промышлял. Иной раз веришь-нет? — по рынку иду, взгляд если упадет на кучу какого-нибудь фрукта, апорта какого-нибудь, — а продавец забалакался, отвернулся, бери не хочу, так я аж зажмуриваюсь и озираюсь кругом: нет ли кого рядом с сапогом кованным!.. Комплекс, Вася, комплекс. Последствие войны.
Богдан трагически замолчал.
— Да, кому война, а кому мать родна, — неопределенно отреагировал Василий.
Видимо фраза не вязалась с тем, что ожидал Богдан. А ожидал он, судя по всему, более определенного сочувствия. Возникла пауза. Наконец, кашлянув Богдан спросил:
— Вот, Вася, это ты к чему сказал? Я вот твою фразу — и так, и эдак прикладываю, — никуда не пришивается.
— Все пришивается. Побольше б таких комплексов. А если б — по языку какой-нибудь подковой?
— Эзоп ты, Вася, Эзоп. В крайности впадаешь: иногда, вроде, простой, а иногда — Эзоп. Даже я тебя не всегда понимаю.
— Сам ты Эзоп старый, — без всяких эмоций заключил Василий.
— Ты на возраст с отрицательной точки зрения не смотри, — опять предостерегающе выставил вперед палец Богдаг. — Старый конь борозды не портит!.. У старых коней еще поучиться нужно! — Богдан зевнул.
Переход на общие фразы обычно сулил скорое окончание беседы и отход ко сну.
Как зритель, я достаточно много узнал о моих героях. Кое-что они поведали мне лично. Это случалось, когда один из них временно отсутствовал в вагончике. В такие минуты мне доводилось видеть буквально раздавленного своей печалью Васю и почти серьезного Богдана. Оказавшись вместе, они переворачивались, по терминологии Богдана, до неузнаваемости. Богдан становился великовозрастным полугородским ерой, а Василий — бесстрастным деревенским детиной.
Однажды Богдан принес мертвого зайца с жуткими глазами, похожими на черные перламутровые пуговицы. Бросил тело у порога. Заговорил рассержено:
— На, обдирай сам. Вася, я больше петли ставить не буду. Сначала ставишь, как дурак. Потом придешь, а он живой, зараза! Нет чтобы головой влезть куда полагается, так все норовит то лапой пойматься, то всем туловищем. А начнешь душить — орет, как ребенок!.. Тьфу ты!
Вася послушно взял зайца и понес в тамбур, бурча под нос:
— Петлю надо ставить правильно, Апполон! — Вася, видимо, иногда использовал лексику Богдана. — Чтобы раз и навсегда. Все игрушки играешь, а кто-то мучается.
— Нет, все! — не слушал Богдан. — Завязал. А то еще в столовую принесешь от чистого сердца, а повара носы воротят: ты его сначала обдери, ты его то, ты его се!.. Ага! Фиг вам, сами тогда обдерем и без посторонней помощи употребим.
Уже ближе к полночи мы ели тушеную с картошкой зайчатину. Признаться, я за всю жизнь так и не понял вкус дичи. Предпочитаю что-нибудь попрозаичнее. Кролика, например.
Богдан, весь в коричневом соке от темного заячьего мяса, сетовал на отсутствие в тундре «какого-нибудь» захудалого гастрономишки и нахваливал Васин «шулюм». Он то и дело косил по сторонам, явно его мучили какие-то сомнения. Наконец он отложил ложку в сторону и виновато моргая пожаловался мне:
— Язва. На Севере обострилась. На «земле»-то я ее спиртом прижигал. Доставал медицинский чистячок — и вовнутрь. Помогало. А здесь вот, за неимением… Нет, иногда, конечно, в город гонца посылаем. Но быстро кончается, во-первых. Во-вторых, начальство не приветствует — трасса!..
Василий его ободряюще прервал:
— Да ладно, чего уж там, все свои, не стесняйся, язвенник. Прими нарезного.
Богдан проворно заскочил на кровать, которая, как всегда, служила ему стулом, умело прошел, как цирковой лилипут по батуту, к противоположной дужке и снял с полки початый флакон тройного одеколона. Изящно чиркнул большим пальцем по колпачку, который юлкой слетел с резьбы и упал в ловко подставленную ладошку фокусника. Быстро вылил содержимое в кружку. Изобразив на лице борьбу с брезгливостью и скороговоркой позавидовав нам, более здоровым людям, ухнул «тройник» молодецким залпом с запрокидом головы.
— Фу, прижгло. Полегчало, хорошо! — поделился он через минуту, влажно моргая и удовлетворенно закусывая.
— Еще бы, — хмыкнув, согласился Василий, не поднимая головы.
— Самое главное — вкусно, — Богдан отдал должное и повару за свое удовольствие. — Ты, Вася, я подозреваю, часто дома, на «земле», то есть, кашеваришь, а? — В вопросе угадывалось начало интересной для Богдана темы. Наверное, жену на пушечный выстрел к печке не подпускаешь, а?
— Да нет!.. — борясь с гордостью отпирается Вася, опрометчиво откликаясь на провокационный комплимент. — Только если на рыбалке, там, на охоте. А дома — нет. Хотя, когда малая прихварывала, жена возле кроватки все… Тогда — было немного. Я, вообще-то, много чего могу: суп, щи, кашу это без разговору. Я даже плов умею, в армии Ахмет один научил.
Богдан удовлетворенно закивал. Вася попался. Больше от него пока ничего не требовалось. Теперь очередь за Богданом.
Богдан закончил есть, облизал ложку, тщательно вытер подбородок и пальцы, смачно закурил. И начал обстоятельно:
— У меня тоже аналогичный случай был. В молодости. Дите у нас уже появилось, доченька любимая, первенка как-никак. Тоже, с одной стороны, Вася, помощь жене нужна бы. Я ж понимаю, не изверг! Но в чем принципиальная ошибка многих, в том числе твоя? В том, что сами, согласно известной притче, хватаются рыбку для жены ловить. Это все ненадежно, — а вдруг ты заболел или в командировке, ну? Нет. Ты ей лучше спиннинг купи, в образном смысле. Ты научи ее саму рыбачить, чтобы данное вошло в плоть и кровь на генном уровне, в подкорковое сознание, без рассуждений, кто устал и чья очередь. Разумеется, Вася, это официальная версия, мы же мужики, я никого за дураков не считаю. Если же по-простому — то стоит один раз себе картошку пожарить гарантировано пожизненное самообслуживание, а то и роль придворного повара. Корешки мощнеют, габариты той самой зловредной рептилии увеличиваются по всем ракурсам, ты же своей сущностью падаешь во всех глазах.
Богдан, в майке и в трусах, вскочил с кровати и, держа в руках баночку-пепельницу и дымящую папиросу, стал нарезать круги на свободном пространстве комнаты. Что говорило о наступившей уже релаксации и сопряженной с ней высокой степени увлеченности содержанием собственного монолога.
— Однажды пришел я с работы, с ночной смены, самосраннего утра, как говорится. Усталый и голодный. Как пес, словом. Эх, думаю, сейчас поживлюсь борщом да со сметанкой. Шиш тебе: женушка моя возлежит на семейном ложе, опять вся томная. Пацанка, правда, спит, ничего не скажу, — детишки у моей всегда сухие да сытые были. Этому, слава богу, учить не пришлось, было у коровки молоко, унаследовала от мамочки своей…. Не к ужину будет вспомнена. Тоже так вот тестя встречала, ох, да ах. Моя, значит, тоже: ох-ах, Богдя, устала, сил нет, всю ноченьку-то доченька спать не давала. Ой-е-ей!.. Пожарь себе, что ли, яичницу.
Я — слова не сказал. Схема-то у меня уже была проверена и утверждена жизненной практикой. То же самое мытье полов, только вид с боку. И яичницей называется. Вышел я, не спеша так, на парадное крыльцо, на солнышко пожмурился. Выкурил папироску, вот так вот тоже, беломорину. Беломор тогда настоящий был, вкусный. С бабульками, со сплетницами нашими коммунальными, покалякал. Захожу обратно, вижу, все готово к бою: семья моя, во главе с супругой, по второму кругу спит в полном составе.
Богдан остановился, наклонив голову набок, и загадочно прищурился:
— Ну?
— Что «ну»? — Вася переспрашивает несколько раздраженной интонацией, что для него не характерно.
— Ну, что вот ты думаешь, я сделал на этот раз?
— Да пакость опять, что еще. — Вася демонстративно глянул на меня.
Богдан, радостно ощерившись, дернул мышцами шеи — на мгновение поперечные морщины сменились продольными упругими струнами. Голос на начале фразы слегка завибрировал:
— Захожу на общественную, значит, кухню. Тишина, на редкость, никого. Благоприятная, можно сказать, политическая прямо, ситуация. Текущий момент! Сейчас, сейчас, думаю… Завоют фанфары. Ставлю, значит, сковородку на плитку, раскаляю почти докрасна, колю яйцо, кидаю на…. Никакого масла, Вася, никакого. Все шипит, — представляешь, да? Горит, обугливается. А я знай себе: колю и дальше бросаю. Желтки уже на лету вспыхивают. Дымовая завеса, фейерверк. Весь курятник проснулся, закудахтал, закукуарекал: горим, мол! Забегает моя, с дитем голеньким на руках, как погорелица, аж по-человечески жалко стало. А я в облаке, головы не видно, как Зевс какой-нибудь, гимны пою. Вставай, мол, проклятьем заклейменный!.. Весь мир, там, голодных и так далее!.. Ну, результат ты уже знаешь: то же самое, вид сбоку, — последний раз себе при живой жене харч варганил.
Укладываясь спать, борясь с большим ватным одеялом, Богдан небольшими, но довольно-таки витиеватыми скороговорками довершает нюансы сегодняшней темы, которая, впрочем, и без этого уже, по мнению автора, убедительно раскрыта:
— …Другие, бывает, живот, там, утюгом прижигают, противясь насильственному привлечению со стороны жен к, положим, разглаживанию постиранной семейной мануфактуры. Но это уже членовредительство, которое я никогда не практиковал. Ибо члены — они ведь могут и не восстановиться.
После войны Богдан, хлебнувший жизненных невзгод, к числу которых сейчас он относил и свою раннюю женитьбу, стал искать утоления печалей в «индивидуальном жилье, сопряженным с логичной переменой мест». В конце концов, подработав на донецких шахтах, переехал в более теплые края, в небольшой живописный приморский поселок недалеко от Сочи.
Как известно, самая распространенная работа в этих солнечных местах — в сфере обслуживания. Жена устроилась в пищеблок пансионата. Богдану пришлось оставить профессию электрика, которую сразу после войны получил в ФЗУ. И хоть зарплата массовика не решала всех проблем, преимущества первое время были налицо: тепло и весело. Однако очень скоро напасть пришла «новым образом», зайдя с другой, нежданной стороны. Рано лишившиеся родителей, они с женой вскорости узнали, насколько сильны бывают фамильные узы, школьные дружбы, земляческие знакомства, и что, в принципе, все люди — братья. Вал летних гостей захлестнул Богдана. Не прошенные квартиранты занимали все помещения, во дворе ставились палатки. Семья хозяев вынуждена была на лето переселяться во флигель. Гости уезжали и приезжали, передавая друг другу комнаты, домашнюю утварь, ключи. Находились такие, которые умудрялись сдать какое-либо помещение дома следующим «знакомым» или «родственникам», получив за это плату, согласно действующим для сезона расценкам. В июле хозяев трудно было отличить от гостей. Иногда Богдану, в минуты, когда приходилось перешагивать через загорающих прямо во дворе, приходила мысль: а не должен ли он кому-нибудь за свое бесконечное проживание во флигеле?.. Конечно, это были сарказм и скорбная ирония, горечь от которых способствовали вызреванию мысли: опять пора в поиски воли и доли, пришла пора менять дислокацию. К тому времени через караван-сарай Богдана прошло отпускным курсом много людей, выходцев из разных точек страны, от Бреста до Находки, от Кушки до Шпицбергена, — достаточно для того, чтобы уже накопилась достаточно объемная информация: где, что и почем. Одной из территорий, где по редким, но убедительным рассказам есть «беспроигрышная вотчина с неиссякаемой денежной жилой», был Крайний Север.
Сюда, в край полярных сияний и дешевого пантокрина, и подался наш уже пожилой Одиссей, минусуя себя от своей ячейки общества, от жены и детей, оставляя Черноморскую обитель только для отпускных наездов. К тому времени реальная ценность главы семейства для остальной части «ячейки» окончательно обозначалась и отсчитывалась исключительно в материальных эквивалентах, поэтому у Богдана здесь, на Севере, не было проблемы «воссоединения» с семьей. Формула успеха, как он говорил, упростилась: получи зарплату отошли перевод. Оказалось, что решение данной нехитрой формулы имело в результате потрясающий взлет котировки главы семейства в глазах жены, детей и подраставших внуков. Успех, который, — со вздохом констатировал Богдан, несколько противореча сообщенному о себе ранее, — пришел только «в окончательно зрелые годы». И теперь Богдан черпал вдохновения для скрашивания тундровой повседневности единственно из нафталиновых полотен своего богатого прошлого.
Причем, тема взаимоотношения полов осеняла его наибольшим творческим вдохновением.
— Жена, Вася, она — как заземление. А ведущая роль должна принадлежать — кому?
— Кому, — мужу, конечно. — Это простой для Васи вопрос, он хототнул и качнул головой: дескать, что за вопрос такой простой.
— Молодец, Вася. Молодец. — Богдан снисходительно покивал: то ли еще будет. — Конечно, мужу. Тебе, то есть. Ты, если правильно подходить, возле жены, по идее, — как фаза около надежного нуля. Говоря нашим с тобой профессиональным языком. Но тут, главное, не коротнуть и окончательно не занулиться. Вообще, мужика, Вася, можно сравнить и с конденсатором тоже. Ему, в образном смысле, разрядка нужна. Вот я, к примеру, когда трудился массовиком, как говориться, затейником на Черноморских берегах. Эх-ма!.. Трудился буквально в поте лица.
Богдан на несколько секунд уронил в ладонь лицо, которое, по версии рассказчика, часто покрывалось трудовым потом, и остановился в центре комнаты. До этого он возбужденно мельтешил в своем классическом кружении:
— А кругом, — он развел руки в стороны, — сам представляешь, прекрасная половина человечества… Вся в плавочках да шортиках. Жизнь обнажена, жизнь, как говорят драматурги, — в бикини. Отказывать себе — значит глумиться над прекрасными порывами природы. Запросто может произойти безвозвратный пробой жизненно-важных обкладок конденсатора. Даже супруга потом не спасет со своим глухим заземлением. Резонный вопрос: в чем выход? А выход, Вася, в кон… нет, совсем не то, что ты подумал: в конспирации. Способов — великое множество, целая подпольная стратегия. Поэтому, чтобы беседу не засорять, всего один пример из этого неиссякаемого реестра…. Одним словом…
Богдан прекратил хождение и возвратился на свой «топчан». Глядя перед собой невидящими глазами, засучил трико до коленок, как будто предстояло преодоление какой-либо водной преграды. Может быть, ему вспомнился морской берег, и операция с брючинами была безотчетной.
— Одним словом, Вася, сбрасываешь, например, в течение рабочего дня свое давленьице по обоюдоострому согласию. С какой-нибудь мини, по полной макси… Тут без подробностей, Вася. Не обижайся. Опускаю ввиду подорванного годами вестибулярного аппарата. В глазах темнеет и в обморок клонит от подробных воспоминаний.
Богдан прикрыл веки, взялся за голову и осторожно покачал ей в стороны. Вероятно, это была демонстрация нынешнего, несколько запоздалого, бережного отношения к некогда подорванному здоровью.
— В общем, вечером… А вечер, Вася, в любом случае, увы, непременно наступает. Вечером пора идти ночевать — домой. К родному, так сказать, якорю. К надежному бордюру семейного тротуара, а… А конденсатор-то при этом уже вполне логично разряжен. Выход?.. Ну, вот, что бы ты делал в такой ситуации?
— Ничего. — Ответ у Васи неодобрительно-угрюмый. — Ситуации не было. Я вообще никогда…
Богдан перебивает:
— А я тебе опишу типичные ошибочные, фраерские, как говорят на Черном море, действия семейственного Донжуана. То есть Лжедонжуана. Таковой фрайер, без всяких объяснений или с явно неубедительной аргументацией, отворачивается от жены к стенке… И спит. Спит! Молча! Результат: обиды, зародыш несправедливых сомнений, зерно разлада на благодатную почву.
Я, Вася, шел другой дорогой. А именно. Я, шел в ближайший гадюшник с неоправданным названием бар, потреблял стакан дешевейшего портвейна — самой вонючей, пардон, гадости. Ремарка, Вася: допускается несколькими каплями оросить пространство вокруг шеи — за пазуху и за шиворот. Заодно дезодорация посторонних запахов. Впрочем, эта ремарка не из моего буквально репертуара.
Итак, прихожу домой, жертва вермута или портвейна, — веселый и пьяный, цвету и пахну. При этом добрый и шутливый. С неустойчивыми реверансами ввиду, якобы, сверхнормированного возлияния. Можно: с элементом какой-нибудь местной биологической банальности (засушенная морская звезда, раковина, мимоза) или на худой конец — с шоколадкой. В таком случае жена, со своей стороны, — с пониманием: такая вот у муженька вредная работа, на грани, так сказать, фола, иногда допускаются подобные пассы, спи, сокол-добытчик…. Зарабатывал, надо признать, не много. Но это не по теме. По теме же вот что: ноль на фазе, но при этом никакой обиды. Дескать, наверстается. И она, мудрая берегиня, жрица семейного очага, глубоко права, если так правильно думает. Результат — семья в целости и сохранности. Потому что главное, как ни крути, — семья. Так-то, Вася.
Но наивысшего накала монологи Богдана достигали при соприкосновения с темами «особого кита», «второй маменьки».
— Теща, Вася, — это тема космического масштаба. Один из основных, сто раз не устаю повторять, китов семейной жизни. Причем, самый нестабильный ее кит. Зубатый кашалот, потенциальный разрушитель гармонии. Знаешь, что наш буровой мастер говорит, когда трезвый? Теща — это фонтанирующая скважина, потому основная задача в ее адрес после пробура — вовремя заглушку установить. Вовремя! — вот ключевое слово, Вася. Иначе — разрушение пластов, авария. Помнишь пожар на шестом кусту? То-то! Атомная бомба!..
— Не всегда, наверное, — осторожно вставляет Василий, несколько оживляясь. — Мы, например, с тещей хорошо жили. Может чего они там с дочкой и имели, в смысле секретов своих, но на семье это не сказывалось.
Богдан часто кивает: мол, знакомая ситуация. Выставляет ладонь вперед, преградой Васиной излишне длинной фразе:
— Типичное непонимание, основанное на врожденной мужской доброте. По неопытному началу бывает, что вроде бы с женой — никаких проблем. Вроде бы вся она твоя на веки вечные. Вроде, твой голос — определяющий и решающий, как в конгрессе. Ты и успокаиваешься вместе со своей спящей бдительностью и не принимаешь никаких мер предупредительного ряда.
Богдан встает с кровати и крадучись уходит к входной двери, зачем-то проверяет, закрыта ли дверь. Хотя и так видно, что закрыта. Продолжает оттуда, из-под косяка, получается, что как бы из затененной картины в прочной высокой раме:
— Но вот, нежданно-негаданно, пробуждается у твоей благоверной, так сказать, зов крови в образе тяги к отрицательному персонажу всех мировых фольклоров, всех времен и народов. В образе, разумеется, тещи, проще говоря. И пошло-поехало. И теща наша, вторая маменька, становится ветром, а жена, соответственно, — флюгером. А ты, Вася, в такой ситуации — мерин, штиль, турбулентный ноль. Как потом из этой запущенной болезни, из этого Бермудского треугольника, выкарабкаться — проблема проблем.
Вася вздыхает. Вздох, судя по всему, искренний. Видно, проняло. Надо отдать должное Богдану, — неплохой драматург, хотя в театральных приемах проглядываются неоригинальные клише.
Богдан продолжает назидательно и даже почти грозно:
— Выход, как в медицине, один — не допускать! Про-фи-лак-тика! Ни на минуту не забывать о существовании названного выше персонажа, который, порой, сродни затаившемуся вирусу!.. Сразу же, с первых же дней супружества, — отпачковывать жену от проклятого ее прошлого!.. Безжалостно резать по живому!.. Нейтрализовывать тлетворное влияние прежних уз!.. Буквально по капле выдавливать из нее… раба…, в смысле — рабыни своей родительницы.
Богдан перешел на высокий, немного научный слог. Очередной раз удивляя диапазоном своих интеллектуальных возможностей:
— А вот, чтобы определиться с интенсивностью профилактических работ, чтобы выявить степень, так сказать, запущенности болезни, необходимо, Вася, жену на лояльность — проверить.
Голос понижается, символизируя по отношению к слушателям доверительность и некоторую снисходительность, происходящую от желания этим же слушателям, разумеется, добра:
— Есть один метод. Провокационный, правда, метод. Империалистический, я бы даже сказал. Но очень жизненный, потому как верный. При этом простой, до смеха. Рассказать?…
— Как хочешь, — Василий пожал плечами. Если бы он был против, это вряд ли бы что-то меняло. Кстати, один из Васиных приемов в «беседе» с Богданом со всем соглашаться. Наверное, в подобных случаях он исходил из мнения, что чем меньше сомнений с его стороны, тем быстрее монолог Богдана сойдет на нет. Во всяком случае, закончится без утомительных «ответвлений».
— Так вот. Простейший прием. Напейся — или прикинься пьяным — и к теще в присутствии жены приставай.
— Тоже мне, выдумаешь, — хохотнул Вася.
Богдан терпеливо уточнил:
— В смысле приставай по разным пустякам. Тут учить не буду — у каждой семьи свои сокровенные пустяки. Допускаются даже абсурдные обвинения кратковременного характера. На следующее утро, в крайнем случае, скажешь: ничего не помню, выпимши, кажись, был, не выдумывайте, маменька. Не в этом суть.
— Ну, и что потом? Извиняться?
Богдан поморщился:
— Это детали. А зерно мероприятия, Вася, в том, что на чью сторону твоя жена встанет в этом принципиальном споре, того она и… Как говорит моя внучка, того она и больше любит…
Богдан неожиданно слегка покраснел, явно смутившись своего нетипично сентиментального вывода. Концовка получилась скомканной:
— Ну и далее — выводы по тексту.
— По какому тексту? — задает Василий ненужный вопрос, который, как ни странно, дает «положительный» эффект: Богдан, с гримасой безнадежности, машет на «ученика» рукой, откидывается на подушку, и, мечтательно подсунув под голову ладошки, сравнительно надолго замолкает.
Однажды вечером, когда Богдан возился «на природе» со своей «электрикой», его компаньон поведал мне свою историю.
Василий, бравый дембель-танкист, после армии не покинул родного села, остался работать механизатором. Вскоре женился на бывшей однокласснице, которая уже работала секретаршей в приемной директора совхоза. Нужда заставила — пошел в примаки: ее родители выделили комнату для молодых. С тестем и тещей отношения, слава Богу, задались. Да и как не задаться: Василий — парень покладистый, теща — учительница, можно сказать, психолог. С тестем, тоже механизатором, — вообще никаких проблем: работать, на охоту-рыбалку — только вместе, пузырек после работы — то же самое…
Родился ребенок. И дальше б так хорошо, как было. Да нет. Вскоре как что-то надломилось, не стало везения у Василия. С нового трактора убрали, перевели в реммастерские — с утра до ночи в мазуте, а зарплата в три раза меньше прежней. К кому только не обращался, до директора совхоза дошел. Бесполезно. В какой работе, говорят, есть необходимость, ту и даем. Темнят что-то, а на какой резон — непонятно. Оно, конечно, с едой проблем не было: огород, скотинка — овощи, фрукты, мясо, молочко… Но и одеваться бы еще тоже не мешало по-человечески. Сам он и в фуфайке походил бы сколько надо. Да вот жена — все-таки современный человек, сельская интеллигенция, десять классов, телевизор смотрит, книги-газеты читает. Опять же дите подрастает.
Нет, супруга много не упрекала, а только иногда смотрела с укоризной, вздыхала… Не досидев положенного в декретном отпуске, вышла на работу. Обосновала, глядя в сторону: директор убедительно попросил. Вскоре пришла с обновкой, — сережки на ушках камешком-слезинкой поблескивали. Нет, он, Василий, был не против. Даже посетовал на свою недогадливость — сам, олух невнимательный, обязан был давно спросить: что нравиться, что купить и тому подобное. Мотоцикл бы продал. Настолько чувствовал свою вину, что даже не поинтересовался, на что, на какие деньги приобретена эта золотая безделушка? Сама рассказала: «Премию директор выписал. За хорошую работу». Тихо так сказала и ушла на кухню. Если бы громко, с вызовом, — наверное, легче было бы. Всю ночь Василий ворочался, а на утро заявил: уезжаю на Севера. А как раз перед этим случаем приезжал в село агитатор, вербовщик тюменский, в гараже адрес оставил — анкету заполняешь, отсылаешь и ждешь вызова.
Дождался Василий этого самого вызова и уехал. Когда уезжал, жена на ухо прошептала, как молитву: Вася, или вместе или никак. А как же, сказал Василий, не насовсем ведь отбываю: приеду на новое место, устроюсь, сразу же вас с дочкой заберу к себе, будем жить, как положено семье. Горя-нужды знать не будем. Для того ведь и еду, чтоб стало в семье как положено. На том и порешили.
— …Но это все, Вася, пустяки. То, что в предыдущих параграфах нашей с тобой беседы было зафиксировано, можно сказать, пустяки. По сравнению с тем, что с бабой, женой то есть, как мной тебе уже многократно указано, нужно производить без всяких предварительных условий, без всяких сносок на ситуацию и времена года.
Сегодня Богдан выглядел помолодевшим. Он зачем-то, несмотря на то, что в вагончике было достаточно тепло, весь вечер оставался в своем почти новом френче, который, по собственному признанию, обычно надевал в выходные дни, когда выезжал с дежурной вахтовкой в город. Но сегодня будний день, и эта «праздничность» придавала некоторую агрессию его облику, возможно, еще и потому, что речь была необычайно уверенной. От френча, а возможно и от самого Богдана вовсю несло тройным одеколоном. У него поблескивали глаза, что, впрочем, само по себе еще ни о чем «таком» не говорило и могло, в частности, свидетельствовать просто о душевном подъеме и хорошем настроении.
— Бабу, Вася, жарить нужно. Из всех орудий. С земли. С воздуха. С воды. Из-под… Чуть не сказал: из-под земли, прости Господи. Возможны фазы ковровых бомбардировок, как во Вьетнаме. Извини за бесчеловечный пример для демонстрации общечеловеческих ценностей. Не знаю, какая там еще в ваших танковых войсках есть терминология. Одно слово: жарить! Можно сказать, по расписанию. Не так, чтобы по числам, нет, — тут тоже по перегибу обратный эффект может получиться, — а вообще. Ты, вот, сколько уже дома отсутствуешь?..
— Я ж говорил, сколько. Или у тебя с памятью чего? Последствие войны…
— Ты, Вася, не иронизируй, — Богдан одернул френч, пощипал кадык, пошевелил морщинистой шеей, как будто поправлял невидимую бабочку. — Я тебе о серьезном. Баба терпеть — месяц, два. От силы три. Ну, четыре, ладно! Четыре месяца баба терпеть будет, а дальше что?
— Что — дальше?
— Вася, бабу ж-то — жарить нужно! Ты вообще, о чем думал, когда пятый месяц пошел твоего здесь пребывания?
— Что-что!.. Ничего.
— Вот, — Богдан горестно вздохнул и покачал головой, закатив глаза к потолку. — Я так и думал, что ничегошеньки он не думал.
Вася, зная, куда идет поворот беседы, решает опередить Богдана.
— Богдан, ей там некогда об этих делах думать, понятно?
Впрочем, опережение вялое и, похоже, никак не влияет на Богдана.
— Что значит некогда! Тоже мне Колумб. Америку открыл. К этому самому делу, Вася, не прилипает слово «некогда». Синтаксический абсурд, пассаж. Стилистический нонсенс. Не верь, если услышишь подобное. Игра, мишура, жеманство — в лучшем случае! А в худшем…
— А в худшем? — как эхо вторит Вася.
— Вот именно: «а в худшем»! Я, можно сказать, просто так сказал «а в худшем».
Это был, по всей видимости, новый поворот, потому что Васины брови взлетели вверх, притом, что взгляд уперся в столешницу. Вася не успевал за ходом мыслей Богдана не столько по причине пулеметной скорости их озвучивания, сколько ввиду того, что они, эти мысли, то и дело заворачивали неожиданные зигзаги и колена.
Богдан некоторое время наслаждался произведенным эффектом, закуривая свою очередную беломорину, огромную на фоне маленького куряки.
— Смысл в том, Вася, что баба в этих случаях всегда права…
— Права… В каких случаях? — Вася начал путаться в простой логике.
Богдан не давал покорному оппоненту опомниться:
— А виноват, Вася… кто?
— Кто? — Вася попал в ловушку.
— Ты. Вот кто! — Богдан глубоко затянулся и откинулся на подушку. Затем быстро сел, приняв первоначальное положение, как будто опомнившись. — Мы отвлеклись, Вася. Твоя вина уже доказана, адвокат повержен, не об этом сейчас речь. Коню понятно. Вот ты говоришь, что бабе… некогда. Во, дает! Может быть, скажешь, что еще и не с кем… душу отвести.
— Не с кем, не с кем, — Вася махнул рукой. — Что-то ты сегодня какой-то приставучий. Я ж тебе рассказывал, что пишет: с работы в детский сад, потом домой, корову подоит и спать. Да и соседи меня ни за что не обидят. У нас все бережно. Не то что у вас. «Мир обнажен, мир в бикини, три кита»…
Наверное, Василий хотел сказать что-то очень важное, но Богданова красноречия ему явно не хватало. Он очередной раз махнул на Богдана рукой.
— Я тебя не понимаю, Вася, — Богдан втянул голову в плечи, выражая крайнюю степень недоумения, поменял нормальную речь на хриплый шепот. Соседи его, видите ли, не обидят!.. Убей меня, не понимаю, при чем тут вообще ты. Кто ты такой? Тебя там нет, в конце концов, оглянись, где ты… Ладно, — теперь уже Богдан махнул на Васю. Вынырнул из плеч, крякнув, отрегулировал голос на нормальный тембр, — Ладно. Тут, я вижу, мне что-то недосягаемо. Тут мы в разных плоскостях. Ты мне ответь на простой, очень простой, простейший вопрос: у тебя кум есть?
— Ну, есть. — Вася врубился в ситуацию, и чтобы не споткнуться об очередное «колено» Богдановых рассуждений, тут же пояснил: — Кум у меня отличный человек и живет далеко, в соседнем совхозе. Километров за двадцать. И то если по лесу, напрямую.
Богдану этого и надо:
— Удивляюсь, Вася, твоей наивности. Нет… Нет! Ничего не буду тебе говорить. Не в моих правилах. Только на себе, так и быть, покажу. Хоть это и, говорят, плохая примета. Ну, уж, ладно…
— Как хочешь, — Вася хохотнул, как обычно, без улыбки.
— Что бы я, к примеру, Вася, делал, если бы у меня в соседней деревне жила-была кума, а? Золотая кума, у которой, понимаешь, муж, в полугодичных командировках пропадает? Безжалостно, заметь, пропадает. И при этом, как он, этот бесчеловечный супруг, сам иногда признается, ни о чем — ты представляешь: ни о чем!.. — не думает. А? И при всем этом мне до нее, до кумы, — каких-нибудь пару десятков верст по… по лесу, болоту, пустыне Кара-кум! Да я на мотоцикле, на ишаке, на воздушном шаре, Вася, на плоту какого-нибудь Тура Хейердала — обязательно прибуду проведать мою драгоценную куму. Молчи, Вася, молчи! Если хочешь знать, только честно, без обиды: да плевать я хотел на моего так называемого кума! Да я отрекаюсь от него, если хочешь знать! Пусть я вероломный Брут, пусть… Но кума, Вася, для меня в такой ситуации — святая в своей непорочной желанности женщина. Я к ней, как зомби, — приеду, приду, приплыву, приползу!..
Богдана понесло. Уже с минуту его глаза почти не открывались. Это походило на транс. Он уже почти выкрикивал:
— Кто? Соседи? Не увидят. Я поздно вечером приду. Тесть? Стакан самогона моя кума милая своему тестю нальет — граненый стакан! Два! Будет спать, как убитый. Теща? Родная кровь — не выдаст доченьку, и всегда поймет! Что? Устала после дойки? Расскажи об этом Назару, посреди ташкентского базару! С устатку — самое то!..
Василий, взяв со стола пачку папирос, оделся и вышел на воздух.
После приезда с северной командировки я уволился из наладочного управления. Перешел работать в НИИ, о чем до сих пор не жалею.
Встреча с Богданом произошла через несколько лет, в Сочи, где мне довелось отдыхать. Как потом выяснилось, мой старый знакомый приехал в город из своего поселка на электричке. «Внучка на каруселях покатать, по магазинам прошвырнуться». Он долго не мог узнать меня. Напрягая память, хмурил бровки, ставшие совсем седыми. Потом закивал неуверенно: да-да, припоминаю. Возможно, он вспомнил не конкретно меня. Это подтверждало мою давнюю версию о том, что играть в «театре одного зрителя» — его амплуа. Он не запоминал зрителей.
— Вася? Ну, был такой Вася. Был, был. Да весь вышел. Поехал за женой, а до этого, понимаешь, все, вроде бы устроил: комнату в общаге получил, пару кроватей, на кухню чего-то. Ну, по северному варианту — вполне достойно. Сам я грузить помогал. А вот приехал к себе домой в сельскую местность… Целый год, выходило, дома-то не был. Да. Ну, и директора своего родного совхоза, вроде, говорят, ни с того, ни с сего, это самое, — чпок, и застрелил. Да, говорят, тут же отшагнул, стволы в рот вставил и — готов. Душа в космос мозги на тополь. Ужас. Я сам, правда, не видел…
— Богдя! — требовательный оклик. Оказывается, Богдан был не только с внуком. Невдалеке, возле парфюмерного киоска, застегивала сумочку крупная, крашеная по седине пожилая женщина со строгим взглядом. Рядом крутился мальчик, видимо, Богданов «внучок». Женщина, не двигаясь с места, уверенным, быстрым манком пухлой ладони призвала супруга к себе.
Богдан вдруг как будто раздосадовавшись на свою излишнюю разговорчивость стал быстро закругляться:
— Ты, гражданин, того… Я тебя, понимаешь, не знаю, кто вы такой и откуда. Наладчик!.. Много там, понимаешь, было наладчиков-монтажников. И все — проездом, проездом. А проездом ведь суть не уловишь. Так только, — он повертел ладошкой с полусогнутыми пальчиками, — макушки-верхушки. Хи-хи да ха-ха, да это дело, — он щелкнул по горлу, — некоторые даже одеколон за милую душу… Кто вот, к примеру, на Васю-то, снаружи мог подумать… А ведь я с ним рядом жил-спал. Кругом ножи-вилки, отвертки разные. Получается, можно сказать, я по лезвию ходил. Под дамокловым мечом. Последнее время проснешься иной раз среди ночи, а он сидит курит, глазами лупает. А чего сидеть, когда спать полагается? Сейчас аж жутко становится… Ладно. А вас вот, извини, не припомню…. Не обижайтесь. — Он обернулся и, как показалось, демонстрируя независимость поведения от супруги, обратился к внуку: — Сейчас, внучок, сейчас…
Отойдя немного, он не удержался, оглянулся и бросил через плечо в сердцах, чуть ли не плаксиво:
— Учишь, учишь иной раз человека… Со всей душой. Чтобы не ходил, понимаешь, в розовых очках… Время тратишь. А он возьмет, да по-своему!.. Да еще как! И, главное, совсем не в те ворота!..
ПОЛУОСТРОВ НАЛИМ
Времена романтического Севера кончились. Большинство нынешних северян никакие не бродяги и даже не охотники и не рыбаки. Живут в многоэтажных домах, смотрят телевизор, блуждают по интернету. В соответствующий сезон некоторые, исключительно ради разминки, гуляют по грибы и ягоды, а самые ленивые, но компанейские, иногда жарят шашлыки на ближайшей облезлой опушке.
«Скукотища. Причем, скукотища особая, северная. Более цепляющая за живое. В думах о неиспользуемых потенциалах в череде убегающих лет. Ведь стоят наши северные города, по сути, посреди тайги, тундры. И неспроста, видимо, нордическое небо посылает нам особые знаки замысловатыми переливами полярного сияния. И говорит оно: о, люди, вы — часть природы!..» И так далее.
Все эти космические банальности сладкоголосо выводил мне коллега по работе, очкастый романтик, нежно встряхивая перед одухотворенным ликом холеными тонкими пальцами и поправляя мизинцем гладкий чубик, похожий на челку. Между тем, с его стороны это была обыкновенная агитка. Он убеждал меня ехать с ним на рыбалку, чем я серьезно не занимался лет десять. «Скукотища!» — то и дело повторял он, волнуясь, боясь, что я откажусь. Он повторял это «словище» так, что, вопреки ожиданию, от него не веяло грустью, не мучило совесть, не хотелось застрелиться. Наоборот — оно получалось радужным, озаренным предвкушением забытого рыбацкого трепета. Разумеется, в таком варианте оно тоже работало в пользу доводов коллеги. Для коего вопрос был решенным. Он нашел кампанию рыбаков, которые брали его в грядущую субботу, на «брусничный полуостров». Было ли это названием географической структуры или характеристикой ее ягодной урожайности, мне до сих пор неизвестно. По словам коллеги, у этих его новых друзей была сторожка на полуострове, вокруг которого — девственные озерца, кишащие рыбой и ондатрой. По суше полуострова пешком ходили лоси и глухари. Коллега уверял, что иногда эти непуганые животные подходят к рыбацкому костру погреться. Это, конечно, было уже слишком. Но если хотя бы часть из красочно описанного правда, то я еду. Именно так я сказал коллеге, устав его слушать. Еду при одном условии: подготовка к прогулке на полуостров не должна требовать насилия над моей закостеневшей ленью.
«Что т-ты! — замахал аристократическими конечностями коллега. — Возьми, что найдется. Можешь ничего не брать, езжай, какой есть. Ведь само ужение рыбы — не главное! Выкладывай сумму на провизию — и жди уик-энда».
Мой коллега имел одну из типичных северных судеб. К тридцати годам ему опостылела холостая столичная жизнь, проведенная «в бетоне, смоге, техническом шуме и людском гомоне», и он подался на Север. Здесь, проработав месяц в «романтических» трассовых условиях, быстро понял, что действительно потерял. Но, к счастью, не безвозвратно: быстро сориентировался и удачно осел в нашем Управлении — письменный стол, компьютер, телефон. Здесь у него опять появилась уйма времени, чтобы мечтать. И вот, мечты, похоже, начинали воплощаться.
Вряд ли я поехал бы в другое время. Но сейчас я «холостяк» — жена в отпуске, в каком-то санатории, где лечат от… У нее целый букет. Но, говорят, все — следствие. Поэтому лечат нервы. Раньше я не только рыбачил, но даже и охотился. Но потом она стала мне печально говорить: у нас, что проблемы с питанием? Разве мы не имеем возможности купить все это, и даже более и интереснее того? Лучше побудь со мной. И сыграй на гитаре — мне, а не своим бродягам. Что тебе приготовить — уху, шашлык? Хочешь, я куплю рябчиков? Мы приготовим шулюм, или как вы его называете, — хорошо, ты сам приготовишь… У нас холодильник забит едой, как будто некому есть…
Да, ты права: у нас некому есть, некому носить вещи, некому смотреть телевизоры, которые мы, зачем-то, поставили во всех комнатах. Три телевизора на двоих. У нас некому!.. Зачем я так? Я не могу, когда женщина плачет. Не плачь. Я останусь… в следующий раз. Однажды я остался. Потом само собой исчезло мое ружье, куда-то подевались болотные сапоги и парусиновый плащ, присмирела в шкафу гитара… Стала тихо писаться никому не нужная диссертация: оставшись ради той, за которую в ответе, я придушил в себе эгоиста, но я должен чем-то жить. Иногда ко мне, пишущему за столом, сзади подходит жена, гладит мою голову, целует «в маковку» и уходит.
Я суеверный, мне трудно порой отделаться от какой-нибудь мысли. Сейчас я подумал, что не буду специально готовиться к рыбалке, иначе мне не повезет. Перенял от жены? Она в молодости часто говорила: я загадала. Вот и я загадал: возьму с собой только то, что найдется в гараже.
В моем гараже нашелся старый рюкзак, метров двадцать лески с палец толщиной и несколько ржавых крючков разного калибра.
В субботу утром мы с моим доверчивым коллегой в составе банды рыбаков (так я окрестил эту колоритную группу, бородатую и, как показалось, хронически хмельную, после первых минут знакомства) выехали на «вахтовке» по грунтовой дороге, тянущейся по лесотундре вдоль бывшей сталинской узкоколейки.
Выгрузившись, свернули с дороги и долго шли по лесу. Наконец заблестела вода — нашему взору явилась речка Правая Хетта, витиевато живущая (если смотреть с вертолетной высоты) среди лесных грив, озер и болотных проплешин Ямальского Севера. Во множестве мест ее крутой змеиный зигзаг творит полуостров, омывая часть суши с трех сторон. Накачав спрятанную в кустах резиновую лодку, мы, в три заплыва, переправились на другой берег, край очередного полуострова, где нас равнодушно встретила рыбацкая сторожка. Это была не та лесная избушка, которая множественно описана в классических таежных романах, где путника ждет запас дров, муки, крупы и даже сухарей, табака и патронов. В этой были только соль и спички россыпью, видимо, кем-то оставленные за ненадобностью. А внешне из себя она представляла современный вариант вигвама, как шутят рыбаки, — конструкцию из лиственничных жердин, обшитых досками, обтянутых черной изоляционной пленкой, с дощатыми нарами и полками.
Свечерело. Торопливый костер перешел в основательное огнище. Волосатый Распутин многолико, с десятка литровых бутылок, одобрительно сверкал гипнозными очами на бушующих рыбаков, пугающих песенным ревом еще недопуганные остатки северной природы. Настоящие бродяги — всегда демократы: никогда не будут приставать с расспросами, убеждать попробовать то-то, сделать так-то. Это был тот самый случай: на меня, казалось, никто не обращал внимания, в то же время я не чувствовал себя лишним. Что касается моего коллеги, то быстро опьяневший, как от внезапного счастья, коллега у костра был беспомощен и страшен одновременно. Мне показалось, что цивилизация начисто выхолостила из его генов программу, отвечающую за естественные движения и звуки, которые обычно непременно проявляются раствором алкоголя соответствующей концентрации даже у безнадежно далеких от натуры «цивилов» в десятом колене. Словно пляшущий мутант, с желтыми, огненными пятаками вместо глаз и очков, он выделывал у пламени какие-то невероятные, невиданные мной доселе движения, и пронзительно ритмично визжал, как будто кто-то в кустах без устали давил на устрашающий клаксон. Кажется, это, по логике моего коллеги, было возвращением к природе.
Так и прошла ночь — у костра, под неусыпным, допинговым бдением «Распутина». Нары вигвама понадобились лишь некоторым. В том числе моему, в конце концов обессилившему коллеге. «С утра пойдем рыбачить», — как новость невнятно шептал он мне на ухо под самое утро, прежде чем заснуть до самого вечера. В этом грядущем этапе поведения рыбаков, не без сарказма подумал я, была практическая необходимость: консервы съедены, к вечеру, чтобы пережить еще одну ночевку, нужна уха. Действительно, с похмельным рассветом, демонстрируя присущую настоящим рыбакам выносливость, ночные собутыльники разбрелись по полуострову, направляясь в основном в глубь, в сторону от реки. Именно там, по рассказам коллеги, находились кишащие рыбой девственные озера. Однако на самом деле, судя по тому, что «вигвам» появился здесь достаточно давно, несколько лет назад, — что следовало из рассказов, говорить о невинности этих мест можно было лишь с большой натяжкой.
Оказалось, что у всех рыбаков, несмотря на их, мягко говоря, неинтеллигентный вид, отличная, соответствующая хобби, экипировка. Особое мое удивление касалось удобных телескопических удочек, а также спиннингов самых разных расцветок. Можно было подумать, что «банда» на самом деле представляла собой участников соревнований по спортивной рыбной ловле. Моя амуниция, из ржавых крючков и куска толстой лески, стыдливо прячущаяся в кармане, безнадежно уступала данному великолепию. Именно по этой причине я не увязался ни за кем из «профессионалов», а ушел в противоположную сторону — пересек полоску леса, спустился к берегу реки, подальше от того места, куда вчера выгрузила нас резиновая лодка, и где мою бедность никто не мог созерцать. Я выбрал место с невысоким обрывом, где сказочная темнота вод, согласно не столько опыту, сколько минутному наитию, сулила надежду на необычный улов.
Дьявольские ли пары «Распутина», которого, ради справедливости сказать, я прошедшей ночью старался потреблять по минимуму, или некий антагонистический протест, движущая сила революций, — что-то из этого, а может и все вместе, подсказало мне идею демонстративно поймать самую большую рыбину, желательно гигантскую щуку, дабы доказать свою рыбацкую состоятельность, на самом деле мало зависящую от экипированности.
Я нашел подходящую, недлинную, но толстую березовую жердину. Привязал к этому несгибаемому удилищу леску «миллиметровку», маниакально радуясь ее прочности. Из четырех крючков и той же лески, с помощью прочнейшего узла, названия которого до сих пор не знаю, связал приличный якорек, который, ввиду своей массивности сам мог быть грузилом. Однако для большей обстоятельности роль донного утяжелителя я доверил моему ключу от гаража, очень кстати оказавшемуся в кармане.
За насадкой пришлось сбегать к вигваму, из которого по-прежнему торчали ноги моего коллеги и доносился его хрюкающий храп. Только ли ругал я его в тот момент или еще благодарил за подаренную возможность отличиться? — точно не помню. Возле увядшего костра, из подходящего моему и щучьему интересу, кое-что нашлось: обрезок копченой колбасы, в оболочке и со шпагатным бантиком, и полбуханки хлеба, испачканной в саже. Все это было торопливо захвачено и унесено к берегу. Кусок хлеба предназначался мне — для того чтобы продержаться до поимки щуки, без которой я уже окончательно решил не возвращаться в лагерь. Колбасный обрезок, соответственно, был насажен на якорь суперудочки и даже, для прочности, подвязан к нему упомянутым шпагатиком.
Итак, удилище вогнано в песок. Размах, бросок, громкий шлепок по воде, — и рыбалка для меня, наконец-то, после десятилетнего перерыва, началась.
…Надо сказать, что это уже был конец августа. Как говорят на Севере, уже не лето. Реальная осень желтила и обгладывала березу, солнце не грело, его просто не было видно за неконтрастными, как воспрянувший к небу туман, облаками. С похмельем пришло понимание холода, которым тянуло от воды и сырого песка. Но костер разжигать я не стал, чтобы не привлекать внимания к своей «особенной» рыбалке. Тем более что в лагере уже слышались голоса — это проснулись засони в вигваме и возвращались рыбаки с озер. Вскоре потянуло вкусным духом варящейся ухи, а еще через некоторое время, уже в сумерках, загорланились песни — я заметил, что они были уже не так громки: народ устал. В полночь, это я зафиксировал по своим часам, все стихло. Видно, что на мое отсутствие пока никто не обратил серьезного внимания. Только несколько «ау» перед полным затишьем. Это очень кстати. И все же: эх, коллега…
Надо ли уточнять, что у меня все это время, с утра до ночи, не было ни клева, ни поклевки? Утром нам предстояло отчаливать домой. Я тоже, как, наверняка, и все рыбаки в лагере, был уже без сил, глаза слипались, было очень грустно — оттого, что моя сегодняшняя мечта не реализовалась, что завтра будет немножко стыдно перед собой за возвращение без улова. В качестве утешения — рассеялись свинцовые облака, и в небе появилась ласковая луна, волшебно озарив окружавшую меня природу. Чуть в стороне, из прибрежной полоски воды, рядом с дрожащим блином отраженной луны, выявилась острая мордочка ондатры. Не обращая на меня внимания, она проплыла под удочкой, похожая на мокрую варежку. Стало тепло и уютно, сон и явь смешались.
…Кого-то принес аист, кого-то нашли в капусте. А меня поймали в реке. Я проплывал… Зашли в воду, взяли на руки, прижали к себе, вышли на берег… Так говорила мама. Я часто пытался представить себя плывущим, тогда. Плыл ли я, играя — ныряя, выныривая. Или просто лежал на волнах, и смотрел в небо. Почему маленькие не тонут? Вот так, отвечала мама, не тонут и все. А откуда я взялся, плывущим? Из реки… А что я там делал до того как меня… поймали? Просто… жил, наверное, особенным образом; пришло время, и мы тебя… забрали из воды. Зачем? Ты стал нам нужен. А почему я ничего не помню? Так надо, да и вообще: маленьким полагается помнить только с определенного возраста. А где мне было лучше, там или здесь?…?
Даже родители, оказывается, не знают всего. Для них я: взялся, явился, материализовался — и поплыл.
В детстве я часто таился на вечернем берегу: вдруг кто-то, маленький, поплывет мимо… А что бы ты с ним сейчас делал? — смеялась мама. Играл, дружил бы… Придет твое время — и ты его обязательно поймаешь. Раньше он все равно не появится…
Это было не здесь, — гораздо, гораздо южнее. Большинство взрослых северян — пришлый народ. Даже если умереть здесь и быть похороненным в вечной мерзлоте, все равно остаешься пришлым, «памятным» — пришедшим сюда на памяти, чьей-то. Что касается моей, — иногда я жалею, что она у меня есть… Лучше бы я был «беспамятным».
…Куда ты ушел? — ты был таким хорошим: звонкоголосым, красивым… Желанным и любимым. Я мечтал, — эта мечта была трогательной, наивной, бесполезной, невинно навязчивой, — мечтал, что позже, в надлежащий момент, когда ты спросишь: а меня?.. Вот тогда, умиляясь и смеясь, я скажу такое знакомое, красивое и удивительное, которое, несомненно, повлияло на то, каков я есть, — а я хотел, чтобы ты повторил меня, счастливого, — я скажу, прошепчу, выдохну: из реки!.. Я хотел, чтобы ты, вырастая, как можно дольше верил в сказку: и пока верил бы ты, верил бы и я, ради тебя. Но вышло наоборот: ты вынул из меня и забрал все, что было возможно. До тебя, до того, как ты появился, в реке жили русалки, водяные, нептуны… После тебя, после того как ты… — только рыбы.
…Удочка, как живая, стала выворачиваться из песчаной лунки. Затем решительно дернулась, совсем отделавшись от твердыни, и поползла к воде. Только когда она хлюпнулась и попыталась унырнуть, скрыться от меня безвозвратно в пучине, я, стряхнув дрему, понял, в чем дело. Не раздумывая более, рухнул в речку, замочившись по пояс, но удилище ловко ухватил и, стараясь не делать резких движений, осторожно пошел обратно к берегу. Моя мечта, моя удача была уже близко, на том конце двадцатиметровой лески, оставалось только аккуратно вытащить ее на берег и, как говориться, схватить за хвост, взять за жабры…
Выйдя на берег, я, поминая ранний рыбацкий опыт, стал вытаскивать свою удачу на берег по всем правилам, не терпящим торопливости. Если у рыбы много сил, и она относится к резвой породе, ее нужно будет «поводить», — то отпуская, то подтягивая, — пока она не устанет, и только после этого уже быстро вытягивать на берег. Иначе уйдет — порвет либо леску, либо губу. Что это была крупная рыба, я не сомневался: сильно не сопротивляясь, она, тем не менее, шла ко мне довольно тяжело, чувствовалась приличная масса и сила.
Я ожидал увидеть острую пятнистую морду щуки, похожей на осиновое бревно. Но увидел какое-то страшное тупое рыло, подобное началу черной торпеды или маленькой подводной лодки. Как бы то ни было, за неимением подсачника, нужно теперь вытащить «это» хотя бы в полтуловища на берег, после чего крепко ухватить за жабры…
Полтуловища этого водяного чудовища на берегу, — прижав леску коленом к земле, превознемогая минутный страх, протягиваю руки к жабрам, стараясь не попасть в разверзнувшийся рот, из которого, как погремушка на резинке вдруг выскакивает мой самодельный якорек с ключом от гаража. Чудовище сползает обратно в свою стихию, еще не понимая, что спасено. Пользуюсь его секундным замешательством, и быстро сжимаю ладони на середине скользкого торпедообразного тела. Моя торопливость не очень продуктивна: я не попадаю в жабры, поэтому дернись сейчас рыбина — ее просто не удержать. А перебирать ладонями уже нельзя. Оценив все это в мгновение, стоя на коленях, приподнимаю из воды уже напрягшееся, готовое к спасительному для него движению, тело, и, собрав все силы, борцовским приемом тяну его на себя, а затем перебрасываю через плечо подальше за спину. Сам после этого, по справедливым законам физики, реактивно скольжу в обратную от броска сторону, в воду, падаю с обрыва. На этот раз погружение было неуклюжим и полным. Впрочем, я быстро сориентировался и, определившись с донной твердыней, пошел к берегу, стряхивая с лица застившую глаза воду.
Налим, — а это было уже ясно: огромных размеров налим, — совершая сгибающе-разгибающие движения, благодаря береговому наклону, продвигался мне навстречу.
Я спешу, поэтому в неуклюжем продвижении, шумно преодолевающем сопротивление жидкости, пригибаюсь к воде.
Мы встретились лицами, мордами, харями на самой границе воды и земли. Он открыл пасть, — от неожиданности я отпрянул. И поскользнулся, завалился в сторону, напоролся ребрами на что-то острое, наверное, на корягу. Непроизвольно вздохнув от боли, втянул в легкие порядочный глоток воды. Закашлялся, прижав руки к груди.
Надо сказать, что с момента, когда мои руки прикоснулись к этому чудовищу, он для меня стал — мыслящим существом, и все его действия уже были осознанными (такое «одухотворение» ситуаций — моя странная черта, помогающая, впрочем, бороться с обстоятельствами).
Итак, мои неудачи прибавили сопернику уверенности, и он уже свесил голову за край обрыва. До воды — полметра. Я сделал единственно верное в той ситуации: в вымученном броске вытянул руки, и, что было силы, толкнул его от себя, от воды, — он, громко шлепая, перекатился, прилично отдалившись от кромки берега. Видимо поняв, что бороться со мной можно и нужно, он опять зашевелился, и вследствие этого опять заскользил ко мне. Однако на этот раз мне удалось выползти на берег раньше, чем налим приблизится к воде.
На суше я понял, что силы мои на исходе, сердце выскакивало из груди, состояние стало близким к обморочному, я уже ничего не видел. Сказывалось то, что я уже вторые сутки не спал, не говоря уже о критичности ситуации, отнявшей много сил, — борьбе, волнении, ушибу груди. Я просто рухнул вперед, туда, где должна была быть рыбина. Удачно — подо мной заходило крепкое живое тело. Движения были отчаянными, и потому казались сильными.
Он был мокрым и скользким, как и положено налиму, поэтому, как мне казалось, по-змеиному выскальзывал из-под меня. Вода была совсем близко. Я постарался просунуть руку под собственное, непослушное сейчас тело, чтобы, прежде чем потеряю сознание, поглубже, до запястья, до прочного там застревания, вставить ладонь под жаберную крышку. Наконец показалось, что мне это удалось: ладонь, преодолевая сопротивление, вошла в шершавое отверстие, — но после того, как мне там стало тесно и больно, я понял, куда попал. Впрочем, с этого момента налим уже практически не сопротивлялся, а к боли в руке, полежав немного в покое, я привык, тем более что грудь болела сильнее.
Мы лежали долго. Я уже никуда не торопился. Налим затихал все более, а я в это время, как мне казалось, приходил в себя. Настал момент, когда я, превознемогая боль в груди, перевернулся на спину, ладонь оставалась в пасти у налима. Мы еще какое-то время полежали так: я — навзничь, руки в стороны, одна ладонь в пасти мертвого налима; налим — на боку, безжизненно глядящий одним глазом на того, чья ладонь застряла в его онемевшем рту. Вот оно, возвращение в природу…
…Мокрая земля, через мокрую одежду, вытянет из меня тепло. Я умру. Быть может, пока не поздно, собраться с силами и сползти в воду, до нее метр, и уплыть, и умереть там, умереть туда. Откуда явился, взялся, материализовался, — чтобы бесполезно, бесцветно жить, чтобы бесплодно умереть. Меня бы, застрявшего под корягой, съели налимы, братья и сестры того, которого я только что, неизвестно зачем, убил: была бы польза, пища речным санитарам, на несколько ночей, наверное…
…Агу-у! Э-эй!.. Почему ты лежишь такой — непохожий на себя. Что с тобой стало? — ты кусаешь мою ладонь… Перестань, мне больно. И страшно. Ты должен держать в своих ладошках, теплых и мягких, всего лишь один мой палец. Ты должен причмокивать и улыбаться во сне. Помнишь? — где-то рядом должна тихо, чтобы не разбудить нас, плескаться мыльная вода, в пластмассовом корыте… А я не должен плакать. Как плакала… она, когда, после переезда в новую квартиру (мы не могли оставаться в прежней), не смогла найти медальона с пучком твоих… Она странно смотрела на меня, а я отводил глаза и делал вид, что ищу… М-ммм!.. Это я от боли, отдай мою руку, я положу ее на свою грудь. У меня там невыносимо болит. Ты что-то сломал, разбил там, может быть сердце… Такой маленький — а разбил…
Чу!.. Ты такой большой и темный. И холодный, как земля. Бр-р-р! Нет, предыдущее не про тебя. То я, можешь считать, выдумал. «Не было» или «нету» — какая разница? — никакой! Но первое — легче. Я выбираю то, что легче. Извини, старик, отвлекся, давай о тебе. Ты, кажется, действительно — старик, — вон какой большой. Возможно, тебе столько же лет, сколько и мне. Знаешь, я тоже из реки. Мы с тобой, — как это по-нашему, по речному? — не земляки, а… Ну, как сказать? — «изрекИ»… Ты, наверное, хотел бы спросить, зачем я тебя поймал? Точного ответа не знаю, некогда было об этом подумать, как ты помнишь. А зачем ты позарился на странную насадку, пищу, которая не водится в твоей реке? Ведь неизвестное всегда опасно. Это было твоей ошибкой. Наверное, так: я человек, ты — дичь. Действительно, я найду тебе применение (и оправдание себе). Я выну из тебя печень, это деликатес. Из твоего массивного тела я сделаю фарш. Но… Но приедет моя жена и скажет печально: разве нам нечего есть?… Она у меня хорошая, только часто плачет, ей тебя будет жалко. А коллега сообщит брезгливо: фу, налимы едят падаль. Не обижайся, «изрЕк», на нас, на людей. По мне, в чем-то ты благородней нас: иной раз ты поужинаешь живой лягушкой — мы же питаемся только мертвечиной.
…Перед самым рассветом луна зашла за тучу, стало опять темно, когда я отделился от налима, это стоило немалых усилий. Пора возвращаться. Я понес его осторожно, как мертвого ребенка, в лес, прихрамывая и жмурясь от боли. Я не мог его оставить на берегу. Стараясь запомнить место, уложил уже не такое скользкое, подсохшее тело в траву, наверное, решив удивлять рыбаков своим уловом утром, на их свежие головы. Подойдя к «вигваму», обнаружил там спящих вповалку рыбаков и в их числе моего коллегу по работе. В ближайшем рюкзаке нашел аптечку, кое-как перевязал руку. Разжег костер, благо угли еще тлели и готовых дров было много, стал подставлять бока к гудящему пламени для просушки одежды и согрева остуженного и ушибленного тела. Боль немного утихла, и вскоре я забылся, прислонившийся к дереву.
Утро всеобщего пробуждения было поздним. У меня, оказывается, поднялась температура, что быстро определил мой коллега, который, наконец, вспомнил о том, которого он сюда, «на природу», сагитировал. Сильно не интересуясь причиной моего хвора, наверняка полагая, что я заурядно простудился, мне дали немного водки и приказали собираться. Осторожно, стараясь не бередить грудной ушиб, я пошел искать налима и не нашел его. Искать дольше было уже некогда — звали к лодке. Может быть, по причине общего недомогания и легкого опьянения, я отнесся к этому спокойно, если не сказать равнодушно. Даже рассказывать не стал о ночном приключении. Да и без налима — кто поверит? Было — предъяви! А без доказательств тебе самому расскажут подобных историй — сколько угодно.
Это была моя последняя рыбалка, так я окончательно решил. Как мудро сказала моя жена, вернувшаяся из санатория: от рыбалок — одни потери. Действительно, несколько недель у меня срасталось сломанное ребро, трудно заживали раны на руке, остались шрамы, не говоря о простуде. Ключ от гаража, конечно, пропал на том самом берегу реки. Пришлось пилить замок. Впрочем, это уже мелочи. Да и дело, конечно, не в потерях — в конце концов, все зажило…
Коллега по работе активно продолжал поездки с рыбаками. Стал даже участвовать в новом для него виде «романтического, но мужественного развлечения», как он говорил, сопряженного, действительно, с немалым риском, — сплавлялся по реке на обыкновенной весельной лодке. Река более чем спокойная. Но все же это несколько суток непростого пути с остановками в сторожках. Он стал походить на скандинавского туриста-походника: загрубела кожа на конечностях и лице, вместо челки — ершик, кучерявые бакенбарды срослись с овальной выгоревшей бородой, глаза стали просто небесны (голубые контактные линзы заменили очки). Сейчас, когда он действительно возмужал и, по его выражению, встал на ноги (это, видимо, означало больше, чем материальное благополучие), он обрел, вполне эволюционно, следующую мечту правильно жениться. Правильность заключалась в том, чтобы жениться на романтической, бродяжьей душе («…в хорошем смысле этого слова»). Чтобы бродить по тундре, жить в палатках, встречать рассветы на берегу рек, есть дичь и запивать ее березовым соком.
Однажды, через год после того случая — нашей с ним рыбалки, коллега, как обычно после очередной поездки, славословил. Его рассказы, признаться, я давно уже пропускал мимо ушей, лишь из вежливости кивая головой. Но на этот раз ему удалось привлечь мое внимание.
— …Все-таки зря ты завязал. Помнишь тот полуостров, который назывался брусничным? Там, как я уже говорил, тьма рыбы, глухари, лоси, ондатры… А еще, знаешь, никогда бы не поверил. Оказывается, налимы иногда выползают в траву из озера, там, где воды чуть-чуть. А потом вода сходит — и налим на суше остается. И я недавно одного такого нашел! Да-да! Скелет, правда… Вот тттако-ой! Просто удивительно, как он туда дополз! Далековато от озера, почти у реки. Что, не веришь? Действительно, вот такой!
Я, наверное, грустно покачал головой, и у меня вырвалось невольно:
— Убавь немножко…
— Ты мне не веришь? Мне? Ну тогда — бери недельный отпуск, поехали в субботу, мы опять нынче будем сплавляться, туда обязательно заглянем… Он там, скелет… И я даже расписался на черепушке.
— Он мой.
— В смысле того, чтобы я тебе его подарил? Извини, старик, уже не могу. Мы его заскобили в переднем углу вигвама, смеемся, — вместо распятия. Решили, что он будет талисманом тех мест. Полуостров «Налим» — так теперь все это называется. Для нашей бригады, разумеется. Мнение остальных нам безразлично, мало ли кто там останавливается. Но уже замечено всеобщее почитание, мужики вчера рассказали: скелет кто-то уже клеем и лаком обработал. Вокруг на стене — автографов!.. Язычество!.. Божество!.. Возвращение к корням!..
С тех пор прошло еще несколько лет. Я, наконец, домучил диссертацию. Нужно защищать, и писать что-нибудь еще… Во всяком случае, так говорит жена.
Бывший мой целеустремленный коллега воплотил очередную мечту — женился на романтической душе, с которой познакомился у одного студенческого костра. «Душа», совершив с ним несколько перелетов из города на озеро и обратно, после загса «несколько» изменила его романтические взгляды на бытие, и вскоре молодая чета навсегда отбыла от северных просторов — вить гнездышко: не в райском шалаше, но в столичной квартире.
Рыбаков, с которыми ездил на полуостров «Налим», я никогда больше не встречал, лиц не помню. Где расположена та сторожка, в которой висит скелет моего налима, уже не найду (да и там ли он?). Много островков и полуостровов на реке, и, соответственно, — сторожек, «вигвамов». Честно сказать, искать и не собираюсь, на рыбалку совсем не тянет. Недавно вдруг впервые подумалось: а не приврал ли тогда мой коллега про скелет налима? Вполне может быть (не со зла — просто так). Вот так и рождаются легенды: один что-то случайно поймает, другой приврет — и нате вам, жалейте, мечтайте… Отпустил бы я тогда этого налима — и ничего бы не было. Сейчас почти уверен: окажись он живым, когда я пришел в себя на берегу, с рукой в его пасти, — отпустил бы. Но он быстро умер. А мертвого в воду бросать — кто же так делает.
…Если когда-нибудь дорога ваша будет пролегать по северной, приполярной трассе, где-нибудь мимо газового месторождения «Медвежье», — а выбор дорог здесь небольшой, вернее, его совсем нет, — вы обязательно будете проезжать по грунтовому тракту, где несколько десятков километров ваш автомобиль будет иметь с одной стороны хороший ориентир — старую железную дорогу… Нет, так вы не найдете.
…Если вам вдруг придется сплавляться по Правой Хетте до Надыма… Впрочем, это уж совсем маловероятно…
Ну, скажем, если вы случайно будете в наших краях, и местный любитель рыбной ловли или охотник расскажет вам про полуостров «Налим» или что-то в этом роде, про сторожку, в которой прибит скелет налима, опрометчиво выползшего на сушу из озера…
Не верьте, озеро — это чушь. Налимы, хоть и ползают по дну, любят волю, живут в проточной воде. Чего только не расскажет этот народ — рыбаки!
А я уже давно не рыбак. Поэтому хочу, чтобы вы знали правду: тот налим — мой… Вернее, мы… были с ним знакомы… Совсем недолго… На суше он жить не мог, поэтому быстро умер. А жил он — в реке.
ПРОСТРЕЛЕННЫЙ
…Пуля навылет — ему показалось, что он ее увидел, звякнувшую и покатившуюся по каменному тротуару, побежавшему вниз. И он сам, необычно напрягшись, как бы покатился без сил, на одном ускользающем разуме, на понимании того, что нельзя останавливаться, нельзя показывать тем, кто сейчас смотрит в спину, что его прошило насквозь: пусть думают, что это он просто так на секунду остановился, оттого, что рядом прожужжало что-то, щелкнуло по дувалу, чиркнуло по камням. Нельзя показывать кровь, которая, наверняка, уже залила всю пазуху и спину, и сейчас просочится сквозь гимнастерку, туго обхваченную ремнем, и закапает на камни. Они увидят это в бинокль и сейчас же пойдут следом. А так… дырку в спине, в гимнастерке, издалека вряд ли видно: гимнастерка нова и к тому же великовата, с воздухом, он не успел ее ушить, спина в складках, да и так прохладнее, чем в обтяжку. Пусть думают, что он, завернув за угол, быстро ушел с этого места, спеша по своим делам. Нужно еще сделать какой-нибудь жест, разочаровывающий их напряженное внимание (нет подранка, уходит здоровый зверь, промах, поэтому уйдет, бесполезно догонять, торопиться по следу). Он демонстративно поднимает над головой левую руку, отводит вывернутую ладонь в сторону: «…ах, да, сколько там времени?» Не слишком ли картинно? Удивился, что «как в кино», не чувствует боли, только жжение под правым плечом, а рука безжизненной плетью застряла в кармане брюк, может быть, кстати, — невольная маскировка под непотревоженную беспечность. Что ж, нате еще, последнее: поворачивая за угол, быстро и как бы небрежно, вытянув губы в трубочку, имитирующую простодушный посвист, который наблюдатели просто не могут слышать, как бы машинально оглядывается. Оказалось, двойная польза: убедился, — крови на тротуаре нет.
Вот и спасительный поворот. Дувал — надежная преграда от взглядов тех, кто за ним только что внимательно наблюдал. Все. Все ли? Он опустил голову, изображение резко поплыло, прикрыл один глаз, — предметы нехотя приняли привычный вид. Так и есть — темная, мокрая, тяжелая полоса вдоль пояса, кровь… Сейчас она где-нибудь найдет выход, даже через плотную ткань гимнастерки или под тугим поясом, и предательски закапает, прольется на землю гибельным следом. Через несколько минут они обязательно пройдут здесь, не догоняя, прогуляются, — почему нет? — оставив винтовку с глушителем в укрытии, вдвоем или втроем, чтобы осмотреть место, куда так неудачно положили выстрел, чтобы покачать головами, поцокать языками, весело поупрекать друг друга: вах, какой был шурави, наверное, офицер, вай, как жалко, вроде хорошо прицелился, должен был попасть, э-эах, мазила, как не попал? — вот если бы с оптическим прицелом! — жалко, цок-цок-цок… И, завершая неудачную охоту, полоскаясь от быстрого шага длинными одеждами, растворяться в знойном мареве городской окраины, пустынном полуденном царстве узких глинобитных улочек. Но если увидят кровь, то обязательно начнут искать, заходить во дворы, спрашивать жителей…
Силы покидают. А вот и теплая влага щекотливо и быстро побежала по ногам. Он толкает первую попавшуюся калитку и проваливается во двор, оказавшийся ниже уровня тротуара, от неожиданности падает, подламывая ногу, и ударяется головой об утрамбованную, утоптанную, твердую как асфальт землю. Хотя, он и так бы уже упал, пора, силы на исходе. Он знает, видел — все простреленные в это время уже падают, сколько можно… Он лежит на боку и, не пытаясь поднимать голову от земли, прищурив один глаз и, может быть, постанывая, осматривает двор. Словно потерянный собутыльниками пьяница, не удосуживающийся вынуть руку из кармана брюк, под которыми проступает темная лужа. Подходит седой старик с огромным кетменем наперевес и гневно, удивленно спрашивает по-узбекски (это узбекский район в Кабуле): «Сен каердан кельдынг, урус?» — «Ты откуда пришел (появился, приперся), русский?…» Ему знаком этот язык, он немного жил в Ташкенте. Впрочем, нет, здесь язык не такой, как в Ташкенте, даже он это чувствует, здесь чужой язык. Старик не смотрит ему в лицо, он смотрит на лужу. Нижняя челюсть, наверняка беззубая, прикрывающая десна завернутой вовнутрь губой, трясется вместе с острой редкой бородой…
…Павел проснулся, потрогал живот — мокрый, хлюпающая складка, это от пота. Шевельнул плечом, нащупал шрам, привычный плотный узелок над правым соском груди. Все на месте… Эти сны страшны ожиданием того, что где-нибудь пойдет не по верному — незнакомому, неожиданному, смертельному пути. Хотя, и «верное» ужасно само по себе, если даже без неожиданностей, — годы не притупляют страха. Да, на этот раз все было почти так, как было. Правда, сейчас, в только что минувшем сновидении, он больше, чем на самом деле, думал, анализировал, с дыркой в теле убегая от «духов»… В действительности же… (Впрочем, что значит «в действительности»? — то, что физически произошло или то, от чего страдаешь?) Многозначность слова определяет панику души… Значит, выход в том, что нужно возвращаться к определенности, однозначности. Итак: если быть точным, то это он потом, много позже, присочинил себе, что сосредоточенно размышлял — тогда. И теперь каждый следующий, один из избитых, с небольшими вариациями, снов прибавляет мыслей тому лейтенанту, пробитому пулей, и плотность ужаса на секунду сна все возрастает. А на самом деле (долой, долой второй смысл!), на самом деле, о чем мог думать простреленный человек?… Ну, вот, уже лучше.
Почти полдень. Нельзя так долго спать. А что делать, если заснул только под утро.
…Потный, чумной после позднего сна, он вывалился наружу, присел в пустом открытом кафе. Здесь можно сидеть просто так. Если хочется. Если неспроста, то изящный, высокий официант, весь в белом, с черной бабочкой, поэтому безликий, тривиальный, наблюдающий откуда-то изнутри стеклянной веранды с затемненными стеклами, неуловимо поймет это и выйдет наружу: чем я могу?…
Посетителей мало — поздняя осень. Еще тепло, но уже падают листья — в бассейн с рыбками, окруженный столиками открытого кафе, в котором мало посетителей, в основном обитатели дома отдыха. Рыбки плавают под чашей спокойного фонтана, создающей тень. В тени они все серые. На самом деле, на свету, они желтые, красные, огненные. Это самые настоящие золотые рыбки с выпученными глазами и вуалевыми раздвоенными хвостами, которых на лето выпускают из аквариума в бассейн. Здесь они, как в природе, инстинктивно начинают бояться людей, поэтому плавают в тени. В прошлую осень, рассказывают, один «новый» велел выловить их и зажарить. Заплатил большие деньги. Но есть, говорят, не стал, побрезговал, что ли, только поковырялся вилкой. Рядом с бассейном, ближе к веранде с кухней, небольшой водоемчик, метр на полтора: тут плавают, вернее, ползают по мелкому дну, стандартные, с ладонь, усталые форели, их можно потрогать за темные спинки, выбрать. Рыбину тут же ловко извлекут удобным пластмассовым сачком, на глазах посетителя (если угодно) почистят от чешуи, вскроют брюшко, выпотрошат и кинут на сковородку. Подадут на стол с охапкой зелени: милости прошу, пожалуйста, господин, госпожа, форель-с!..
Днем тут, как правило, тихо: обитатели пансионата разбредаются по городу, многие на процедурах. Да и вообще, коридоры дома отдыха полупустые, в любое время суток, — бархатный сезон если и рай, довольно многолюдный, то на море. А здесь, в сотне километров от края земли, в это время царит тишина (хотя, может статься, на оптимистичный взгляд, тоже бархатная…) Даже не видно гор, которые могли бы являться, по меньшей мере, зрительным шумом-гулом, их закрывают дремучие кроны вековых деревьев. Горы лишь угадываются в звуках ближней трассы, доносящихся непременно сверху. Но и шорох шин, усиленный акустикой каменного царства, да изредка нетерпеливые стоны клаксонов, идущих на обгон авто, только подчеркивают отдаленность от цивильного гомона, спутника суеты.
И все же вечером кафе оживает. Выползает из своих келий обитатели дома отдыха, подъезжают такси, подвозя местное население, предпочитающее активный вечерний отдых. До полуночи звучат шлягеры, публика вполне достойно отдыхает, забирая последнее перед надвигающейся зимой, которая на четыре слякотных месяца умертвит курортную бесшабашность южного города.
Напрасно он выбрал это место для отдыха. Горы. На море было бы лучше, хотя и там горы. Прибавилось снов, он совсем перестал высыпаться.
…Вчера опять снился издыхающий ишак, кричащий, весь в крови.
… Душман (скорее всего крестьянин в длинных рубищах, при нем не оказалось оружия, только кетмень и садовый нож) лежит рядом, сраженный первой очередью. Ишак страшно кричит, ерзая в пыли, размазывая черную кровь по дороге. Из засады в него стреляют, вокруг фонтанчики из пыли от пуль. Чтобы заглох. Из засады орут, матерятся, силясь заглушить этот трубный крик. Фонтанчики, пузырится одежда на крестьянине. Потом они покидают засаду и двигаются в сторону кишлака. Разведгруппа из пяти человек. Он, которому это снится, старший. Их только что забросили сюда на вертолете. Небо в той стороне, куда они двигаются, омрачено черным дымом… Он то и дело оглядывается по сторонам, удивляясь: сзади день, впереди ночь, кругом горы…
Кафе — это всего лишь часть территории дома отдыха, вернее, доля внутреннего парка, более или менее открытая небу. Выходящий из спального корпуса, если только он не держит направления к центральным воротам, за которыми — автобусная остановка, обязательно пересекает мозаичную дорожку и оказывается в кафе. Навязчивый сервис. Или, скорее, если учесть неназойливое поведение обслуги, ласковый намек. Видно, что кафе вселилось в центр исторической композиции парка недавно — современное, граненое, сине-желто-красное исполнение, красиво нарушающее архитектурную гармонию старины (овалы, гребни, шары, цилиндры, — все белое), и даже претендующее на модерновую часть гармонии новой. Единственная заградительная конструкция кафе, если не считать веранду с кухней, — полупрозрачный купол со светоотражательным покрытием, над всей полезной площадью, висящий на цепных растяжках, через который ночью хорошо просматривается звездное небо, между тем как днем это надежная защита от солнца. Фонтан — под куполом. Он так и остался, согласно замыслу новых строителей, началом дорог и дорожек, которые разбегаются в разные стороны прямо от пластмассовых столиков. Вокруг, уходящие лучами, — кажущиеся фрагментами лилипутового королевства, узкие и низкие от разбухших вековых деревьев, аллеи; архаичные, с вековым слоем облупившейся краски скамейки и «девушки с веслами», частью без рук и без весел, — все провинциальное, старое, вросшее в землю.
Павел пошарил по карманам, ища сигареты. Как будто нажал какую-то сервисную кнопку, — официант с готовностью показал свою услужливую фигуру в широком створе кухонной веранды. Сигареты нашлись, официант опять исчез, как будто затаился, как снайпер, за темными ветровыми стеклами.
День только начинался, а Павел уже чувствовал себя утомленным. Сейчас он докурит сигарету и сделает свой обычный заказ, немного взбодрится, вернее, слегка утолит хроническую усталость. Дома он по большей части обходился без этого — дела, дела, дела… Изо дня в день. Спасительный круговорот.
Среди теней и солнечных пятен, рядом с кафе, гуляют молодая женщина и ребенок, туда и обратно, то исчезая в сумраке аллей, то появляясь вновь. Павел поймал себя на мысли, что от этой семейной идиллии веет прохладой. Это счастливая поимка. Нужно развить тему. «Это семейная идиллия… От них веет прохладой… Красивый ребенок, гладкая кожа, светлые кудри — ангел… Она смуглая богиня, величавая, недоступная, прекрасная… Отличный предмет искреннего, платонического обожания… Приют для утомленной души, охваченной неутолимым жаром… От нее веет прохладой… Так веяло…» Ах, черт!..
…Так веяло от афганской узбечки, внучки старика, у которого он пролежал простреленный трое суток. Ему повезло: внучка какое-то время работала в аминовском госпитале и кое-что умела. Она оказала первую помощь, которая определила его надежду на выживание. На третью ночь старик, чтобы не видели соседи, забросав тело старыми мешками, вывез раненного «шурави» на арбе к советскому госпиталю… Эта женщина чем-то напоминает ту узбечку: такая же скромно, но достойно молчаливая, и даже — восточные черты, едва, впрочем, уловимые. Однако та молчаливость была покорностью, покладистостью. А эта?.. Так, так, нужно найти разницу и уйти в сторону…
— Куда только мужчины смотрят!.. Добрый день.
Это старушка. Рядом, за соседним столиком. Он едва не зашиб ее вчера, невидяще идя по коридору. Долго извинялся. Она, закусив губу и прижав морщинистую ладошку к груди, только кивала. Она тоже похожа — на сиделку в госпитале. Такие же пепельные кудри и губы в яркой розовой помаде. Не слишком ли много похожестей. Еще немного и придется констатировать окончательное схождение с ума. Пора уезжать отсюда?..
Он приветствовал старушку глубоким кивком головы. Затем, подумав, что вчерашнее их «знакомство» не дает ему право на формальный молчаливый кивок, встал из-за своего столика и присел с ее разрешения рядом с ней. Старушка улыбалась умными глазами и всеми морщинками, венчиками расходившимися от уголков этих глаз, и редкими крошечными глотками пила остывший, подернувшийся сланцевой пленкой кофе. Видимо, давно наблюдала за своим соседом по кафе. Интересно, что он делал не так в последние минуты, в чем был, вполне возможно, смешон? Павел огляделся, ища официанта, который немедленно возник как будто из-за спины.
— Коньяк? — спросил, заранее уверенный в ответе, приветливо, как завсегдатая, но без фамильярности, соблюдая дистанцию.
Уже несколько дней Павел, помимо воли, наблюдает за этим гарсоном. Навязчивое ожидание вот-вот поймать в ясных глазах под аккуратным «ежиком» искорку превосходства, присущую, как раньше казалось, всей этой ресторанной шушере по отношению к таким как Павел простым людям. Поймать — и проучить!.. Хотя бы как-нибудь. Например, заказать нечто невыполнимое и, услышав отказ… Наивное и, скорее всего, напрасное желание — порочной искорки не обнаруживалось. Иное время — иные нравы.
В годы молодости Павла это была особая каста. Тогда официант мог быть как просто холуем, шестеркой (злобной, заискивающий перед сильными и люто презирающий слабых — безденежных горожан и вполне обеспеченных провинциальных толстосумов, лохов), — так и даже главарем мафиозной группы, значимым человеком. Его величество дефицит делал свое дело, — из ряда социальных извращений. Сейчас для того, чтобы быть «мафиозой» (тоже извращение, но бессмертное), совсем не обязательно прикидываться пролетарием или инвалидом.
Отрицательные воспоминания, навеянные безадресным и бесплотным, каким-то классовым, кастовым мщением, сменялись вполне доброжелательной констатацией нынешнего положения вещей. Бывали мгновения, когда хотелось даже пригласить официанта за столик, угостить коньяком, поговорить по-мужски. На вид парень гораздо моложе, но, наверное, тоже где-то служил. Возможно, в горячей точке. Наверняка у него многое было по-другому. Как?
Но следом за этими дружелюбием перед глазами обязательно мелькали неприятные фрагменты истории возвращения домой из Афгана, через Ташкент. Там, в столице Узбекистана, в одном из пустующих дневных ресторанов, белобрысый официант принял его, Павла, человека в неподогнанной, великоватой для фигуры гражданской одежде, за проезжего лоха. Наглый взгляд, издевательские уточнения заказанного меню. Почему это так необычно сильно задело Павла? Белобрысый… Если бы он оказался чернявым, плохо понимающим по-русски, Павел простил бы ему непонимание, которое порождает со стороны непонимающего лишь невольное беззлобное, а потому почти необидное, пренебрежение. Подошли блатные. Официант бесцеремонно оставил «лоха», и… еще полчаса ожиданий. Наконец Павел, улучив момент, ловко поймав двумя пальцами обидчика за галстук-бабочку, прервал его подобострастное, женоподобное порхание в сторону ненавистного столика с уверенными, холеными ликами. Далее — познакомил ресторанного соплеменника со своим дубовым столиком, обойденного должным вниманием, поближе, вдавив хрустнувшим, хрюкнувшим носом в скатерть, которая через несколько секунд украсилась алым пятном и грязными пузырями… Павла били сзади мягкими кулаками и звенящими подносами… В милицейском «воронке» молодые сержанты, узбек и русский, наметанным взором рассмотревшие в его гневном гражданском облике черты одного из афганских вояк, сотнями курсирующих через Ташкент, даже не решившиеся потребовать его документов, удивленно, миролюбиво спрашивали, откуда он и кто. «Оттуда… Человек». Оттуда — понятно. А что значит «человек»? Какой человек? «Живой». А еще какие бывают? — снисходительно переглянулись. «Мертвые…»
— Чай, пожалуйста. Если можно, зеленый. Разумеется, правильно заваренный. — Павел немного помолчал, колеблясь, и все же добавил: — В отдельном чайничке. Кусковой сахар. Если в вашем заведении такого нет, найдите на стороне, я лучше подожду. И две чашки, если нет пиал. А если все это невозможно, то, пожалуйста…две бутылочки «Пепси»…
— Вы из Средней Азии? — спросила старушка заговорщицким голосом, чуть пригнувшись к столу, когда официант отошел.
— В некотором роде, — Павел улыбкой постарался показать соседке, что оценил ее наблюдательность, — немного жил там. — Он склонил голову набок и приподнял одну бровь, что означало шутливое любопытство к будущим отгадкам со стороны собеседницы.
Старушка кашлянула, борясь с волнением, порожденным гордостью за собственную прозорливость, и потянулась за кофе. Сухонькая рука дрогнула, звякнула чашечка, разлучаясь с блюдцем.
— Вы меня извините. Но еще — позвольте мне ошибиться, — ее глаза слегка увлажнились и заблестели, — я делаю вывод, что вы… Вы — военный!.. Возможно бывший, но офицер. — Она потупилась, как отличница перед строгим учителем, сомневающаяся в стопроцентной правильности своего ответа, и шумно потянула в себя большой глоток, разбивая кофейную пленку на мелкие блестки.
Заказ был выполнен почти молниеносно: парящий из всех отверстий фаянсовый чайник, две большие пиалы, горка сахарных плиток. На лице официанта — прежнее уважительное бесстрастие, но в скорости и пунктуальности прочитывалась обидчивая реакция на подозрительность клиента в несостоятельности фирмы.
Павел произвел необходимый ритуал: пиала наполнилась первой жидкостью лишь затем, чтобы тут же отдать ее обратно в чайник. Только после этого, выдержав небольшую паузу, он налил янтарного чаю в обе пиалы, одну протянул старушке:
— Угощайтесь. Оставьте свой кофе… — Спохватившись, сменил интонацию на более мягкую: — Просто потому, что ваш серьезный напиток совсем остыл. Хороший чай, я слышу знакомый запах… А с чего у вас такой вывод — про мою социальную принадлежность? У меня, что — командный голос?
Старушка окончательно осмелела, угадав в поведении Павла точность своего логического попадания. К тому же, его доброжелательность больше всего располагала к дальнейшему разговору. Было заметно, что она соскучилась по общению. Она торопливо взяла предложенную пиалу двумя руками, демонстрируя послушность, и, отхлебнув, презрительно покосилась на остатки своего кофе.
— С чего я взяла, вы спрашиваете? Это, знаете ли, труднообъяснимо. Видимо, жизненный опыт. А вот пиалы у нас, даже на Кавказе, делают все же не такие, как в Средней Азии, не правда ли? Как ни стараются. Смотрите: желтый фон, красный горошек! — как это по-нашему! Хотя, если о деталях по начатой теме… — Старушка перестала пить, и, упершись локтями в стол, подняла пиалу на уровень лица и стала осторожно перекатывать ее, на весу, как маленький обруч, сжимая ладонями лишь острые грани, не проливая ни капли и не обжигаясь. — Вы здесь уже трое суток… Днем заходите в кафе, заказываете рюмку коньяка — как это универсально! — выпиваете и сразу уходите в город. Что там можно делать целыми днями? Достопримечательностей — на одну хорошую экскурсию. Наверное, просто гуляете, наедине с собой. Точнее, «отгуливаете» от… от себя, это довольно типично. Впрочем, о чем это я? Склероз. Не по теме? Ах, да, характерные детали… Ну вот, например, у вас рубашка всегда заправлена. Другой бы в такую жару — посмотрите вон на того, который пошел, видимо, к остановке… — навыпуск, а вы… Я ни разу не видела вас в сланцах… Здесь — и по городу в них шлепают. У вас босоножки. Какие-то крепкие. Всегда застегнутые. Как будто необходима постоянная готовность, ну, я не знаю, побежать, что ли… Ну, еще, разумеется, осанка и прочее. И еще одна, прямо скажем, неявная, но для меня пронзительная, лишенная многозначности, деталь… Я давно, нужно признаться, за вами наблюдаю, несколько дней, как впрочем, и за всеми, кто меня так или иначе окружает, простите… Поймите меня правильно, это, знаете ли, возрастное… Годы, одиночество и так далее. Так вот. Наша с вами столовая. Вы как заведенный, съедаете какую-то кашу, омлет, пудинг, зелень (всего этого много — ведь вы не включаете в заказ бифштексы, гуляши и прочее, и прочее), выпиваете компот, встали, ушли. Потом, этот, я уже говорила, ежедневный коньяк. Признайтесь: чай — это впервые за три дня?..
Старушка перевела дух, отхлебнула из замученной пиалы:
— Так вот, эта пронзительная, но косвенная, да, все же косвенная, деталь: вы совсем не употребляете мясных блюд… Притом что внутренне — это уже в ваших глазах, да, да! — вы далеко не вегетарианец, не травоядный, если хотите… Извините за сумбур. Говорят, старея, люди становятся как дети. Не знаю, не знаю. Я этого как-то не замечаю. Впрочем, собеседники иногда снисходительно улыбаются. Вы — нет….
…Еще часто снится (а может быть, все эти сны — просто видения в нездоровой полуяви? Разве может сниться одно и то же?): душман, невидимый, стреляет сверху. Только что они, разведгруппа из пяти человек, вышли из мертвого кишлака: убитые люди — недавно, еще парятся раны. Это не они!.. Но душман думает иначе. Он длинными очередями, смертельным свинцовым дождем положил, распластал их на голом пятаке земли, рядом ни камня, ни деревца. Они, панически перекатываясь, чтобы не оставаться на месте, отвечают из своих «калашниковых», иногда через голову, лежа на спине, — бесприцельно, просто так, вверх, по скалам. Потом, когда кончились патроны, вдавленные, униженные в пыль понимают, что у душмана они кончились еще раньше. Они встают, отряхиваясь, тяжело дыша: будто только что закончилась мирная, но тяжелая, в темпе аврала, разгрузка вагона с какой-то серой мукой. Душман, прыгая с камня на камень, уходит вверх, гортанно изрыгая рыдающие проклятия, потрясая над головой по очереди биноклем и гранатой с длинной ручкой. Дескать, убью, дескать, видел, запомнил лица. Почему он не бросает гранату? — далеко?..
«Куда только мужчины смотрят!..» — говорит вполголоса пожилая соседка по столику с такой же, как и у него, пиалой в руках. Ах, да…
Официант превосходно владеет собой: осанка, жесты, мимика, — отличный кавалер. Сейчас он стоит перед молодой женщиной с ребенком. Ребенок, упершись руками в угол бордюра, занят разглядыванием золотых рыбок, которые иногда, выплывая из-под основания фонтанной чаши к границе света и тени, показывают золотые бока затихшему без движения зрителю. Женщина, меняя положения головы, вполголоса задает какие-то вопросы: вопрос — наклон к левому плечу, другой вопрос — к правому. Доносятся только обрывки фраз, но интонация выдает заслуживающую уважение пытливость: любознательность дилетанта, обращенная к специалисту, или экскурсанта — к гиду. Только, может быть, любознательность избыточно подчеркнутая голосом и движениями красивой головы. Официант, демонстрируя готовность к любым вопросам собеседницы, даже наивным, встречает каждый из них ровной улыбкой и ясным взглядом. Когда он говорит, его руки не блуждают в области карманов, не теребят салфетку, каждый раз им находится положение точного жеста, удачно начатого в начале фразы и венчающего ее в конце. Официант не смотрит в сторону Павла и старушки, но трудно поверить, что он полностью поглощен беседой и не контролирует ситуацию вокруг. Те же предположения относятся и к женщине.
— Молодцы! Что бы сейчас выкрикнул Станиславский? «Верю!..»
Старушка, таинственно улыбаясь, — поднятые бровки, лобик в гармошку, опущенные уголки губ, — смотрела вместе с Павлом на беседующих у веранды.
— Они оба молоды, но ей бы больше подошел мужчина постарше, согласитесь. Если рассматривать эту пару как будущий дуэт… Поймите меня правильно — это просто так, в качестве макета, у которого в данном конкретном случае, нет воплощения, нет будущего. Так вот, в этой якобы гармонии — отсутствие обстоятельности, фундамента, если хотите, фундамента прошлого, без которого нет основательного будущего… Я совсем запутала вас и себя. Одним словом, как официант он — совершенство. И все. Ну, еще кавалер. Не более. Мой муж был гораздо старше меня…
— Как можно такую предпочесть какой-либо иной?.. — Павел удивился, насколько выразительна речь старушки, по одной только интонации единственной фразы следует, что молодая женщина разведена, оставлена. А ведь озвучена только эмоциональная вершина: дескать, невероятно, не может быть.
Официант исчез в своем укрытии, женщина и мальчик ушли из поля зрения Павла и старушки.
— …К тому же, вы одинок… У вас нет семьи, простите, простите…
Эти слова были чуть раньше. Они не просто продолжение отгадок, а подготовка, определяющая логику следующих предложений. Предложений не как грамматической суммы слов, а именно призывов к действию. Вот сейчас она говорит вроде бы совершенно другое, невинно кося глаза и наивно выделяя интонацией провокационный смысл фразы:
— Вы не просветите меня, каким образом сейчас заводят знакомства мужчины и женщины? Я имею в виду зрелых, отдающих себе отчет в собственных поступках людей. Ну, те, которые заинтересованы в серьезных отношениях? Без разных там глупостей… Быть может, приглашают за свой столик… в каком-нибудь кафе? Вы знаете… ну, это я так просто, так сказать, возрастные фантазии… Если бы я… — увы, мое время прошло, — и все же, если бы я, допустим, была заинтересована в некоем подобном… Думаю, что в данных условиях, например, в доме отдыха, где работает вечернее кафе… это было бы совсем не трудно. Впрочем, весьма возможно, я ошибаюсь, — нравы изменчивы. Но одно несомненно: я бы атаковала. Вернее, — атаковал… — она засмеялась, прикрывая рот сморщенной тонкой ладошкой. — Мой будущий… или, вернее сказать, прошлый муж нашел меня на танцах! Вернее, это я его нашла!.. Ой, простите! Не поймите меня превратно: мы с вами, то есть пара «я — вы», не в счет! Я совсем не о том. Отнюдь, отнюдь! Не подумайте! Ах!.. — ха-ха!..
Павлу трудно сдерживаться, и он тоже смеется. Наверное, впервые за все время пребывания в доме отдыха. Вспорхнули с мозаичного тротуара голуби. Из веранды с затененными стеклами опять выглянул официант. Женщина и ребенок на секунду подняли головы, отвлекаясь от своего семейного общения, от своих праздных веселых забот.
У женщины, сидящей на корточках, поворот головы, на длинной, с четким продольным рельефом шее, напоминает движение удивленной птицы. Каштановая волна, попав под солнечный луч, пронзивший вековую чинару, вспыхнула, разлилась по поникшему плечу: рука снимает с детской коленки назойливых муравьев. Засмеявшись (по-своему — ребенку), она быстро распрямилась, выходя из профиля в анфас, царственную грацию которого подчеркнул вздрогнувший на бедрах, мгновенно разглаживая поперечные складки, темно-красный, с бархатным отливом халат. Серебряно сверкнула, от глубокого выреза на груди до колен, гирлянда из маленьких застежек-кнопок.
…Это не сон. Просто это продолжалось целый сладкий год. Казалось, в этом и было его спасение после отставки. Она встречала его в невинном шелковом халатике на застежке-молнии. Язычок металлического зиппера возле нежной выемки на шее имел запах и вкус. Ритуал, который с невероятной скоростью вгонял в транс, гасил внешнее солнце, зажигая исподний, тайный огонь…
Когда из школы приходили ее почти взрослые дети, нетерпеливо звонили в дверь — три длинных, — зиппер визжал, соединяя, казалось, в ровный шов обрывки времени — до и после. Она бежала к двери, он шел на кухню, целомудренно пил остывший чай, выглядывал из дверного проема: привет, молодежь, как успехи, а мы вот тут с вашей мамой чайком…
Через сколько времени это случилось? Ах, да, разумеется, через сладкий год. Он позвонил, отступая от сложившегося расписания. Улыбаясь в дверной глазок (он уже любил ее детей, мальчика и девочку, — не по годам взрослых): три нетерпеливых длинных. Она открыла, все было как всегда: невинный халатик и… Даже показалось, что это именно он, Павел, сидит сейчас на кухне и пьет остывший чай и машет рукой: привет!..
«Не верю!..» (Впрочем, это, похоже, из сегодняшнего дня.)
Как тривиально, оказалось. А ему виделось, что все было так волнующе оригинально, и в этой оригинальности — спасительная суть: он закусывал этот язычок-лепесток, который имел запах и вкус, зубами (затылок касался ее точеного подбородка), и медленно опускаясь на колени, зная, что произойдет…, - он не будет открывать глаз, пока хрустящий, иногда заедающий, замочек не достигнет дна своего пути, когда, щелкнув, разведет окончательно половинки гладкого, приятного щеке… Господи, как разочаровывающе обыкновенно!..
«Привет!..»
…Он надрезал кожу у самого горла, затем, поддев, довел лезвие до самого низа живота. Кожа расползлась на груди, обнажая белое мясо. «Как будто бабу раздеваем», — пошутил один из разведчиков, наблюдая, как Павел разделывает ворону, — «а я думал, общипывать будем, как курицу». Это было в тех же проклятых горах, когда несколько суток они пробирались к своим, без воды и пищи. (Вертолет не прибыл в назначенное место, они только слышали его шум за соседней горой, ошибка была совсем невеликой, но «достаточной», покружился и улетел.) С «лимонками», но без единого патрона (благодаря душману, который спровоцировал их на бесполезную перестрелку), поэтому обходя на всякий случай любые селения и вообще любые живые шумы…Им повезло: сначала они поймали какого-то грызуна, потом подбили камнем неосторожную ворону. А на третью ночь, когда они уже почти совсем высохли, пошел сильный дождь, ливень, по камням потекли грязные ручьи… В следующую ночь они развели костер, — они решили, что все трудности и опасности позади. Город был уже близко, за небольшим перевалом, который контролировали правительственные афганские войска…
— Вы опять о чем-то задумались, — напомнила о себе старушка. — Чай совсем остыл. Можно, я закажу еще чайничек? Это прелесть. — Она резво привстала и изящно, звонко щелкнула пальцами правой руки, подняв ладонь на уровень лица. Громко обратилась к невидимому официанту: — Эй, где вы там! Молодой человек!.. Я тоже заказываю чай. Заказ аналогичный предыдущему!..
Павел опять не удержался и улыбнулся, так комично выглядела соседка. Сквозь эхо воспоминаний, из которых он только что вышел, улыбка получилась вымученной, он сам это чувствовал.
— Вы смеетесь над моим ископаемым жестом? — она повторила щелчок. — Это я для вас… Вы часто грустите. Не надо, уверяю вас. Вы мне не поверите, но я уже, какой бы не была причина вашей тайной печали, сопереживаю вам. Чем бы я могла вам помочь? Все это глупо, конечно, это, простите, возрастные сантименты… Но в принципе, кто-то должен… Я — конечно, вряд ли. Не тот запал… Даже на это, — она опять сделала движение пальцами, на этот раз они издали только шелест, — нужна энергия. А вот если бы…
Она повертела маленькой седой головкой, раз за разом устремляя обеспокоенный взгляд туда, где только что играли женщина и мальчик.
Неразлучная парочка снова оказалась совсем рядом. Женщина и мальчик уже сидели на корточках у водоема с форелями, которые, возвышаясь темными спинками из мелкой воды, вяло уворачивались от ручонок мальчика. Иногда мальчик звонко смеялся и хлопал ладошкой по воде. При этом его мама зажмуривалась и смешно трясла каштановой челкой в сверкающем бисере мелких брызг.
— У меня к вам предложение… Вернее, просьба, как к рыцарю… Здесь не так уж много особей одного с вами полу, а уж рыцарей!.. — не знаю! По крайней мере, — не созерцаю.
Павел с шутливой готовностью распрямил спину и склонил голову на бок: само внимание.
— Давайте сегодня вечером… Закажем столик, к примеру… — она покосилась на тех, кто играл с форельками, — скажем, на… четверых. И кого-нибудь пригласим в качестве третьего и четвертого. Просто так, как бы между прочим, случайно. Это ведь классика — в том, что иногда только маленький шаг отделяет нас от великого. Но вот сделать его — не всегда хватает смелости. Мешают условности. Извините за нравоучительный пафос.
Павел изобразил, как мог, шутливую мину:
— Понял. Прямо так, как в классике, подойдем к случайному прохожему и предложим, без лишнего пафоса, — он отвернул голову в сторону, хрипло обращаясь к невидимому прохожему: «Третьим будешь?»
Старушка поддержала игру и отвернулась в сторону противоположную: «А четвертым?..» С тем же хрипом. По всему было видно, что в молодости этот ныне седой милый одуванчик был неутомимым генератором идей, возможно, отчаянных.
— Эта? — женщина смеется вместе с мальчиком. — Эта? Ну, же, сынок! Эта? Смотри, какая красивая, спиночка блестит!..
Бывший офицер и старушка невольно умолкли, залюбовавшись воплощением непосредственности, покоя и счастья…
— Эта? — очередной раз восклицает женщина, и, услышав утвердительный ответ, облегченно показывает официанту пальцем на рыбину: — Вот эта.
Гарсон, на секунду загородивший каштановую голову стриженым затылком, ловко выхватил сачком из воды трепыхающуюся форель и унес, оставляя на кафеле мокрый след, в глубь стеклянной веранды.
Слышен характерный шум разделки, затем запах жареной рыбы. Женщина и мальчик сидят за соседним столиком в молчаливом ожидании и, влюблено глядя друг на друга, улыбаясь, чуть поднимая подбородки, втягивают в себя аппетитный запах. Кажется, ее красивые ноздри при этом страстно, плотоядно подрагивают.
…Зачем они в ту ночь развели костер!
Он ушел в сторону перевала с биноклем, не терпелось увидеть конец своего мучительно пути. В тот момент, когда он уже разглядел редкие огни города, сзади ухнуло что-то большое и страшное. Сразу ли он понял, что это взрыв гранаты? Или это понятие пришло позже, в снах? Трое ребят, кроме того, кто остался дозором у костра, спали в небольшой пещере. Взрыв получился удавленный. Когда он прибежал туда, все было уже кончено и спокойно: вход в пещеру завален, а дозорный лежал со вспоротым животом, с куском печени во рту (как оказалось — собственной), его внутренности шипели и лопались в угасающем костре, источая едкий дым и тошнотворный запах — смесь жареного мяса и фекалий.
Павел навалился локтями на столешницу и закрыл глаза, устало прислонив лоб, покрывшийся испариной, к сжатым кулакам.
…Такая мысль все эти годы ни разу не приходила ему в голову. Мысль о том, что это тот самый душман, который грозил им гранатой, который (это потом ни разу не вызывало сомнений) преследовал и положил почти всю разведгруппу на перевале, — это именно он потом, много позже, выследил его, Павла, в Кабуле и прострелил… Невероятная, но почему-то, в осознаваемой дикости, — все-таки жуткая мысль… Жуткая также в своей навязчивости, как неверный вариант концовки в целом «правильного» сна. (Например: калитка оказалась запертой, сзади — улыбающийся душман со снайперской винтовкой. Или: старик замахивается кетменем.) Нет, на самом деле все было не так. Но что значит «на самом деле»? Если этого не было на самом деле, то почему оно отравляет жизнь, съедая изнутри?
Вечером странная на взгляд пара: моложавый седеющий мужчина и кудрявая, маленькая сухонькая старушка, — сидели в уютном и достаточно многолюдном открытом кафе дома отдыха. Они сидели в самом дальнем углу площадки, уставленной пластмассовыми столиками, спиной к основной массе отдыхающих, к ансамблю на невысоком подиуме у фонтана. Можно было подумать, что их лица были намеренно обращены в сторону темной аллеи, как будто это двое незрячих, которым все равно, какая картина перед ними, но не безразлично, что думают о них окружающие (чтобы не вызывать жалость). Впрочем, скорее всего, эту несколько необычную для дома отдыха пару, их трогательные позы, когда они, бережно и нежно обращали друг к другу лица, видимо беседуя о чем-то, их волнующем, — все эти удивительные странности могли быть замечены только одним человеком — дневным официантом, который, дорабатывая смену, вместе с парой своих других, более свежих коллег, сновал среди столиков. Хотя, с другой стороны, официанту вряд ли было до этих удивлений: за те сутки, которые были отданы дежурству, он порядком устал и мыслями был уже дома.
«…Знаете, у нас с моим мужем было свадебное путешествие: Кавказ, озеро Рица и так далее. Жили мы в Сухумском пансионате. Нас возил величавый автобус по достопримечательным местам. Так вот, на этом самом озере Рица, помню, ужасно захотелось есть… А надо сказать, что, как вы наверняка знаете, первые дни — это притирка характеров… Словом, мы уже с утра были в очередной ссоре, в одной из тех, которые сами собой улетучиваются к вечеру. Классика: с утра несколько пылких, обидных фраз, затем день молчания, затем вечер прощения и ночь примирения… И так далее. Так вот, в тот день, вернее, в полдень молчания мы, безъязыкие и независимые (по отношению друг к другу, разумеется), зашли примерно вот в такую же кафешку. Самообслуживание. Муж принес великолепного, вкуснейшего жигулевкого пива и какую-то жареную рыбу. Мне показалось — ряпушка, какую тогда обычно продавали в столовых, такая, знаете, гадость. Вот, думаю, жадина, и прочее, разумеется, думаю, отнюдь не возвышающее моего избранника в моих глазах… Не мог хотя бы шашлыка купить!.. Но молчу, гордость. Недосоленная, холодная, бр-р-р!.. Впрочем, я была зла и, в том числе по этой причине, голодна, поэтому, с отвращением, но все же стрескала эту… даже не знаю, как назвать, противную… ну прямо ряпушку, классику отечественного общепита. Представьте: все это молча, демонстративно блестя глазами по сторонам, якобы на всех проходящих мужчин, — чтобы досадить тому, кто невозмутимо трапезничает рядом. А вечером он меня спрашивает: „Дорогая, правда, вкусная была сегодня форель?“ Ремарка: я форели до этого ни разу в жизни не ела. Когда ехали на Кавказ, я мечтала: море, пальмы, горная форель!.. Я была страшно расстроена, шокирована, я не хотела знать то, что он мне сообщил: „Форель!“ Я всю ночь ворочалась, старалась представить иной вкус, я бы даже сказала — иной мир, и даже тихо причмокивала: „Ах, какая вкусная форель, ах, форель!..“ Но сколько бы я не заставляла себя, вспоминалось ужасное ряпушка… А между тем, то была действительно форель… Вы не поверите, с тех пор мы никогда с мужем не вздорили по пустякам. До сих пор не знаю, толи муж так все тонко подстроил, толи случайность. Я внушила себе, что первое. Поэтому… В том числе поэтому я старалась относиться к нему бережно и даже иногда восхищаться им. Хотя он, разумеется, не был лишен недостатков…»
Седая старушка иногда обеспокоено оглядывалась, как будто ища глазами кого-то.
ЗАКРЫВАЙ
У Мити болит голова, по которой ему на днях стукнули молотком.
Митя даже сознания не потерял по-настоящему. Благо, что завалился на мягкое, в клумбу. Добавил, как говорится, не об асфальт, а об грядку. Существенная разница.
Но главное, что стукнули несильно. Вроде не совсем уверенно, жалеючи. Вроде как сомневаясь: а стоит ли вообще портить здоровье невинному человеку, заморенному студентику, из-за какого-то портфеля, пусть даже фасона «дипломат». Тем более, вряд ли внутри что-то есть ценного. Наверное, еще не заматерели, хоть и молоток за пазухой носят. Но уж больно хороша вещь, дорогая, крокодилом отделанная, — так, видно, в конце концов, решили. И место укромное — кусты высокие, никого вокруг.
Получилось, в итоге, несильно.
Всего-то на секунду Митя, может быть, отключился. Пока падал, очнулся. Ноги на асфальте, голова в грядке. Приподнялся, и сразу же в прозоре кустов черемухи увидел троих парней, по травяному газону спокойно переходящих на другую парковую аллею. Светоотражательная нашлепка, которую он недавно аккуратно приклеил на аллигаторовый, на самом деле из искусственной кожи, бок дипломата, подмигнула: прощай, дескать.
Он крикнул им вслед: «Ребята, там внутри зачетка, отдайте зачетку!..» Тот, который уносил добычу — его, Митин, дипломат, — на ходу развернулся и вытряхнул содержимое (конспекты, учебники) на землю. Далековато было, но Митя заметил: выражение лица у парня вполне человеческое — как будто делал одолжение назойливому ребенку: на, мол, только не плач!..
Как потом выяснилось, зачетка осталась в складках дипломата и «ушла» вместе с грабителями.
Жалко «дипломат» не за то, что вещь нужная, а за то, что подаренная. Подарила его Мите невеста, когда уезжала по распределению, окончив техникум. Так получилось, что Митиной невестой стала девушка со старшего курса. Теперь она уже почти год ждала его в другом городе, слала письма, сообщала, что скучает и ждет. Что делать: написать, что не уберег подарок?.. Правду сказать — стыдно, но и врать не хотелось. Оттягивал время, ни на что, впрочем, не надеясь, — не писал, при этом зная, что она писем его очень ждет.
«…Общежитие, если так можно выразиться, семейно-холостяцкое. Детишки бегают, постирушки висят. Семейные то гуляют-смеются, то отношения выясняют. На фабрике мне сказали, что, как только замуж выйду, — комната в моем полном распоряжении, соседок отселят. А пока живем втроем: кроме меня две перезревшие девы. Ужасная, оказывается, судьба. В этом наша бабская уязвимость. И я (оцени мою открытость) в этой самой уязвимости совсем не боюсь тебе признаться. Потому что верю тебе. А ты мне? По субботам танцы в холле. Я тоже иногда выхожу. Ты не против? Только чтобы не сойти с ума от скуки. Ты ведь знаешь, что мне кроме тебя никто не нужен. Да и вообще, (я говорю о своих девчонках из комнаты), им не позавидуешь: приходят на танцы какие-то несерьезные, с винным запашком, а то и вообще — солдаты…»
Такие строчки, полные скрытой тоски и неопределенности, были характерны для первого полугодия разлуки. Позже, к успокоению Мити, тон писем сменился на более оптимистичный: люблю, работаю, жду, целую…
Митя не может долго находиться в согбенном состоянии, мозг наливается кровью, которая начинает больно пульсировать в левой части лба. Нужна пауза. Он подкладывает ладонь под затылок и осторожно, чтобы не тряхнуть головой, отваливается на спинку стула, смотрит в потолок. Если в этот момент закрыть глаза, то все внутри него начинает куда-то уплывать, норовя при этом перевернуться. Поэтому глаза открыты. Мысли, которые Митя в эти минуты гонит от себя, сосредотачиваясь на конфигурациях трещинок и желтых потеков, послушно унимаются, сгрудившись где-то под чубом. Через несколько минут боль проходит, и Митя опять принимается за свой курсовой.
— Закрывай! — кричит, заходя в «сторожку» проходной тетя Оля, которую все называют Тетеля, — А, Закрывай!.. Где Закрывашка? Опять трудится? Опять чай пьет? Опять «закрывает»?
Закрывай — это солдатик-узбечонок Закирулло. На языке его племени это имя произносится: «Закрылло», — так слышится для русского уха. Для Тетели это труднопроизносимо, поэтому кличет она его на свой манер: «Закрывай». Закирулло-Закрывай не обижается. В части, где он служит, его вообще зовут Пробкой — за имя и за малый рост, а может, еще за что. Он привык.
Тетеля — командир отделения вневедомственной военизированной охраны завода автотракторного оборудования. Одним словом, начальник самой заурядной «вохры», которая сторожит, без всяких ружей и пистолетов, территорию небольшого предприятия на отшибе города.
Тетеля на хорошем счету у начальства, висит на доске почета. К работе относится как нельзя серьезно. Достопримечательная деталь гардероба Тетели синий берет с милицейской кокардой. Кокарда, надо сказать, совсем не обязательна, — у вохров на этом заводе вообще нет какой-либо спецодежды, этот форменный знак достался ей от покойного мужа, который всю жизнь проработал «в органах», как говорит Тетеля, техническим сотрудником, кажется, электриком на «почтовом ящике».
Тетеле, как исполнительному, аккуратному сотруднику, к тому же — жене заслуженного пенсионера ГОВД, идут навстречу при составлении графика: работает Тетеля только в ночные смены. Так ей удобно, как она говорит, для здоровья, меньше нервотрепки: не нужно ворота открывать-закрывать, пропуска проверять, начальникам кланяться. Ночью завод стоит. Закрой ворота и пару раз пройдись по периметру. Вся работа.
А вся Тетелина команда — три человека, не считая ее, Тетели.
Студент Митя, которому тоже идут навстречу, ставя только в ночные смены. Понятно — парень учится.
Закирулло — солдат из стройбата. Вообще-то, их, солдатиков, которые заступают в ночные смены, четверо, но в этой бригаде работает именно он, Закирулло. Стройбат, расположенный рядом, буквально в заводской округе, в порядке выгодной взаимопомощи, выполняет кой-какую хозяйственную работу на заводе и помогает в охране объекта в ночное время суток. За это завод поставляет стройбату некоторые запчасти для техники: свечи, трамблеры, катушки зажигания, провод…
Еще один «боец» — Аркадий, тридцатипятилетний мастер сборочного цеха с этого же завода. Его называют блатным и ставят в ночь известно, за что днем занят на производстве, и известно для чего — чтобы высыпался с пользой дела. Вохрой оформлен не сам Аркадий, а, кажется, его племянник. Так нужно, чтобы из побочной зарплаты не выстегивали алименты. Потому как выстегивают и без этого много, по основному месту работы. Каждую смену Аркадий приходит «на бровях» и, отметившись в журнале у Тетели, зачем-то поматерившись на весь свет, обозвав саму Тетелю старой каргой (после этого Тетеля валерианку пьет), уходит в угловую, самую неважную «сторожку» с деревянной вышкой, и благополучно почивает там до утра. На вышку он, разумеется, ни разу не залазил, но Тетеля к нему, к «вертухаю», как она иногда говорит, претензий не имеет — блатной. Да и когда блатной спит — оно на душе как-то спокойнее. И без него охраны вполне хватает.
Тетеля «для порядку» обычно находится на своем командном пункте, в конторе. А Закирулло с Митей всю ночь сидят на закрытой проходной. Митя учит уроки, готовится к защите диплома, Закирулло смотрит на раскаленный тэновый «козлик» или, если Мите не нужен калькулятор, — играет на калькуляторе: просто нажимает кнопки и смотрит на цифирьки, которые появляются и исчезают на мониторе.
Тетеля каждые пару часов берет «Закрывая» и они вдвоем делают обход территории завода. У «Закрывая» есть оружие — штык-нож. Боится Тетеля темно. «Закрывай» не боится. Кому он с Тетелей нужен. Никто на них нападать не будет, если что надо своровать — своруют и так, днем.
Но Тетеле этого не докажешь. Гуляя по периметру завода, она громко разговаривает с Закрываем, чтобы слышали воришки: здесь я, здесь, да не одна, а с мужиком. Наверное, вопросы Закрываю уже надоели, наверное, он знает их наизусть. А что еще нового спросить у этого бессловесного чучмека, Тетеля не знает, фантазии не хватает. За немоту называет она Закрывая немцом. Так бы слово за слово, вот тебе и беседа сама собой. Ан, нет. Либо монологи, либо допрос: «вопрос — ответ» с небогатыми комментариями.
— Закрывай! А, Закрывай! — громко, как будто глухому, кричит Тетеля, прохаживаясь по периметру. — Так говоришь, дома у тебя шибко жарко бывает? Ну, это хорошо, да не очень. Зато тут у нас не спотеешь. И виноград у тебя дома, что, растет? А не врешь? Прям-таки вот над головой, как лампочка, и висит?…Чудно! Это ж какие витамины, весь Менделеев! — Тут она понижает голос, чтобы не слышали коварные жулики, которые, возможно, притаились за забором: — А чего ж ты тогда такой плюгавый-то, а? Либо в корень пошел? — И опять громко вздыхает: — Эх, Закрывайка, Закрывайка! Хороший ты парень, только неразговорчивый. Немец ты и есть немец!.. Ну, ничего, это не главное, как Люська говорит!..
Все в таком роде.
— Закирчик, — заглядывает в будку связистка, не обращая внимания на Митю, — пойдем чай пить!
— Сэчас, Свэта!
— Ну, — дует губы девушка, — Закирчик, я не Света, я Люся.
— Луся, — задумчиво повторяет Закрывай и смотрит на раскаленный тэн. Мите сбоку виден один глаз Закрывая — желтая щелка. Помятый погон с пожухлыми буквами «СА».
Света и Люся — красивые молодые телефонистки, блондинка и брюнетка, которые сидят на коммутаторе, соединяют и разъединяют заводских абонентов, в число коих входит и население заводского района, проживающее в округе. Самые благоприятные для этих холостячек смены — ночные. Завод молчит, ввиду того, что вторая смена уже разошлась, и квартирные телефоны к полуночи тоже практически успокаиваются, до утра тишина. Именно в этот период Светка или Люська — в зависимости от того, чья смена, — зовут Закрывая к себе в коммутаторную до утра пить чай, где он, как говорит Тетеля, закрывает их бабьи проблемы.
Еще раз, для порядка, спросив про Закрывая, Тетеля присаживается рядом с Митей.
— Так, Митек, одни мы с тобой дееспособные со всей военной бригады нашей остались. Я, вообще-то, когда Закрывая с кинжалом рядом нет, малость ненадежно себя чувствую, даже вздрагиваю, если что. Одно ладно: если что, позвоню Люське в коммутаторную. Отдай, мол, Закрывашку обратно…
Митя, лукаво улыбнувшись, поддерживает:
— Да и Аркадия, если чего, разбудим.
Тетеля, смеясь:
— И к Люське пошлем, да? Заместо Закрывая? Ох, и находчивый ты иногда, Митек, когда не шибко серьезный! Да ему, Аркадию, вертухаю этому, сейчас хоть Светка снизу, хоть Закир сверху, хоть чурка сбоку — все едино! Что с него возьмешь! Пьянь она есть пьянь… Только и сматериться на пожилого человека может, бессовестный. Да и ругается, между нами говоря, не то, что мой покойный, — так себе, никакой звонкости, как сопли жует. А все равно иногда — обидно, да.
Она некоторое время молчит, только вздыхает, прощупывая себя ладонью: то область сердца, то голову, то коленку. Наконец, выражает сожаление о том, что скоро он, Митя, защитит свой диплом, или как его там, и уедет по распределению куда-нибудь в другое место.
— Выучишься, и будешь каким-нибудь… дипломатом!.. — Тетеля смеется, прикрывая ладонью губы, явно намекая на «потерянный» недавно дипломат. — И будет у тебя жена и нарожает тебе детев.
Когда Тетеля оказывается один на один с Митей, в ней просыпается философ, видно Митин облик (то с книжкой, то чертежом, то с калькулятором) к этому располагает:
— Ты думаешь, почему Люська да Светка Закрывая на себя таскают? Прям по расписанию, по справедливости, как сестры, даже подругами, гляди, стали. Именно ведь его!.. Смотри, вот ежели бы Аркадия. Почему нет? Парень видный, хоть и алиментщик, пятьдесят процентов… Дак в том и разница, что «вертухай» — одно название тако высокое, фикция. Он же меньше сделает, больше перепачкает, а потом всему заводу по секрету сболтает. А ей потом, Светке-Люське, замуж выходить. Или вот тебя взять. Ты парень ученый, красивый, пес… прес… перспективный. Только шибко умный да совестливый. На тебя ж посмотришь, в глаза твои ясные, и стыдно за себя грешную становится… Да еще будешь пол года стихи рассказывать, ага. А соловья баснями не кормят! Люська да Светка — кровь с молоком, на них все трещит, пуговицы, того и гляди, стрелять начнут. Вот Закрывай — само то. Все понимает, хоть и немец. Раз два да в дамках. И не стыдно перед ним, — и не расскажет никому. Ну, может и похвалится кому там, за пловом-то, в своей Грузии, на своем языке: гыр-гыр, халам-балам, — дак Люське-то че!..
— А сам Закрывай-ка, — она старательно отделяет «ка», получается вроде приглашения на закрывание, — возьмет, на родине себе целый гарем, может быть. Не знай, как у них там с разрешением-то на это. И кто там когда узнает, какая там его Зульфияшка, Тамарка или че, что у него тут, у Закрывая любимого, который за нее калым проплатил, за эту Тамарку-то, — что у него в России какая-то Люська была! Кому это будет нужно? — никому. Да у них там, у баб ихних, на этот интерес и права голоса-то нет. За тебя баранами заплачено — сиди да помалкивай, иж кака любознательная! С передачи «Че-де-када»! Одни мы с тобой, — ты, Митек, да я, дура старая (правильно «вертухай» бает), только мы об этом и знаем. Аркадий спит, а остальные — гады не с нашей бригады, им знать и не положено!.. Все шито-крыто и концы в воду. Правильно я говорю? А то!
Они смеются. Тетеля уходит, довольная, что подняла настроение Мите, который недавно пострадал от грабителей.
Закрывай решил помочь Мите более существенно:
— Толкучка надо идти, сумка твой искать, я помню какой. Эти собака-вор продавать будут.
Митя возражал, исподтишка, чтобы не обидеть Закрывая, оценивая тщедушную фигуру солдатика.
Закрывай, надев парадно-выходную форму, нацепив все значки, какие были, сбив фуражку на свой приплюснутый затылок, пошел в увольнение в город. Сходил на толкучку, к техникуму, к исполкому. Поездил туда-сюда по единственному автобусному маршруту. Наконец его старания были вознаграждены, и у вокзального буфета он увидел Митин «дипломат».
«Дипломат» стоял в ногах у меланхоличного верзилы, который, развалясь на грязном стуле, печально пил пиво, посасывая кусочек воблы, похожей на ржавую щепку.
Закрывай смело подошел к нему, присел рядом.
— Эй, пацан!
«Пацан», как большой кот на маленького мышонка, скосил грустные глаза на Закрывая:
— Чего?
— Пичак в жопа хочешь?
Верзила ответил со скукой, к которой прибавился нечаянный интерес:
— Вообще-то мне и так хорошо. Но ты все-таки, раз подошел, растолкуй, что такое пи… Как ты сказал? Переведи.
— Пичак. Ножик. Кынжал.
— А-а… — разочарованно протянул верзила, покачал головой. — Нет. Пичак — нет. Мне и так удобно.
— Отдай сумка. Чужой сумка. Вор забрал. А то пичак в задница, — Закрывай сымитировал движение руки за пазуху.
Парень закатил глаза к потолку, сделал большой глоток, не забыл про воблу, в голосе прибавилось печали:
— Я его на толкучке купил. Вчера, кажется. Забирай, — он небрежно двинул дипломат ногой. — Ворованное мне не нужно.
Закрывай поднял дипломат, положил на стол, за которым продолжал трапезничать парень, щелкнул замком, откинул крышку-половинку. Внутри лежал какой-то сверток. Закрывай его выложил, подвинул к парню. Казалось, парень не обратил на все это никакого внимания.
— Зачетка есть? — спросил на всякий случай Закрывай.
Парень, с полным ртом, отрицательно двинул головой, допил кружку, «цвикнул» сквозь зубы воздух и сказал с сожалением:
— Зачетка нет, — потянулся за следующей кружкой и участливо спросил: Все?
Закрывай утвердительно кивнул.
— Ну, тогда брысь отсюда. То есть, значит: если не будешь пиво, то до свидания.
Митя сел писать невесте письмо. Дескать, скучаю, жду, ношу в подаренном тобой дипломате все твои письма.
Авторитет Закрывая, и так довольно высокий в глазах Тетели, не говоря уже о Светке и Люське, вырос уже повсеместно. Даже «блатной» Аркадий однажды, будучи не слишком пьян, прежде чем отправиться спать в свою дальнюю сторожку возле обзорной вышки, сделал комплимент Закрываю за проявленную смелость и находчивость, а потом даже спросил:
— Вот, хочется тебе, Закир, что-нибудь от всей нашей бригады приятное сделать. Какой-нибудь презент, что ли, электробритву, что ли, к дню рождения или Советской Армии. Поедешь в свою Фергану, нас вспоминать будешь. Ты скажи, что бы ты хотел? Ну, не стесняйся!..
Закрывай думал недолго и сказал жертвенно:
— Аркадий. На Тетеля не матерись, не ругай. Она мать. Ты сын. Возраст. Понял? Обещай.
Аркадий, несмотря на то, что все-таки был под градусом, даже покраснел и сказал, оглядываясь:
— Ну, конечно, Закир, какой базар. Заметано. Ты меня знаешь.
Бригадирша: «Закрывай-ка! А ну давай, закрывай-ка все проблемы! Куды мы без тебя!» Они опять прогуливались по периметру ночного завода, слышно их было далеко. С недавнего времени Тетеля нашла для себя новый, более интересный и к тому же более практичный способ общения с Закрываем. Она стала, по ее шутливому определению, «учить язык».
— …А скажи-ка ты мне, как будет, по-вашему «здравствуй»?
— Салом.
— О! Солома, значит!
— Салом, — поправлял Закрывай.
— Ну, ладно, это я так, чтобы запомнить. Солома. Почти. Получается: есть у тебя солома, — значит, здорово живешь. Скотину есть, чем покормить молоко-мясо будет. Это я для понятия, чтоб запомнить. А у нас знаешь, как говорят: хлеб всему голова. Хлеб есть, — здорово живешь. Как будет, по-вашему, хлеб-то?
— Нон.
— «Нон»? Нон, хорошо. Коротко и ясно: «нон». И главное звонко! Молодцы. А водка?
— Арак.
— Вот те раз: рак!..
— Арак! — поправляет Закрывай.
— Ну, я и говорю: по нашему так, а по вашему «рак». А по-нашему рак, знаешь, — это другое. Бывает такое, знаешь, в воде живет, цап-царап,(показывает ладонью), — а бывает — болезнь. Болезнь — рак, плохая болезнь. Муж у меня от нее сковырнулся.
— Водка, арак пьешь, потом болеешь, — понимает по-своему Закрывай.
— Во! Это правильно! Пьешь, потом раком ползаешь. И никакой бабе, люське-муське, ты такой не нужен. Умный ты все-таки, Закрывай. Закрывай-ка, а как, по-вашему, будет «рыба»?
— Балык.
— Во! Ничего себе, это вы у нас заимствовали, не иначе. У нас тоже такое слово есть. Тоже рыба, только копченая. Как ты вот: тоже человек простой, два уха. Только, вроде, в отличие от нас, вроде как копченый. Это легко запомнить. Ты не обижайся, Закрывай. Вы ведь нас, рыжих-то, тоже как-то так называете?
— Ок клок.
— Это чего?
— Ок — белый. Клок — ухо. Белый ухо, хру-хру.
— Ну, это ты уж вообще! Ладно, я не обижаюсь. Обещала, — не обижаюсь. Давай не будем обзываться, тогда и обидно не будет. А, давай? Ну, вот, молодец. Понятливый ты все-таки человек, Закрывай. Иному нашему втолковываешь, что дважды два четыре, — все без толку, он как… чурбан с белыми ушами, ага, хру-хру, правильно у вас иной раз говорят, на копытах. А ты — раз, головой кивнул, и понял.
До дембеля Закрываю оставалось немного, когда однажды вечером, в темном переулке призаводской территории его остановили пьяные парни и, повалив на землю, забили ногами, приговаривая: «Чурка… Чурка…». Закрывай не кричал. Наутро Закрывая, маленького и тщедушного, нашли мертвым, втоптанным в грязь. Рядом лежал чей-то шарф, по нему и нашли убийц, которыми оказались два местных заводских парня, возвращавшихся с поздней гулянки. На первом допросе они были испуганные, не помнящие, зачем и за что накинулись на солдата. Потом один из них, пожимая плечами и вздыхая, все же объяснил: да армию, кажется, чего-то вспомнили…
При разбирательстве следователю никто не смог сказать что-либо плохое про этих убийц: нормальные по жизни ребята, женатые…
Закрывая, в цинковом гробу, отправили самолетом в Ташкент, а до этого он целые сутки лежал в Ленинской комнате воинской строительной части, в парадной форме, достойный и красивый. Туда даже пустили попрощаться коллег с работы, с завода. Пришли почти все, кроме Люськи и Светки (их специально зазывала Тетеля, но они не пошли). Тетеля долго плакала и причитала возле гроба, Аркадий был трезв, серьезен и молчалив, а у Мити, когда он подошел к Закрываю, вдруг закружилась голова (последствие недавнего сотрясения мозга), и он просто посидел рядом на стуле.
Летом телефонистки вышли замуж. Светка окрутила новенького инженера, молодого специалиста, они, расписавшись, без свадьбы уехали в Москву, там, говорят, даже венчались в какой-то подпольной баптистской церкви (жених оказался баптистом). Немного позже этого возвратился Люськин парень из армии, хороший рослый детина, десантник, с ясными голубыми глазами. На свадьбе гулял весь завод. Молодые были красивы и величественны, целовались нежно.
Сразу после этой свадьбы к Мите приехала его невеста. Они быстро расписались, чтобы Мите дали распределение по месту жительства жены. Вскоре они навсегда уехали из города своего студенчества.
…Митя первое время супружества невольно следил за взглядами, устремленными на жену. Как, например, в городском парке, где они часто гуляли с широкой детской коляской (у них родилась двойня), где, весело смеясь, глядя на мир во все глаза, отдыхало молодое население города.
…Где мимо, в числе прочих отдыхающих, иногда проходили небольшие группы солдат, видимо, находившихся в увольнении, среди них половина чернявых, азиатского или кавказского облика, нелепых в скомканной форме, в тяжелых сапогах. Митя переводил взгляд на жену. Видно, его глаза в этот момент были особые, потому что она целомудренно поднимала бровки, хлопала ресницами, а затем смешно кивала подбородком кверху: мол, ты чего?
ПОЛЯРНЫЕ СОВЫ С ДИЭЛЕКТРИКОМ
Что такое конденсатор? Ни за что не угадаете. А это вот что: две полярные совы с диэлектриком.
Никогда не спорю с дураками и шибко грамотными — себе дороже.
А поскольку кругом, как на подбор, одни такие (сам я человек средний), то по большей части приходиться вести себя нейтрально. Молчать или улыбаться из вежливости — на глупости одних и умничанья других. Поэтому в коллективе меня за глаза называют соответственно жизненной позиции: вежливый молчун. Или: улыбчивый молчун. Без всякого там сарказма, беззлобно. Я не против, ведь, получается, ни умным, ни глупым зацепиться не за что. А злиться им и без меня есть на кого — друг на друга. Энергию девать некуда. Умные аж трясутся, когда их не понимают глупые, а глупые скрипят зубами на грамотных — за то, что из понятных вещей делают невесть что.
Я по молодости пробовал в такие «полярные» диалоги впрягаться. Результат — сами знаете какой: двое дерутся, третий виноват. Нет уж, я лучше губы растяну, когда меня в свидетели привлекают (скажи, мол, принципиально, как на твой взгляд, на чьей стороне правда?). Где понимающе, где нейтрально — улыбнусь. Или сделаю вид, что не расслышал, или задремал, или — некогда мне. Интересно, но некогда — извините, опаздываю, побежал.
Но, увы, убежать не всегда получается. Работа такая.
А работаю я дежурным в оперативно-выездной бригаде, ОВБ по-нашему. Обслуживаем электрические подстанции, которых множество по нашему району разбросано. Постоянного персонала на этих объектах нет, поэтому обслуживает их ОВБ: водитель «Зила», на котором перемещается бригада, и два электромонтера. Один из электромонтеров — я. Работа мне в общем нравится (до пенсии бы на такой протянуть), особенно летом: целый день колесим по проселочным дорогам — природа, сады, огороды неохраняемые. И от начальства далеко, сами себе хозяева: приехали на подстанцию, осмотрелись, кое-что включили-отключили, подкрутили, смазали, грядочки пропололи (там у нас картофельные делянки имеются) перекусили, поспали в тенечке — и айда домой. Так что, повторюсь, ничего так работа. Если б еще компаньоны мои больше помалкивали…
Получается, троих нас как будто специально скомплектовали по интеллектуальному признаку. Я, как уже объяснял, средний, по моим понятиям нормальный человек. Двое других — полярные. Я их про себя называю полярными совами, что, конечно, не совсем правильно. Но мне так нравится. Игра слов. На основе ассоциаций, как говорит мой напарник Ник Саныч. Из «умный-дурак» получается слово «полярные», потом к нему само собой прикрепляется «совы». Там где полярные совы, там и северные олени. Олени, значит рога, где рога, там рогоносцы. И так далее, можно вообще черте что получить. Люблю, значит, словами играть. Молча, про себя. А что мне остается делать, когда эти двое моих компаньонов каждый раз занимаются одним и тем же, своими бесконечными пустопорожними спорами! Вот и еду между ними, обзываю их про себя то совами, то рогоносцами, где прикорну, где прикинусь, что задремал, где улыбнусь невпопад. Честно сказать, надоело.
Разговоры, как правило, начинаются и продолжаются в машине, где у каждого свое место. Водитель Лешка, молодой парень, чернокудрый красавец и алиментщик, как и полагается, на своем месте, за рулем. (Я его однажды, для игры слов, окрестил бараном — как нельзя подходит: кудрявая голова над баранкой. Мозги тут ни при чем, хотя и эту тему можно было развить.) С другого краю — пожилой электромонтер с высшим образованием Саныч, гроза доски почета, как про него говорит Лешка. «Подпольная» кличка Саныча Президент. Я, понятно, посредине, между двух огней или полюсов (у меня средне-специальное). Как диэлектрик, по-нашему говоря. Если уж совсем по-нашему, по-электрически, то бригада наша — сущий конденсатор с двумя разноименными полюсами и диэлектриком. Заряженный, стало быть, конденсатор.
Ну вот, например, каждый раз в машине происходит приблизительно следующий разговор.
Начинает обычно Лешка:
— Сосед у меня, мужики, — убил бы. Или, как говорил мой бывший хохол-тесть, «вбыв бы».
Президент пока молчит. Поскольку Лешка упорно смотрит на меня, я улыбаюсь и поднимаю вверх брови. Это можно понять двояко — как одобрение Лешкиной решительности и как вежливый вопрос: а в чем конкретно дело?
Лешке того и достаточно, он продолжает:
— Да, хороший тесть был. До сих пор жалко: сало, бульба, горилка, «варЭники»… А сосед, блин, в коридоре встретишь — весь из себя такой приветливый и невиноватый. А иногда, сволочь, как врубит с утра свой музыкальный, черт бы его побрал, центр, так думаю: выйти, что ли, в коридор, позвонить в дверь, а как чайник высунет, так сковородкой по чайнику!.. Кажись, у него вместо мозгов одни низкие частоты: бух-бух. Поел-поспал опять: бух-бух! Ну, честное слово — «вбыв бы»!
Президент наконец отзывается, задумчиво глядя на дорогу:
— Каждому человеку, Лексей, хочется быть в чем-то непохожим на других. И когда не хватает способностей или ума на реализацию желанной оригинальности, такой человек просто шумит: голосом, музыкой какое-никакое, а своеобразие. Или, из той же оперы, чтобы доказать что-то, хватается за последний аргумент — за посуду, например…
— Вот-вот, — простодушно подхватывает Лешка, — у меня жена, тоже, бывало, как что, так хвать за тарелку, за летающую, как гуманоид. Во! — он откинул ладонью кудель ото лба, в сотый раз показывая черепной шрам. — А вот тесть — душа-человек, и сообразительный. Не то что некоторые. Меня понимал как никто, — здесь Лешка осуждающе зыркал на Саныча. — Без всяких завихрений. Ему тоже доставалось. Мы, с ним, бывало… А наутро претензии от супруги — мне одному. А я весь из себя такой невиноватый, говорю, ты чего шумишь, все нормально. Сейчас только анальгинчик пивком запью — и опять как огурчик. А!.. — он в сердцах отмахивает рукой, чуть мне по уху не задевает, видимо, отгоняя душещипательные воспоминания, уверенный, что мы его не поймем.
Несколько минут едем молча. Хорошие минуты. Но, чувствую, конденсатор подзарядился. Скоро начнет понемногу сбрасывать кулоны, пробивая диэлектрик.
Алексей приступает к «основному» разговору. Последовательности на первый взгляд никакой, но всем понятно, что связь с предыдущими словами, сказанными в этой кабине, и не только сегодня, довольно крепкая. Для всех троих это всего лишь продолжение бесконечной идеологической драмы, построенной на диалоге, с одним зрителем.
— По идее, Саныч, нужно быть проще…
— Простота хуже воровства, — устало, но привычно отзывается Президент.
Лешка делает вид, что не слышит:
— …Потому что мир прост, мы сами его усложняем, — в этой нейтральной, но, как ему кажется, глубокомысленной формуле Лешкино предложение на мир. Дескать, Саныч, будь простодушнее, последний раз прошу, не умничай и не делай из меня дурака.
Но Президента не задобришь, справедливость для него превыше всего. Явно, он не читал Дэйла Карнеги. Как, впрочем, подавно не читал его и Лешка. Я тоже, можно сказать, мало знаком с этим Дэйлом. (Вот, пожалуйста, ассоциация: «Чип и Дэйл спешат на помощь» — ха-ха, игра слов. Мультфильм такой есть голливудский. Или диснейлендовский. Не знаю, как Чип, но Дэйл иногда, чувствую, мне помогает.) Итак, знаком я с этим американцем, кажется, очень мало, читал только один отрывок из той, всемирно известной, книги в каком-то журнале. Но все же мне запомнилось, как кажется, наиболее важное: не пытайтесь исправить человека, не дайте ему, дураку, почувствовать ваше превосходство, ему это жуть как не понравится — со всеми вытекающими последствиями (проще: своей глупости он вам ни за что не простит). Но что поделаешь: не читал об этом Президент, не читал. Поэтому говорит:
— Я тебе так скажу, Лексей… — Кстати, в том, что Саныч, горожанин до мозга костей, называет Лешку Лексеем, на деревенский лад, есть тоже определенная месть Лешкиной простоте: ведь все, в том числе и я, называем Президента полным именем — Николай Александрович или хотя бы, когда гайки крутим, для быстроты, коротко — Ник Саныч. (В свое время у меня из Ник Саныча получился Никсон — отсюда и тайная кличка: «Президент». Так что Президент он даже не простой, а американский.) Один Лешка упрямо обращается к нему по-своему: Саныч. Звучит вроде как уменьшительно. — Я так скажу, говорит Президент, — все глупости, которые происходят в мире, все войны, оттого, что кто-то хочет по-простому решить сложные вопросы. Рубанул по-македонски и все, нет гордиевого узла. А что все-то? Гордиев узел — миф, а простак и глупец, для твоего сведения, слова синонимы. По большому счету, простота, ограниченность — всегда агрессивны. Поэтому, в частности, нельзя простых людей пускать во власть.
— Вот я и говорю, — якобы поддерживает его Лешка почти с радостной интонацией, — все глупостями занимаемся, политическими играми, все сюсюкаемся. Взять хотя бы с этими, как их, чухонцами разными, на Кавказе. Жахнуть бы ракетно-бомбовым ударом, стереть с лица земли, распахать и засеять!.. Жалко? А мы для жалостливых и историков там разных на этой пашне огро-о-омный памятник поставим. С надписью: жили здесь в таком-то веке такие-то скифы, от которых наши казаки форму переняли. Потому что главное память!..
— С чухонцами… — вздыхает Президент, — м-да, — он заглядывает мне (именно, мне) в лицо: география — два, история — два. Между прочим, политика это искусство возможного. — Президент делает характерную паузу, глубоко вдыхает и затем выпускает воздух толчками, открывая и закрывая рот, со звуками, похожими на междометия: «Э-ммм… Э-ммм…» — как будто внутренний инструмент настраивает. За этим обычно следует небольшой, но содержательный монолог. Точно: — А если более широко посмотреть, то жизнь — это сплошной компромисс. Ты вот на себя посмотри, какой ты ни крутой (я бы сказал безответственный, за слова не отвечаешь), какой ни категоричный, а все же, как с утра встал, так и пошел на компромисс. А именно. На работу не хочется — а топаешь. Завгара за вора считаешь — а руку тянешь. И так далее. До самого вечера. А ночью еще и с женой на какой-нибудь компромисс идешь… И по большому счету, знаешь, чем мы с тобой друг от друга отличаемся в своих рассуждениях?… Вот чем: то, что я говорю в этой твоей кабине, мне не стыдно сказать ни на собрании профсоюзном, ни на митинге, ни на… какой-нибудь генеральной сессии ООН. А тебя за приличный стол с твоими речами просто не пустят. А кушать захочешь — враз по-человечески заговоришь. Так-то.
Что хорошего в этих «полярных совах» — научились не перебивать друг друга. (Иначе, кстати сказать, мне гораздо труднее было б промеж них сидеть.) Поэтому Лешка только откровенно зевает. Одного зевка не хватает на весь монолог Президента, поэтому выдавливает из себя второй и третий научился. Лешка про «жизнь — компромисс» уже сто раз слышал, это для него сложновато, вникнуть из принципа не пытался, поэтому и на сей раз старательно пропускает философию мимо ушей. Были бы на этих ушах заслонки непременно задвинул бы. К тому же, тема жены для него болезненна в любых вариантах, если она начата не самим Лешкой. Поэтому он пытается несколько сменить тему:
— Саныч, ты мою систему знаешь. Я бы всю эту мусульманию — грузин там разных, армян…
— Кстати, для общего развития: грузины, между прочим, и армяне, так же, как и осетины, — христиане. Причем, к примеру, грузины христианами стали, за несколько веков до русских и хохлов. Привет бывшему тестю.
— Да ты че, Саныч, — Лешка искренне смеется, — говори, да не заговаривайся: они ж черные.
— Какой, ты, Лешка, все-таки дремучий, — Президент закатывает глаза. Там ведь, среди «чухонцев», Лексей, к твоему сведению, кроме боевиков, большинство — мирные люди. Мирные, понимаешь, Лексей, люди, понимаешь? В том числе твои братья по крови… По вере, если ты во что-то веришь…
— Во-первых, Саныч, бога нет. А ради хорошего дела кому-то и пострадать не грех, — весело парирует Лешка. — Война-с! — грамматический изыск с частицей «с» звучит откровенным издевательством над собеседником-грамотеем. — А як же-ж!.. — в довершение диалектического вывода восклицает он с глумливой подвывающей интонацией, радостно клацая крупными ровными зубами и причмокивая.
— Категоричность — не от души, сиречь не от бога, а бескомпромиссность не от ума, — тоже быстро реагирует Президент. Демонстративно выглядывает из-за меня, хотя Лешку ему видно и так, многозначительно проговаривает: — Но что поделаешь, глупость и душа — понятия несовместимые, я только недавно это понял. Ну да ладно, — он светло улыбается, — что это я все про недосягаемое… Хорошо, Лексей, допустим. Бомбим! Но. Ты летал когда-нибудь над горами? А ну-ка, прикинь — прости, господи! — сколько нужно бомб — в горах, в горах! — чтобы уничтожить одного врага? То-то, лоб наморщил — нету столько бомб. — Он опять обратился к «диэлектрику», то есть ко мне, пренебрежительно кивая на Лешку: — Артиллерист, а?
Я «вдруг» замечаю, что у меня развязался шнурок на ботинке, торопливо наклоняюсь и сосредоточенно отдаюсь возникшей проблеме.
Но Лешку иронией не прошибешь. Он успокаивает Президента:
— Вот я и говорю, Саныч, не нужно усложнять. Нужно попроще, попроще. Ядерную боеголовочку — и нет проблемы. Одной достаточно. Дешево и сердито.
Саныч трясется в истерическом смехе:
— А мы-то, мы-то?! Сами-то, сами?!.. Ядерное облако, радиация. Это же самоубийство! — он опять обращается ко мне: — Лексей как хочет, а мы с тобой — пас. Воистину… — смех его просто душит, — воистину, не бойся умного врага, а бойся друга-дурака!..
— Ничего, — Лешка тоже демонстративно обращается ко мне и даже трогает за плечо, мол, не дрейфь: — мы дождемся ветра соответствующего направления, чтоб на нас не дуло, и жахнем! Ховайся, кто может!..
— Да-а-а… — обреченно тянет Президент, — невероятно низкие частоты. Воистину, «вбыв бы», прости господи!.. — И опять обращается ко мне: — Такой у нас, понимаешь, народ: не всякий политик шофер, но каждый шофер — политик!
На этом разговор прерывается. Остаток пути преодолеваем молча. Я пытаюсь фальшиво дремать, делая вид, что ничего не произошло. Исподтишка наблюдаю за обоими. Президент вместе с сигаретой дрожащими руками достает таблетку валидола, тайком сует ее под язык. Закуривает. Лешка беспечно жует резинку, периодически посматривает в зеркальце под потолком кабины, поправляет кудрявый чубчик.
Как я отношусь к каждому из них, к Лешке и Президенту? Вроде бы, как оцениваю, так и отношусь. Лешка — рубаха-парень, рубаху же последнюю и отдаст. Незлопамятный, нежадный. Что еще коллективу надо? Правда, иногда бывает пошл и груб, в смысле, неадекватно ситуации пошл и неадекватно груб. Но при «языковой» решительности, даже жестокости — жесткости в нем ноль, мухи не обидит. Президент — сам себе на уме, независимый. Много знает. Иногда по лицу гуляет тень гордыни и презрения — без конкретики, но все равно неприятно. Словом, у меня нашлись бы претензии к тому и другому, но обоих, в принципе, жалко. Наверное, потому, что во мне есть и от того и от другого. Мне не хочется, чтобы они ругались. Я хочу их навечно примирить худой мир лучше доброй ссоры. Но с кого из этих «полярных сов» и «рогоносцев», «барана» или «президента», начать?
Я решил начать с Президента.
Однажды утром, перед выездом на линию, пока Лешка бегал к диспетчеру за путевкой, я обратился к Президенту. Мол, Николай Александрович, ты Дэйла Карнеги читал?… То-то. Заметно. Очень жаль. Ты же, Ник Саныч, чего греха таить… У тебя же, между нами говоря, мозгов побольше. Вот и пойди Лехе навстречу, снизойди, так сказать, попытайся взглянуть на мир его глазами, может и поймешь его как-то. Ведь понять — значит простить. Глядишь, и рассосется эта неприязнь, и перестанешь ты валидол грызть, а он, Лешка, по твоему благому примеру тоже, возможно, постарается на твою точку зрения встать, хотя ему-то в этом будет и трудновато.
И что бы вы думали, «сложный» Саныч вдруг сразу же и выдал «простую» формулу, прямо как его вечный оппонент:
— А, понял: клин клином вышибают! Что ж, попробуем.
Я даже удивился, как он быстро все подсек и перестроился на простецкий лад.
Пришел Лешка. Поехали. Началось все как обычно.
— Мужики, а я сегодня грядки свои полоть не буду — нехай им, кукарекают, как говорил мой тесть, — не выспался. Сосед, блин, заколебал…
— А ты его «вбый»!.. Чтоб спать не мешал! Чайником по сковородке!.. оптимистично посоветовал Президент, вальяжно закуривая.
Лешка осекся, но быстро «восстановился», видимо, относя «президентский» совет на хорошее настроение Саныча. Миролюбиво ответил:
— Ну ты даешь, Саныч. В принципе, сидеть не охота. Хотя, по системе, от сумы и от тюрьмы не зарекайся, как говорится… Я жене тоже говорил: мне за тебя, дуру, сидеть не охота, но жить, элементарно, тоже хочется. Во! — он опять показал шрам на голове. — А тесть…
— Не-е-т, Лексей, — вкрадчиво, но настойчиво прервал его Президент. Ты ведь умный парень, надо было с ним — нет, не с тестем, а с соседом по-умному. Чтобы раз, но навсегда.
Тон Президента показался мне зловещим, но для Лешки эта явная наигранность оказалась пока недоступной. Не привык он, чтобы Президент говорил о чем-то несерьезно — вот в чем дело. Поэтому мог оценивать слова Президента как угодно, но не как глупую шутку или, тем паче, как утонченное издевательство. Потому что если раньше Президент и издевался, — что было, то было — то как-то по-другому, как-то это было очень уж понятно и, кстати, поэтому необидно (расстраивался после этих «издевательств», почему-то, сам Президент).
Президент стал посвистывать и строить глупое лицо, с преувеличенным вниманием глядя на дорогу.
— Ну и что я должен относительно этого соседа-придурка делать? — Лешка надеялся получить практический совет. Какую он ни испытывал неприязнь к Президенту, а все-таки считал его вполне образованным. — В правоохранительные органы, что ли заявить, пусть оштрафуют за хулиганство? Он же общественный порядок нарушает — лишает граждан заслуженного покоя. Весь подъезд страдает.
Президент улыбнулся:
— Да ну что ты, Лексей, сам же говорил: менты — колуны, и те невпопад, судьи — грабли, и те дырявые; всех бы в одну подсобку с мелкой решеткой, да запереть. Не-е-ет. Здесь надо мозги включить. Я бы вот что тебе посоветовал…, - тут Президент сделался очень серьезным, как будто выступал на профсоюзном собрании. Нахмурил брови, губы в узел собрал. С таким выражением лица он просто не мог иронизировать — так я до сегодняшнего дня думал. Понизил голос и даже оглянулся, хотя оглядываться в кабине не на что, разве что на календарь с голой женщиной. — Только ты потом, ежели раскусят, никому не говори, что это я тебе посоветовал. Идет?
Лешка кивнул и аж рот открыл — само внимание.
— Ты его, прости господи, попробуй… поджечь. Да-да, что вылупился: сгорит и нет проблем. Все соседи спасибо скажут. Заодно, и слава Герострата тебе обеспечена. Знаешь, мужик был один в Древней Греции, Герострат. Простой такой мужик. Храм сжег — и прославился!.. Дешево и сердито.
У Лешки вытянулось лицо, он испуганно взглянул на меня.
— Да ты что, Саныч… Николай Александрович… Нашел тоже древнего грека. Я, конечно, никому не скажу про твой, извини, Герострат, но и делать этого, понял, не буду. Что у меня, файлов не хватает, что ли? Я же, кажется, русским языком сто раз говорил, что сосед этот — через стенку живет, двери рядом. — Видно было, что Лешка обиделся: — Ты, Ник Саныч, прости господи, наверное, хочешь, чтобы и я заодно, в принципе, сгорел, а? Со всем имуществом…
— Ах ты, незадача!.. — Президент озабоченно схватился за подбородок, шумно потер дневную щетину. — Забыл, забыл, Лексей, извини. Сам-то ты, конечно выскочил бы, а вот имущество — конечно. Конечно, в принципе, конечно. Но с другой стороны, Лексей, по идее, память все-таки останется: был такой телевизор, был видик, костюм выходной… Ведь главное — память? Ты же сам говоришь: «война-с!» Ради нужного дела кому-то и пострадать не грех! По системе-то, а! А як же-ж!..
— Ты, Саныч, хрен с мыльницей не путай…
Но Президента было уже не остановить:
— А чего ты, это самое, Лексей, боишься? Выход есть! Дождись ветерка, чтобы на тебя не дуло, и жахни с утречка! Запусти ему красного петуха, нехай ему — как говорил тесть, — нехай кукарекает!.. — последние слова Президент не произнес — почти провизжал и несколько раз хлопнув себя по толстым бедрам, заливисто, прямо-таки счастливо закашлялся.
Лешка замолчал и больше до самой подстанции не проронил ни слова. Президент попросил остановить машину возле первого сельского магазина, вышел, купил жевательную резинку, чего за ним раньше не замечалось. Сел обратно в кабину. Под общее молчание неумело вскрыл упаковку, ссыпал на ладонь несколько белых подушечек и лихо, как басмач управляется с насваем, отправил жвачку в рот. Оставшуюся часть пути жмурился как кот на теплой печке, сопел, ароматно жевал и улыбался, не глядя на нас, своих попутчиков.
Лешка долго играть в молчанку не умел, поэтому по обратной дороге заговорил, правда, на «нейтральную» тему и обращался теперь исключительно ко мне:
— Мотор что-то не тянет, чхает. Карбюратор!.. Я завгару говорил…
— А ты поставь туда карбюратор от… «Краза»!.. — подал голос Президент, бескультурно чавкая и тяжело дыша — огромная жвачка мешала дыханию.
Лешка, казалось, совсем не обращал внимания на дорогу, потому что демонстративно смотрел на меня и даже попихивал локтем в бок:
— Между прочим, народ у нас такой — сплошные советчики. Кругом профессора. По идее, прежде чем советовать, нужно хотя бы иметь элементарные представления. Я бы, конечно, мог, ликбез, там, прочитать по устройству автомобиля… К примеру, о том, что «Краз» это дизель, а на дизелях карбюратора нет. Но зачем?… Время только терять… Нет, глупость неистребима!
— Это точно, — вздохнул Президент и тоже обратился ко мне, речь его изменилась, стала карикатурной, как будто у него разбух язык: — А я так думаю, что со всех автомобилей нужно карбюраторы да дизеля поснимать и заменить на турбины! На ядерном топливе. Для скорости. Раз — и никаких проблем!.. Дешево и сердито. Ух-ты, ах-ты! — все мы космонавты!..
Лешка тронул меня за рукав:
— Между прочим, я тоже обижаться могу. Если кто-то думает, что может долго испытывать мое терпение, тот глубоко ошибается.
Президент, не обращая внимания на реплику Лешки, продолжал свои предложения по модернизации:
— …И крылышки к автомобилям поприваривать!.. А потом — ж-ж-жж!.. К чухонцам на Чукотку через страну Мусульманию, а оттуда, рукой подать, на Кубань, к тестю на варэники — ж-ж-жжж!.. Ховайся, кто может!
Аж слюна в разные стороны. А щека, которая обращена к нам, со смешным пузырем от жвачки, как будто действительно вареник «ховает». Или «хавает». Ну, ребенок да и только, если б не морщины и не комплекция.
Мы подъезжали к своему диспетчерскому пункту, рабочий день заканчивался. Признаться, сегодня он показался каким-то долгим, я устал больше обычного. Устал улыбаться этим полярным совам, рогоносцам, президентам и баранам, дремать, смотреть на дорогу и на часы. Слушать эту комедию. Аж голова разболелась. Лешка, видно, разделял мои ощущения, потому что сказал, останавливаясь и глуша машину:
— Какой-то ты сегодня, Саныч, невиноватый. Ты мне сегодня, в принципе, почему-то поднадоел, аж голова разболелась.
— Это ничего, тьфу-у!.. — засмеялся Президент, вылезая из кабины и далеко отплевывая огромную жвачку. Если у кого-то из нас сегодня было хорошее настроение, то это у него. — Ничего, Лексей, в принципе, будь проще: анальгинчик пивком запьешь — и опять как огурчик, и с файлами полный порядок. Никакие гуманоиды не страшны!.. В летающих тарелках. Пока! — он со всего маху хлопнул дверцей.
Я задержался в кабине. Лешка вздохнул, провожая взглядом бодро удаляющегося Президента, похожего сейчас на медвежонка Винни Пуха, грустно покачал бараньей головой:
— Жалко, в принципе, Саныча.
— А в чем дело? — я сделал «невиноватое» лицо.
Лешка чуть ли не взорвался:
— Ты что, не видишь, что у него, кажись, крыша поехала! Маразм, в детство впал, кажись… Ему ж проверяться нужно!
Я, как уже было сказано, обычно не вмешиваюсь в чужие разговоры и не реагирую на чужие оценки, но тут почему-то не выдержал:
— Алексей, ты себя не узнал?
Наверное, я в тот момент смотрел на Лешку как-то необычно, потому что он слегка заволновался, глянул в зеркало заднего вида, даже провел ладонью по щеке:
— А что такое?… Все нормально.
ЛЕОНТИЙ
Берег, со стороны которого двигались передовые части наступающих войск, был пустым: лишь чахлый кустарник, да жидкая рощица вдали от воды. Поэтому старый деревянный мост, который немцы, торопливо, разрушив только середину, взорвали при отступлении, было решено восстанавливать с противоположной стороны, где на крутом берегу чернела старая лесопосадка, — хороший строительный лес.
Перед саперным подразделением из тридцати конных гвардейцев была поставлена задача к вечеру следующего дня восстановить мост. О дальнейших целях командование не распространялось, но по опыту предыдущих наступлений саперы догадывались, что уже следующей ночью здесь, в стороне от основного удара, планируется прохождение мобильной группы, в задачу которой обычно входит нарушение планов отступающего противника. Дело осложнялось тем, что подразделение на этот раз не было обеспечено взводом охраны, как было принято. Но гвардейцы, как всегда, приказ не обсуждали, только посетовали: «Эх, хотя бы пару пулеметов да винтовки б поменять на „пэпэша“!..» Да куда там! Бегом-бегом: на коней, и вперед!
Переправлялись через речку ночью. Кони везли на спинах вьюки с инструментом. В рощице изготовили два небольших плота, на них погрузили овес для коней, мотки проволоки, бечевы, ящики с гвоздями…
Переправляться вплавь для Леонтия было всегда неприятно. По простой причине, в которой ему, крестьянину, признаваться было не с руки: плавал он плохо, можно сказать, совсем не умел. Выручал в таких случаях конь, непременный спутник солдата саперной части, в которую был реорганизован в начале войны кавалерийский эскадрон. Но Орлик, который верно служил последние полгода, на вчерашнем перегоне был ранен осколком снаряда, и его пришлось пристрелить. К новому коню, какому-то случайному, неизвестно от какого хозяина, безымянному хилому «воронку» (не с шахтерской ли коногонки?) Леонтий еще не приноровился, одно хорошо — жеребец вел себя смирно. Даже имя ему не стал давать — временное животное. Когда входили в воду, Леонтий думал об одном: только б «доходяга» держался на воде, иначе труба дело.
Вошли в воду, «воронок» смирно устремился за остальными конями. Леонтий плыл рядом, держась за седло, подгребая свободной рукой. Но на самой середине реки конь также смирно, лишь тихо захрапев, пошел ко дну. Леонтий успел отцепить от седла мешок с личным инструментом, однако с этой тяжестью тоже пошел вслед за конем. Благо все это происходило возле плота, и Леонтия, изловчившись, ухватил за гимнастерку лейтенант: «Левко, ты чего там потерял? Там добра нема, залазь до нас…»
Всю ночь просидели в леске, с оружием наизготовку, немного обсохли. Наутро, изучив местность, лейтенант приказал валить лес, рубить сучья и скатывать бревна к воде, к мосту. До этого определил дозоры. Один пост поставил в лесополосе, которая закрывала берег со стороны бесконечного поля. Здесь местность хорошо просматривалась.
Выше по течению обзор закрывали высокие холмы, за которыми виднелась грунтовая дорога, расходившаяся оттуда двумя ветками: одна дальше вдоль реки, скрываясь за следующим участком лесопосадки, другая, под прямым углом от первой, ныряла в низину за холмы. Если немцы подойдут с какой-либо стороны незаметно, — что вполне возможно из-за рельефа местности, — то саперов перестреляют как куропаток.
— Ты ж смотри, Леонтий, — наставлял лейтенант, — если что, дай знать, только без шума. Чтобы мы успели выдвинуться к холмам и там встретить. Фрицам ни мост, ни наше саперное хозяйство, — он кивнул на бойцов, готовящихся к работе, — видеть никак нельзя. Мы ведь с горки как на ладони, с двух «шмайсеров» покосить можно. Да и, главное, мост потом спокойно доломают… А вот если сами их сверху шугнем, подумают, что мы либо авангард, либо сильная разведка, связываться не станут и больше не сунуться, пуганые: все-таки мы наступаем, а не они. Конкретно: увидишь фрицев, — тикай сюда!..
…Леонтий нашел удобную воронку от бомбы, обработал ее саперной лопатой, получился хороший окоп с бруствером. Причем, учитывая, что кругом такие же воронки, издалека его укрепление вряд ли можно определить как рукотворное. Устроился спиной к холмам, за которыми мост, лицом — к дороге. Все ничего, только брюки да гимнастерка сыроваты. Мешает нагрудный карман, это разбухли, намокнув, письма от жены и семейные фотографии, которые он всегда носил у сердца. Леонтий вынул влажный брикет из кармана. Выпала фотография, присланная в последнем письме. Семья почти в полном составе, только без него, хозяина, — жена Ульяна и дети: Ананий, Василий, Варвара. Подсушить бы, — с сожалением подумал, и уложил фотографии обратно…
Вглядываясь в окрестности речки с не запомнившимся названием, подумал: чужие края, а так же все почти, как дома. Иногда прямо чудится: не сон ли все то, что происходит? Вот и сейчас, даже земля цветом и запахом — как в Узбекистане. Черноты, а значит плодородия, маловато, не то, что на Воронежских просторах… Эх, Господи, все перепуталось. Который год война. Ладно, — германцы, здесь все понятно, а сами-то чего?..
…Только Леонтий женился — дошла до их воронежского села (наполовину хохлы, наполовину кацапы) коллективизация. По улицам ходили счастливые активисты в чужих сапогах и кожухах: «Кто был никем, тот станет всем!» бывшая голытьба да пьянь «рассчитывалась» с зажиточными земляками-трудягами. Отца, сельского мельника, «раскулачили», но не выслали, — оставили работать на теперь уже колхозной мельнице. Мельница — считай завод, там одним «маузером» работу не обеспечишь, мозги да руки нужны. Большой дом, правда, отобрали в пользу одной малоимущей семьи, зато другой, поменьше, оставили, сыновья с семьями, да дочка малая, народу много, где-то жить нужно. Кстати, отобранный отчий дом со временем пришел в разоренье: дырявая крыша, поросший сорняком двор, некормленая скотина… В конце концов, его сжег вместе с собой новый пьяный хозяин, старый сельский «невдаха».
Отца предупредил сосед, из активистов: «Сергей, оставили тебя в покое до поры. Политика такая идет: ликвидация кулачества как класса. Ждем указаний. Тем более, за тобой грешок еще с продразверстки». Намекал на случай с губернским уполномоченным, которого Сергей, ветеран германского фронта, не желая отдавать хлеб нового урожая, буквально насадил на вилы: «Вот так нас учили немцев бить!..» Продразверстник остался в живых, его спас толстый казенный кожух да ремень с медной бляхой. Рядом шли бои — белые сменяли красных, следом заходили казаки… — и Сергеем никто в суматохе заниматься не стал. Красный обоз с отнятым у сельчан продовольствием ушел дальше, но случай запомнился. В соседних селах некоторых «раскулаченных», вместе с семьями, уже ссылали в Сибирь. Сергей, не желая подвергать близких опасности, расселил сыновьев по хатам на разных концах деревни, потихоньку продал дом, отбыл из села вместе с дочкой (жены на тот момент уже не было в живых). Уезжая, сыновьям сказал: «Найду волю, — дам знать. Авось пока вас не тронут».
Обратив всю землю в пользу колхоза, всем новоявленным колхозникам нарезали небольшие участки по окраинам под огороды. Актив уверял: насчет хлеба, картошки, овощей не беспокойтесь, что вырастим — то наше. На том колхозники и успокоились, высадив на личных огородах бахчу да огурцы.
Леонтий во дворе своей усадебки, рядом с хаткой стал строить добротный дом. Огород ему достался на окраине села, пнистый клин у перелеска. Выкорчевал сосновые корневища, распахал землю и посеял… пшеницу. «Глупый ты, Левко, — посмеивались земляки, — на одном хлебе следующий год жить собрался? А как же насчет солененьких огурчиков на закусь? У нас покупать будешь?»
Богатый выдался урожай. Колхозный хлеб загрузили на подводы и увезли. Остались колхозники с «гарбузами» да тыквой на всю зиму — живи, как хочешь. С огорода намолотил Леонтий два мешка муки, они и спасли молодую семью — он да жена — от настоящего лютого голода, который довелось пережить черноземной губернии в тот черногод. Таким и жил Леонтий всю свою жизнь: своим умом, не веря ни в посулы, ни в манну небесную, — сказалась отцовская «самостоятельская» жилка.
Отец искал волю на Урале, в Сибири, в Северном Казахстане. Нанимался в работники к людям в сельской местности: ремонтировал, строил — мастером был на все руки. Присматривался к обстановке, к природе, к людям. Оценив все вокруг, получал деньги за работу, быстро снимался с места, ехал дальше. Иногда посылал весточку детям: дескать, мы с вашей сестренкой живы, здоровы, чего и вам желаем. Наконец пришло от него обстоятельное письмо из-под Ташкента: так и так, устроился, колхоз добротный, люди такие же — русские да хохлы, никто никого не раскулачивает и не выселяет, построил дом, приезжайте, — семья должна быть вместе.
Слово отца — закон. Но сниматься с места боязно. Здесь как-никак все понятное. А что там в басурманских краях — неведомо.
Все решил тридцать третий год. Кое как перезимовали: колхоз, который год едва сводил концы с концами, отдавая по плану урожай государству; стало быть — полнейшее истощение, запасов никаких. В мае родился сын Василий. Засушливое лето. Опять маячила впереди несытная зима. И точно: принес Леонтий осенью зерно, выданное на трудодни, — мешок в нагрудном фартуке. Вышел на середину двора: «Цып-цып-цып!..» — наклевалась-наелась домашняя птица. Стало окончательно понятно, что это оказался не просто засушливый, а по-настоящему голодный год. Отряхнул фартук и сказал решительно: «Все, Ульяна, едемо до батьки!..»
Зимой, когда люд кругом стал пухнуть от голода, а «активисты», еле держась на ногах от недоедания, опять стали искать ведьм, виноватых во всех напастях (а так же потомков нечистой контрреволюционной силы, а также ей сочувствующих), Леонтий и Ульяна, взяв детей и несколько узлов, — сколько уместилось на бричку, — выехали в сторону вокзала. За околицей остановились, обернулись к селу. Перекрестились, поклонились своему новому дому, в котором так и не удалось толком пожить, заплакали, да так плача и двинулись дальше.
Вскоре следом выехали еще два Леонтьевых брата с семьями.
…В хлопкосеющий колхоз под Ташкентом приехали новые работящие семьи. Скоро сообща отстроили добротные дома, не хуже, чем вокруг. А жили здесь хорошо, потому как собрались в основе своей такие же люди, как Сергей и его сыновья да снохи, со всей России, оттуда, где они вдруг стали изгоями. Жили вокруг узбеки, татары, позже появились целые поселения депортированных с Дальнего Востока корейцев.
Жили, перенимая друг у друга обычаи, традиции, иногда заключая «смешанные» браки. И все же это был кусочек России: те же проселочные улицы, те же плетни, завалинки, девчата и хлопцы, гармони и хороводы, пруды и речки, вишневые и яблоневые сады… Народились новые дети, для которых эта узбекская благодатная земля стала не «второй», а настоящей Родиной. Через несколько лет, окончательно укоренившись, обустроившись, пришлые славяне уверовали: это и есть их доля и воля, так тому и быть.
Но война черным крылом опять нагнала страшную тень…
В июне сорок первого Леонтия призвали в Красную Армию. Таким образом ему опять довелось побывать на родине, в России, освобождая ее от коричневой нечисти, — проехать по ней, пройти, проползти… И вот сейчас он лежит на западных рубежах этой дорогой земли, любуясь красотами природы, вдыхая родные запахи, слушая знакомые звуки…
…Загудели самолеты. Звезды на крыльях, — наши. С востока на запад. На душе полегчало. Значит, будем дома. Скоро ли?.. Уже не так важно. Главное выжить.
Под небесный шум, как видения, с двух сторон дороги одновременно вынырнули два мотоцикла с колясками. Остановились на значительном отдалении друг от друга, сразу же заглушили двигатели. Экипажи, — по два немца, помахали друг другу руками, пожестикулировали, рты на замках. Двинулись, с автоматами наперевес, в сторону гряды холмов, за которыми — мост, где уже вовсю работали (отчетливо слышался стук топоров и «вжики» пил) саперы. Пройти немцам до цели оставалось шагов по полтораста.
Так получилось, что Леонтий оказался посредине, на равном расстоянии от каждого из мотоциклов. Если бы немцы появились в одном месте, то Леонтий спокойно бы отошел к мосту, и далее все развивалось бы согласно предположениям лейтенанта. Но сейчас это сделать невозможно: уходя в сторону от одной пары немцев, непременно становишься заметным для другой. Он разглядел на одном из мотоциклов пулемет, а на другом, в коляске, — зеленые ящики (возможно, взрывчатка).
Оставалось одно: немедленно вступать в перестрелку с немцами, чтобы саперы, услышав выстрелы, успели скрыться в лесопосадке, занять удобную оборону. В таком случае подразделение уцелеет, а вот мост — вряд ли: если даже немцы, увидевшие саперную группу без охранения, и уедут, то затем непременно вернутся хотя бы с взводом автоматчиков. Тогда, вытеснив наших бойцов от берега, дорвут мост и, таким образом, расстроят планы наступления на этом участке. Но выбирать уже некогда: хотя бы сами тридцать хлопцев в живых останутся, домой вернуться, даст Бог. Ну, не тридцать, а двадцать девять, — за вычетом его, Леонтия, чего уж там, — четыре «шмайсера» против одной винтовки…
Конечно, можно вжаться в дно окопа, затихнуть мышью, тогда — «один из тридцати»…, - так не думал Леонтий, потому что уверенно брал на мушку ближнего немца. Хлопнул выстрел, немец споткнулся, на секунду замер на четвереньках, затем завалился набок. Леонтий прыгнул к другому краю окопа, прицелился в одну из залегших фигур, выстрелил, таким образом уже окончательно обнаружив свое местоположение. Застрочили автоматы, засвистели пули, над головой поднялась пыль. В это время пришла мысль о том, что все еще может повернуться, как надо: немцы отступят к мотоциклам и уедут восвояси, не получив информации о том, что делается за холмами. Для этого нужно вывести из строя хотя бы еще одного немца, желательно с другого мотоцикла. Из положения лежа этого сделать невозможно: мешает бруствер, ограничивая обзор, и немцы, конечно, залегли, попрятав туловища за холмиками. К тому же, высунуться для выстрела из-за огня просто невозможно. Леонтий мелко перекрестился, передернул затвор, приладил приклад в плечу, чтобы потом не терять секунду, сориентировал винтовку в сторону, где сейчас предположительно находились немцы, и в таком положении пружинисто вскочил. «Эх, мать вашу сто чертей!..» Он выстрелил, в это время с противоположного боку по его окопу прошла длинная очередь…
Его отбросило на дно окопа. Глаза засыпало пылью. В это время грянули несколько дружных винтовочных залпов. Леонтий понял, в чем дело. Ай да командир! Видимо, оценив верно ситуацию, — идя на подмогу, но уже явно не успевая, — лейтенант по ходу скомандовал залпы в воздух, чтобы хотя бы таким образом помочь Леонтию, — испугать немцев: много нас, идем на поддержку! В дополнение грянуло с реки мощное «ура!» Потом затарахтели мотоциклы и через минуту это тарахтенье сошло на нет. Еще через некоторое время над Леонтием склонился лейтенант…
…Это было не первое и не последнее ранение Леонтия, солдата-победителя, дошедшего до Берлина. В том бою он оказался боком к строке автоматной очереди, точно между двух немецких пуль, которые оставили на его теле две рваные канавы — на спине и на груди. Пуля, что прошла над сердцем, разрезала, как ножом, письма и фотографии — их половинки, как память о войне, а может быть о Божьей помощи, долго хранила семья.
ХОХЛЫ ПОЗОРНЫЕ
Пангоды — большой даже по современным меркам северный поселок. Основа жизни — газовое месторождение «Медвежье», которое в свое время осваивал весь Советский Союз. Впрочем, некоторые регионы в освоении лидировали, поэтому со временем сложились определенные пропорции преобладающих, в количественном смысле, национальностей в составе местного населения: русские, украинцы, татары (затем, во времена рыночного начала, прибавились азербайджанцы). Однако последние годы смутили прежнюю пропорциональную гармонию, отчетливую и понятную, прибавив в названный ассортимент разнообразнейшего народу со всех просторов некогда единой страны, «бессистемно» ринувшегося на российские севера в поисках лучшей доли. Самый действенный способ зреть этот «интернационал» — посетить переговорный пункт, где можно услышать всякую речь, экзотические названия городов и весей, а также, в минуты ностальгического минора, легко найти земляка и спросить, не знакомясь: «Вы давно оттуда? Ну, как там?..»
…Вечером — льготный тариф. Поэтому к полуночи в переговорном пункте, в дневное время пустынном, толкутся человек пятнадцать-двадцать. Сегодня то же самое. Делаю заказ. «Ждите». Жду. Рассматриваю все, что вокруг.
В широких окнах — привычное для северного марта: зима. Надоевший к весеннему месяцу пейзаж. В этом конкретном окне — лишь часть его: освещенная ртутными фонарями улица, белизна накатанного снега, черные остовы невысоких зданий, из которых выделяется угрюмая котельная, упирающаяся трубой в подчеркнутую искусственным светом вечную темень. Картину локальности и отдаленности от цивилизации поселкового мирка оживляют подъезжающие и паркующиеся возле переговорного пункта легковые машины.
Заходят несколько азербайджанцев, им некогда (бизнесмены), они не ждут «по льготному», пытаются дозвониться из таксофона. Раньше их смуглой братии здесь было мало, и они при этом разговаривали громко, не обращая внимания на окружающих, заполняя любое помещение гортанной речью. Сейчас их много, но ведут они себя гораздо тише, они стали как все.
В углу слышна скороговорка малоросской речи. Это вполголоса, несколько стесняясь того, что им нужно пообщаться на своем языке, — который здесь уже давно не в ходу, даже среди этнических украинцев, вырастивших на Севере вполне русских детей, — разговаривают граждане Украины, вахтовики, — самая бесправная часть населения нынешнего Севера.
«Скажите, а код Ташкента не изменился?» — это спрашивает у телефонистки молодой высокий блондин. Характерный выговор русских слов в «восточном» оформлении, несколько похожий на классический жаргон «новых русских», выдает в нем уроженца солнечного Узбекистана с далеко не тюркской фамилией: например, Иванов или Коваленко.
По таксофону, аппарат которого висит не в кабинке, а прямо в зале, звонит на родину молодой татарин, поздравляет девушку, нежно называет татарское имя, сложное для запоминания, но, в том числе и по этой причине, необычайно певучее. Отвернувшись от всех, насколько возможно, он глушит голос и, втягивая голову в плечи, бережно прикрывает телом то далекое и одновременно близкое для него имя, которое произносит.
Обрывки объявлений из скрипучего динамика: Омск… Молдова…Чувашия… Москва.
По ногам веет холодом: люди заходят и выходят. Из проема двери, вместе с клубами морозного пара, с удовольствием отряхиваясь, в зал ожидания вплывает огромная рыжая псина. За ней неверной походкой появляется невысокий мужичишка, критически оглядывает зал и со словами «Майкл, ко мне!..» вонзается задом в свободное кресло. К окошку проходят две дамы, очень похожие одна на другую. По обрывкам фраз становится понятно, что одна из них является женой пьяного мужичка, другая, несложно вычислить, — сестрой жены.
— Хохлы позорные, — вздыхая, говорит пьяный мужичок, ни к кому не обращаясь, видимо завершая монолог, начатый еще на улице, а может быть и того раньше. — Проиграли…
— Не знаю, кто там у вас что проиграл, но собаку вы, пожалуйста, уберите.
Последние слова принадлежат крупной, вызывающе интеллигентной даме в лебяжьей шапке и норковой шубе, которая оказалась сидящей по правую руку от мужичка и которая сейчас, насколько возможно, старательно от него отстранилась.
Мужичок повернулся на голос, видимо обдал соседку острыми запахами, так что она, надув щеки, показывая, что ей трудно дышать, отвернулась.
— А вы что, животных не любите? Вы здесь, на Севере, наверное, очень недавно. Интеллигенция… А раньше, между прочим, здесь собак было — как людей. В столовых, на почте, в аэропорту — одни собаки. Ик!.. И хохлы.
— У меня аллергия, — вымученно улыбаясь, при этом морщась и зажимая нос, гнусаво объяснила женщина.
Для мужичка, по всей видимости, справедливость — важный аргумент, потому что он, неожиданно для его самоуверенного состояния, командует своему питомцу, развалившемуся у ног хозяина:
— Майкл! Ты слышал? Пшол вон отсюда! Подожди на улице, бессовестный. Разлегся, иж ты! На улицу! Ждать!
Майкл нехотя повиновался: поднялся и действительно вышел вон. На лице мужичка читалась гордость дрессировщика. Когда хвост собаки исчез за дверью, мужичок опять критически оглядел зал.
— Вот это школа! — похвалил он, видимо, сам себя. — А не то что у этих, салоедов! Ну, хохлы позорные, ну надо же так проиграть! А? И кому?.. — здесь последовало несколько крепких выражений.
Все присутствующие женщины отвернулись, мужчины — кто вяло улыбнулся, кто потупил взор. Мужичок продолжил монолог с применением стандартных оборотов из ненормативной лексики. Наверное, ему уже нравилось, что он повергает всех в неудобное состояние. Во всяком случае, мне так показалось. Поэтому я решил прервать это глумление и, поймав его плавающий взгляд из-под тяжелых, наполовину опущенных век, сказал, как можно спокойнее, обыденнее, решив, впрочем, что в данной ситуации имею право обратится к этому экспонату на «ты»:
— Ты чего разошелся?
— Не понял? — он явно не ожидал такой по отношению к себе «агрессии».
— Ты зачем так много материшься? Здесь ведь женщины, в конце концов.
Он отпарировал неожиданно быстро, показывая на тех, с кем пришел:
— Но это ведь мои женщины.
— Не только, — я показал глазами на других.
Мужичок оглядел зал, зафиксировал пару «не своих» женщин, этого оказалось достаточно для того, чтобы опять решающим в его поведении оказалась справедливость.
— Действительно, извиняюсь, — он даже кивнул головой в сторону соседки, обозначая извинительный поклон. Соседка неопределенно хмыкнула.
Повисла не совсем уютная пауза. Признаться, я гораздо комфортнее бы себя чувствовал без этой блиц-победы, свершившейся на глазах у очень мирной публики, частью которой являюсь. Видно, и мужичка, при всем его уважении к справедливости, мало устраивала роль поверженного. Поэтому он старается зайти с другого фланга, наверняка, с намерением представить дело так, что это и есть тот фронт, окончательная победа на котором компенсирует временные неудачи. Наконец, он был с дамами, которые, впрочем, вполголоса переговариваясь, старательно делали вид, что все, что происходит с их мужчиной, к ним не имеет ни какого отношения.
— И все-таки! — он обращался ко мне. — Все-таки: хохлы — позорные! Правильно? — Здесь он обвел зал победным взором, призывая народ в судьи: Трудно не согласиться. Ведь проиграли? А сколько людей за них болели!.. Я, как дурак, полтора часа на них потратил… — Он опять посмотрел на меня снизу вверх, при этом прищурился и склонил голову набок: — Ну?
Неожиданный вопрос. Очень ответственный, можно сказать, дипломатический момент. Я ответил, вспоминая выражение лица и голос нашего министра иностранных дел. Ответил, на мой взгляд, примирительно, хотя, возможно, несколько многословно (скрывал небольшое волнение):
— Можно и так сказать. Куда денешься, — говорят. Если проиграли. Как и русские, — про них тоже вполне можно сказать «позорные», когда проигрывают. Я сам слышал. На стадионе.
— Ну, да, — опять вынужденно согласился мужичишка, морщась, — но… Но хохлы — вдвойне.
— Почему? — мне стало действительно смешно и я, вместе с несколькими другими мужчинами, пассивными наблюдателями, рассмеялся.
Мужик махнул рукой на смеявшихся:
— Да потому что они сами по себе «хохлы позорные», а тут еще и проиграли!
Тут уже облегченно рассмеялся весь переговорный пункт: и русские, и украинцы, и татары, и азербайджанцы.
К мужичку на выручку спешат его дамы. Выручка заключается в том, что они, наклонившись к нему, что-то возбужденно шепчут на оба уха, видимо, пристыживают.
— А, — отмахивается воспитуемый, показывает глазами на телефонные кабины, — вы там со своей любимой маменькой лучше разберитесь, без меня, кстати. А я с футболистами как-нибудь сам разберусь! Без вас!
Женщины, демонстрируя достоинство, отошли (видно, обычная ситуация). Но как раз в эту минуту в помещение обратно вплыл Майкл и, не дожидаясь команды, равнодушно развалился посреди зала.
Мужик зыркнул глазами по сторонам, кашлянул.
— Майкл! Все-таки ты… — он боролся с желанием покрепче обозвать бестолкового воспитанника, но совладал с собой. — Позорник ты, Майкл, и, главное, меня позоришь перед… — его лицо вдруг просветлело, как от удачной находки, голос возвысился, фразы зазвучали отчетливее, весомее: — Надо было тебя хохлом назвать. Совести у тебя не-е-т. Кормишь тебя, кормишь!.. А от тебя… одна аллергия, говорят. — Следующие слова уже совершенно явно предназначались не для Майкла: — Все мы вот здесь, — он описал перед собой окружность, — газ наш природный качаем туда за здорово живешь. Уренгой, понимаешь, Помары-Ужгород. Но, Майкл, запомни, сколько хохла не корми, — он все в НАТО смотрит!
Его дамы заскочили в кабину, он же, — непонятно: специально или случайно, — решительным шагом, выбрасывая ноги впереди туловища, покинул зал ожидания. Пес солидарно, правда, несколько понуро, пошел следом.
«Зрители» переглядываясь, улыбались, безмолвно оценивая только что завершившуюся сцену. Вышли из кабины женщины с пунцовыми лицами, уходя, они уже были похожи друг на друга как близняшки.
Подал голос пожилой бородатый мужчина в авиационной куртке и унтах, кивая на дверь, как бы глуша неуютное эхо, нехарактерное для данного помещения:
— Переживает как за своих, поэтому и ругает. А представьте, если бы выиграли. Что бы он тогда тут говорил? Да радовался бы и говорил: ай да хохлы, сукины дети, надо же — выиграли! Знай наших, англичане позорные!.. или как их там.
В дверном проеме показалось уже знакомое всем лицо, — хорошего человека вспомнить нельзя. Сейчас глаза были широко раскрыты, губы в табачных крошках. В голосе неподдельная тревога:
— Хохлы! Там машина чья-то горит! Чья машина?
Несколько человек ломятся к выходу, некоторые, в том числе азербайджанцы, побросав телефонные трубки, выскакивают из кабинок. Остальные льнут к окну: интересно. Потом все быстро возвращаются, качая головами, но даже не ругаясь. Все нормально, такая шутка. Мужик, воспользовавшись сотворенной суматохой, исчез и больше не появлялся. Впрочем, кто его знает: мне дали мой город, я быстро поговорил и ушел.
МИССИС СМАЙЛ
Время от времени, помимо воли, я отрываюсь от бессмысленной пестроты журнальных картинок и взглядываю на нее. В этом — моя непреодолимая подчиненность чему-то внешнему. А может быть, внутреннему. Поэтому я «делаю вид»: пытаясь обмануться, заставляю себя смотреть на объект моего притяжения с интересом, будто мне действительно необходимо это созерцание. (Но тайком иначе, я знаю, ей мое внимание будет обидно.)
Получается: смотрю чуть дольше, чем определено мне моим труднообъяснимым страхом. Чтобы внушить себе: я — хозяйка, смотрю куда хочу и сколько хочу.
Я не люблю зависимости, поэтому друзья считают меня сильной. На самом деле это выглядит иначе: не люблю, потому что страдаю от всякой, даже малой, зависимости. Я слабая.
Два дня назад я подошла к этому большому окошку в читальном зале, через минуту принявшему сходство с амбразурой, с пещерным зевом, и объяснила, что хочу на несколько дней стать посетителем библиотеки. Я, можно сказать, проездом в этом городе, в командировке, нужно как-то скоротать время. Заодно надеюсь поближе познакомиться с вашей тихой и, оказывается, чудесной провинцией — поэтому меня устроила бы литература по краеведению и вообще книги местных авторов, если они есть…
Голубоглазая женщина на выдаче встретила меня, как показалось, преувеличенно радостно. Не как пролетную читательницу-однодневку, а словно завсегдатая, личную знакомую. Это приятно: улыбчивый сервис — еще не стойкое явление на наших просторах. Я говорила, глаза блуждали по стеллажам за спиной женщины, выдающей книги. И вдруг я наткнулась на этот взгляд — и едва не отшатнулась…
Тело покрылось мурашками, горячая волна, поднявшись от спины, в мгновение достигла висков, запульсировала в затылке — обычный страх перед неизведанным, умноженный внезапностью. Наверное, мои губы поползли с лица, безобразно размазались по щекам, брови сложились в беспомощной пирамидке — я выдала себя. Ибо все то, что являлось лицом женщины, стало еще ужаснее. Это был зловещий оскал уставшего улыбаться — злость, уходящая корнями в боль. Эти глаза, колючие от сухости, были конечным пунктом плача: соленая, печальная, горючая влага не успевала стать слезами, — она выкипала на подходе к роговице.
Я отвернулась, прижав к груди книги и журналы, и, как бы открещиваясь от потрясения, торопливо нарекла улыбающуюся женщину: «миссис Смайл». Даже губы задвигались в шепотливом причитании: «Миссис Смайл, миссис Смайл…» В переводе это звучит не так, как есть на самом деле. Звучит бедно. Так надо. Причина этой необходимости в поиске лингвистической маскировки: английский «смайл» не равняется русской улыбке. Это вообще. А в данном случае «Смайл» сжатое, зашифрованное, закодированное нечто, что в подстрочном переводе значит улыбка. Можно сказать и конкретнее: «Миссис Смайл» — это надпись на плотной шторке, прикрывающей замочную скважину. Заглянуть — содрогнуться от жалости и страха. Я не могу потрафить профессиональной журналистской жажде отодвинуть шторку, попытаться расшифровать. Не хватит сил, потому что я уже, задолго до посещения библиотеки, на пределе. «Миссис Смайл!..»
У миссис Смайл маска. Маска — «Улыбка!!!» Улыбка с тремя восклицательными знаками. Для того, чтобы понять, что это за улыбка, нужно представить ситуацию, когда человек — вдруг! — встретил безнадежно утерянного милейшего друга детства. Или (пример для меркантила) невероятно, по крупному, выиграл в лотерею — после этого великолепным образом решатся все материальные проблемы. Словом, ее улыбка — это движения лицевых мышц, предназначенные для неожиданной великой радости.
На самом деле улыбка миссис Смайл — это обширный спазм нервов, длительная судорога лицевых мышц.
Миссис Смайл ненавидит свою улыбку. Наверняка, она готова содрать ее с лица. Вместе с кожей, несмотря на физическую боль. Если бы это помогло, думаю, она бы так и сделала. Периоды, когда лицо успокаивается, — секунды. На самом деле это не успокоение, это нервы собираются в мускулистый узел, змеиную банду, для следующей атаки на миссис Смайл, чтобы который раз с непреодолимой силой, победно выплеснуть судорожную гримасу на всеобщее обозрение.
По причине своего панорамного бессилия миссис Смайл ненавидит не только себя. Ее глаза, стреляющие голубым свинцом из амбразурного зева, ужасны. Они полны космической ненависти. Это ненависть безнадежно больного человека — ко всему. К тому, что произвело его на свет для муки. К тому, что удерживает его на этом же свете для продолжения мук. К тому, кто за этой мукой вольно или невольно наблюдает.
Эта гримаса природы, эта дисгармония губ и глаз усиливает тревогу в моей душе. Пожалуй, потому, что в этом зримом рассогласовании внутреннего и наружного воплощение моего собственного неуюта. Мое преимущество — я владею своими лицевыми нервами. Но если я не избавлюсь от сжимающего сердце груза, возведенного в абсурдный квадрат в этой абсурдной библиотеке, мне будет совсем плохо. Не поможет и то, что я, конечно, уеду и никогда больше здесь не появлюсь. В этом случае точно — миссис Смайл останется надолго со мной. И сколько затем потратится времени, чтобы эта зависимость сошла на нет. Вывод: что-то решать нужно — сейчас. Поэтому я здесь.
Так я вру себе.
Ему, моему Виталику, было плохо, когда я уезжала. Он еще не привык к разлукам, даже коротким. Для него это первая моя командировка.
…Как будто бы он не знал, что работа журналиста связана с частыми отлучками!..
…Зачем он женился на журналистке?!.. — такой вопрос я хотела ему прокричать, когда почувствовала, что он против командировки.
Глупый вопрос всегда грозит превратиться в глупый крик. Но, по той же логике, такая же глупость — его желание не отпускать меня. Нет, я совсем не так хотела сказать: несерьезна, наивна и трогательна его обида… Впрочем, и наша глупость, и его наивность и трогательность — все это без слов. Все это только читалось — но очень доступно и понятно, без вторых смыслов и контекстов, как мне показалось: по тому, как он заснул, накануне дня отъезда; как «не проснулся», когда я, на цыпочках, зная, что он не спит, покидала квартиру. Лежал, такой обделенный, обойденный, смежив большие мальчишеские ресницы. Эти ресницы — его обида. «На цыпочках» — моя виноватость.
За то, что расставание произошло в такой безмолвной форме, я ему благодарна. Вдвойне благодарна за то, что он даже не разомкнул век. Последнее время я стала бояться встречи с его грустным взглядом, который спрашивает то, что уже становится трудновыносимым: милая, что с тобой, ты притворяешься… Что я еще могу сделать, чтобы ты меня любила?
Бедный, бедный мой дорогой человек!..
Я нашла его совсем недавно. В больнице. Мне нужно было, кровь из носу, первой из всех городских газетчиков, взять интервью у героя последней нашумевшей криминальной истории. К нему не пускали. Я проникла в его палату, прикинувшись родственницей. И хорошо сыграла театральную пошлость: ах, здравствуй!.. тетя передает привет, а как ты — и прочее. Он все понял и только лукаво улыбался — одними глазами и морщинками возле глаз.
Порой бывает стыдно за брата-журналиста: из-за жареного материала мы готовы на какую угодно бестактность. Наверное, мой визит таковым и был по отношению к больному милиционеру. Разговаривать ему было очень трудно из-за перебитой челюсти. Он еле шевелил губами. Это было не единственное, из-за чего он временно потерял трудоспособность, но именно невозможность смеяться доставляла ему наибольшее неудобство. А еще он говорил, что, оказывается, давно меня знает по публикациям. В реальности я оказалась другой. Он представлял меня высокой, громкогласной уверенной, смелой, решительной, сильной. А я оказалась… По его словам, я оказалась просто… Но это по его словам.
Какая ты, к черту, самая красивая, — смеялась я над собой, топая по темной вечерней улице, если тебя только что бросил любимый муж!..
Придя домой, я как дурочка заглядывала во все зеркала. Оттуда на меня смотрело удивленное, недоверчивое, затравленное, злое существо, с невымытыми, жирными волосами, превращавшим голову в култышку. Перечеркивала влажным пальцем безобразный зеркальный образ, перламутрово наливалась и таяла полоса. Потом усиленно красилась, мазалась, штукатурилась (превращаясь то в румяную деревенскую дурнушку, то в восточную фурию — глаза вразлет, брови сплошным луком, то в ресторанную путану, то в роковую светскую львицу), — и смывала это почти кипятком, иногда для этого полностью погружаясь в ванну. Полночи продолжалась лепка масок. Которые щурились, ужимались, смеялись… «Я могу быть любой, кем угодно». Полночи работал театр абсурдных отражений. Почти до утра гудели водяные и канализационные стояки, разнося в виде назойливого шума часть моей тревоги по девяти этажам, нанизанных на чугунные трубы.
На следующий день я пришла к нему в палату — избитый ход сюжета. Но чтобы сделать его, все же необходимо «непарализованное» умение. Оно, оказывается, у меня есть, вернее, я его растренировала, восстановила, вчерашними масками.
Словом, если без слюнявых подробностей, то на следующий день я опять пришла к нему. Для уточнения некоторых деталей. И так далее. Скоро мы расписались.
И вот теперь Виталик, который, можно сказать, полюбил меня с первого взгляда, который прирос ко мне всей своей непорочной душой, он, этот святой человек, подозревает меня!..Он страдает, он прямо умирает от страданий. Он предполагает невероятное! Он предполагает, что я все еще люблю тебя. Тебя, слышишь, мерзавец!.. Степень твоей мерзости настолько велика и непреходяща, что оттого, что ты есть, или, вернее, был, до сих пор больно кому-то. Что касается меня, то моя боль обусловлена, во всяком случае ее можно объяснить… Но почему ты причиняешь боль безвинному по отношению к тебе человеку! Я представляю, что бы ты ответил, если бы услышал меня. Ты мог бы, в знакомой манере, лениво откреститься: мол, страдания твоего Виталика это продолжение твоих сумасбродных, типично женских проблем. Возможно, это буквально так, но моя — значит, и его, моего близкого человека боль питается твоими соками, соками твоей мерзости!.. Стоп, я опять кричу. Кричать нельзя.
Ранее коллеги и знакомые часто делали мне комплимент, справедливо отмечая во мне обоснованный оптимизм и тонкий, выверенный юмор. После развода комплименты такого содержания прекратились, а через некоторое время после нового замужества одна из моих приятельниц, пуская дым в потолок, глубокомысленно заметила, что я превращаюсь в «грустную, неадекватную хохотушку в темных очках». Что ж, ответила я ей, действительно в мою привычку вошло ношение солнцезащитных очков, ты знаешь, возраст, ультрафиолет, но при чем тут…
Ты сделал из меня идиотку. Смеющуюся. Которая плачет.
Зашла заведующая библиотекой, обратилась к миссис Смайл: «В вашу смену опять пропала книга!..»
Все время, пока она говорит, заметно ее нежелание смотреть в сторону миссис Смайл. Она нервничает. Наконец заведующая, закончив монолог, резко отворачивается и уходит. Ее можно понять. Смотреть на яростный испепеляющий взгляд, невероятно зловещий от улыбки, просто невозможно. Преувеличенно строгой интонацией заведующая ставит барьер, который необходим в данной ситуации: она не может жалеть, с нее требуют работу, она требует от других. Миссис Смайл улыбается. Я жалею миссис Смайл — если нельзя заведующей, то это буду делать я. Результат, преувеличенно быстрый, подозрительно скоропостижный: я ненавижу заведующую. Понимая, впрочем, что моя ненависть (чувство-то какое — взрыв нелюбви: за что?…) формально несправедлива, это просто срывание собственной труднообъяснимой злости. Ищу чего-нибудь в собственное оправдание. Вот оно: грубость заведующей по отношению к той, которую мне жалко. Я так устроена: мое удовольствие (злость тоже бывает удовольствием — вот оно что, вот откуда ненависть!) — мое неудовольствие не может основываться на несправедливости. Подобные причинно-следственные цепочки, признаться, утомительны — проще разозлиться и обругать, хотя бы «про себя». Но — издержки профессии — абсолютная «бабскость» мне недоступна. Так-то, мой милый бывший… Это к вопросу о моих, как ты часто говорил, типично женских сумасбродных проблемах.
Как пропадают книги? Наверное, дело в том, что миссис Смайл старается не смотреть лишний раз в читальный зал, так как знает, что сразу несколько глаз устремляются на нее, на ее ужасную улыбку. Этим пользуются книжные воры, или — книжные черви, как я их называю. Вернее, стала называть, после двух дней посещения «читалки» — вчера был аналогичный упрек в пропаже книги со стороны заведующей.
Итак. Зачем я сюда прихожу? Я вполне могла бы провести эти три дня, до окончания командировки, в которой уже выполнила всю намеченную программу: взяла интервью, обработала данные — ничего интересного. Я могла бы походить по здешним улицам, заходя на каждую выставку, в единственный — наверняка единственный, краеведческий, музей, в кинотеатры, видеотеки, сидеть в парке, выйти на речную набережную, понаблюдать за рыбаками. Но я иду сюда. В душную читалку. Делаю вид, что меня магнетически притягивают ужасные глаза «той, которая смеется», что я пытаюсь решить какую-то задачу, согласовать рассогласованное — взгляд и суть, мимику и настроение.
Романтично, ничего не скажешь. Красивое вранье. Но сейчас зайдет Он и я попытаюсь без всякого притворства сформулировать для себя истинную причину своего здесь сидения. Я устала притворяться.
Входит он, я опять вздрагиваю. Первый раз я вздрогнула, когда… Нет, это было не так: я содрогнулась. Это случилось именно в те мгновения, когда, шепча «Миссис Смайл… миссис Смайл» (чур меня!..), я уходила от улыбающейся библиотекарши в глубину читального зала.
…Если только что вся кровь, которая была в организме, прихлынула к голове, то сейчас, всего через минуту, происходил столь же быстрый отток. Обморочный сель уносил в темную бездну все большую часть моего сознания. В это время вторая доля моего «я» шизофренически фиксировала и прогнозировала себя со стороны: сейчас у нее закатятся глаза, откроется рот, и тело, не сгибаясь, рухнет на деревянный пол. Но, к счастью, тело уже соседствовало со стулом, и жалобный скрип мебельного дерева сопряженный с болью в копчике, от слишком жесткого «приземления», вернул меня в состояние однозначности, хотя и весьма неуютной.
Поясняю: причиной второго и, пожалуй, самого главного потрясения, возведенного в квадрат потрясением первым, было то, что я увидела Его…
Его я тоже окрестила для удобства, по-своему: «супруг». Муж в кавычках. Нет, это не тот человек, которого я хочу в мужья. Я замужем за прекрасным, ранимым, милым человеком, Виталиком…
Как будто в сеансе аутотренинга: сплошные повторы. Но, наверное, это закономерность мышления — шаг назад, два шага вперед. Просто раньше я не отдавала себе в этом отчета.
Итак, я замужем за Виталиком. У нас медовый месяц, в который я укатила в командировку. Нет, я не изменяю ему в мыслях, сидя здесь, в этом читальном зале, на провинциальных «куличках», мечась между двух огней. А именно: маясь от ужасной улыбки, осененной болью, и дожидаясь того, кого я окрестила: «супруг».
Так в чем дело?
«Супруг» страшно похож на моего первого мужа.
В этом все дело.
Позавчера, увидев его, я чуть не упала в обморок. Но это, как я уже отметила, был не он, первый муж, а просто страшно похожий на него человек. Я давно уяснила: похожие внешне люди, имеющие одинаковое строение черепа и, так сказать, одинаковый экстерьер — имеют часто одинаковый голос. И самое удивительное — одинаковые привычки и даже в целом характеры. Поэтому я и сижу здесь. После нескольких первых минут наблюдения за «супругом», я уверовала, что это тот самый случай: похожесть сногсшибательная. Теперь получается, что я наблюдаю за своим первым мужем почти в открытую, а он об этом не знает. Я же говорила, что он сделал из меня идиотку.
Я многое ему не сказала, когда мы расставались. Он просто ушел и все. Остановить его и сказать все, что я о нем думала или добиваться от него уже ненужных, по статусу фактически разведенных, объяснений — не было смысла, да и не позволяла гордость. А если честно (что-то я в последнее время часто стала врать себе, как будто разговариваю не с собой, я с посторонним человеком), а если честно, то я и не знала, что можно было ему такого сказать. Настолько это было неожиданно. Теперь я понимаю, что он долго обманывал меня (когда надоело обманывать — ушел), но как — не ведала. Может быть, именно это я сейчас и хочу увидеть, узнать? Самое веселое было бы сейчас начать флиртовать с ним, тем более, что он время от времени дает мне, как говорится, основания надеяться: взгляды, пара вопросов («А вы не подскажите, в каком каталоге я могу?…») А потом, когда он «раскроется», в самый решающий момент отказать в какой бы то ни было взаимности: извините, гражданин, в чем дело, я вас не понимаю, и вообще, идите к черту!.. Примитивно. Осознание этой примитивности — признание моего бессилия. Как продолжения бессилия прошлого, или, вернее, настоящего. То есть постоянного. И от этого «супруг» становится мне еще неприятнее, чем в той, «настоящей», прошлой жизни. Тем более, я вижу его гнусное отношение к миссис Смайл, и моя неприязнь растет, доставляя мне неописуемое блаженство. А он издевается над миссис Смайл, получая удовольствие от чужих страданий. Все правильно, в этом, как оказалось, он весь. Насколько в разном, противоположном, мы с ним находим усладу. Какими, оказывается, мы были разными в «той» жизни!.. О чем это я? Я совсем сдурела. Где-то я прочитала, что каждый человек, проживший длительную жизнь, хотя бы раз свихивался. Для большинства это, к счастью, проходит, разум восстанавливается. Меньшинство попадает в психушку. Как бы не оказаться в меньшинстве. Хорошая метафора (мое нынешнее состояние — я осталась в меньшинстве), надо запомнить.
…«Супруг» мягкими шагами, как бы крадучись, подходит к миссис Смайл. Сейчас будет то же, что и вчера, позавчера. Судороги миссис Смайл вырываются наружу, она осклабливается. «Супруг» делает вид, что искренне отвечает на ее улыбку. Делает вид, что сразу не в силах понять причину этой улыбки, поэтому только удивлен и польщен. Заказ на книги и журналы воркующим голосом. Голосом очарованного неожиданной улыбкой симпатичной ему женщины. Далее (он изощряется) — ее улыбкой, которая, якобы, дает надежду на быстрый и плодотворный результат. Еще дальше: он дает понять, что разгадывает эту улыбку, как улыбку проститутки. Миссис Смайл испепеляет его взглядом, ее слова — сухой холод, обрамленный вежливостью. Оказывается, она не такая сильная, какой кажется из под своих яростных глаз. Она беззащитна. Вместе с радостной улыбкой, искореженной тем же ненавидящим взглядом, пробивается третье слагаемое ее сути — молящий о пощаде голос. (Для меня кольцо замкнулось: это я.) Но мольба о пощаде только распаляет «супруга»: нужные книги и журналы получены, прижаты к груди, но он продолжает нежно ворковать, глаза становятся блестящими, а губы влажными… Его задержка возле амбразуры для выдачи книг вызывающе неприлична. Все присутствующие в читальном зале подняли головы — кто-то осуждает, кому-то эта фарс-комедия доставляет пустой интерес.
Мне хочется встать, подойти, назвать «супруга» по имени первого мужа и дать ему по красивой физиономии. Хотя, делать это еще рано — мне нужен явный, настоящий повод. В то же время, мне трудно сдерживаться. «Супруга», можно сказать, спасает от меня следующий клиент, зашедший с улицы. «Супруг» отходит от амбразуры и садится на свое место, где уже сидел вчера и позавчера. Это место рядом со мной. Случайно. Эта случайность в моей власти. Кое-что я умею. Например: я беру себя в руки и начинаю с ним беседовать.
«Это хорошо, что ты еще жив. Сначала я хотела твоей смерти. Это было моим самым сильным желанием. Просто, чтобы ты шел с той, другой, по улице и вдруг упал и умер, или чтобы тебя задавила машина, или чтобы ты заснул и не пробудился: она проснулась среди ночи, хвать тебя за плечо — а ты холодный… Это чушь, конечно. Но было именно так: я хотела твоей смерти. Однако чуть позже я испугалась. Это произошло после моего второго быстрого замужества: на своей свадьбе я смеялась, хохотала, но внутри, слышишь, проклятый, — я плакала. Я обманывала Виталика. Нет, ты не должен умереть раньше времени, не умирай. Не умирай, пока я тебя ненавижу. Я должна тебе все сказать, я должна тебя ударить, избить, исцарапать, изгрызть. Так, чтобы ты после этого стал мне совершенно безразличен. Чтобы вспоминая тебя (иногда, случайно), я — зевала!.. Я хочу, — знаешь, просто умираю, как хочу, — стать к тебе безразличной. Поверь, мне от тебя больше ничего не нужно.»
Ты моя жертва. Моя месть пока только вот в чем: я наблюдаю за тобой, а ты ничего не понимаешь. Как ты, ставя мне рога, наблюдал за мной, зная, что я ничего не понимаю. Но этого мало. Конечно, мало. Этой идиотской власти над «тобой» — мало. Для большего нужен повод. Но настоящего повода пока нет. К сожалению. А провоцировать, ты прекрасно знаешь, я не умею.
Он действительно красив. Он всегда был красивым. Я изменилась за наши пять лет супружества. Надо сказать, не в лучшую сторону (мнение Виталика не в счет): появились морщины — пусть легкие. Хотя… Несомненно, я стала женственнее, до этого я совсем была похожа на мальчишку. Сейчас от того мальчишки — лишь небольшой рост, изящная — чего уж там! — худоба, манера одеваться, удобно для моей журналистской работы: джинсы, свитер… (Я даже сумочку не ношу, все по карманам удобной, парусиновой репортерской куртки «супер-кенгуру», как я ее называю.) Словом, изменения, мне кажется, есть. Он же остался таким, каким я его впервые встретила: зрелым, уверенным и… красивым, черт побери. Высокий, черноволосый, слегка вьющиеся локоны, неизменная бородка с неизменной, наверное, врожденной, проседью. Под аккуратными усами — всегда красный, прямо-таки кровавый рот с «резными» губами… Это все, что мне в конце концов стало ненавистно. После того, как ему на все, что касается меня, стало наплевать. Обидное в том, что я долго не могла почувствовать этот момент, момент равнодушия. Когда почувствовала, то это было, во-первых, поздно по сути, по глубине, во-вторых, стало «вдруг» ясно, что этот пресловутый момент — по времени — наступил давно. В данном случае, повторяю, «поздно» и «давно» — не одно и то же: было (поздно!) обидно за себя ту, более «давнюю», раннюю, дурную и неопытную, к которой оказывается, давно — стали равнодушны. Я совсем запуталась. Шею можно сломать, распутывая и оглядываясь.
Сейчас, наблюдая за ним, я открываю его по-новому, убеждаясь, что это была действительно мразь (так я его назвала при расставании — единственное, кстати, что я могла тогда сказать — еще не веря в свои слова. Сказала, чтобы что-то сказать). Теперь я убеждаюсь, что оказалась права. Это доставляет мне удовлетворение с одной стороны и, с другой, еще больше распаляет мою обиду. Необходима разрядка, но в чем она может заключаться по отношению к совершенно незнакомому человеку, которому невольно выпало играть чью-то, в данном случае отрицательную, роль. Это смешно, но мне не до смеха. Я вновь поднимаю глаза на миссис Смайл и понимаю, что у нас с ней есть что-то общее, что-то необъяснимое словами. Кроме уже понятого: того, что мы обе смеющиеся в ненависти плакальщицы. Я тоже миссис Смайл. У нас даже один враг. Стоп!
Вот и выход.
«Супруг» уже виноват перед ней, значит заслуживает наказания. И совсем не важно, кто из нас, я или миссис Смайл, совершит правосудие. Как хорошо и удобно все поворачивается! Это при том, что я прекрасно понимаю: «удобный поворот» — следствие того, что у меня «едет шифер».
…Нет, все-таки есть какая-то высшая справедливость! Мне дан шанс, и я впредь уже буду недостойна божьей милости, если им не воспользуюсь. Это я поняла, когда заметила: «супруг» закончил читать, поставил несколько книг на стенные, доступные всем читателям стеллажи с рекламными экземплярами, несколько книг отдал миссис Смайл, опять двусмысленно улыбаясь, и торопливо ретировался. Эта торопливость понятна: одну книгу он положил в полиэтиленовый пакет и вместе с этим пакетом вышел. «Супруг» это и есть тот самый книжный вор!.. Мое трехдневное сиденье в этой библиотеке вознаграждено. Теперь я отомщу за нас обоих.
«…Я опозорю тебя на всю библиотеку. Сюда вызовут милицию. Потом об этом вопиющем случае сообщат на твою работу!.. И так далее. Это будет моя месть тебе за миссис Смайл и, самое главное, за меня. А потом, если хочешь, умирай!.. Или живи на здоровье, — это уже не будет иметь никакого значения! Ни для миссис Смайл, ни для меня, ни для моего Виталика, которому ты в подметки не годишься!»
Но, издержки чудесности, неожиданного подарка судьбы, — я замешкалась, «супруг» успел выскочить. Как я могла не спрогнозировать такую возможность что «супруг» и есть книжный вор. Ведь у него же на лице это три дня было написано. Врешь, не уйдешь! Я бросаю пачку журналов на стол миссис Смайл и, провожаемая ее, ставшей вдруг удивленной улыбкой, выскакиваю из библиотеки.
«Супруг» уже на улице. В руках пакет. Лицо довольное жизнью, почти радостное. Я иду «шпиком» сзади. Подхожу совсем близко. Внимательно, насколько это возможно, осматриваю полупрозрачный пакет. Так и есть: книга. Большая. Кажется, именно такую я видела на стеллаже, какой-то справочник, видимо детский, тематический, хорошо иллюстрированный.
О чем ты думаешь? С детства читаю детективы, несколько лет профессионально занимаюсь «газетным» криминалом, но ни разу в жизни не могла смоделировать психологию воришки. Украсть у какого-то ребенка, чтобы отдать своему, и умиляться при этом сознанием того, как хорошо сделал, обеспечил чадо необходимым, и сердце сочится гордостью и умилением. Нет, ничего не получается. Вор — аномалия, выродок. А в шкуру выродка я, при всем желании, влезть не смогу. В чем-нибудь да ошибусь. Одно понятно: твое место в клетке. Но что я реально могу сделать: заломить тебе руку и отвести в милицию или обратно в библиотеку? При этом следить, чтобы ты, как опытный вор-карманник, не избавился от пакета. Смешно. Ты останавливаешь такси! Это катастрофа. Сейчас сядешь в эту грязную «Волгу», и прощай мои мстительные мечты! Хотя бы одно доброе дело из этой неудачной истории я должна выжать — хотя бы вернуть в библиотеку украденную книгу.
Ты открываешь дверцу, сгибаешься с намерением забросить свои драгоценные чресла на мягкое сиденье. В это время я обеими руками, маленькими, но крепкими (ты должен помнить!), хватаюсь за твой пакет и со звериной решительностью рву его на себя…
Я едва устояла на ногах, а у тебя в кулаках остаются только пластмассовые ручки от пакета.
…Ты бежишь следом.
Я ошиблась: полагала, что ты не будешь меня преследовать с целью вернуть нечестно добытое. Потом я решила использовать твою жадность в своих целях. Сначала притворялась немощной, бежала прихрамывая. Мне взбрело в голову таким образом, по примеру какой-то птицы, отвлекающей хищника от гнезда с птенцами, заманить тебя куда-нибудь поближе к милиции или библиотеке. Но потом я обнаружила, что бегу не известно куда. Просто бегу и все. Я элементарно заблудилась, не зная города, района.
Ты загнал меня в какую-то тупиковую подворотню. Я заметалась у стены. Зачем-то сняла рваный пакет с этой большой книги и, торопливо смяв, бросила его тебе в лицо. Ты завалил меня на землю и стал вырывать свой нечестно добытый талмуд. Я умею кусаться, — ты не знал об этом?!.. Тогда ты высоко размахнулся и ударил меня своим огромным кулаком в грудь. Ух, как хорошо! Ну, давай еще! Ты не просто бьешь — ты выбиваешь себя из меня… Но… мне больно. Все-таки ты подонок… Ты как будто услышал, ударил еще. Надавил коленкой на мой беззащитный живот. Я задохнулась, у меня потемнело в глазах. Сейчас изо рта полезут кишки. Еще один удар, и я потеряю сознание, а потом, может быть, умру.
На паническом, еще не равнодушном остатке сознания я вновь ощущаю книгу в своих руках, запрокинутых за мою дурную голову. В этой самой голове мелькают, разумеется, глупости: книга — источник знаний… знание — сила. Быстрыми толчками, синхронными со стуками крови во всем организме, я напитываюсь мыслью, которая удерживает меня в рассудке: знание — сила!.. Да, черт возьми: с радостью убеждаюсь, что книга еще не выпала из рук, закинутых за голову, собираю последнюю энергию и хлопаю этим гроссбухом, источником знаний, по твоей красивой голове. Затем еще. Еще! Хочу еще, но сил на большее не хватает.
Твои глаза превращаются в два белых шара. Ты медленно разгибаешься, выпрямляешь торс, отпускаешь от меня свои руки, как хирург от больного, и также медленно, как бы нехотя, берешься за свою красивую голову. Наверное, там сейчас колокольный звон и поют ангелы. Сидящий на коленках и покачивающийся, ты напоминаешь йога. А вместе мы напоминаем что-то из «Кама-сутры». Нокдаун.
Я выползаю из-под тебя. Дыхание еще далеко не восстановлено, но втягивать в себя воздух я уже могу, хоть это и невыносимо больно. Кроме живота, ты смял и мою грудную клетку и что-то там под ней, кажется, здорово отбил. К нам бегут какие-то люди. Ты силишься встать, держась ладонями за стену. У тебя поза, как будто выполняешь команду: «руки вверх, лицом к стене». Очень удобная поза, грех не воспользоваться. Это будет последним аккордом в моей мстительной симфонии. Я захожу сзади, прицеливаюсь и, на глазах у свидетелей, изо всех сил пинаю тебя в промежность. Ты охаешь и резко садишься на корточки. Под удивленные взгляды зрителей я гордо вынимаю из нагрудного кармана расческу, которую ты, оказывается, вывел из строя, и ее обломком расчесываю растрепавшиеся волосы. Фанфары. Занавес. Поклонников прошу не беспокоить меня в уборной.
Мне «пришили» мелкое хулиганство. Книга оказалась собственностью гражданина, на которого я из хулиганских побуждений набросилась, причинив моральный ущерб и незначительные телесные повреждения. Я не отпиралась — мне было безразлично. Свидетелями на суде были двое случайных прохожих, красочно описавшими мой прицельный «заключительный аккорд» и хладнокровное причесывание; миссис Смайл и заведующая библиотекой, которые характеризовали меня как аккуратного и добросовестного читателя, наивного борца с книжными ворами; и муж мой Виталик, который просил граждан судей отдать меня на поруки с непременной материальной компенсацией со стороны семьи ответчицы в пользу потерпевшего.
Естественно, находящимся в здании суда стало известно, что я веду криминальную хронику в газете. А муж, вообще, милиционер. В связи с этим судья смотрел на меня на всем протяжении процесса не совсем бесстрастно, скажем так. В его взгляде была смесь удивления, сочувствия и укора. Даже голову склонил на бок, как скрипач, так и смотрел на протяжении всего процесса.
Пострадавший-потерпевший был согласен простить мне нанесенный вред, без всякой материальной компенсации. Единственным его условием было следующее: я должна извиниться. Прямо тут же, на суде: громко и «с выражением». Я встала и сказала, глядя на него, от чистого сердца: я все тебе прощаю.
Никто не понял, что я сказала. Потом все подумали, что я оговорилась. Тогда я встала опять и повторила: Я. Тебя. Прощаю. Ты мне безразличен!..
У него захватило дыхание. Прямо щеки затряслись от возмущения. Только и смог выкрикнуть, почти провизжал: я попрошу вас не тыкать!..
За мою наглость мне дали пятнадцать суток. Когда меня уводили, Виталик, пользуясь разрешенным прощальным поцелуем, шепнул: зачем ты это сделала? Я успела сказать ему, на горячем выдохе, касаясь губами мочки уха, зная, что ему это приятно: этот тип похож на моего первого. Виталик, мой дорогой человек, мне поверил. Наверное, впервые. А мне впервые за много месяцев было просто хорошо. Я чувствовала себя революционеркой: только они идут в камеру с улыбкой. Все позади.
Мой Виталик скромный: он не пытался меня «вытаскивать» раньше времени. Просто устроился в местную гостиницу и стал ждать срока моей «отсидки». Он всегда такой: мягкий, принципиальный и упрямый. Его только недавно стали уважать бандюги нашего города. Раньше они относились к нему пренебрежительно, как к пансионной девице, надевшей милицейскую форму. Поэтому неизменно проигрывали. А сейчас уважают, но все равно проигрывают.
И все же через неделю я «освободилась». Помог мой главный редактор. Не выдержал, примчался. Виталик потом рассказывал, что его лысина сверкала и в отделении милиции, и в редакции местной газеты, и в мэрии… Я ему, редактору, за это образ придумала: лысый протектор. Что, конечно, несправедливо — добрый мужик. Да и как мой защитник — справился, добился «амнистии». Еще бы, работы невпроворот, а я тут прохлаждаюсь за свой счет. Общаюсь с дебоширками и хулиганками — милейшие, оказывается, девы.
(Как много я, оказывается, не понимала, когда писала об этой части общества. Теперь на все посмотрела другими глазами. Понять, значит простить. Уверена, мне это очень пригодится. Может быть, что касается профессии, как раз таки этих присуженных суток мне и не хватало, чтобы достичь существенных — не халтурных, настоящих — вершин мастерства? Я даже поставила себе цель: серия очерков «оттуда». Вернее, «отсюда». Возможно, в результате получится книга. Часто ловлю себя на мысли, что впервые за много месяцев мысли мои вновь приобретают стройность и творческое направление.)
Да, работы, как уверяет шеф, невпроворот, а я тут подметаю, видите ли, тротуары, дышу свежим воздухом, сочиняю стихи под «вжик» метлы и шорох желтых листьев. Тарам-тарам… и жутко добрых мыслей… Не рифмуется и не надо. Зато появился румянец на щеках. Сходят синяки, перестала ныть изрядно помятая грудная клетка и все, что в ней последние месяцы болело.
Перед отъездом на вокзал мы с Виталиком купили цветы, и зашли в библиотеку. Букет миссис Смайл отдавал Виталик, так я захотела. Я увидела то, что и ожидала, согласно всем законам жанровой справедливости: миссис Смайл улыбалась, но в этот раз выражение глаз и лица соответствовали друг другу. Это была не гримаса природы, это была настоящая улыбка. Неизвестно, что произошло, какая там релаксация, следствие ли положительных эмоций, но вдруг больные нервы расслабились и перестали, пусть ненадолго, корежить лицо. Потом, когда мы уже были у двери, мне показалось, что она светло, без страдания, улыбнулась. Я «сфотографировала», запечатлела ее в памяти такой, закрыла глаза и отвернулась… Прощайте, миссис Смайл!
ЧУБЧИК
Приятель мой и одноклассник Пашка, в отличие от меня, всегда был лысым. В семье у них, кроме Пашки, бегало еще четверо сынов. И все они, сколько я их помнил, всегда были стриженными налысо. Этим они очень походили друг на друга, их можно было перепутать с затылков. Хотя, все были, разумеется, разного возраста и характера. Я всегда подозревал, что причина их затылочной универсальности в том, что отец Пашки, дядя Володя, родился, как он сам говорил, безволосым. Очевидно, подтверждал мой папа эту версию, дядя Володя не хотел, чтобы наследники хоть в чем-то его опережали, пока он жив, настолько ревниво относился к лидерству в семье. Наверное, думал я, развивая папину шутку, если б было возможно, сосед остриг бы и тетю Галю, Пашкину мать, под ручную машинку — его любимый инструмент, который он прятал от семьи в платяном шкафу под ключ. Но сделать такое — неудобно перед соседями. Хотя вполне приемлемо было иной раз, по пьяной лавочке, громко, на всю улицу — открытым концертом, «погонять» тетю Галю, в результате чего она, бывало, убегала к соседям и пережидала, пока дядя Володя не успокоится и не заснет.
Сосед зорко следил за прическами своих отпрысков. Обычно, периодически, пряча за спиной ручную машинку, он подкрадывался к играющей во дворе ватаге, отлавливал кого-нибудь из своих «ку» (Пашку, Мишку, Ваську…), каждый раз с удовольствием преодолевая неактивное сопротивление взрослеющего пацана. В этом, вероятно, был какой-то охотничий азарт. Ловко выстригал спереди, ото лба к затылку, дорожку. После чего сын, покорной жертвой, шел к табуретке, чтобы очередной раз быть обработанным «под Котовского». Все было со слезами, переходящими в смех, и, как будто, никто по серьезному не страдал.
Мне казалось, что дядя Володя всегда был пьяненький. Меня, соседского мальчишку, непременно с аккуратным гладким чубчиком вполовину лба, в виде равнобедренной трапеции, когда я приходил к Кольке, он встречал неравнодушно: редкозубо улыбался, слегка приседал и, переваливаясь на широко расставленных ногах, подавался навстречу. Одной рукой поглаживал свою большую, чуть приплюснутую лысую голову, а другой, похожей на раковую клешню, совершал хватательные движения, имитируя работу своей адской машинки, и в такт пальцевым жимам напевал: «Чубчик, чубчик, чубчик кучеравый!.. Разве можно чубчик не любить!.. Ах, ты, кучера-а-авый!» Именно так: через «ра». (Иногда говорил своим пацанам, тыча в меня пальцем: «Демократ с чубчиком!.. Куда его папа партейный глядит! Не-е-ет, распустились!..» Из неоправданной высокопарности следовало, что дело не в чубчике: чубчик — знак чего-то, символ.) Я улыбался и отступал. Мне было жутко от мысли оказаться пойманным и обманным путем остриженным наголо. Причем, так: когда сначала на самом видном месте коварно выстригают клок, после чего сопротивление бесполезно, и остается только, снизу вверх, в ужасе наблюдать за творящимся над тобой насилием и мечтать об одном — чтобы все это поскорее закончилось. Про себя я называл дядю Володю «Кучеравым» незримая и наивная месть за вечно оболваненных Пашкиных братьев и тетю Галю, которую было жалко также и за то, что она ежевечерне через всю улицу, горбясь под тяжестью, несла из столовой ведро котлет с гарниром и бидон сметаны, чтобы прокормить маленького, но весьма прожорливого мужа и пятерых, постоянно желающих чего-нибудь погрызть, «ку». «Не в коней корм», — иногда жаловалась она. Соседи называли эту семью «несунами» (дядя Володя, работая плотником, также носил домой, как пчелка: дощечки разных размеров, всякие деревянные поделки: табуретки, рамы, двери… Затем все это сбывал соседям за «пузырьки»). «Завидуют», — говорил про соседей Пашка, оправдывая «пчелиное» поведение родителей.
В нормальных условиях стрижка налысо являлась для меня нереальным актом. Это было невозможно в нашей семье. Отец периодически водил меня стричься «под чубчик» к одному и тому же пожилому парикмахеру корейцу, стригся сам под модный тогда «полубокс».
Для мастера единственной парикмахерской нашего рабочего микрорайона у меня сложился трудно передаваемый зрительно-морфологический синоним: без имени-отчества, но с большой буквы — Парикмахер; широкие плечи в белом халате — заглавная буква «П».
…Кореец работал по большей части молча, могло показаться, что он нелюдим или угрюм. Но с отцом, как и с другими постоянными клиентами, разговаривал, мне представлялось, с удовольствием, впрочем, в основном отвечал на вопросы. Лицо виделось строгим, но не хмурым, а просто неагрессивно серьезным — отношение ко всему окружающему с полным отсутствием легкомыслия. Несмотря на тотальную серьезность, Парикмахер довольно часто улыбался — движения губ были реакцией на шутку, окрашивали фразу, иногда заменяли слово. Но не более того, а именно — улыбка была функциональна: не блуждала по лицу, «на всякий случай», как у угодливых, хитрых или, наоборот, просто добрых людей, не зная к чему приткнуться, что разукрасить. В глазах, обычно устремленных на голову клиента, сверху, поэтому как бы прикрытых плюс к монголоидному разрезу, — скорее, в их уголках, доступных мне, как стороннему наблюдателю, в том числе через зеркало, не находилось блесток высокомерия, кичливости мастерством. Его вид как бы говорил: все что Парикмахер делал, делает и будет делать — правильно, качественно, основательно. Но декларация «звучала» именно так — отстранено, от третьего лица: перечень положительных качеств олицетворял плакатную бесспорность, претендуя только на конкретную деятельность — бритье, стрижка, — и при этом словно отмежевывался от «я»: мнилось некое подобие прозрачной, но непреодолимой границы, старательно, больше обычного, отделяющей внутреннюю суть от внешности. В такой интуитивно отчетливой и вместе с тем неуловимой, необъяснимой словами двухмерности мною предполагался корень странной таинственности, внушающей уважение и желание наблюдать за корейцем. Хотелось намазать этот стеклянный, прозрачный барьер чем-то видимым: гуашью или пластилином — строительный материал детского творчества, — чтобы преграда стала осязаема, доступна зрению.
Чем больше я наблюдал, тем сильнее утверждался в своем первичном детском, по преобладанию инстинктивном, мнении, что Парикмахер — носитель секрета, персонаж некоего приключенческого сюжета, какой-то судьбы из неведомой жизни, о которой я еще никогда не читал, не смотрел фильмов, не слышал. Взятие первой логической ступени в расшифровке неясного, но притягательного образа — промежуточный вывод, основанный на скудном багаже личного жизненного опыта: то, чем Парикмахер занимается с утра до вечера в своей маленькой мастерской, обслуживая за день несколько десятков людей, не самое главное в его жизни, оно даже не занимает его мысли… Это при том, что свое дело Парикмахер ладил хорошо. И при том также, что труд, говорили нам в школе, — самое главное для человека. А если не «самое главное», то очень плохо, — это не наш человек. В рассогласовании, которое рождалось из данного правила и личных впечатлений о Парикмахере, было нечто не совсем приятное, как колкие ворсинки за шиворотом после стрижки с «модельным» результатом, отраженном в хмуром обмане старого зеркала с матовыми углами (именно такое висело в этой старенькой цирюльне): положительное боролось с не очень хорошим, ненадежным, сомнительным; ясное — с незримым.
Все остальные мои взрослые знакомые, среди которых много родственников и соседей, были более-менее понятны. Пашкины родители — как на ладони. Мои папа и мама — передовики производства, их огромные фотографии постоянно, до привычности, висели на доске почета, длинно вытянувшейся вдоль стены хлопкового завода, где работал весь микрорайон, по дороге в школу. Или взять другого нашего соседа Освальда Генриховича, инженера конструкторского бюро, который тоже хорошо работал на этом же заводе, но просто не мог висеть на доске почета ввиду того, что был немцем, сосланным к нам в Среднюю Азию из Поволжья в начале войны. Об этом, почему-то понижая голос, как будто нас могли подслушать, говорил мне папа. Все понятно — не повезло Освальду Генриховичу: старайся не старайся, а на «доске» не висеть. Я немножко жалел его, но понимал, что так надо и что данное положение дел совершенно естественно.
Волосы мои на голове отрастали очень быстро («Оттого, что мозгов больно много», — шутил папа, с явным удовольствием намекая на мою отличную, без напряжения — порой до скуки, учебу в школе), поэтому довольно часто приходилось посещать Парикмахера.
Повторялось одно и то же. Я взгромождался на высокое кожаное кресло. Ерзал, усаживаясь поудобнее. Парикмахер туго повязывал мне салфетку, готовил инструмент. При этом только единожды за весь процесс стрижки я удостаивался его прямого умного взгляда из зеркала, когда он вполголоса спрашивал: «Как?» Я говорил: «Чубчик». Он принимался за мою голову, я разглядывал его, Парикмахера.
Лицо — толстые складки. Волосы абсолютно седые, серебряные, зачесанные назад. Интересно, кто его стрижет, всегда думалось мне. Прокуренные желтые пальцы, которые иногда мягко захватывали остригаемую голову, деликатно придавая ей нужное положение. В мой гудящий от электрической машинки затылок — тяжеловатое (оказывается!), с грудной хрипотцой дыхание, в ноздри характерный запах, смесь одеколона и табака. Только вблизи было понятно, насколько много ему лет.
Вокруг старого зеркала были наклеены несколько пожелтевших вырезок из газет на космическую тему и две черно-белые фотографии цветочных букетов (позже я узнал, что это экибана). Отрывной календарь рядом с полкой, заставленной разнокалиберными флаконами, сообщал о датах, днях недели, фазах солнца и луны. Справа, на глухой стене, висел приемник с понятным названием «Москва» — округлые формы, металлический корпус, обтянутая шелковой материей фальшпанель с темным пятном динамика, — который был всегда включен: гимны сменялись голосом дикторов, вещающих о новостях страны, следом шли прогноз погоды, музыкальные передачи по заявкам и без таковых. Трудно было даже представить саму парикмахерскую, само слово «стрижка» без звучания этого радио. Звук как из пионерского горна — направленный, сконцентрированный: он не отражался от стенок комнаты, не заполнял ее всю, а вел себя «адресно» выходил из одного отверстия — динамика, входил в другое — в мое правое ухо и там оставался. Что с ним происходило дальше внутри меня, я не знал. Наверное, он усваивался особым образом, превращаясь во что-то необходимое для организма. Как воздух, утренняя зарядка, занятия в школе, субботники, первомайские и октябрьские демонстрации… Иногда чудилось, что этот радиоприемник «Москва» и есть самый город Москва, прикинувшийся металлическим ящичком, говорящим и поющим мне в ухо необходимые вещи. Или хотя бы так: приемник — столица, громко и полезно присутствующая в этой комнате своей вполне материальной, видимой частичкой, а не какими-то прозрачными радиоволнами, о которых рассказывал папа. (Отсюда ретроспективно — можно сделать вывод, что все необъяснимое на самом деле жутко меня раздражало, хотелось определенности, а если ее не было, то этот пробел занимали изобретенные мной логические образы.)
С противоположной стороны располагалось маленькое окошко, с открытой в любое время года форточкой, в которую вплывали запахи улицы: мокрого или раскаленного асфальта, пыли хлопкового завода (душное свежее одеяло), бензина и выхлопного дыма; сюда же залетал тополиный пух, мокрые, обессилевшие среднеазиатские снежинки, мухи, которые, постукавшись по стенкам, неизменно прилипали на липкую желтую бумагу-ловушку. С запахами и звуками из окна все было более ясно, чем с приемником, — понятный мир. Хотя самого окна в оригинале мне видно не было — лишь часть его, и то в отражении зеркала: участок дороги, подвижный кусок автомобиля, пестрые дольки прохожих — обращенное, в логическом негативе.
Иногда я заставал в парикмахерской Освальда Генриховича, который бывал здесь, как он сам выражался, пожалуй, дольше меня: не только стригся, но и брился по субботам, а то и чаще. Существовала между Парикмахером и Освальдом какая-то невидимая, но пронзительная связь, в которую, будучи рядом, вступали эти внешне совершенно разные люди, — то, что было вряд ли понятно взрослым, каким-то природным, детским, звериным чутьем было доступно мне.
Освальд, полный и рыхлый, с толстыми очками на остром с горбинкой носу, заходил в парикмахерскую, кивал в сторону зеркала: там отражалась вся комната вместе с Парикмахером и посетителями, — громко говорил «здравствуйте». Кивал в ответ Парикмахер. Натягивались струны, или, используя лексику папы-инженера, между двумя телами появлялись силовые линии. Очередь доходила до Освальда, Парикмахер его «обрабатывал». Они перебрасывались несколькими фразами: о погоде, об урожае хлопка; Освальд шутил на какие-нибудь тривиальные, не запоминающиеся темы, парикмахер «функционально» улыбался — не больше и не меньше, чем с остальными. Пели струны. Освальд вставал, отряхивалась простыня, расплата, сдачи, спасибо. Шел к выходу, затем неизменно останавливался, смотрел на часы, махал рукой: ладно, выкурю папироску, еще время есть. Парикмахер, занятый следующим клиентом, не глядя кивал. Освальд выкуривал папиросу, уже практически не участвуя в разговоре, в коем ведущую роль начинал играть следующий клиент, глядя в окно с особым выражением лица, которое совершенно не вязалось с его предыдущими шутками. В это время мне казалось, что струны начинали громко звенеть — не радостно, а с каким-то трагическим достоинством. Стеклянная пепельница, часто ополаскиваемая Парикмахером в рукомойнике, оттого всегда чистая, стояла на маленьком журнальном столике, который, покорной старой коровкой среди четырех скрипучих козлов, располагался в углу перед сбитыми в две пары стульями. Освальд делал языком мокрое пятнышко в середине своей большой ладони, осторожно, с долгим пошипыванием гасил папиросу, вставал, мял уже мертвый окурок в пепельнице, говорил всем «до свидания». Парикмахер кивал, не поворачивая головы. Или слегка обозначив поворот, бросал короткий взгляд куда-то под ноги Освальду.
Дверной скрип — звяканье рвущейся струны.
Обычно когда я возвращался из школы, парикмахерская была уже открыта. Еще с конца улицы я ставил очередную промежуточную цель — парикмахерская. Это было в моей тогдашней манере, проходить любое расстояние этапами, от объекта к объекту. Тогда весь путь превращался из серой скучной череды в разноцветные динамические отрезки, по своему интересные и, что самое главное, определенным образом подвластные мне. Я шел, изменяя своей волей предметы очередной цели — с разных расстояний они приобретали для меня разные свойства. Экспериментировал: шел быстрее, предметы росли быстрее, медленнее — медленнее. Останавливался — предметы прекращали рост. Дверь парикмахерской летом отрывалась нараспашку. Все, что внутри этого помещения, хорошо фронтально просматривалось с тротуара. Итак, все, что было в парикмахерской, по мере моего приближения, увеличивалось, набирало объемы, цвет, ясность. О том, что внутри, я знал наизусть, но, отгоняя знание, каждый раз «проявлял» эти кадры по- новому, искусственно умножая череду каждодневных открытий: лоснящееся бесформенное пятно — зеркало; белая буква «г» — Парикмахер, могуче довлеющий с вытянутыми вперед руками над черной, рыжей, русой головой, издали похожий на стоячего пианиста. Иногда, если не было посетителей, Парикмахер выходил, облокачивался на косяк двери и курил, глядя куда-то в конец улицы, получалось — в мою сторону, но слишком далеко, мне за спину, сильно подняв подбородок. Я невольно оборачивался — сзади не было ничего необычного, лишь затылки моих предыдущих открытий. Это лишний раз напоминало мне, на будущее, что все мои находки, в том числе и последних минут, имеют обратную сторону. Это прибавляло уважения к Парикмахеру. Но мне никогда не везло в данный момент оказаться вблизи, чтобы «распечатать» этот взгляд, порожденный какой-то невидимой далью.
…Я чувствовал, что-то произошло в нашей семье. Причем, события, которые привели к нарушению размеренной жизни, имели, в моем представлении, какой-то внешний, возможно, всемирный, а значит — стихийный, неуправляемый характер. Однако нежелательных последствий можно было избежать, если бы мои родители успели пригнуться или хотя бы отвернуть свои лица от тех, кто нас окружает, — так я смоделировал для себя возникшую ситуацию. Причем, эта умозрительная конструкция появилась гораздо позже, когда все плохое уже произошло, — только осенью, точнее — седьмого ноября, когда выяснилось, что мой папа не идет на демонстрацию. Представить такое раньше было просто невозможно. Еще с вечера, ложась спать, я видел, как он разбудит меня утром, уже приведший себя в порядок: в костюме с бардовым галстуком, гладко выбритый, пахнущий «Шипром», веселый. От него веет свежестью и бодростью. Обращаясь ко мне, он будет напевать на какой-то ритмичный мотив то ли итальянской, то ли испанской песни: «Чина-чина!.. Слабачина!..», — с переходом на «нормальную» шутливую речь: «Вставай, слабак, вставай!.. Утро красит ясным светом — я пришел к тебе с приветом… На полтинничек, гуляй!..» Они уйдут с мамой под ручку раньше меня, в окрашенную праздником перспективу теплого осеннего утра, чтобы протечь под духовую музыку и крики «Ура!» заводской колонной мимо городской трибуны, встроенной в памятник Ленину. Чтобы затем встретится на центральной площади с друзьями, а потом «активно отдохнуть» в веселой кампании на природе за городом или в центральном парке.
…Утром отец сказал, что болен и на демонстрацию не пойдет. Он действительно плохо выглядел: похудел, лицо — как будто в тени, которую он последнее время носил вместе с собой. Ни прежнего румянца, ни привычной бодрости. Мама еще не пришла с ночной смены. Папа сказал мне, что я пойду до площади с соседом Освальдом Генриховичам, там присоединюсь к школьным колоннам. А может быть, и мне тоже остаться, чувствуя неладное, спросил я. (По правде сказать, на демонстрацию в школьных рядах мы ходить не любили. Другое дело пройти свободным образом, без транспарантов и огромных портретов в руках, которые потом, после прохода под трибунами, приходилось неинтересно и непродуктивно нести за два квартала к бортовым машинам — аксессуары увозили обратно в школу, чтобы свалить кучей в подсобках до следующего праздника. Жаль было времени, не терпелось оказаться в пестрой парковой толпе, вкусить праздничное изобилие: шашлыки, мороженное, лимонад…) «Нет, — раздраженно отреагировал папа, — надо, надо, иди!.. Ты пойдешь».
Тут я вспомнил, что накануне, первого сентября, когда шел после каникул в школу, не обнаружил фотографий своих родителей на «стене почета». Тогда мне подумалось: все, наверное, правильно — достойных людей много, а стена ограниченна. Одни повисели — уступили место другим. Сейчас это тревожным образом связалось с нынешним поведением и обликом папы. Уже сам собой всплыл неясный эпизод, произошедший еще раньше, недели за две до моего открытия у доски почета: папа пришел сильно выпивший, чего за ним раньше не наблюдалось. Он почему-то давил ладонью грудь и приговаривал мокрыми пьяными губами: «Пражская весна!.. Э-эх!..» Мама долго укладывала его спать. Из спальни доносились сдавленные голоса: «Как мы могли?!..», «Идейный, будь как все!..», «Нет, ну как же теперь!.. Вот тебе и весна!» Надо же так напиться, — думал я, отгоняя от себя безотчетное волнение, — и перепутать времена года: сейчас лето, причем, август.
Освальд Генрихович взял меня, как маленького, за руку. Я протестовал он настоял: «Так надо. Мне надо. Сделай мне приятное! Пусть видят, сколько можно трястись, а? Давай…» Пропустив непонятые слова мимо ушей, я подчинился. У Освальда не было детей, вернее были когда-то, но во время войны жена развелась с ним и, забрав двух сынов, уехала обратно в Россию, он их разыскивал — бесполезно. Возможно, в этом, в вынужденной, насильной бездетности, в воспоминаниях о сыновьях, причина его нежности ко мне, объяснил я его сегодняшнее суетливое поведение. Проходя мимо Пашкиного дома, мы покивали, приветствуя, вышедшему за ворота семейству «Кучеравого». Глава семьи снисходительно прижал тупой подбородок с невыбритой ямочкой к узкой высокой груди, обернулся к своему выводку, кивнул на нас, все засмеялись. Я знал, что «Кучеравый» вполголоса сказал своим «ку» — что обычно: «Иж, фашист-то, вырядился!..» Это он об Освальде Генриховиче, с нелогичным расположением «мундирных» знаков: почти на «солнечном сплетении» алела шелковая ленточка, сделанная из пионерского галстука, длинным концом для аккуратности приколотая к нагрудному карману, напоминая аксельбант с картины о декабристах, а три значка — «ВОИР», «Почетный донор», «Фидель Кастро» и «Пахтакор», — грудились у левого плеча, издали смахивая на единый карикатурный орден.
Мы пошли по направлению к центру города, где в близлежащих переулках выстраивались, готовясь к маршу, школьные колонны. Из узбекских домов выходили группы школьников: темные брюки и юбки, белые рубашки, красные галстуки. В некоторых дворах детей было так много, что семейства, каждые в отдельности, представляли из себя маленькие демонстрации. Усиливались звуки городского праздника: музыка, речевки, команды… Нарастала шумовая лавина, пропитывая густеющие людские потоки — красное на белом. В одном месте, где маленький духовой оркестр «продувал» небольшие маршевые фрагменты, Освальд Генрихович поднял свой кулак с моей взмокшей ладошкой, ткнул этой тяжелой связкой в сторону низкой зеленой калитки: «А здесь живет Алексей Иванович, наш с тобой парикмахер. Он сейчас дома, да». Мы продолжали поход, и Освальд Генрихович говорил, не глядя на меня, как будто сам с собой. Привычная, несколько виноватая улыбка, которая обычно близоруко, светлыми тенями блуждала по его лицу — то поднимая бровь, то щуря глаз, то растягивая губы, — сменялась непривычной решительной серьезностью.
— Их привезли сюда раньше, чем меня, чем, тем более, крымских татар… В тридцать девятом, с Дальнего Востока. Сосед наш, Володя — дядя Володя — до сих пор зовет их «самураями», «собакоедами», «косоглазыми». Отца твоего, я слышал, нынче «белочехом» прозвал. Никчемный он человек, дядя Володя, да, честно тебе скажу. Нехорошо, конечно, так про взрослых… А вот среди них много умных людей, не чета некоторым… Многие пошли учителями. Физика, химия, математика. Точные предметы, аналитика — это их. А Алексей Иванович, ты знаешь, — доктор технических наук, между нами, конечно… А тоже ведь, как скотину… Ему предлагали потом, из Ташкента приезжали, из Академии Узэсэсэр… Отказался. Даже в наш кабэ не пошел. Обида. Гордыня. Я, ты знаешь, — заяц, а он!.. Уважаю, честное слово. Хоть кому скажу — уважаю!.. Чесслово… Вот и школа твоя…
Выпроставший ладошку из влажного плена, в школьной колонне я сразу же был взят в иной оборот: мне предназначалось определенное место, в передних шеренгах, и один из флагов союзных республик, которые, я знал — пятнадцать, незначительно отличались друг от друга: расположением и цветом вторичных (неглавных: зеленых, голубых, синих) полос на красном поле с особенной, но жидкой орнаментной (национальное отличие) оторочкой.
Необычайно тронутый гранями разнообразия мира, которое вдруг больно царапнуло меня некоторое время назад, на минуту выпрыгнув из взволнованной речи Освальда Генриховича, — на самом деле промежуточный результат, очередной финал постепенного набора жизненной информации одиннадцати лет, я оказался захваченным навязчивой идеей: сейчас же, немедленно увидеть объект моего теперь уже почти объяснимого интереса — Парикмахера, как воплощение жизненной реальности, парадоксально фантастической, таинственной и при этом, оказывается, вполне объяснимой и доступной — стоит внимательнее посмотреть, больше расслышать, ближе потрогать.
Затеряться — отдаться на задворки переминающихся шеренг, с переходом на суетливый многолюдный тротуар, ничего не стоило. Оставалось избавиться от флага. Я решил действовать общеизвестным, знакомым по предыдущим демонстрациям методом. «Подержи, я сейчас», — обратился к первокласснику. «Ты не обманешь?» — спросил первоклассник, беззащитно поднимая розовые бровки и выворачивая пухлую губешку. Я вспомнил где-то услышанное: когда говоришь неправду, нужно верить в то, что говоришь. Я попробовал: честно глядя в глаза, торжественно сказал «нет» и протянул крашенное древко к игрушечным доверчивым ладошкам. Получилось. Пацан взял флаг. Я быстро пошел прочь, стараясь не думать, что маленький человек смотрит мне в спину. «За все нужно платить, иногда — совестью: это очень быстро, но…», вспомнилась папина фраза.
Я остановился возле зеленой калитки. Оставалось преодолеть еще один нравственный барьер — вторгнуться в чужой мир: незвано открыть калитку или тайно заглянуть через дувал. Но я устал: день, еще по-настоящему не начавшись, уже был долог — я слишком много узнал. Присел на синюю скамейку у палисадника, подперев ладошкой голову, — маленький старичок с чубчиком.
«Процесс познания родил науки: совершенно не обязательно трогать, обжигаться — повторять длинный цикл познания. Не хватит жизни. Наука создает качественную модель, формулу: подставляешь цифру — видишь результат». Это из популярных папиных объяснений относительно пользы наук.
«Ура!.. Да здравствует!.. Хурматли уртоклар! — дорогие товарищи!.. Претворим в жизнь исторические решения!..» В центре города началась демонстрация. Мимо проходили колонны и, блок за блоком, исчезали в нереальности перпендикулярного поворота, очерченной мозаичным углом высокого здания. Получая апатичное удовлетворение от осознанного владения знанием результатом подстановки в знакомую модель: каждая колонна повторит движения и звуки предыдущей, став пронумерованной единицей масштабного действа, — я научно оправдывал свою неподвижность, параллельно напитываясь идеей будущего эксперимента, которому предстояло подтвердить или опровергнуть формулу-догадку, еще непорочную, в которую я еще ни разу не подставлял цифры. Закрыл глаза, выждал время, пока не угас красный цвет… Что возникнет сейчас — это и есть моя «субъективная реальность» (в противовес папиным «объективным реальностям» — частый фрагмент рассуждений на научные и социальные темы), мое понимание жизни.
Немного стыдясь своей «ясновидческой» власти над тем, за кем предстояло наблюдать, я представил Парикмахера на резной веранде, обвитой коричневыми лозовыми жгутиками молодого виноградника. В руках — свежая газета. Сейчас ему не шел белый халат и он был одет в полосатую пижаму — символ обычности выходного, свободного дня. Тушуя опасность громких звуков улицы, способных внести тревожную ноту в спокойствие настроечного лада, я для верности заменил газету на художественную книгу, которая скоро приняла геометрию и цвет научно-популярного журнала, а затем окончательно трансформировалась в толстый справочник на технические темы. Да, чуть не забыл: папиросы, большая чистая пепельница, крупные комочки пепла.
А вот теперь на все это я накладываю звук, прибавляю громкость.
…Из-за дувала, с улицы, долетает — через усилители, «колокола»: «Да здравствует!..Ура!» эти звуки смешиваются с аналогичными звуками из соседних дворов: от громко включенных радиоприемников, телевизоров сливаясь в единое. И не поймешь, где реальность, а где искусственное. Если по научной букве: в центре города — настоящее, в «Москве» и других радио- и телеприемниках — искусственное. И все вместе дает ощущение абсурда или тщательно спланированного притворства: в науке есть модели, но в природе не бывает копий — все разное. Пашка не похож на меня, папа — на Кучеравого, мамы между собой разные, и все всегда говорят и ведут себя по-разному. А тут все одинаково: далеко-далеко, везде-везде, и рядом — одно и то же. И универсальное объяснение (насилие, наложенное на покорность): так надо.
…Парикмахер вздрогнул, поднял седую голову от книги и увидел ряд наблюдающих за ним разных, совершенно не похожих друг на друга людей: я, папа, Освальд Генрихович, Кучеравый и сын его Пашка, обманутый мальчик с флагом… Мне стало стыдно перед Парикмахером за всех и я открыл глаза.
Я пошел домой, сэкономив полтинник, который, как всегда в день праздника, сегодня дал мне папа.
В следующую субботу прогуливаясь с Колькой в районе хлопкового завода, я спросил:
«Коль, только честно, я не обижусь: как меня твой папа называет?»
Пашка хлюпнув носом и чуть подумав, видимо, вспоминая:
— Как, да считай никак… Кто ты? — мелочь! Ну, иногда, бывает вундеркиндом паршивым, а иногда — блаженным, ну, ненормальным. Не обижаешься?… Он ведь всегда правду говорит. Смотри: ты хоть и отличник, а дружить-то с тобой больно ни кто не разбежится, кроме меня…
Нет, я не обижался. Можно ли обижаться на того, кому не доверяешь — я имел в виду Пашкиного отца. Я решил проверить себя внешним насилием на собственную непокорность (могу ли я быть «нормальным»?) и реакцией на все это Парикмахера — уже знакомым, собственно разработанным и испытанным методом.
…Пашка сел у входа, я взгромоздился на кожаный трон перед старым зеркалом, недоверчиво, но вместе с тем равнодушно отразившем мое притворство — мнимое согласие с грядущим.
«Как?» — спросил Парикмахер, коротко взглянув. Я пошевелил губами, но поняв, что ничего не сказал, качнул головой назад. Парикмахер посмотрел на Пашку: «Как друга? Хорошо».
Авансом — сжигая мосты: высунув руку из-под салфетки, похожей на белый саван, я аккуратно положил на стол сэкономленные накануне пятьдесят копеек одной монетой.
Словно завороженный я смотрел на свое отражение, видел, как машинка подбирается к чубчику. В один из моментов Парикмахер, не в характере предыдущих стрижек, внимательно посмотрел через зеркало на меня, прямо в глаза, как бы в последний раз спрашивая: «Точно?» Возможно, мне так показалось. Он медленно слизывал дорожку за дорожкой, оставляя от чубчика все меньше и меньше. Слезы сами выкатывались и тонкими серебряными стежками сбегали по обветренным щекам. Парикмахер: что, больно? Ах, машинка старая, дергает, ножи точить надо. Ну ничего, не стоит из-за этого плакать, неужели так больно?
Мы вышли из парикмахерской. Мир померк. Я представлял себя со стороны: нелепым, униженным, как будто голым, который не в силах скрыть свою наготу. Пашка как всегда улыбался, он был счастливым человеком, хоть и лысым. Он спросил: есть три копейки? Я кивнул. Он взял монетку, купил в киоске «Союзпечати» газету (какую-то «Правду»: «Правду Востока», «Ташкентскую правду» или просто «Правду»), мы сделали из нее две пилотки, надели (я почувствовал себя несколько лучше: в конце концов, жизнь не заканчивается, отрастут) и пошли домой. По дороге Пашка рассказывал о своих жизненных открытиях на заданную тему: оказывается, еще из небольших газет можно делать тюбетейки, а из больших — сомбреро.
ДЖОКЕР
Ожидания, как водится, не сошлись с реальностью. Разочарование постигло Сергея, едва он, оттолкнувшись от шаткого трапа, согбенно, как бы демонстрируя покорность перед хозяевами неба, и поэтому несолидно, слишком широким шагом, ступил в ярко освещенный тамбур пассажирского лайнера, оставляя за спиной вторую половину контраста — сырой неуют ночного северного аэропорта.
Сергей имел все основания надеяться на лучшие впечатления от встречи со стюардессой. Во-первых, эта встреча являла собой первый, знаковый пункт долгожданной отпускной оды, которая обещала быть теплой, легкой, лиричной Сочи, море. Во-вторых… года три-четыре не летал. Последнюю неделю на языке вертелись одни и те же слова старой песни: «Здравствуй, здравствуй, здравствуй, стюардесса, мой чудесный друг! Мы с тобою повстречались там, где солнца круг!..»
— Проходим на места согласно билетам! — бесстрастно, с поставленной цикличностью, проговаривала бортпроводница, окрашивая сухие слова инструкции служебной улыбкой, замершей на невероятно красных губах. Самолет еще не взлетел, а она — внешне безупречная, одетая с иголочки, хрустящая, — была уже вся что называется «секондхэнд» — какая-то неуютная, навевающая эпитеты казенной простыни, стеленной гостиничному клиенту хмурой горничной: чистая, отбеленная, но с выхолощенной домашностью. Можно понять: лайнер южного базирования, трансконтинентальный перелет, северный порт — пасмурная хмарь, ночлег в казенном доме, дневная маета и снова полет. Впрочем, заметно: времени, чтобы заняться своим внешним видом, было предостаточно и оно использовано именно по этому назначению. На умытом, разглаженном, тщательно отретушированном лице — вымученная радость (которую наивные пассажиры ошибочно относили на свой адрес): еще немного и я дома… Что поделаешь: в подобных случаях, когда встречается бодрый пассажир и уставший стюард, зачастую сходятся две отрады — начало и конец дорог.
С утра, собирая чемодан, Сергей раз вспомнил свой давний романчик со стюардессой, которым в студенческую бытность очень гордился. Казалось, все вещи в комнате подруги имели отношения к Аэрофлоту: посуда, салфетки, занавески — удобно, миниатюрно, изящно. Многие из этих предметов действительно имели, как украшение, характерную надпись: «Аэрофлот». Аэро-барышня угощала его экзотическими продуктами в аэрофлотовской упаковке. Вся «эар-экзотика» была знаком принадлежности к одной из высших каст тогдашнего общества, к которой, в определенной степени, причислялся и Сергей через общение с юной длинноногой стюардессой. Впрочем, это была не настоящая стюардесса — однокурсница, которая летом подрабатывала на авиалиниях. К тому же, она его быстро бросила: «Сережа, ты хороший, но какой-то уж больно приземленный. Несмелый, нерисковый… Понимаешь, риск — это воплощение поиска, творчества, полета. А я уже рискую — летаю. И буду всю жизнь летать! Прости». Поэтичная натура! Даже напоследок не могла сказать что-нибудь попроще, хотя бы необидное. Нет же: прежде чем упорхнуть, вознести свое синее блестящее тело в голубые небеса, аккуратно втоптала в землю ладными бройлерными ножками. Позже Сергей нашел менее саркастическую метафору, частично характеризующую уровень своего житейского везения: та юная, еще непорочная стюардесса была синей птицей удачи, которая, пожалуй, единственный раз в жизни коснулась его своим прохладным крылом.
Сейчас даже это утреннее воспоминание, щемящее, но и располагавшее к воодушевлению, показалось не в руку. Действительно: место в хвостовой части, запах туалета, автоматическая вежливость хозяйки лайнера и ее усталая радость, адресованная не Сергею. Суета…
Пассажиры, как всегда, умудрялись заблудится в двух салонах, создавая сутолоку в узком проходе между рядами кресел. Сергей нашел свое кресло, с облегчением уронил тело в мягкую ячейку, став недосягаемым сумбурных потоков.
Среднее кресло оставалось свободным, а на третье, к иллюминатору, протиснулась высокая, вся какая-то невероятно белая девушка, мягко и волнующе задев Сергея. Обожгло коленки, захватило дух от близости разгоряченного тела с упруго вздрогнувшими формами. Сергей на минуту забыл обоих стюардесс, прошлую и нынешнюю.
Взлетели. Девушку поташнивало. Она сидела с закрытыми глазами вытянувшись, плотно прижав плечи к спинке кресла, запрокинув голову в хлопковых кудрях. Голые ноги, вынырнувшие из-под короткой, узкой белой юбки, прижались гладким коленками одна к другой и прислонились к обшивке салона. Веки чуть вздрагивали, губы приоткрылись. Внутреннее напряжение выдавали две продольно натянутые мышцы изящной длинной шеи. Оглядывая девушку, Сергей внимательно обследовал ее пальцы и с облегчением обнаружил, что «явно обручального» кольца нет — набор желтых колечек: одно с камешком, второе плетеное, крошечным венком, и третье — тончайший тисненый ободок вокруг белой кожи. Когда набрали высоту, девушке стало легче. Она открыла глаза.
С этого момента Сергей уже боялся долго задерживать взгляд на соседке. Поэтому изредка скользил по ее лицу и фигуре быстрым взором, начиная откуда-нибудь сбоку или сверху, на секунду задерживал глаза на девушке и затем, вытянув шею, озабоченно или с интересом вперивался в иллюминатор, за толстым стеклом которого, при желании, если бы оно действительно имело место, можно было увидеть только далекие, беспорядочные россыпи звезд. Таким образом Сергей запоминал изменившиеся за несколько минут позу и мимику, откидывался, закрывал глаза и осмысливал новый образ уже по памяти. Белая, белая… Профиль — камея на снежном мраморе. Ровный греческий нос, чуть выступающая вперед четко очерченная верхняя губа. Вообще, губы — яркий красный узор на белом…
Самолет совершил посадку в промежуточном аэропорту. Это было уже преддверием юга, стюардесса объявила температуру за бортом — плюс двадцать девять. Засушливый год. Теплая ночь. Пассажиры сняли с себя лишнюю одежду, остались в блузках, безрукавках.
Прежде чем встать и направится к выходу, Сергей спросил:
— Извините… Вам знаком этот город? Нет? И мне — нет…
Эти банальные слова были началом знакомства. Ее звали Ольга. Они вышли вместе.
Незнакомый ночной город едва уловимо давал о себе знать в этой пустынной, если не смотреть на пылающее граненым фонарем здание вокзала, окраине, где расположился типовой, средних размеров аэропорт. Город дышал далекими, еле уловимыми шумами. Он двигался исчезающей в зигзагах дальних поворотов вереницей парных светящихся точек под чередой высоких желтых фонарей, за которыми угадывались поля и перелески. Сергей вспомнил, что ранее, в студенчестве, когда часто приходилось летать, ночные аэропорты непременно внушали ему какую-то трудно передаваемую романтическую уверенность. Наверное, это чувство возникало из необычности состояния полета (неважно: ты только что сошел с неба или через минуты собираешься взлететь а может и то и другое) и территориальной отстраненности от города, который с высоты в это время суток кажется гигантским огненным фантастически мерцающим посевом. Ты — над; жизнь необычна; тревоги ничтожны; все еще впереди…
И сейчас, прогуливаясь с Ольгой по привокзальной площади, Сергей опять почувствовал себя у порога долгожданного счастья. Неизвестно, чем закончится это знакомство, а то, что оно должно как-то закончится, вытекало из логики предыдущего — минувшего дня, месяца, года, а может и жизни, в которой ему, как он полагал, далеко не всегда везло. Ведь не может эта хроническая полоса невезения продолжаться вечно. Кто ждет эту девушку в аэропорту назначения: друг, жених, муж? Сергей уже ревновал ее к тому неизвестному, если он действительно есть, которому, видимо, всегда везет больше, чем Сергею, и который вряд ли ценит те подарки, которые регулярно, полными пригоршнями дарит судьба, — он пресыщен, он воспринимает дары как законную дань… Почему одним все, а другим только кое-что и то изредка?
Да, Сергею везло редко. Чего уж там, правильнее сказать — не везло с самого детства. Вернее, со школы, где он начал осознавать себя мыслящим существом.
Школа… Наверное, все происходило сложнее, но сейчас, если не засорять воспоминания подробностями, можно было констатировать главное: у них был класс с раз и навсегда сложившимися, как будто заданными извне, традициями. Даже учителя удивлялись: проходил год за годом, а в отношениях между детьми практически ничего не менялось в качественном плане. Пацаны превращались в юношей, девчонки — в девушек, а иерархия отношений оставалась прежней. Как будто разбухала жесткая кристаллическая решетка неизвестного странного материала: увеличивались атомы, удлинялись линии связи, но прежними оставались пропорции и качества. Именно так вспоминалась Сергею классная жизнь: без ярких подробностей, где он — элемент решетки, не в силах и, впрочем, без желания что-либо менять. Только одно событие, как и положено, периодическое в поступательном мелькании лет, всплывало почему-то довольно ярко с обидными подробностями: двадцать третье февраля, «мужской» день.
В день этот, начиная с утра, на партах во время перемен появлялись открытки: девчонки поздравляли ребят. Причем, это были частные поздравления: от конкретной девчонки конкретному парню. За день накапливалось у кого пять, у кого десять, у кого — по количеству девчонок в классе. Последнее было редкостью — это был самый высокий показатель мужского успеха. В конце дня каждый «мужчина» подводил итоги, которые в результате становились достоянием всего класса. Результат Сергея всегда оказывался гораздо ниже среднего: пять, от силы семь «единиц».
Этот его отнюдь невысокий рейтинг поддерживали несколько «стабильных» одноклассниц из так называемого среднего звена: не отличницы, не красавицы. (В этом почему-то не было природной справедливости, присущей другим классам, а именно: отличницы в классе Сергея были — нетипично — и красавицами.) Далее, Восьмого Марта, все развивалось традиционно и зеркально — благодарные парни дарили открытки именно тем девчонкам, от которых ранее удостаивались поздравлений. Сергей однажды попытался выйти из рамок этой традиции, и поздравил всех одноклассниц. Во-первых, потому что считал именно такое поведение естественным. Во-вторых, — с тайной надеждой таким образом существенно повысить свою популярность в будущем году. Но из этого ничего не вышло, и на следующий «мужской день» он получил все ту же свою «пятерку», которая тянула на «удовлетворительно».
Правда, после школы, не блистая «теоретическими» результатами в аттестате зрелости, в результате прикладном Сергей превзошел всех своих бывших одноклассников — закончил институт, переехал в республиканский город, устроился на хорошую работу. Но он знал наверняка: для всех своих бывших одноклассников, в их памяти, он, «Серый», остался таким, каким и был: середнячком, рядовым атомом в жесткой кристаллической решетке, который затем выпал из общей связки и потому, по логике провинциальной когорты, бесславно затерялся в безвестности.
…Они прогуливались по привокзальной площади, наполовину заполненной легковыми автомобилями — встречи и проводы… Сейчас романтическая уверенность, порожденная ночным аэровокзалом, усиливалась соседством с Ольгой — совершенным белым существом, плывущим над задумчивым «цоком» белых босоножек, которыми уверенно, без напряжения, управляли высокие, крепкие ровные ноги. Сергей боялся опустить глаза — подобие страха высоты. Он что-то говорил и говорил, извлекая из памяти все энциклопедические знания об этом городе, подбадриваемый вежливыми поворотами хлопковой головы и случайными касаниями локтей.
Необычно воодушевленный, он все же не выказывал суеты, поэтому, когда объявили посадку, не смел проявить спешку, конечная цель которой поскорее оказаться вместе с новой знакомой в салоне. А очень хотелось. Сейчас он обязательно устроится в среднем кресле, рядом с Ольгой, как бы невзначай, на что имеют право знакомые люди. Наверное, он займет чужое место, не беда тот, кто придет позже, с билетом, купленным в этом «промежуточном» городе, сядет на место Сергея. Они взлетят, и, дав круг над ночным, опутанным желтыми гирляндами, пылающим мегаполисом, унесутся в солнечную страну, туда, где…
Но произошло то, чего Сергей и опасался. Его, как это часто бывало, опередили: когда они с Ольгой подошли к своему ряду кресел, среднее место уже было занято, на нем сосредоточенно ерзал, усаживаясь поудобнее «согласно купленному билету» мужичишка лет сорока, небольшой, потрепанный, но довольно крепкий на вид. Предложить ему пересесть, чтобы спасти уходящую из-под контроля ситуацию, — на это у Сергея не хватило духа. Он горько констатировал: очередная случайность, ставшая препятствием. Сколько уже раз в жизни какой-нибудь пустяк — именно пустяк, мелочь, чепуха — обязательно мешал свершиться значительному, желанному. Причем, для одоления преграды всегда достаточно было — всего лишь — пренебречь условностями: нужно было выбежать из строя, протянуть руку и вытянуть кого-то из толпы, громко крикнуть поверх голов, выйти вон на виду всего зала… Всего лишь… Но…
Ольга села у окна, Сергей занял свое крайнее от прохода кресло.
— Валерка, — представился девушке мужчина, театрально кивнув в ее сторону, при этом, не глядя, небрежно сунул ладонь Сергею. В этом прочитывалось уверенное панибратство, против которого очень трудно бороться: приходится либо принимать предложенные правила игры, либо сразу отвергать всякий контакт. Но для такого «отторжения» нужна решительность и смелость. К тому же, не принимая легкости отношений, которые, в общем-то, ни к чему не обязывают случайных попутчиков, всегда имеется риск выглядеть смешным в глазах этих самых попутчиков. Да и вообще, Сергей, как и всякий мало-мальски вежливый человек, такие строгие подходы к случайным знакомствам не применял.
— Валерка, — повторил сосед, поворачиваясь к Сергею, который в это время покорно пожимал протянутую секундой раньше юркую крепкую ладонь, и добавил: — Джокер. Фамилия такая. Джокер. Приятно, ей-богу. Вы тоже на море? Ну да, а куда еще, что за вопрос? Думал: что за соседи будут? Смотрю: самое то!.. Бывает, знаешь, черт те что, ни рыба, ни мясо. — Завершая процедуру знакомства, легонько двинул локтем в предплечье Сергея. — Весело лететь будем!.. — и кивнул в сторону Ольги: — Вы, я вижу, только что познакомились, а?
Сергею показалось, что последней фразой, с акцентом на «только что», Джокер ставил Сергея на место: «Знаю — не твое, мы тут равны. А если точнее, я ближе, ты — с краю». У Сергея испортилось настроение.
Когда Сергей внимательнее рассмотрел нового соседа — на это хватило пяти минут, — то утвердился в мысли, что резкий упадок настроения имел под собой большие, чем мужское соперничество, основания…
Несмотря на теплый вечер, из которого несколько минут назад появились в салоне новые пассажиры, Джокер был облачен в рубашку с длинными, даже слишком длинными рукавами, из-под которых тем не менее зловеще синела непонятными фрагментами плотная татуировка. Рубашка, видимо, по принципу «все мое при мне», выполняла не только роль одежды, но и заменяла бумажник и портмоне, поскольку имела два больших нагрудных кармана, вздутых от содержимого и прочно задраенных металлическими зипперами. Застегнутый воротник, облегающий шею по всей высоте, похоже, никогда не знал свободы от верхней пуговицы, что характерно для редких людей, которые не расстаются с галстуком даже в домашней обстановке. Но по посадке стриженной под ежик бычьей головы, чуть нависающей над грудью, и резким поворотам жилистой шеи, которая, криво выворачиваясь на бока, то и дело приминала ворот к плечам, трудно было полагать, что Джокер когда-нибудь имел в гардеробе такую деталь, как галстук. Можно было наверняка предположить, что несезонная одежда скрывала под собой некую картинную галерею, весьма почитаемую на лесоповалах, но невыгодно характеризующую ее пожизненного демонстратора в местах более уютных. К тому же улыбающегося Джокера с потрохами выдавали глаза — на землянистом, почерненном неволей лице. Сергею это было знакомо: запавший в черные глазницы водянистый взгляд, уверенный, быстрый, неискренний. Сергей боялся людей с таким взглядом. Небольшой опыт и богатая интуиция подсказывала: от водянистых глаз можно ожидать чего угодно. Они, как правило, принадлежат волку, временно свободному от клетки, которого на коротком поводке вывели погулять в людное место. Который с затаенной ненавистью, ряженной в сытый прищур, зыркает на весь виноватый в его злоключениях мир. Не доверяйся — обманет, не сближайся — собьет с ног, не протягивай дарящую руку — откусит.
Первый раз он увидел такие свинцовые глаза, когда ему было семь лет. Он возвращался домой мимо сонного полуденного сквера, тихим задумчивым первоклассником Сережей, одетым в мешковатую форму, под гнетом тяжелого ранца, заставлявшего наклоняться по ходу медленного движения.
— Эй, — окликнул со скамейки взрослый парень, похожий на старшеклассника-переростка, — подойди сюда.
Сережа подошел.
— Курить будешь? — парень протянул пачку сигарет. Сережа увидел черную жирную татуировку в виде змеи, уползающей под рукав футболки. — Молодец, что не куришь, — ласково одобрил парень, — курить вредно. Тогда рассказывай, как учишься.
Сергей от чистого сердца рассказал о себе все: про школу, про папу с мамой, про бабушку. Парень смотрел на него ясными водянистыми глазами на загорелом лице, чуть склонив набок коротко стриженную голову. Эти глаза явились новостью для Сережи. Ничего подобного наблюдать еще не приходилось: парень молчал и почти не двигался, а глаза быстро менялись. Из равнодушных они становились вдруг как у мамы — ласковыми и нежными. Затем ни с того, ни с сего темнели, как у папы, когда он не в духе. Затем без всякого перехода наглели — как у уличного хулигана Васьки. А то вдруг будто переворачивались и делались озорными — словно у вокзальной цыганки, которая однажды гадала маме (позже дома обнаружилось, что пропал кошелек). И даже, используя бабушкину лексику, превращались в демонстративно-непорочные — это уже сходство с соседской собакой Шельмой, которая, говорят, ночью ворует кур, а днем, бегая по улице, честно виляет хвостом в адрес обитателей улицы (однажды Шельма, подкравшись сзади, укусила Сережу за щиколотку — просто так).
— А ты в какой школе учишься? — логично спросил Сережа, когда закончил рассказывать о себе.
Парень хохотнул:
— В особой. В спецшколе. Недавно восьмой класс кончил. Это далеко, не здесь. Хорошая такая, понял, школа. Там из таких, как ты, придурков людей делают…
Сережа опешил, внутри что-то оборвалось. (Как потом оказалось навсегда.)
— Ладно, Серый, хватит базарить, — лениво прервал, как будто сам себя, парень, отщелкивая очередной окурок. — Ты это… Много пятерок-то домой несешь?
Сережа закатил глаза, подсчитывая. Парень, смеясь, стал стягивать с него ранец:
— Слова к делу не пришьешь! Покажи.
Сережа подчинился, отдал ранец. Парень порылся в нем, вытащил японскую авторучку, подарок Сережиного папы, и сунул себе в карман:
— Поносить беру. У тебя деньги есть?
Сережа заворожено кивнул. Парень добродушно проговорил, как будто просто посоветовал:
— Так купи мне мороженного. Сдачу не забудь… Портфель пусть здесь полежит.
Через десять минут с мороженным было покончено. Все это время, пока парень ел, глядя куда-то вдаль, Сережа покорно стоял рядом, не смея сесть. Парень встал, потянулся, отряхнулся, скомандовал:
— Пойдем!..
В высоких парковых кустах, возле мусорных контейнеров, парень аккуратно вывернул все Сережины карманы, прощупал подкладки, выгреб всю мелочь. Поинтересовался с заботливым сожалением:
— Что же тебе папка часов не доверяет? Это плохо. — Посоветовал: Скажи папке: людям надо доверять. Иначе как же?…
Он вздохнул, скучающе повертел головой вокруг, спросил:
— Ну, что еще с тебя взять?
Сережа искренне пожал плечами.
— До трусов раздеть или по кумполу твоему умному, что ли, вон тем булыжником хрястнуть?… И в контейнер закинуть?… Будешь лежать, пока не завоняешь. — В голосе печаль и скука сменились праведным негодованием: — А что ты думаешь? Ведь неделями мусор не вывозят, безобразие, антисанитария! Куда исполком смотрит?
Сережа опять пожал плечами.
— Ладно, незнайка, — парень потрепал Сережу по головке, — шутка. Боишься?
Сережа, подняв глаза до уровня живота парня, кивнул.
— Правильно. Это главное. Запомни: испугаешь — пообедаешь. Короче: в понедельник придешь сюда, к нашей с тобой скамейке, принесешь червонец. Понял? То-то. За страх, брат, платить надо… А как ты думал? Ну, иди. Я еще посижу. — Парень закончил тихо, с задушевной меланхолией в водянистых глазах, в которых отразилось полуденное чистое небо: — И это… Про нашу с тобой дружбу — никому. Понял? Если что — поймаю, сам знаешь…
Это были последние слова, которые Сережа слышал от парня. Когда в понедельник он пришел с украденными у родителей деньгами к скамейке, нового друга с водянистыми глазами на ней не было. Сережа прождал до вечера и ушел.
До окончания одиннадцатого класса он пользовался другой школьной дорогой. Если иногда доводилось проходить мимо парка, старался не смотреть на скамейку, немую свидетельницу его позорного страха. Который спровоцировал или выявил — что, впрочем, одно и то же — его принципиальную готовность к низости. Низости — не только к себе, но даже по отношению к самым близким людям. Предел которой, в силу исчезновения причины, страх породившим, остался неизвестен. Ему казалось, что скамейка смеялась… Так продолжалось, пока парк не перепланировали и на месте скамейки не появилась волейбольная площадка.
Джокер балагурил: сыпал комплиментами в адрес соседки, задевал шутками стюардессу. На Сергея, казалось, не обращал особого внимания и лишь время от времени призывал в свидетели своей правоты, что выглядело явным ерничаньем. Сергей тайно продолжал изучать неприятного соседа: плотный, крепкий, резкий в движениях, предрасположенный к неоправданной жестикуляции. За всем этим, вместе с показной веселостью и расслабленностью, прочитывалось напряжение особой природы — постоянная готовность к отпору и нападению. Впрочем, если бы даже Джокер был неподвижен и нем, эту агрессивную готовность выдали бы одни только водянистые глаза, с детства ставшие для Сергея синонимом опасности, которая может породить панический страх, имеющий фантастическую силу.
И все же, больше всего расстраивало то, что Джокер неумолимой препоной отделял Сергея от Ольги. Он был в центре внимания (поэтому центральное кресло выглядело троном), и таким образом эмоционально подавлял Сергея, не давая возможности по своему общаться с соседкой. Сергею позволялось быть только пособником или продолжателем шуток Джокера, порой рискованных, в адрес «одуванчика», как окрестил Ольгу этот наглый шут. Роль не устраивала Сергея, но пределом его протеста являлось лишь поверженное молчание и натянутая улыбка в ответ на назойливые обращения Джокера. Сергею подумалось, что именно сдерживание соседа как мужчины было целью Джокера в его пустопорожнем словесном бенефисе. Но для чего? Для устранения соперника? С упованием на продолжение отношений с девушкой? Вряд ли Джокер мог серьезно на это надеяться: Ольга своим поведением не давала повода для какой-либо надежды. Реакция на шутки была откровенно холодной. Лишь иногда она снисходительно улыбалась, выразительно взглядывая на Сергея. Сергей отметил, что Джокеру такая реакция девушки была неприятна. Шутник нервничал, это было заметно по злым огонькам, мелькавшим в прищуренных от, как могло показаться, хронической веселости глазах.
После сильной вибрации, которая продолжалась минуту, самолет последний раз сильно тряхнуло и бросило вниз. Сергей ощутил, как похолодело в животе и к горлу подкатила противная тошнотворная волна. По салону пронесся общий тяжелый вздох. Ольга откинулась на спинку кресла и прямо-таки божественно закрыла глаза.
— Воздушная яма, бабоньки, — нарушил смятенное молчание Джокер, обращаясь к Ольге. — В такие моменты можно и арию Блевонтино спеть нечаянно. Из оперы Рыголетто. У меня аж в одном месте защемило. А у вас как?… Страшно?
— Нет, — очнувшись, сухо ответила Ольга и опять выразительно посмотрела на Сергея, — просто противно.
Джокер закашлялся, словно курильщик со стажем. Хотя, как он ранее похвастался, рассказывая «немного о себе», три года назад завязал с пагубной привычкой. В конце концов, закрыв пол-лица большим, размером с косынку, носовым платком и выпучив глаза, с кряком выдавил из себя мокроту. Не обращая ни на кого внимания, облегченно высморкался.
— Напрасно, — с недоброй интонацией выговорил, точнее, с натугой прохрипел Джокер, промокая глаза уже другим, тоже необычно большим носовым платком, который извлек и второго кармана. Было заметно, что слова после кашля давались ему с трудом. В груди еще скрипело. — Зря, я говорю. Иногда полезно бояться. В природе уцелевают только те, у кого развит инстинкт самосохранения. — Он вымученно засмеялся: — У меня по природоведению пятерка была!
Некоторое время Джокер увлеченно рассказывал о рациональном поведении животных. О том, что внутри одного вида победитель не добивает поверженного соперника — достаточно зафиксировать победу, став обладателем самки или лакомого куска; уничтожение же хищником травоядного оправдано необходимостью питаться. И так далее. Слушая этот примитивный монолог, Сергей пришел к выводу, что заставлять окружающих слушать известные, а порой и просто избитые, истины, было одним из методов самоутверждения Джокера. Который не мог не чуять молчаливого раздражения слушателей, но, видимо, именно это и доставляло ему удовольствие.
Декламируя выдержки из учебника по природоведению, Джокер жестикулировал. Чем дольше он говорил, тем размашистей становилась амплитуда его жестов. Чтобы не быть задетыми, Сергей и Ольга старательно отстранялись от рассказчика, и скоро уже сидели прижатыми к противоположным от Джокера сторонам своих кресел.
— Страх великое дело, — продолжал Джокер, казалось, не замечая неудобств, которые причиняет слушателям. — Вот взять атомную бомбу…
Переход от мира животных к военной тематике уже был определенным облегчением для слушателей — Ольга и Сергей понимающе улыбнулись друг другу. Джокер заметил это и, чтобы показать, что он понял смысл их общей улыбки и контролирует ситуацию, сказал, выделяя интонацией фразу, как всего лишь отвлечение от генеральной темы:
— Между прочим, про некоторых женщин говорят: да она страшнее атомной бомбы!.. А, скажи, ты ведь знаешь, — он опять призвал Сергея в свидетели, и после этого быстро повернулся к Ольге, поясняя: — Про некоторых кажется эталон красоты. А разденешь — ну, бомба, в натуре, страх божий. — Довольный эффектом — девушка отвернулась к иллюминатору, а у Сергея улыбка сменилась кислой гримасой на покрасневшем лице, — Джокер откровенно засмеялся. Дескать, не обижайте меня, а то еще больше сконфужу. Победно продолжил: — О чем мы там говорили? Ах, да — об атомной бомбе. Так вот. Все знают, что вряд ли когда-нибудь кто-то сознательно ее применит — страшно. То есть, угроза применения бомбы это, как говорят карточные «кидалы», блеф. Но этот блеф творит, в принципе, великое дело, — Джокер надул щеки, сделал паузу и напыщенно закончил фразу, почти пропел: — дело мира!.. — И, как для манеры его разговора, оказывается, являлось типичным, в конце фразы хохотнул: Дело мира живет и процветает!
— Но бомба это частности, — назойливо продолжал Джокер после паузы, суть же в том, что миром, оказывается, управляет страх. Вернее, — он напрягся, подбирая слова и докончил предложение почти по слогам, — страх делает высоким уровень терпимости цивилизованного общества. Терпимости, которая порождена — внимание, дамы-господа! — порождена — ха! — его величеством животным страхом.
Он повертел головой, любуясь реакцией Сергея и Ольги, и не найдя в их мимике безоговорочного согласия, перейдя на шепот, преложил:
— Хотите эксперимент?
Не дожидаясь ответа, Джокер приподнялся в кресле, с грациозной пластичностью, как фокусник или вор-карманник, мягко вытянул изогнутую руку и щелкнул по затылку сидящего перед Сергеем пассажира. Это было настолько неожиданно, что Сергей не успел правильным образом отреагировать. Впрочем, что следует делать, имея перед собой, в просвете двух кресел, гневное лицо человека, которому только что щелкнули по макушке, Сергей, разумеется, никогда не знал. Он скосил глаза на Джокера. Джокер полулежал с безмятежным видом дремлющего мирного гражданина: глаза закрыты, нижняя губа — признак глубокого сна — оттопырена. На веках классическая татуировка: «Не буди». От растерянности Сергей, отвечая на вопросительный, обезображенный яростью взгляд мужчины, просто пожал плечами. Это выглядело как издевательство совершившего хулиганскую выходку над униженной жертвой. Мол, ничего страшного, гражданин, так получилось (интонация Джокера). Кончилась немая сцена тем, что возмущение сменилось смятенной обиженностью и гражданин отвернулся. За всем этим удивленно наблюдала Ольга, которая, судя по вздернутым бровям, тоже была шокирована выходкой Джокера.
— Ну, вот, — прошептал Джокер, открывая глаза, — убедились? А если бы он не вытерпел? Конкретнее: если бы не струсил? Что тогда? Война? Мордобой? То-то же!.. Валерка знает, что говорит. Хотите еще раз? — он обозначил движение вперед. На этот раз Сергей непроизвольно схватил его за плечо. Джокер громко засмеялся: — Ладно, ладно, шучу! — И вдруг резко стряхнул с себя ладонь Сергея и перестал улыбаться: — А это, — обратился он к Ольге, кинув косой небрежный взгляд на свое плечо, — пример того, как даже робкие люди могут в критических ситуациях мобилизовываться. Наша с вами задача, мадам Одуванчик, вовремя ставить таких людей на место. А пока я, с вашего позволения, схожу в туалет.
Когда Джокер ушел, Сергей поймал на себе жалеющий взгляд Ольги. Это было неприятно. Он не знал, как себя вести. Ольга подала голос, прервав неуютную паузу:
— Не расстраивайтесь, Сергей!.. Будем считать, что нам с вами просто не повезло сегодня. — Слегка смутившись неоднозначности сказанного, пояснила: — Не повезло с соседством. Скоро прилетим. И забудем этого шутника.
Шутник, как будто услышав, быстро напомнил о себе: в хвосте самолета он громко оправдывался перед стюардессой. Суть претензий хозяйки салона заключалась в том, что она уличала Джокера в курении в туалетной комнате. Джокер, дурачась, приводил нелепые доводы, но когда стюардесса затребовала у него паспорт, пригрозив командиром корабля, стюардами и милицейским нарядом в аэропорту назначения, сник. Отдав паспорт, вернулся на место. Усаживаясь, крикнул вслед стюардессе:
— Вы мне лучше парашют дайте, я сойду!..
Все невероятным гармоническим образом сплелось: парашют, испуг, Одуванчик…
Сергей вспомнил… Ему было лет двенадцать. Он ехал на велосипеде по направлению к загородному аэродрому смотреть, как спортсмены прыгают с парашютами. Еще от города было видно — самолеты рожали россыпи икринок, превращавшиеся в маленькие зонтики, похожие на семена одуванчиков, которые далее, увеличиваясь по секундам и превращаясь в лилипутские фигурки под цветными куполами, падали где-то за грядой лесопосадки.
Когда он обгонял трактор, ползущий по сырой проселочной дороге, заднее колесо велосипеда занесло в сторону. Последовал удар, который перевернул небо. За провалом в темноту, где-то совсем близко, — сильный скрежет и лязг.
…Сергей поднял голову и обнаружил себя распластанным, вниз животом, между медленно ползущих гусениц, одна из которых давила, как хворост, раму его велосипеда.
Бульдозер остановился только, когда тракторист увидел в зеркале заднего вида лежащее на дороге тело. Выскочив, он поднял Сергея с земли, встряхнул, и, убедившись, что мальчик невредим, наотмашь ударил его по испачканному мазутом и землей лицу. Затем прижал голову Сергея к своей промасленной робе и, трясясь всем телом, громко, как ребенок, заплакал. Заплакал и Сергей. Тракториста покинули силы и он, не отпуская Сергея, повалился в рыхлую колею. Так они и лежали некоторое время, размазывая грязь по сморщенным лицам, воя в небо, с которого, казалось, прямо на них, летели парашютисты.
— Красавица, — окликнул Джокер проходившую мимо стюардессу, — верни паспорт! Я за это объяснительную командиру напишу, можно?
Стюардесса усмехнулась и ответила сухо:
— Как хотите. А вообще-то, я же вам объяснила, что разбираться будем на земле.
— Так жестко же будет!.. — Джокер, скорчив глупую мину, потянулся к иллюминатору, якобы с целью рассмотреть эту самую землю, на которой предстоит разбираться со стюардессой.
Стюардесса ушла не оценив остроумия. После этого Джокер обратился к соседям:
— Тоже мне, международные авиалинии. Образцовый рейс! Борцы с курильщиками. Но почему именно нас решили сделать застрельщиками нового метода борьбы с недостатками в Аэрофлоте? Друзья, не хочется начинать свой заслуженный летний отдых на Черном море со знакомства с сочинскими мусорами. Теперь придется нам с вами объясняться с блюстителями порядка, характеризовать меня с лучшей стороны. Оля и Сергей, призываю вас в свидетели. Кто же кроме вас всем им расскажет, что я хороший парень? Нет, главное, почему начали с нас?!
— Валерий, а я, кстати, не курю, — возразила Ольга. — Почему вы оперируете множественным числом? — Она демонстративно выглянула из-за Джокера: — А вы, Сергей, курите? Тоже нет? Ну вот видите, — опять наигранно, с преувеличенным сочувствием, обратилась к пострадавшему курильщику, — нам с вами не по пути. Мы с вами, извините, в милицию не пойдем. Правда, Сергей?
Это была первая активная реакция Ольги на надоедливое поведение Джокера. По веселой интонации можно было заметить, что она довольна поражением Джокера в поединке с принципиальной самолетной труженицей. Войдя во вкус, Ольга пояснила:
— И дело не в нашей трусости. Дело в справедливости. Кстати, я в отличии от вас, полагаю, что, все-таки, миром правит не страх, а здоровый соблазн, любовь и стремление к справедливости. Впрочем, это так, ремарка, и к тайному курению в туалетах отношения не имеет.
— Ай да Одуванчик! — Джокер разочарованно покачал головой и тоном учителя назидательно выговорил Сергею: — Серый, никогда нельзя полностью доверяться женщинам. Запомни на всю жизнь. Ты к ней, к бабе, как к гомо-сапиенсу, а она в самый ответственный момент — кинет, заложит, как последняя… Да я уже, кажется, объяснял, как бывает: снаружи богиня, а разденешь — атомная бомба!..
Он вдруг осекся и глянул на часы:
— Сколько нам еще лететь?
Ему никто не ответил. Видно было, что он что-то задумал, поэтому разговаривал сам с собой:
— Еще полтора часа? Ничего, успеем повеселиться.
Джокер вынул потрепанный блокнот, открыл чистую страницу. Поднял кулак над головой, таким образом привлекая к своим действиям внимание Сергея и Ольги, громко щелкнул — в кулаке оказалась авторучка, видимо, самопальная, похожая на обыкновенный, только никелированный, гвоздь. Многозначительно глянул на каждого из соседей и, отведя ладонь с блокнотом подальше от себя, так, чтобы было видно зрителям, крупно написал: «Командир, я думаю, что мы летим не в Сочи, а в Турцию. Бомба в багаже. Дистанционка в кармане. Мое место в хвосте, контролирую весь салон. Соблюдаем спокойствие. Экипажу (мужчинам) ко мне не приближаться, пассажирам (заложникам) мою информацию не доводить. Переговоры через стюардессу. Джокер.»
Джокер, наслаждаясь реакцией Сергея и Ольги, выдержал долгую паузу. Затем перевернул лист и написал в углу: «Шутка».
— На что вы надеетесь? — спросила Ольга. — Ведь за такую шутку можно…
— Ни на что, — простодушно ответил Джокер. — Просто хочу им, козлам, андреналин подпортить, пусть шугнуться.
— Что подпортить? — борясь с улыбкой переспросила Ольга, опять многозначительно глянув на Сергея.
— Андреналин. Им несколько минут страха — а мне за это, соответственно, столько же минут, и даже больше, кайфа. Это известная формула: когда один боится — другой в это же время непременно ловит кайф. Такое особенно наглядно где-нибудь в замкнутом пространстве проявляется. В камере, например. Когда возможности для получения иных удовольствий сильно ограничены. — Здесь Джокер картинно закатив глаза и томно вздохнув, успешно спародировал интонацию Ольги: — Это ремарка!.. — и закончил своим прежним тоном, по-прежнему дурашливым: — А что касается экипажа, то потом прочитают: «шутка». Ну, поругают немного, поорут — опять же мне бальзам на душу за нанесенное оскорбление в районе туалета. — Он нажал кнопку вызова стюардессы, подмигнул Сергею: — Запускаем.
Стюардесса подошла с бесстрастным лицом. Джокер протянул ей сложенный вдвое листок:
— Объяснительная капитану лайнера. Лично в руки. Чистосердечное признание. В обмен на паспорт.
Стюардесса хмыкнула и отошла.
Сергей приготовился к новому акту комедии. Последние минуты вернули ему сильно подпорченное соседством с Джокером настроение. Получается, Джокер не так страшен, как вначале померещился. Точнее — просто смешон. А Ольга, оказывается, не просто красивая девушка, но еще и смелый, интересный человек, и, что касается отношения к Сергею, возможно…
Появление стюардессы показалось неожиданным. На этот раз она выглядела далеко не бесстрастно. Легкости и строгости как не бывало. Губы растянуты в нервной подрагивающей улыбке (куда делась профессиональная, нарисованная). Она подошла с подносом, на котором россыпью лежали конфеты-леденцы. Угостив для вида пассажиров на соседних креслах, она задержала поднос над коленками Джокера. Слегка наклонилась и передала Джокеру его паспорт. Вполголоса доложила, обращаясь почему-то не к Джокеру, а сразу к троим:
— Мы принимаем ваши требования.
Сергей заметил, как у Джокера вытянулось лицо и округлились глаза. Он явно не ожидал такого поворота. Сейчас глаза казались не водянистыми, а голубыми, при этом победно сверкали. От искреннего волнения он даже прикрыл веки на какое-то время. Затем нервно засмеялся и крепко схватил Сергея и Ольгу за локти.
— Ребята, ребята, я рыдаю от счастья!.. Наконец-то! Наконец-то свершилось, и скоро я смогу обнять соратников из мусульманской мафии и моего настоящего дедушку-турка! — Видно было, что он тянет время ничего не значащими фразами для того, чтобы взять себя в руки.
Сергей и Ольга были в смятении, не понимая той легкости, с которой прошла, причем, по-видимому, более чем серьезно, очередная глупость Джокера. Пассажиры с соседних кресел повернулись в их сторону.
Стюардесса вмешалась громким шепотом:
— Вы же сами написали, что пассажиров не беспокоим.
— Да-да, — тоже перешел на шепот Джокер. — Куда летим? В Стамбул?
— Может быть, даже в Анкару. Аэропорт назначает принимающая сторона, торопливо объяснила стюардесса. — Только… горючее на исходе. Все же придется сесть в Сочи для дозаправки.
— Хорошо, хорошо, — усиливая горячий шепот кивками головы, быстро согласился Джокер, — валяйте. — И для контраста очень громко добавил: Спасибо за конфетки, красавица! — давая понять, что сеанс связи закончен. Стюардесса отошла.
— Отдайте руку, — грубо высвободилась Ольга, — тоже мне, турецко-подданный.
Джокер вытер пот со лба:
— Фу, ты!.. Это их обычные антитеррористические штучки: горючее на исходе. Для фраеров. Но нам это кстати. А то бы и вправду со страху сразу в Турцию двинули. Тогда бы точно — срок. Ничего, — он обратился к Ольге, — не бойтесь, минут через двадцать во всем признаемся, а пока воспользуемся моментом, попросим успокоительного.
— Пожалуйста, — взмолилась Ольга, — избавьте нас от своей чудной компании! Сейчас подойдет стюардесса, и я сообщу, что мы с Сергеем ни причем!.. Как я сразу не догадалась сказать. Признаться, растерялась. Нечасто приходится сталкиваться с такой самодеятельностью. — Она обратилась к Сергею: — Ей-богу, Сережа, не хочется выглядеть сумасшедшей даже в течение двадцати минут! И если что меня и сдержит, то это полнейшая брезгливость ко всему тому, что происходит, и нежелание доказывать кому-то, что я не верблюд. Нет, действительно, Сергей, пусть этим занимаются сами клоуны. Когда придется отвечать по полной программе…
Джокер, казалось, не слышал ее. Он опять нажал на кнопку вызова. Стюардесса появилась мгновенно, как из-под земли.
— Красавица, принеси-ка нам, будь великодушна, бутылочку коньячку и шоколадку. За наличные.
Через минуту на откидном столике перед Джокером стояла бутылка коньяка с тремя рюмками, пластмассовая ваза с шоколадом и апельсинами.
Несмотря на уверения стюардессы, что угощение — презент от авиакомпании, Джокер аккуратно расплатился, демонстративно хрустнув новенькой неразменной купюрой, — чтобы видели соседи, — получается, дал на чай. Вполголоса прокомментировал, когда стюардесса отошла: «Дабы потом не пришили вымогательство», — и добавил, нервно подмигивая: «Валерку на мякине не проведешь!» Стюардесса, по-видимому, тоже не являлась почитательницей мякины и быстро принесла сдачу. Несмотря на протесты Джокера, как бы невзначай показала деньги почти всему салону, и только потом положила их на столик и вполне достойно удалилась.
— Угощайтесь жиденьким, — по-хозяйски, откупоривая бутылку, пригласил Джокер Ольгу.
Девушка, тяжело вздохнув, отвернулась и уткнулась в тонюсенький журнал, торопливо извлеченный из пружинистой сетки переднего сиденья.
— А тебе не предлагаю, — с явным пренебрежением объяснил Джокер Сергею. — Выпьешь — осмелеешь. А смелого я только себя люблю. Ешь апельсины, мальчик. Небось штанишки промочил?… — И опять к Ольге: — Что там написано про устранение желудочных недомоганий — понос, недержание?… — Джокер разошелся и уже, видно было, мало утруждал себя необходимостью оставаться в рамках приличия.
Даже Ольга, оторвавшись от журнала, удивленно глянула на Сергея. Именно на него, а не на Джокера. Сергей задохнулся и густо покраснел.
Джокер торопливо выпил подряд три рюмки и только после этого взялся за шоколад. Перегнулся через Сергея и, влажно чавкая, пояснил пожилой пассажирке из соседнего ряда, внимательно за ним наблюдавшей:
— Не беспокойтесь, мамаша, это нам принесли за дополнительную плату. Заплатите — вам тоже принесут, как в бизнесс-классе. Вам налить? Вы коньяк употребляете, а? На халявку-то, а?
Женщина обиженно отвернулась.
Вскоре выяснилось, что во хмелю Джокер становился еще более безобразным: наглым, дерзким, агрессивным. От веселости, пусть даже показной, не осталось и следа.
Он быстро приговорил бутылку и распоясался окончательно. То и дело вызывал стюардессу, принуждая ее, как нерадивую школьницу, выслушивать нравоучения о необходимости быть вежливой и о том, что в приличных лайнерах должны быть кабины для курения и даже… — он многозначительно поглядывал на Ольгу, — и даже для уединения влюбленных. Затем он заявил, что еще подумает над предложением капитана о дозаправке в Сочи. Он прекрасно знает, что в Сочи самолет встретит группа захвата, что переговорщики будут пудрить ему мозги, пока снайпер не прострелит ему голову вместе с этими самыми запудренными мозгами. Кстати, продолжал Джокер, ситуация изменилась и ему необходимо лично поговорить с капитаном, посмотреть ему в лицо. Немедленно вызовите капитана по переговорному устройству!.. Тут он объяснял Сергею и Ольге, что экипаж сейчас, согласно инструкции, задраил все двери, и что бы здесь не случилось, пилоты и разные там штурманы ни за что не покажут носа до самого приземления, вот она хваленая «воздушная» смелость, аэрофлотовское благородство. Опять переключался на виноватую стюардессу и заговорщицки, но требовательно, предлагал показать ему, где находятся потайные кнопки для подачи экипажу сигналов тревоги. Он даже поводил ладонью по пластмассовой обшивке возле иллюминатора. В конце концов Сергею и Ольге он заявил, что устал притворяться перед ними, перед разной швалью, что он настоящий террорист, а вот и дистанционка (он продемонстрировал какой-то извлеченный из-за пазухи брикет, завернутый в полиэтилен и перетянутый резинкой).
Он говорил настолько убедительно, что Сергей начал сомневаться: действительно ли поведение Джокера — глупый розыгрыш? Подобное сомнение овладело и Ольгой. Когда Джокер отворачивался, она делала Сергею знаки, давая понять, мол, на всякий случай нужно быть поосторожней. Действительно, думал Сергей, пусть будет, как будет. Терпеть осталось недолго. Но…
Но глядя на себя со стороны, на свое бессилие перед хамством, он понимал, что точно такими же глазами на него смотрит и Ольга.
Сергей понимал, что как бы не завершилось это издевательство одного человека над многими, в том числе и над ним (а что это издевательство завершиться, причем, завершиться поражением Джокера, не вызывало никакого сомнения), — каким бы ни был исход этой трагикомедии, Сергей уже никогда не будет по-настоящему обладать этой красивой девушкой, которая видела его трусливое бесславие. Даже если вдруг случиться чудо: Ольга, простив Сергею малодушие, останется с ним, — то сам Сергей никогда не забудет этого позора.
Он опять вспомнил случай с трактором на проселочной дороге.
…Сергей потом часто думал: от чего плакал тракторист? Причина собственных слез была почти понятна: сам Сергей ревел из жалости к пропавшему велосипеду и от перспективы того, что обо всем нужно будет рассказывать родителям. Ну, может быть, еще и от того, что был потрясен картиной, доселе им невиданной — рядом плакал взрослый человек… Страха за себя, ни тогда, под трактором, ни после, когда прокручивал памятью этот короткий, но достопримечательный жизненный эпизод, не было. Взрослея, Сергей приходил к выводу, что после встречи на заре жизни с тем парнем со свинцовыми глазами, когда он испытал сковывающий ужас, исходивший от человека, — всякое иное насилие не задевает его дух, не ранит его эго.
Эта мысль окончательно сформировалась, став внутренним открытием, гораздо позже, после массовой студенческой драки, общежитие на общежитие, когда Сергей, будучи частью толпы, пострадал от такой же толпы. Он лежал в студенческой больнице с проломленным черепом и, анализируя побоище и свои собственные результаты в этом массовом действе, с удивлением ставил знак равенства между стихией природы и стихией толпы: то и другое смертельно, но — неодушевленно. Вот почему не страшно в стаде против стада, не страшно сейчас здесь, в больнице, как не страшно было и под гудящей, лязгающей машиной… То есть нет стыда, порожденного страхом жертвы, позора перед тем, кто тебя подавляет. Ведь позор — от слова зреть. А раз подавляет незрячая стихия, значит и нет позора.
Сергей поймал себя на мысли, что вся его предыдущая осознанная жизнь, начиная от встречи с жутким парнем у парковой скамейки и кончая данным часом, была борьбой, безуспешной, с тем комплексом страха, который уродливым наростом привился в семилетнем возрасте. Если не умалять того, что впоследствии пришлось испытать, то можно сказать, у Сергея было достаточно событий, которые могли бы помочь стряхнуть с себя ужасный груз детского страха, всю жизнь пригибающего к земле, подобно тяжелому ранцу. Чего стоят лишь некоторые из них!.. В стройотрядовский год он заблудился в тюменской тайге, трое суток без пищи, едва не утонул в болоте… Обессиливший, вывинчивался из гиблой трясины, пел песни, хватаясь за ветки чахлой березки, смеялся… Стоял вместе с ротой таких же юнцов на полосе, разделяющей две кавказские деревни, которые века жили вместе и вдруг решили повоевать, стреляли с обоих сторон, пули свистели одинаково… Тоже не было страха. Но стоило столкнуться с агрессивно настроенной личностью, и он терялся: какой-то гигантский клещ сжимал горло, пил кровь, отнимал волю…
Что еще нужно испытать, чтобы избавиться от этого липучего, потливого недуга, отравляющего жизнь, в конфликтных ситуациях делающего из него покорное существо?
Самолет шел на посадку. Джокер, икая, пытался гладить Ольгу по плечу, норовя задеть грудь. Ольга освобождалась от его руки, стараясь делать это как можно мягче. Наконец Джокер разозлился, водянистые глаза приняли волчье выражение, он дико осклабился:
— Слушай сюда, сучка!.. Сиди и не дергайся! За себя не боишься, пожалей самолет: дистанионка срабатывает от нажатия, от вибрации. Трепыхнешься — замкнет!.. — Он даже осторожно наклонился вперед, подвигал плечами, видимо, проверяя безопасное положение пульта дистанционного управления во внутреннем кармане.
Ольга гневно смотрела перед собой, крылья носа вздувались от ярости, из глаз редким, но энергичным пульсом выворачивались крупные капли и катились по пылающим щекам. У Сергея сжались кулаки. Несмотря на хмель, звериным нюхом почуяв опасность, Джокер повернул к нему страшное лицо и, уверенный в подавленном состоянии соперника, даже не двинул рукой. Только дважды шоркнул щетинистым подбородком по своему плечу, будто ножиком по оселку, и прошипел зловеще:
— Ша!.. Ублюдок…
Он опять занялся Ольгой. Подул ей в ушко. Правой рукой, облокотившись на спинку кресла, поиграл серьгой, имевшей форму большого кольца: щелкал по золотому кружку указательным пальцем, затем стопорил этот драгоценный маятник и, продев в отверстие мизинец, легонько загибал его на себя, оттягивая мочку, показывая, что при желании может рвануть. Спустя время положил ладонь на коленку девушке и, убедившись, что она никак не реагирует, медленно полез под юбку.
У Сергея бешено колотилось сердце, но кровь уходила куда-то в ноги, забирая последние мускульные силы от шеи, от плеч. Он больше не мог смотреть на все это, голова бессильно отвалилась на спинку кресла, он закрыл глаза. Вдруг раздался звонкий хлопок. Это Ольга, отпрянув, залепила Джокеру пощечину. Джокер почти мгновенно, видимо, автоматически, отреагировал ударом кулака в лицо девушке. Чуть смазал, иначе бы удар закончился нокаутом. Вскрикнув, Ольга откинулась на иллюминатор, хлопковые локоны взлетели к покатому потолку. И тут же, привстав, насколько было возможно, ловко преодолев межкресельную тесноту, невероятным образом, как гигантский страус, задрала длинную красивую ногу, с которой слетел босоножек, и пружинисто выпрямила ее, угодив пяткой в челюсть Джокера. Джокер отпрянул назад, придавив Сергея спиной. Сергей ощутил немалую силу этого человека, исходящую от крепких, каучуковых мускулов, которые упруго взорвались под одеждой. Джокер взвыл и метнулся с вытянутыми руками на Ольгу, с намерением схватить ее за горло. Самообладание вконец покинуло взбесившегося зверя.
Но девушка решительно опередила Джокера: и не пытаясь увернуться, вдруг резко подалась вперед и крепко, обеими руками, по-борцовски обхватила шею Джокера, как пылкая влюбленная притянула бычью голову к своему лицу и сразу же вцепилась зубами в ненавистный нос. Сергею показалось, что при этом что-то хрустнуло. От внезапной, видно, нестерпимой боли Джокер отпустил руки и забил, захлопал ими, как курица, у которой прищемили клюв. В это время Ольга, как заправский борец, откинулась вместе с Джокером на кресло, завалила его на себя, переведя схватку в полугоризонтальное состояние. Вдобавок она, несмотря на тесноту, изловчилась закинуть одну из своих ног на спину Джокеру, таким образом еще сильнее притиснув соперника к себе. Джокер, стоя на коленках, плотно прижатый к женскому телу, продолжая выть и трепыхаться, зашарил у себя по карманам, явно пытаясь нащупать предмет, который мог бы помочь ему освободится от болючей, мертвой сцепки. Он продирался рукой к внутреннему карману в котором, Сергей это запомнил, находилась металлическая авторучка, похожая на гвоздь. В какой-то миг Сергею показалось, что Джокеру удалось вытащить из-под своего тела нужный предмет. Мускулистая рука отлетела в сторону — и… на кресло упала всего лишь смятая записная книжка вместе с носовым платком. Джокер возобновил попытку. Это было уже слишком…
У Сергея закружилась голова.
…Парень с водянистыми глазами… «пятерка» — низкий рейтинг дамского внимания… гусеницы трактора, давящие велосипед…обезумевшая, безжалостная толпа, молотящая все живое… гиблая трясина…. стреляющие кавказцы… смеющаяся скамейка… Джокер… улетающая в небо длинноногая синяя стюардесса — птица удачи… метрвенно бледная, неживая Ольга, жалеющая его… страх, стыд, позор!..
…Кричали пассажиры, визжала стюардесса… Сергей понял, что обморочное затмение продолжалось секунду. Сейчас он избавится от наваждения, преследующего его много лет и уродливо разрастающегося год от года. Сейчас он станет другим.
Как запрограммированный, казалось, не думая, лишь заранее зная, что нужно, он наклонился, нащупал в ногах пустую бутылку из под коньяка, встал над шумной схваткой. Переложил сосуд в левую руку, несколько раз провел правой ладонью по брючине, осушая кожу от пота. Взялся за горлышко покрепче, даже покрутил в кулаке, проверяя хватку. Тщательно прицелился и, с коротким замахом, резко ударил Джокера стеклянным торцом по темени. Джокер обмяк.
…Стюарды связали Джокеру руки за спиной салфетками. Нос его обильно кровоточил. Ольгу рвало в туалете, в котором никто не догадывался закрыть дверь.
Стюардесса успокаивала повскакивавших с мест и галдящих пассажиров. Объясняла, силясь перекрыть гвалт:
— Успокойтесь, господа! У него муляж!.. Пульт дистанционного управления — это просто пакет с деньгами! Мы знали, что этот пассажир шутит!.. Но командир решил — на всякий случай!.. Успокойтесь! Гражданин, сядьте на место, мы контролировали и контролируем ситуацию! Мы даже спецназ не заказывали — только обыкновенный милицейский наряд. Что значит сдурели? Выбирайте выражения!.. У нас инструкция! Даже если муляж, шутка — все равно! Выполнять требования! На земле нужно было разбираться! На земле!.. Но сообщники перепились, передрались… Ну, я не знаю… И сами друг друга обезвредили. Рассаживайтесь, муляж, муляж. Да садитесь же!.. Пристегнитесь, мы уже давно идем на посадку!
Самолет приземлился. В это время Джокер пришел в себя. Заплакал. Он сидел в проходе посреди салона и по-собачьи мотая головой, размазывал красные сопли и слюни — по груди, по воротнику. Видно было, что это привычные для него движения: утираться, когда руки за спиной. Причитая, задирал голову, закатывал невидящие, полные слез глаза, в потолок:
— Командир!.. Шутка, в натуре! Посмотри ксиву!.. Там же на обратной стороне накатано: шутка! У меня же и кликуха такая — Джокер, шутник значит! Что ж вы всему верите и всего боитесь, трусы позорные! Что ж я теперь, ни за хрен собачий по новой сидеть, что ли, буду! Я ведь даже не погулял еще!.. Приехал, блин, на юг позагорать! Семь лет солнца не видал! Туберкулез конечной стадии!.. Командир! Начальничек!.. Шуток не понимаете! Эх, е-мое!..
Он опять, как в прошлый раз, надолго закашлялся.
Покачиваясь, подошла Ольга, держась за лицо, все еще мокрое. Сергей встал, пропустил ее мимо себя. Она бессильно опустилась в среднее кресло, где еще недавно бесновался Джокер. На белых щеках дотлевали нервные красные пятна. Отмытые от туши белесые брови и ресницы неузнаваемо изменили глаза. Рассветало. Самолет стоял на асфальтовой твердыне и облегченно глушил последние звуки в натруженном теле. В утреннем свете, матово сочившемся из иллюминатора, Ольга виделась другой, не такой, как ночью. Она виделась родной, домашней. Ей сейчас шло только одно одеяние — фланелевый халат. Однако вместо халата было нечто похожее на распашонку, заляпанное, в розовых пятнах, с оторванными пуговицами (в роли единственной застежки — булавка, сцепившая края ткани в области лифчика), — когда-то белоснежная блузка, в данный момент просто запахнутая снизу, как кимоно у самбиста, и заправленная в треснувшую по шву, от и до, белую юбку. Она была босиком. И не пыталась обуться.
— А вдруг бы у меня не слетел босоножек?..
— Что? — не понял Сергей.
— Я могла выбить ему глаз. Каблуком.
Сергей улыбнулся:
— Как говорит наш общий знакомый: тогда бы уж точно — срок!
Он разглядел в иллюминатор милицейскую машину с проблескивающим маячком, которая обгоняла медленно ползущий трап. Все становилось на свои места: пассажиры почти успокоились — застегивали сумки, поправляли прически, разговаривали с детьми. Стюардесса ушла к пилотам. Даже Джокер затих и лишь изредка покашливал и шмыгал поврежденным носом. Сергей спросил, удивляясь собственной смелости:
— Когда все это кончится, где я смогу тебя найти?
Ольга улыбнулась, отняла руку от лица, на котором угасал румянец, но проявлялся синяк, и кивнула в иллюминатор:
— Во-первых, неизвестно, чем это кончится. Думаю, что нам еще придется некоторое времени провести рядом. А вообще-то… — ее брови виновато приподнялись, она осторожно погладила Сергея по ладони, — меня встречают… Сережа, вы хороший.
Сергей понимающе покачал головой, даже не пытаясь улыбкой скрыть сожаление, и сказал после паузы, как будто заканчивая фразу, начатую в себе:
— Просто мне кажется несправедливым, когда значительное, потрясающее событие завершается никак…
— Попробую вас успокоить, сударь, — Ольга перешла на шутливый тон, невольно вторя интонацией былому, оптимистичному Джокеру, который сейчас повержено сидел в проходе, уткнувшись травмированной головой в одно из кресел. — Картина, которую вы нарисовали, излишне печальна. Ничто не проходит зря. Тем более, как вы говорите, — значительное, потрясающее. Хотя бы потому, что таковое непременно остается… — она сложила большой и указательный палец клювиком и легонько ткнула им Сергею в грудь.
— Где? — принимая тон, попытался уточнить Сергей. — В душе или в сердце?
— И в душе, блин, и в сердце, в натуре, и в голове!..
Милиционер с шумящей рацией на боку, перешагнув через окончательно увядшего было, но теперь опять слабо захныкавшего Джокера, остановился возле истерично хохочущей парочки: парень хватался то за голову, то за грудь. Девушка в забрызганной кровью кофточке радостно хлопала в ладоши, и периодически, раздвигая красивые коленки, старательно сплевывала на пол, к босым ступням.
— Эти? — спросил милиционер у стюардессы.
Стюардесса кивнула и закатила глаза:
— Дурдом. Они все трое ненормальные.
МИДИИ НЕ РОДЯТ ЖЕМЧУГ
1. Ихтиандрик
— А это что там, белое, вроде пены? — спросил Николай у начальника лодочной станции, по всей видимости, хронического почитателя Бахуса, чей виноградно-кислый дух насквозь пропитал деревянную будку с обшарпанной вывеской «Прокат».
— Мидии, — коротко ответил лодочник, обмахиваясь засаленным журналом и влажно моргая, — плантации. Белое — поплавки. Брать что будете — лодку, велосипед?
— А сколько до них?
— До мидий? Миля. На лодке, без опыта, спина в мыле, — полчаса.
— Беру лодку. На сто двадцать минут.
— Ну-ну… — лодочник лениво качнул подбородком в сторону причала: Вон ту, красную, — и слегка посуетился, нахмурив брови: — Только осторожно!.. А то отвечай за вас. Потом скажите — не проинструктировал. Если что, я вас туда не сватал. — Он раскрыл регистрационный журнал и, напялив на красный нос очки с грязными стеклами, возвестил тоном армейского командира, почти прокричал: — За вторые буи не заплывать!.. Спасательный жилет даю, как инвентарь. Все понятно? — Он повертел головой, как бы ища свидетелей, и перешел на нормальную речь: — Нырять умеешь? За крупными глубже. Сверху — фраера давно ободрали, мелочь одна. Отваришь, поджаришь в масле, и с пивом — м-мм!.. Деликатес — во!.. — И уже вдогонку, когда Николай отчалил от дощатой пристаньки: — Рубашку надень, сгоришь!..
Сегодня утром, выйдя к морю, Николай быстро разделся, сложил купальные принадлежности возле обтянутого выгоревшим тентом солнцезащитного гриба, стоящего в стороне от вороха прибрежного сервиса — дощатого солярия, плотного ряда пластмассовых шезлонгов, обращенных к морю, и беспорядочного посева одинаковых лежаков. Наверное, правильнее было начать с привыкания: все-таки, трансконтинентальный перелет, за пару часов из средней полосы к средиземноморью, — одно это уже удар по организму. Например, можно, надев очки «хамелеоны», посидеть в тени: час «медитации» — внутреннего сосредоточения в изменившихся условиях, осознания себя равноправной частицей нового мира (потеснись, природа — люди и пространство, — я пришел взять то, что мне полагается), — и коже не смертельны супердозы ультрафиолета, беспечным мышцам — судороги, душе — …
Но душе…
Да, «но душе!..» Это его врожденный «пунктирный» изъян: периоды озарения, дара рационального предвидения, когда наитие духа, награжденного генным опытом, позволяет безошибочно просчитывать будущие шаги, из возможных разветвлений пути выбирать наилучшее, — эти периоды недолговременны, с гигантскими паузами-провалами… Их короткая жизнь, увы, — довольно частый источник печали: ах, если бы вспять!..
…Итак, «но душе — захотелось моря». Сразу всего, не с краю — с середины: окунуться — нет, нырнуть в прохладную, желанную воду прямо с лодки… Колом уйти вниз, как любил в детстве. Целую минуту, пока не в тягость безвоздушие, парить в гидрокосмосе, медленно поднимаясь, не своей «архимедовой» волей, к сверкающей пленке, границе жидкости и газа, отдыхать от необходимости двигаться, дышать, думать. Это блаженное состояние детства…
— Да, определенно, подменили мне ребеночка. Подсунули «ихтиандрика»! Так полушутливо-полусерьезно реагировала мать на «заплывы» пятилетнего Николая, когда он, с поразительной настойчивостью, — пугавшая родителей предрасположенность сына, — надолго погружал голову в любые искусственные водоемы: ванну в квартире, тазики и бочки на даче, — и надолго затихал над сосудом, позой напоминая страуса из «Веселых картинок», прячущего голову в песок. В воде было необыкновенно хорошо: ровная гул-тишина, как, наверное, «в животике у мамы» — информация от старшей сестренки, которая скороговоркой транслировала переполнявшие ее жизненные познания братику Коле. Еще наблюдательная сестра довела до сведения брата, что папа, после рождения Николая, почему-то полюбил рассматривать семейные фотографии, чего раньше она за ним не замечала, особенно возле кроватки сына: «Поднесет какую-нибудь фотку к твоему лицу и смотрит. Долго-долго. Потом другую…» — голос у нее ревниво вибрировал.
«Ихтиандрик» возник в семейном лексиконе довольно многоступенчатой ассоциацией с известным героем фантастического романа.
…В больнице, где рожала мама, в день, когда появился на свет Николай, в другой, изолированной от других, экспериментальной палате, успешно завершился акушерский эксперимент — роды в воде. В просторном пластмассовом аквариуме плавных форм, в водородно-кислородной смеси «тридцать шесть и шесть» (условное название, лишь символически отражавшее физические параметры раствора), которая, по замыслу новаторов, служила гасителем родового стресса, появился «на свет сквозь воду» (торопливая находка провинциального журналиста в эмоциональной заметке «Ихтиандр в Нечерноземье») — «человек будущего, рождение которого не обезображено никчемными потрясениями!» (из той же заметки).
В семейном альбоме сохранилась статья профессора, описывающего суть гипотезы, которая, согласно дате, была предтечей исторической заметки о «нечерноземском» ихтиандре. Гипотеза столичного эскулапа-алхимика была привлекательна, как все фантастическое, и состояла в следующем. Оказывается, львиная доля генофонда, потенциальных возможностей человека, убивается (именно так) или безнадежно калечится в первые минуты рождения, в, казалось бы, глубоко изученный официальной медициной момент перехода из утробной «невесомости» в дискомфорт внешнего мира. («Косвенно: все мы — уроды», надпись на полях статьи, карандашный комментарий Колиного отца, судя по почерку). Но это лишь первая доля предположения, которая, впрочем, одновременно является и ее основой. Вторая часть, воплотясь через удачный опыт, доказывала бы всю гипотезу. Суть опыта: через «роды в воде» — довольно известный, но не нашедший массового применения способ, — предстояло снять родовой стресс, «наградить» новорожденного «необыкновенными» способностями (на самом деле, всего лишь сохранить, не отнять предначертанное природой). Новый человек — это будущий «супермен» (в сравнении с «нормальнорожденными»): феноменальные творческие способности, гармония духа, рациональная мораль и так далее. Все это на фундаменте наивозможнейшего уровня интеллекта. Профессор заканчивал свою статью, изобилующую кавычками и восклицательными знаками, в прикладном ключе, оправдывая финансовую сторону опытных разработок: «Природа — рациональна. Отдадим положенное природой, и получим „человека-рационального“: максимальные (реальные) устремления — и безошибочное воплощение». Заканчивались рассуждения, несколько принижая пафос и общую убедительность материала, нуждами технического прогресса на основе новых требований гражданского общежития и экологической безопасности.
…Далее, после удачных родов «сквозь воду», события разворачивались по законам жанра индийского фильма: ночное задымление полуподвала вынудило медперсонал спешно эвакуировать население роддома в другие помещения горбольницы. Однако молва присудила событию «взрывную» деталь: якобы, дети поступили на новое место «вперемежку», без опознавательных табличек… И хотя данная версия впоследствии никакими убедительными свидетельствами не подтвердилась, ее опровержения в прессе были некстати подробны, обстоятельны и эмоциональны, ввиду окрашенности аварийного события подводными родами, состоявшимися чуть ранее и должными иметь, разумеется, больший исторический и социальный интерес. Весь этот сумбурный информационный штурм, направленный на блокаду слуха, который взбудоражил провинциальную публику, вконец растревожил дремавший творческий потенциал обывателя. Очистившись от плевел, на страждущую ладонь этого самого обывателя выкатилось детективное зерно: «рожденный сквозь воду» растворился в последней партии новорожденных. (Тем более что застрельщица нового метода, которая несколько дней назад согласилась поплавать в родильном аквариумном ложе, оказалась иногородней, и следы этой «подводной мамы» для местных средств массовой информации, из-за ее нежелания участвовать в скандале и в дальнейших стадиях опыта наблюдение за развитием «нового человека», оказались намеренно затерянными. Исчез и профессор.) Таким образом, согласно «сарафанной прессе», гордой за домотканый триллер, два десятка городских новорожденных разошлись в семьи потенциальными «ихтиандриками». Причем, яркость сюжета совершенно затмила принципиальную сторону роддомовской драмы, когда любые родители двадцати появившихся на свет человечков рисковали получить на выходе «инкубатора» не своего ребенка, — и не обязательно человека-«амфибию», наличие которого в данной трагедии, если она действительно имела место, по-человечески было отнюдь не самым важным.
…Николай, можно сказать, вырос на воде: город, стремительно взметнувшийся на антрацитовых дрожжах, вплотную граничил с деревней, где протекала небольшая речка. Ручьи от многочисленных лесных родников не давали речке засохнуть или превратиться в водоем с купоросовой водой, что характерно для акселератных городов, не помнящих деревенского родства. В местах впадения в русло крупных ручьев зияли темнотой таинственные, омраченные черными водорослями, глубокие ямы, в которые Николай бесстрашно нырял в поисках жемчуга…
…В детстве мать прочитала ему книжку, в которой рассказывалось о том, как в одной из тихих российских речек, неведомо отчего, завелись жемчужницы — двустворчатые раковины, в которых рождается самый настоящий жемчуг. Вокруг этого феномена закручивался детективный сюжет — преступный промысел, милиция, погони…
Под впечатлением повести, несмотря на реалистические комментарии мамы, одержимый идеей найти белые («а еще, Коленька, они бывают голубые, розовые, черные…») драгоценные камешки в местной речке (а вдруг?), — Николай стал ездить на велосипеде к местам соединения ручьев с руслом реки, нырять, вытаскивать из глинистого дна на свет крупные двустворчатые раковины, мякоть которых местные жители варили на корм домашней птице.
Набросав на берег полсотни ракушек — плод нескольких ныряний, Николай нетерпеливо расковыривал их перочинным ножом, безжалостно преодолевая сопротивление белых мускулов, с невероятной силой сжимающих створки. А если таким образом вскрыть костяные сейфики не удавалось, колол раковины булыжником. В любом случае, результатом «добычи» было полное отсутствие жемчуга, и — гора скорлупы с отвратительно пахнущими кусками еще живого, шевелящегося мяса. «Варить, варить их надо!.. Че зря колоть! И кушать, как на Франции!» — смеялись деревенские дети, наблюдая непонятные, «бесполезные» нырялки крепенького, как лягушонок, горожанина, и громко, по-взрослому, рассказывали друг другу, что перо птицы от этого корма становится крепким и блестящим, «ажно сверкает».
«Блестящая» (синоним драгоценного) составляющая этих издевательских комментариев еще какое-то время поддерживала жемчужный запал Николая… Однажды он просто нырнул, и, идя ко дну, как маленькая плотоядная торпеда, вдруг понял бессмысленность своих трудов, но, чтобы не всплыть быстро (неосознанный поиск хоть какой-то завершенности нырка), достигнув ила, взялся за донный валун, как за якорь…
Тогда он в очередной раз открыл для себя блаженство подводной невесомости. Конечно, делал он это, почти замирая на дне, и ранее, и в этой же речке — лишь свободная от коряги или большого камня рука все же блуждала по дну, запуская ищущие пальцы в бархатный ил.
…Но сейчас подводное блаженство было тем самым, из раннего детства, не утяжеленное целью. Когда не нужно трудится, двигаться, отсутствует необходимость и желание думать, еще не хочется дышать. Такое состояние результат тренировок — длится целую минуту. И только потом становиться тяжело, возникает потребность втянуть в себя воздух, утолить кислородный голод, и звериный инстинкт заставляет тело сжаться в пружину, изо всех сил оттолкнуться от донной тверди и с шумом вырваться на воздух. И бывает невыносимо страшно, если именно в эту секунду, отсчитавшую предел терпения, на какое-то мгновение ступни, ищущие опоры, вязнут в податливой глине или путаются в водорослях…
Он полюбил эту загородную воду. Не собственно речку, не берег, не деревню возле речки, не сельских пацанов, рассудительных и иногда до противности серьезных, — не все то, что окружало его в купании, и чему вода была лишь одной из составляющих, а саму воду. Как любят бассейн.
Когда Николай стал взрослее, жемчуговая романтика отошла на второй план. Его городское, меркантильно-снобистское начало взяло верх, и он, на этой же самой речке, увлекся подводной охотой: острога, гарпун… Обычно он настигал безмятежную рыбину, уже на исходе собственного терпения — до этого целая минута нырка в акваланговой маске уходила на поиск, приближение к жертве. Момент укола, броска, выстрела происходил на вершине восторженного ража особой природы — минутного симбиоза удачи и нестерпимого кислородного голода, в котором подводное животное, согласно иезуитской охотничьей логике, оказывалось виновато, и вина эта была смертельной.
Прошло обещанных пляжным докой полчаса: вот и поплавки, прервались на интересном воспоминания, навеянные морем. Зачем он приплыл сюда? Ведь он уже давно не верит в жемчуговые ракушки, которые можно добыть просто так, без особых усилий и приспособлений, не отдаляясь существенно от дома. И мидии, как и речные «двустворки», не рожают жемчуг. Несомненно, этот выход в море блажь. Но ведь зачастую, чтобы понять себя взрослого, нужно, хотя бы ненадолго, отнырнуть в более ранний, незагруженный знанием период. Николай, понимая, что его здесь никто не услышит, намеренно — «на разрядку», громко засмеялся над этим красивым для данного момента выводом, на самом же деле являющимся избитой формулой, распространенной, до пошлости, в литературе и до сих пор применяемой в заштампованной педагогике, называющей себя наукой.
Он привязал лодку к поплавку, осмотрел, насколько было возможно, конструкцию мидийного промысла. Десятки поплавков держали в вертикальном положении гигантский канат, очевидно, другим концом жестко прикрепленный к установленной на дне рукотворной платформе, на которой живут и размножаются мидии. Сквозь воду видны полчища прилепившихся к канату мелких мидий. Далеко, в невидимой глубине их должно быть гораздо больше, там они, по словам лодочника, очень крупные и мясистые.
Николай огляделся. Берег, вдруг, оказался очень далеким: серая полоса, люди, как мураши. С другой стороны — колыхание зеленой пустыни. Руки невольно сжали борта лодки, глаза удостоверились в наличии спасательного жилета. Лет двадцать он не погружался в воду в поисках подводных богатств: в свое время прекратил — как отрезал, без всякого для себя объяснения. И все же не ожидал, что именно сейчас, когда решил немного возвратится в детство (угодливая формула, выросшая на пути к поплавкам), ему придется бороться с чем-то чудовищным — со страхом, практически незнакомым в цивилизованной жизни, — резким, откровенным, перед которым нельзя оправдаться резонами «зелени винограда», отсутствием желания участвовать в событии, его породившем. А этот обнаженный, циничный страх прижимает к стенке, сдавливает горло, требуя немедленного ответа: струсил?!..
Без всякой уверенности Николай нырнул. На «излете» слабого погружения, не более чем на два метра, он открыл глаза и, испытывая панический ужас в подводном сумраке от чудовищного колыхания лохматого каната, похожего на ствол финиковой пальмы, тем не менее, прильнул к нему, обхватил ногами это колючее тело и стал торопливо отрывать крепящиеся к нему мидии. Он успевал представить себя со стороны — безумцем, сдирающим слабыми руками чешую с живого, могучего, косматого существа… Это продолжалось секунды, быстро захотелось дышать, — он прижал ладонями к груди все то, что удалось отодрать, и с помощью одних ног, толчками, поднялся наверх. Шумно вдохнул, как бы вбирая в себя крик. Бросил в лодку две горсти ракушек и торопливо, судорожно хватаясь за борта, с колотящимся сердцем, влез сам, неловко перевалился в спасительное углубление лодки. Здесь, наконец, он почувствовал себя в безопасности. Посидел, покачиваясь на волнах. Затем решительно сгреб со дна россыпь маленьких жалких ракушек, выбросил за борт, отвязал лодку, поплыл обратно. Греб, дико оглядываясь по сторонам и злорадно улыбаясь, как будто только что обвел вокруг пальца какого-то опасного противника.
Вышел на песчаный берег, как побитый, но не сломленный. Оправдывая мероприятие, назначил ему окончательный смысл: это было резкое вхождение в новую роль курортного дикаря, пронзительное знакомство со стихией, впрыск адреналина в застоявшуюся кровь. Он готов к отдыху. Хорошо!
И увидел ее…
2. Мулатка
Увидев ее, Николай вспомнил, что когда-то считал себя художником. Все это, и удивление, и вызванное им воспоминание, резко перестроило лад восприятия окружающего — с высокомерно-прагматичного на сентиментально-лирический.
Так он подумал отстраненно про себя, уверенного и опытного. Иронично, все еще до конца не веря в силу возникшей картины.
…Прежде чем перевернуть сухую, до шумного шелеста страницу широкой книги, удобно, как ноты, лежащей на скошенной плоскости огромного булыжника, она, опершись на локоть, поднимала с камней узкую ладонь — финиковый веер, на секунду задерживала перед лицом, медленно складывала четыре пальца, длинные и прямые, как фаланги тростника, оставляя один, надолго прислоняла его розовую подушечку к вывернутым и чуть приоткрытым, словно всегда готовым для поцелуя, губам… Газовая косынка поверх бикини — набедренная повязка, туго обхватывающая крепкие ноги…
«…Мулатка, просто прохожая… Что плывет по волнам…моей памяти…», — слова одной из песен с «революционного» тухмановского диска, первое, что пришло на ум Николаю, когда он увидел смуглую девушку на этом пляже черноморской провинции. Затем: «Я целую мою революцию…», что-то про влажные кудри, которые, тоже, целую… — из раннего Эдуарда Лимонова, кажется. Никаких аллюзий — логический ряд и вполне земные ассоциации, только порожденные нездешней красотой.
Однако вслед рассудительной цепи — метафорная стайка, крылатый свидетель поэтичности естества. На ленивой российской окраине примитивного отпускного рая — броский набор экваториальных качеств и конфигураций… Нежность молодых кокосов, крепость лиановых сплетений, величавость Нила, грациозность саванных антилоп и фламинго… — не одетое, но украшенное в тропические цвета и формы. Одежда не дань стыду — удобство, помноженное на символы.
Ее бледнокожие сверстницы вокруг пребывали в состоянии восторга: бросались в волны, выворачивались к лучам, затем прятались от ожогов под тентами, мазями… На фоне этого именно тривиальность Мулатки, ее продолженность — волн, камней, ветра, — отрицающая восторженную суету, парадоксальным образом возносила ее на пик необычности. Смуглое тело было равнодушно к субтропикам. Как равнодушны к воде рыбы.
Надо же — первый выход к морю (вернее, выход из него — Николай улыбнулся отсутствию в богатом языке устоявшейся для подобного случая фразы), и такое потрясение. Конечно, край континента, легенды и сказки… Но такого яркого сюжета, который, Николай это понял с подзабытым щемящим волнением, будет чем-то переломным для его уже тридцатипятилетней неинтересной повести, не ожидал.
Уже не ожидал. Потому что за плечами было разочарование в детских сказках, бесплодность юношеских исканий, крушение взрослых надежд. Все это быстро костенило уже отсчитанную и много раз перечитанную часть судьбы — еще не слишком богатую, но достаточную для появления четких устоев морали, манеры поведения историю, с, казалось бы, накрепко выхолощенной художественностью (не считая скандального рождения) — мемуары, биографический справочник.
Что сейчас для него эта экзотическая фигура? Привет из романтического прошлого? Лакмусовая субстанция, проявляющая мобилизационные возможности души? Предвестник революции, которая вновь может сотрясти «мемуарные» основы, разрушая устоявшиеся связи составных частей, до степени их превращения в сладкую, но колкую массу, а позже — в ненадежное беспокойное месиво? Одно ясно: это испытание, которому надлежит либо воплотиться в будущее движение, либо застыть блестящей нашлепкой на альбоме отпускных воспоминаний.
Мулатка была русской, это стало ясно по ее первой реплике в адрес пляжного мороженщика. Мягкий акающий говор, кажется, московский. Возможно, ее вырастила одинокая мать, которая, имея смуглого ребенка, так и не сумела выйти замуж, устроить свою жизнь? А может быть, все не так грустно, и ее родители сейчас счастливо живут в столице, отец — служащий консульства, мать — переводчик? Но и в том, и в другом случае Мулатка для Николая определилась таинственной и трагичной, трепетной фигурой, а не просто рядовой необычностью морского берега, шоколадкой конфетного многоцветия пляжа.
Мулатка закрыла книгу…
Николай проводил взглядом смуглую спину с прочным пунктиром глубокой позвоночной впадины — до пестрой пляжной арки, чертившей воображаемой плоскостью границу пляжа и городского парка, которая этой же прозрачной геометрией обозначила и рубеж досягаемости предмета потрясения. И покорно подчинился безотчетному: определив безопасную дистанцию, пошел вслед, прикинувшись беспечной долькой пестрого паркового потока.
Так получалось, что физики, коллеги по НИИ, где он решил начинать свою карьеру после окончания политехнического института, считали его «лириком» и «чудиком». За то, что всерьез увлекался живописью. За то, что не принимал близко к сердцу науку. За то, что при этом «лепил», по его собственному выражению, небольшие изобретения, не принимая руководство в «соавторы». За то, что делал, так же «лепя», диссертацию — особенно не напрягаясь, «между прочим», с внешний холодностью — в укор показной озабоченности коллег. А также — с демонстративной самостоятельностью, без использования чужих текстов, без участия с сабантуях в ресторане и на природе, которые были неотъемлемой частью жизни института и так же служили показателем покорности перед «Ее Величеством научной Иерархией». Пришло время, и карающий меч «Ее Величества», описав формальную траекторию, подрубил инородный нарост на холеном теле официальной науки: «лирическую» диссертацию и все, что было с ней связано в данном заведении. А именно — самого «лирика-чудика», несостоявшегося кандидата наук, подведя обидному «сокращению», навсегда лишив его «научного» фундамента в данной провинции и желания когда-нибудь впредь доказывать свою состоятельность и оригинальность фальшивыми «защитами» и «степенями»…
Вслед за этим — неожиданная удача: мелкий бизнес, насколько близко связанный с его предыдущей деятельностью в НИИ, настолько же далекий от науки, стал давать неплохие средства для существования и достаточно времени для любимого увлечения — живописи…
Отец — прочное звено инженерной династии — не одобрял его «художеств», считая увлечение сына родовой аномалией. Причем в этом мнении предок был настолько категоричен, как будто эта «аномалия» являлось невыигрышным показателем его состоятельности, как родителя, притом, что Николай все-таки добывал хлеб насущный инженерской практикой, а не продажей картин. Николай никогда не мог даже частично согласиться с отцовским отрицанием его любимого хобби, проявившегося, кстати, довольно поздно, в юношестве. Рассуждения отца в этом вопросе были лишены последовательности и ясности, что для него было не характерно: сплошные эмоции и недоговорки. Возможно, раздражение отца было следствием хронически не удававшихся брачных опытов сына: не было ни постоянных невесток, ни внуков… (Дочь, выйдя замуж за иностранца, уехала за границу, нарожала иноязычных детей — недоступных для деда территориально и духовно.) Николай определил для себя это брюзжание, эту «дамскую логику» наличием у отца некоторого женского начала, приобретенного после ранней смерти жены, матери Николая, когда приходилось жить родителем в двух ипостасях. Но, внутренне отмахиваясь, из сыновнего уважения он все же приводил практическую — как ему казалось, в угоду инженерному стержню отца мотивацию: его как автора признают (известность, связи), а картины — иногда даже покупают…
Хотя, конечно, о признании и известности — об этом можно было говорить с большой долей горькой иронии…
В одно время Николаю показалось, что он открыл новое направление в изобразительном искусстве. Нет, сказали ему нейтральные столичные эксперты, это всего лишь вариация на известную тему, попытка разработать собственный метод. После этого «нет», памятуя о том, что количество непременно переходит в качество, он зашел в поисках метода настолько глубоко, что его картины стали характеризовать как абсурдные. При этом, с легкой руки одного якобы перспективного местного «марателя», в телеинтервью на городском телевидении допустившим критический выпад в адрес Николая, пошла гулять сентенция: «Один провинциальный художник, наш с вами земляк… извините, забыл фамилию… Так вот, он, конечно, большой оригинал, но абсурд как художественное направление открыт задолго до… Извините, забыл в каком веке». Заключительный вердикт худсовета центральной картинной галереи (председатель — спившийся, но непререкаемый, ревнивый мэтр периферийного масштаба), где намечалась эксклюзивная выставка Николая с экспозицией картин десятилетнего периода работы, вместе с главным — «Отказать!» — бил уничтожительным (в формулировке мэтра): «Для того, чтобы создавать что-либо новое из обломков некогда существовавшего, необходимо знать происхождение материала, его физико-химическую структуру, геометрию обломков. Без знаний перечисленного, сиречь без уважения к классическим канонам, получается — груда, куча…»
Холсты навечно перекочевали в дачный чулан. Именно в этом месте биографии, как предполагал Николай, оценивая прошлое, с романтикой было покончено навсегда.
…Оказывается, Мулатка квартировала в одном из соседних домов, на тихой улице приморского района, в двадцати шагах от виноградной усадебки, в которой вчера вечером поселился Николай. Грубое совпадение случайностей замыкало, взявший начальную точку на пляже, некий магический круг, который своей правильностью и отчетливостью беспощадно и насмешливо низводил силу воли и желание преследовать смуглянку к послушной функции судьбы. Но, с решительной верой в собственную лидирующую роль, уязвленное мужское самолюбие успешно присудило «шпионскому» действию степень поступка.
Николай понял, что целую неделю ему предстоит жить рядом с Мулаткой. Наблюдать ее ранний выход из соседней калитки, когда она будет необычайно привлекательна в своей утренней свежести, характерной, впрочем, для всех женщин, — в цветастом льняном халате, с большим пухлым пакетом пляжных принадлежностей: коврик из тонкой губки, махровое полотенце, книга…
…Кажется, тут же, на выходе, у калитки, объемная, но легкая ноша должна взлететь от узких рельефных бедер с волнующей подвижностью под покорной материей и совершить гармоническую посадку на голове, примяв русый сноп славянских локонов, похожих на ржаные волны, с сорняками непокорных африканских кудряшек. Но ничего подобного не происходит: голова, коронованная золотистым обручем, фиксирующим пышный сноп, чуть опущена, взгляд перед собой, почти под ноги, — видимо, комплекс, развитый с детства, когда темнокожей девочке наверняка доставалось назойливого внимания от сверстников… Сейчас в ее образе была ироничная, ужесточенная неуловимой сумрачностью, неприступность, как бы мстящая окружающему за детские обиды. Тем не менее, Николай быстро заметил: за показной насмешливостью прочитывалась непрочность — почти вызывающему взгляду, изредка ответно скользящему по чужим лицам, непременно предшествовала печальная, правда, лишь на мгновение, вынесенная из глубин, тень испуга. Николай читал дальше: ответом на явное внимание может быть презрительное молчание или даже гневная реплика — воплощение обид, неверия в искренность. Причем, в подобной реакции — что-то бесполое: Мулатка избегала разговаривать даже с женщинами.
Смуглый символ своеобразия, она, тем не менее, подтверждала известное Николаю: оригинальность — не чудо, а лишь угловатая обычность, тривиальность с броскими пропорциями. Как и все люди, она не вся принадлежала этому миру. Видимой, доступной свету, была только часть ее. Причем самая эффектная, красивая часть. Но Николай, охваченный каким-то труднопреодолимым «чемпионским» азартом, смело шел на рекордную планку, — он хотел обладать всеми ста процентами.
Уверенность, смелость, напор — столь желанное для ограниченных в каникулярном периоде жизни пляжных бабочек, порхавших вокруг, то и дело награждавших Николая игривыми взглядами, могла только спугнуть Мулатку. Поэтому он, руководствуясь незнакомым доселе резервом чутья, выбрал единственно верную в таких случаях тактику, — тактику привыкания. При этом искал какие-нибудь высокие — исторические, социальные аналогии той позиции, которую занял относительно Мулатки. Философские элементы путались с художественными образами. Добрый егерь, приручающий оставшуюся без кормилицы «трепетную лань»… Математик-астроном, вычисляющий, а затем рисующий траекторию новой планеты, знанием ее закономерностей приобретающий своеобразную власть над ней… Скульптор, умными руками воплощающий собственные и чужие фантазии… Серенадный рыцарь…
Вещественно же Николай просто старался быть рядом со смуглой девушкой. Если замечал, что Мулатка собралась искупаться, он опережал ее на несколько шагов и входил в воду первый, чуть сбоку, — она видела его профиль. Или, оставаясь на месте, дожидался момента, когда, насытившись влагой, смуглая фигура покидала воду, и шел ей навстречу — они разминались, скользя друг по другу ровными взглядами. Через два дня он стал для нее признаком спокойствия. Он это понял, наблюдая сверху из сонного утреннего бара стеклянного скворечника над пляжным волнорезом: прежде чем улечься над книгой в привычной позе, она, как черный страус, повела головой вокруг искала его… Это было предвестием победы. Он подошел и сел, как обычно, на скамью своего «гриба», шумно откупоривая бутылку с газировкой. Мулатка на секунду подняла глаза, уже готовые ответить на приветственную улыбку или даже слово… Но это был пока только взгляд человека человеку, а не женщины — мужчине.
Искатели приключений и, конкретно, курортной пары — в основном молодые мужчины, — желавшие «подпустить клея» к Мулатке, быстро натыкались на демонстративно тяжелый взгляд Николая и неизменно, без дополнительных объяснений, мирно ретировались.
…Рядом с Мулаткой прилег пляжный весовщик, который обычно сидел у прокатного пункта под матерчатым тентом, зевая и почесываясь, и лениво передвигал гирьки весов, если кто-то из купальщиков подходил к нему, чтобы определить свои драгоценные или «проклятые» килограммы. Николай, согласно своему нынешнему состоянию «генератора образов», как он сам себя определил в день встречи с Мулаткой, не сдерживал художественных прогнозов: весовщик был похож на «римского расстригу», разжалованного католического священника. Результат разжалования — только, судя по мимике субъекта и репликам в адрес одиноких женщин, подходивших к нему взвешиваться, его небожеская суть. Черепной коробки изменения статуса не коснулись: макушка головы, привыкшая к лысине, так и осталась лысиной, которую окаймляла безобразная шевелюра. Вся голова издали напоминала паралоновую подушку для втыкания иголок, отороченную для красоты обрезками жесткого меха экзотического животного.
Кряхтя и устало охая, как будто ему все это порядком надоело, весовщик подтащил лежак, снял грязный халат, обнажив тело, украшенное огромным золотым крестом на золотой же цепочке. Тело, которому еще в детстве надоело южное солнце. Кожа, вся в точках жировиков и каких-то белых рубчиках и затяжках, вызывала у Николая воспоминание о студенческом напитке — мутной, с ошметками свернувшегося молока жидкости, которая в меню институтской столовой шла под называнием «какао».
Николай внимательно наблюдал окончание неторопливого обустройства возле Мулатки этого пляжного ловеласа и моделировал возможные мысли в «подушечке для булавок». Итак, немолодой пресыщенный пляжный кот. Года — сплошная череда лет (именно лет, зимой — спячка) с толпами отдыхающих, которых не любил и даже презирал за праздность, с изобилием женских тел, в принципе доступных… Люди для него — тела. Так и Мулатка — всего лишь смуглое, почти черное, красивое тело, экзотика — что-то необычное и уже поэтому вкусненькое.
Еще минута и прозвучит начало атаки: «Девушка!..» Мулатка продолжала читать и, казалось, не обращала на нового соседа никакого внимания. Но Николай заметил: его подопечная напряглась, она давно почувствовала, что превращается в объект откровенной, грубой, наглой охоты. Ее неприступность может разозлить весовщика, и тогда наверняка прозвучит громкая мстительная обидная шутка, насмешка. Пляжный кот не привык к такому поведению женщин, тем более, что он чувствует себя здесь хозяином. И он не простит фиаско на глазах коллег — работников пляжного сервиса, которые, Николай это заметил, уже несколько минут наблюдают из-под козырька «Проката» за показательной атакой «римского расстриги». У Мулатки от тревожного ожидания посуровели черты лица, налились блестящей влагой глаза.
Николай встал, хрустнул суставами, подошел к весовщику:
— Можно вас на минутку?
Тот ответил со свирепыми черными икринками в водянистых глазах:
— А здесь нельзя?
— Нет.
Весовщик встал и шагнул за Николаем. Затем, будто что-то вспомнив, вернулся, забрал халат и на ходу напялил его на себя, застегнул на все пуговицы.
Отойдя на довольно большое расстояние, они остановились, Николай кивнул в сторону Мулатки:
— Это моя девушка.
Весовщик все понял с самого начала, поэтому, уходя «на минутку», и забрал халат. Взгляд его был тяжел и насмешлив. Он сказал веско, но устало и неожиданно печально:
— Это не твоя девушка… Она тебя не знает.
Николай не готовый к такому повороту, стал быстро придумывать новую версию. Стараясь выглядеть увереннее, он зачем-то посмотрел вдаль, невольно прищурился:
— Это… Это моя. Я ее…
— Я ее неделю вижу, — бесцеремонно оборвал его весовщик. — А ты позавчера нарисовался.
— Я!.. — в свою очередь оборвал его Николай, несколько возвысив голос. — Ее!.. — он поднял верх указательный палец, внимание: — Я ее охраняю. — Он натянуто улыбнулся: — Подруга моего шефа. Да, — она меня не знает. — Он оглянулся и, понизив голос, завершил: — Так надо.
Весовщик засмеялся, покачал опущенной головой. Смех был намеренно фальшивым и поэтому зловещим. Затем резко перестал выталкивать из себя воздух, вскинул голову, приложил ладонь козырьком возле лба, как будто, защищаясь от солнца, хотел как можно лучше рассмотреть лицо соперника. Из-под тени ладони — гневные точки, но спокойный голос:
— Ты не охранник. Взгляд не собачий. Правда, хребет гнилой. — Он двинулся к своим весам: — А, между прочим, за такой взгляд отвечать надо. А хребет-то… — цок-цок-цок!.. — пощелкал языком, будучи уже спиной к Николаю.
— Перед кем отвечать? — бесстрашно и вызывающе, но с откровенным удивлением спросил вслед Николай.
— Вообще… — не оборачиваясь, бросил весовщик.
Между Николаем и Мулаткой установилась почти ощутимая связь, по напряженной и уже обоюдоострой, как двухконечная стрела, силовой линии. Николай чувствовал — Мулатка благодарна ему за такое поведение, возможно, это стало для нее откровением в ее взрослом и, казалось бы, знакомом мире, который с раннего детства виделся жестоким сверху и донизу. Он понимал, что сегодня Мулатка ждала от него чего-то, возможно, самого простого слова. Но Николай, находясь в состоянии эйфории от удавшегося эксперимента, от победы, упиваясь властью: над ситуацией, над временем, над суетой, — смаковал минуты уходящего дня, в котором он был уже вместе — да, да, вместе с этой красивой смуглой девушкой. Еще немного, и — виктория, он — господин.
Таял день, сегодня Мулатка задержалась на пляже гораздо дольше обычного. Остался и Николай. Наверняка, она знала, что он остался из-за нее. Она лежала лицом к закату, на боку. Одна рука — локоть в песке, ладонь чашеобразным лепестком, — опора для русого снопа. Другая — спокойным крылом вдоль тела. Спиной к мужчине, который оберегал ее покой.
Сейчас, хозяйским взглядом обводя прибрежный мир: море, отроги бухты, пляжную арку, горы, начало сквера, — Николай искал признаки того таинственного круга, пленником которого, как представлялось, он недавно оказался. Не находя этих признаков, блаженно улыбался. Своим умением, выдержкой, мудростью он нейтрализовал влияние той замкнутой геометрии, оставив на память ее сердцевину, подчиненный драгоценный предмет, смуглую фигурку, концентрат чуда, которым вскоре будет счастливо обладать…
Сейчас он вспомнил своих прежних женщин. Ему всегда было непонятно: почему союзы были так непрочны? Уходя, они упрекали его — каждая по-разному — в… В чем только его не упрекали!.. Это несправедливо. Действительно, по большей части женщины доставались ему легко. Да, он не испытывал к ним долговременного трепета… Но от этого он не относился к ним менее корректно. С начала союза с ним они непременно становились обладателями того, что у него на данный момент имелось. Он лез из кожи, чтобы одеть их в лучшую одежду, посадить в хорошую машину, ввести в престижные дома. Он делал из них «конфеток» — в глазах посторонних, разумеется. (Справедливости ради благодаря этим временным стимулам, он и сам достигал какой-то следующей ступени не только в обществе, но в творческом осознании собственного «я»… Однако сей факт, в его внутренних монологах-спорах с оппонентками, имел статус второстепенных подробностей и поэтому не попадал в разряд контраргументов.)…Он получал искреннее наслаждение, когда замечал, что его подругами восторгаются, особенно если эти восторги исходили от личных неприятелей. И при этом его никогда не мучила ревность. Это ли не показатель его принадлежности им!.. Однако… Больше всего его поразили слова последней женщины-подруги: «Николай, от себя не убежишь!..» Как ему показалось, без всякой связи, бессильное желание уколоть, в результате абсурдная фраза. Бред! Никуда он не собирался убегать. Наоборот, если временами его что-то окрыляло, то это было стремление не от себя, а куда-то, к чему-то, но — с багажом прежнего: чтобы он старался вероломно избавится от того, кого выбрал в спутники?!.. Нет… Или просто до этого не доходило? Может быть, но факт — во всех случаях инициаторами разрыва связей были они…
Пока он думал о прошлом, стемнело. Огляделся: Мулатки рядом не было. «Завтра придет», — подумал Николай и поймал себя на мысли, что подобная уверенность всегда имела место в его отношениях с женщинами. Он не препятствовал уходам, не догонял. И, как потом оказывалось, ошибался, — они никогда не возвращались. Почему-то уходили, оставляя все, чем владели по его милости, голыми, как из чумного дома. Как будто за месяцы общения с ним становились целомудренными, хоть нимб надевай вместо шляпки. Это было самое удивительное в его разводных историях. Но ведь случай с Мулаткой — особый. Она придет завтра. Придет, — он чувствовал, что держит ее крепко.
Мулатка исключение. Она не избалована жизнью, она знает цену вниманию, она будет обожать его, своего благодетеля. Она уже поняла, что он неповторим… Даже без всяких атрибутов материального благополучия. Еще есть время, он дождется, когда она сама обратится к нему. Это будет признанием победы, равносильно падению в объятья, он великодушно подставит руки…
На следующее утро Мулатка не пришла. Николай весь день ждал, что она вот-вот появится: сначала разденется, потом повяжется косынкой, словно зашториваясь от назойливого мира, и станет читать свою книгу… Мало ли что, ездила в город, развлеклась, сделала покупки, приехала поздно. Так он себя успокаивал, возвращаясь вечером домой. Подспудно же накатывало мерзкое ощущение, испытанное однажды в хищном отрочестве, после, казалось бы, удачной «рыбалки» за городом… Глухой, удавленный взрыв дорогостоящей толовой шашки — и две дюжины крупных сазанов белобрюхо поднялись со дна, чтобы стать его добычей… Тогда деревенские мальчишки украли у него весь мешок с богатым уловом, пока он блаженно купался, отдыхая после рискованных трудов. Помнится, блестя мокрыми мускулами, толкая рядом велосипед с проколотыми шинами, он возвращался лунной дорогой, от обиды и бессилия по-звериному воя. Кляня себя за нерасчетливость, недальновидность, он думал, что, вернись все обратно, добровольно отдал бы каждому из тех сопливых пацанов по рыбине, как дань, только бы они не лишали его рыбацкой гордости… И сейчас, предчувствуя непоправимое, он готов был отказаться от многого, лишь бы Мулатка осталась еще на пару дней в этом проклятом, вонючем поселке на краю грязной лужи под названием море!..
Да, она была особой вчера. Он думал, что это показатель ее готовности к покорению. Но видимо, это было всего лишь прощание или — ожидание чуда. От кого: от жизни? От него? От неспособного на чудо?… От бесполезной пчелы, трутня, потребителя медовых чудес?…
Он шел и выбрасывал, как губительный балласт с терпящего крушение воздушного шара, свои маленькие победы, которые копил все эти дни. Отказываясь от ведущих ролей — покорителя, приручателя, егеря, астронома… Он переставал быть дарителем приманки — он просил дара быть великодушным. И — берущими, торопливыми паучьими движениями пытаясь повторить творение небесного шелкопряда, он панически заворачивался в кокон недавних воспоминаний, в тот круг случайностей, начавшийся несколько дней назад на этом злополучном пляже, силясь вернуться в исходную точку. Он просил сотворить все сначала — у того, кто беспощадно наказывал его за одни только мысли, не веря позднему раскаянию, рожденному в страхе.
3. Моллинезия
…Он перестал клясть, клясться и молиться. Он снова гордый. Теперь все опять в его власти: ему не нужен добрый рок, достаточного худого шанса.
«Олей звали мою негритяночку, Олей. Фамилию не ведаю… Адрес, — зачем мне? — не узнавала. Я документов-то никогда не спрашиваю… Только город, на севере где-то… Точно, точно!.. Сейчас спрошу у внучки, она помнит…»
Все, что удалось выведать у квартирной хозяйки, — имя Мулатки, название города на другом краю света, куда летает самолет из эвкалиптового Адлера. И еще то, что Мулатка полетела не сразу в этот то ли нефтяной, то ли золотой город, а через столицу, хотела проведать родных… Это уже кое-что, думал пляжный Шерлок Холмс, трясясь в душном вагоне электрички, членистым червяком ползущей вдоль каменистого берега, усыпанного голыми телами, как трупами на бесконечном поле сражения.
Состояние обманутости, наказанности прошло, вернее, переросло в иступленную решимость. Уткнувшись в заляпанное окно, рядовой художник, возможно, — с генами всего лишь маляра-оформителя, возомнивший себя осененным музой ваятелем, сосредоточенно выводил эскиз будущей картины: вздрагивая вместе с вагоном, стараясь не смотреть на серую гальку замусоренных пляжей, поеживаясь от мурашек, которые волнами расползались по спине и щекам, рисовал солнечными красками по зеленым волнам: он женится на Мулатке…
Как помарка в уголке картины — постоянная ноющая грудная боль… И если бы в области сердца… Назойливая ремарка, примечание без рифмы, серым, «простым» карандашом поверх солнечных красок: боль не в области сердца где-то под нижними ребрами…
Он уже смутно, как из сна, помнил, что было вчера. Наверняка, потому, что был сильно пьян в ночном кафе, сотворенном на манер караван-сарая: очаг в центре земляного двора, саклеобразные, плетеные из камыша кабины, столы распиленные вдоль гигантские деревья… Груша ртутной лампы, нелепого ночного солнца, слепящая, затмевающая космос, превращала видимый мир в царство теней, которые колыхались в потоках музыки, безображенной низкими частотами. На подиум, в числе прочих танцующих, выскочила белая девушка в воздушном платье из розовой вуали, с одуванчиком вместо головы. Поток света от ночного солнца — и вспыхнул одуванчик, растаяла вуаль. Спелое наливное яблоко с просвечивающими внутренностями… прожилки, выпуклости, впадинки, косточки, изюминки-сосочки…
Сразу за этим — встреча на темной аллее парка с пляжным весовщиком. «Римский расстрига» в белом костюме выглядел на удивление солидно в окружении таких же друзей, но голос был прежним — зловещим и устало-печальным:
— Ну что, сторож, проспал чернышку? — Кулак, блеснув перстнем, вынырнул из-за спины и больно воткнулся в солнечное сплетение. — Ни себе, ни людям, шакал. Собака на сене… — Еще раз блеснул перстень, еще раз стало больно.
Аэропорт, согласно сезону пик, встретил Николая отказом: билетов нет.
Железнодорожный вокзал обнадежил, усиливая решимость, пообещав билет на вечерний «северный» поезд. Время отправления — час заката. Это Николай подметил, присвоив совпадению символ границы между прошлым и будущим. Он продолжал мечтать.
Он уже не сможет жить, как прежде… Человек, до сих пор не нашедший себя в профессии, в увлечении, — он превратит свою жизнь со смуглой женщиной в искусство. Которому будет поклоняться, в котором будет творить…
Он успеет в город Мулатки до ее прилета туда из столицы. Он будет жить в аэропорту и встречать самолеты… Или, если такой вариант окажется неудачным, то пускай будет еще романтичней: он поселиться в том полярном городе, устроится на ночную работу. А днями будет бродить по осенним, в желтом листе берез и рыжей хвое лиственниц, а потом по заснеженным, улицам, и вглядываться в лица прохожих… Наконец, зимой он ее встретит, такую красивую и приметную на белом.
Их бескорыстный и нежный дуэт вылечит ее дикость, его благородная решимость, презирающая внешнюю суету и кривотолки, оградит ее от памяти детских страданий. Их броский союз, их заметность, будут стимулировать творчество отношений… У них вырастут красивые дети, — воспитание в особенной семье определит в них задатки нечванливого, здорового, первородного аристократизма…
Он уйдет из дешевого, подонного бизнеса, вновь станет физиком или лириком, — а может, и тем и другим, в нем этих слагаемых поровну. Защитит уже практически готовую, заброшенную пять лет назад, диссертацию. Вытащит из чулана пыльные холсты, примется за новые, докажет жизнеспособность своего направления, за которое был когда-то ошельмован. Нарисует смуглую звезду, ее траекторию…
Сверкнули зловеще бамперы, — скрипнул, зашипел, минорно запел горячий воздух привокзальной площади. Панический поросячий визг тормозов, переходящий в запретное шипение втирающейся в асфальт резины — «Тщ-щ-щ!..», жалобный стон черного железа, на секунду прижатого могучей инерцией к земле. Отрешаясь от выкриков и гримас таксиста, Николай прочел за приспущенным стеклом укоризненную грусть, исходящую из мрачных глубин заднего сиденья: отдельно — глаза, затем губы… Глаза и губы, по которым он, как художник, узнал…
Нет, никого он не узнал, чудес не бывает. И все же, безотчетно, проводил взглядом рванувшее с места сердитое авто, отметив натуральность затылка пассажира, не вальяжным хозяином, а сиротливой деталью врисованного в экран широкого овального окна.
Конечно, бред. Он сам, уже лет десять назад, видел этот развороченный пулей череп, когда сорвалась с петель, рухнула, разметывая со столов листки, расшатанная персоналом НИИ дверь. На одном из смятых бланков (обратная сторона финансовой ведомости) — «последнее слово», которое прыгающими буквами изобразил разжалованный в инженеры неудавшийся начальник отдела, прежде чем вставить в рот холодный ствол никелированного «макарова». Это было обращение к жене и дочке, на чью судьбу он, «никчемный» человек, покусился и оказался недостойным «и только поломал»… и прочие, типичные для подобного случая банальности.
Суицидник — бывший институтский однокашник Николая. Отсюда и знание всей предыстории. Жена бедолаги, ныне вдова, — генеральская дочка, рыжая гибкая красавица, первая мисс факультета. Отец ее, тогда еще бравый отставник, чуть не погиб от инфаркта, узнав о выборе своей любимицы, чьей руки несколько лет безуспешно добивались несколько военных курсантов, а потом лейтенантов, потомственных офицеров из устойчивых известных военных династий, с гарантированным продвижением по «звездной» лестнице. Дочери презрительная обида. А гнев экс-генерала был сконцентрирован сугубо на «примаке» (это клеймо, подаренное тестем, зять нестираемо носил всю оставшуюся жизнь). Держась одной рукой за грудь, другой, отстраняясь от стакана с каплями, которые пыталась влить в него заплаканная супруга, седой, обессиленный лев гневно вышептывал: «Знаешь ли ты… Как тебя там. Знаешь ли, куда ты вошел, в чей дом?!.. Сможет ли теперь она, моя девочка, лелеянная, оберегаемая всем, чего я достиг, — завоевал, наконец… Знаешь ли ты, что такое карьера, свет, общество!..»
«…Да знаешь ли ты, в конце концов, что такое порода?..» — простонал теряющий сознание пришедшему за благословением.
Сердце окончательно достало генерала позже, он умер через несколько лет, как раз когда начала катастрофически, безнадежно рушиться наладившаяся было карьера зятя, безродного дипломника политехнического, но впоследствии энергичного, производительного, подававшего надежды инженера. После поминок домашние так и не нашли в квартире именного оружия — никелированного пистолета, которому, как стало известно позже, уже тогда, на финал металлической жизни (вскоре, говорят, он пошел под пресс) взамен антикварной роли последних лет, предназначалась более достойная, первородная его функция…
Засигналила следующая машина. Николай попятился, нащупал ступней бордюр, высоко ограничивающий пешеходную область привокзального пространства от проезжей части. Нелепо быть задавленным за тысячи километров от дома. Но шутка не прибавила настроения…
До отправления поезда оставалось несколько часов, и Николай решил скоротать их на городском пляже. Он хотел оставить свой пластмассовый чемодан, похожий на сплющенную торпеду, в камере хранения вокзала, но в последний момент передумал: это был бы залог в пользу ситуации… А он, оказывается…
Он, оказывается, панически боится подчиненности. Этот вывод явился открытием, озадачившим его. Суть открытия обнаруживалась не в событийности действительно, ведь ничего не произошло такого, доселе неизвестного, что могло бы «открыть глаза». Чушь — он взрослый человек. Весь набор событий, который мог влиять на формирование личности, взглядов, уже произошел.
Открытие было в откровенности перед собой, или иначе — в новизне ответов (опять же, их новизна — всего лишь в отсутствии притворства) на вопросы, и ранее, зачастую назойливо, всплывавшие в минуты неопределенности.
Ну что ж, подбодрила малолюдная аллея, неспешно ведущая от вокзала к набережной, у тебя еще уйма времени. Итак…
…Да, он всегда избегал всяких обязательств, связывающих свободу, которые в той или иной степени могли манипулировать его волей. Он не может быть марионеткой! Но чтобы любая, даже высокая, даже необходимая, как промежуточный этап для достижения желанного результата, — чтобы любая зависимость ассоциировалась с униженностью!..
А, собственно, в чем он не прав? В чем он изменил своим принципам, основанным не только на личном опыте, но и на знаниях закономерностей, которые открыты задолго до него, и миллионы раз, в разных вариантах, описаны в тысячах умных книг. А не стоило ли, прежде чем бросаться в седьмое небо фантазий, проверить наличие соответствующих крыльев? Попросту — правдиво ответить на некоторые простые, но трезвые вопросы.
…Возможно ли постоянное лидерство, по сути, — над собой, в себе? Реальна ли полная безукоризненность будущего поведения — непременное условие при абсолютной прозрачности для постороннего мира этой будущей «черно-белой» связи, в силу ее контрастности и обостренности к ней внешнего внимания? Возможна ли непрерывная борьба, жизнь в режиме сплошной мобилизации, аврала, надрыва?
Все детские обиды Мулатки, только на взрослом уровне, придется переживать ему, Николаю. Наверное, многие отвернуться от него. Придет время, и узнается цена постоянной надсаде, когда он будет напрягаться, а то и вздрагивать от проклятий ущербных обывателей в адрес «чернокожих» и «узкоглазых», «иноверцев» и «инородцев», — от того, что раньше воспринималось как обычная, ни к чему не обязывающая болтовня, чесание языков, — принимая долю этих проклятий на жену, на себя. Наверняка, среди нормальных людей, на самом деле жестоких в «незлобивых», как им кажется, сетованиях на якобы виновников своих бед, найдется какая-нибудь мразь, которая будет поминать этих «виновников» намеренно, в его присутствии… И тогда: либо «убой по морде» (на любую, отвлеченную, чтобы не выглядеть смешным, тему) этой бледнокожей свинорылой твари, возомнившей себя голубокровым арийцем, — или жизнь униженного экзотической любовью изгоя.
Воистину невероятны метаморфозы логического моделирования. Еще все только в плане, а он уже кипит, готовый ненавидеть, защищаться, воевать!.. А что будет в реальности? Хватит ли сил?… И — ради чего?
Николай вспомнил про свой «пунктирный» изъян и попытался разумом окончательно выйти на потерянную линию четкого восприятия. Таким образом, он приступает к поиску, отталкиваясь от давно проверенного: чтобы унять панику души, необходимо разгадать причину, лишить себя тревожного секрета, страха темного угла, опасности незнакомого поворота — и паника сойдет на нет.
Он, наконец, понял, что именно с четких вопросов и следовало начинать всю эту романтическую историю… Или хотя бы ее динамическую часть — отъезд с практически насиженного места на приморской улочке. Итак, конечная цель, разумеется, Мулатка. Но — Мулатка-человек? Или Мулатка-женщина? Которая из этих двух ипостасей повергла его в состояние аффекта? Без кого ему вдруг невмоготу стало жить? А может быть, причиной этой суеты последних дней его вечная погоня за оригинальностью, сверхобладания чем бы то ни было, болезненная склонность к эпатажу? В конце концов, может быть, он приобрел какие-то обязательства перед этой женщиной?
А вдруг она замужем? Почему эта мысль ни разу не пришла ему в голову?
Николай не дошел до пляжа. Остановился в прибережном парке, устроился с чемоданом на скамейке, с которой просматривалась только водяная гладь без пестрой суеты песчаной косы: водные велосипеды, чайки, корабль на внешнем рейде… У бордюра ели мороженое и смеялись несколько молодых женщин.
Пожалуй, каждая из этих хохочущих девчонок не отказалась бы познакомится с ним. Прочь — сослагательное наклонение! Завтра он будет отдыхать с любой из них, как со старой подругой. Она будет знать, что нужно ему. Он — что нужно ей. Белая девушка, которую видно насквозь, которая источает радость, спокойствие, ясность.
Сработала защитная реакция организма, следствие напряжения последних часов: Николай уснул прямо на скамейке, распластав руки, высоко запрокинув голову, с открытым ртом.
Когда он проснулся, и обнаружил, что наступил час заката, совсем не хотелось думать, что где-то совсем рядом лязгнули вагоны и северный поезд поплыл в сторону тревожной станции с красивым на слух, но непонятным — толи финно-угорским, толи татарским — названием, отделяя Николая от его тревоги.
…Нелепый со своим огромным чемоданом-торпедой, он спустился на вечерний, пустеющий пляж. Разделся, уложив влажную от пота одежду прямо на гальку, и с опущенными плечами побрел в вечернюю, теплую, как парное молоко, воду.
Шелестело темное море, необычно тревожное и пасмурное. Перед самым погружением в воду Николай почувствовал, что солнце, оказывается, обманув внимание рассеянных купальщиков, было еще в небе и находилось всего лишь на грани захода, — временно спряталось куда-то. В этом заключалась уже никому на этом пустеющем пляже не нужная информация о том, что соответствующий пункт вокзального расписания еще не отмечен крестиком в журнале станционного диспетчера и до отправления поезда остается несколько вполне реальных минут…
А впечатление состоявшегося заката, оказывается, создавала невесть откуда взявшаяся небольшая, но плотная, почти черная тучка, на время вобравшая в себя падающее, беспомощное, усталое голое солнце, став беременной, похожей на тропическую живородящую рыбу — моллинезию, проплывающую над горизонтом. Спустя минуты дальняя половина моря вновь озарилась желтым светом: Моллинезия рожала золотую икринку, огненный шарик еще не развернувшийся жемчужный малек. Малек отделился от черного тела, но лишь шевельнулся, и медленно, вяло, безжизненно, так и не раскрывшись, упал в Черное море.
Николай не плыл — просто медленно шел по дну, сколько было возможно. Остановился, задрав подбородок, чтобы не хлебнуть горького. Глубоко вдохнул, оттолкнулся пальцами ног от песчаного дна, по дельфиньи, стремительным колесом провернул тело над водой и ушел вниз. Пошарил по дну, нащупал большой камень, взялся за него, расслабил тело, замер в подвешенном состоянии. Наверх не хотелось. Здесь было хорошо… Тихо… Прохладно… Не болела грудь… Совсем не хотелось дышать.