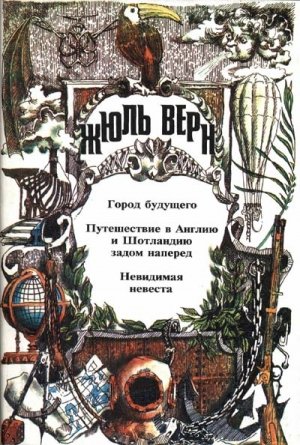
Город будущего
О пагубное воздействие породы, предавшейся светским наукам и презренным техническим ухищрениям, — нет для нее ни короля, ни Бога! Злокозненное отродье! На что оно только не способно! Дай ему волю, и оно без удержу отдастся своему роковому влечению к знанию, изобретательству и совершенствованию.
Поль-Луи Курье
Глава I
ГЕНЕРАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КРЕДИТА
Тринадцатого августа 1960 года на многочисленных станциях парижского метрополитена наблюдалось небывалое оживление. Толпы столичных жителей с разных концов города устремились к тому месту, где прежде находилось Марсово поле.
То был день вручения наград в Генеральном обществе образовательного кредита, так сказать, пантеоне народного просвещения. Его превосходительство министр Украшательства города Парижа собственной персоной должен был председательствовать на этом торжестве.
Генеральное общество образовательного кредита как нельзя лучше отвечало тенденциям индустриального века: то, что сто лет назад именовалось Прогрессом, двинулось вперед семимильными шагами. Монополия — этот истинный венец совершенства, — можно сказать, nec plus ultra,[1] держал в тисках всю страну; создавались, множились, обустраивались общества, — неожиданные результаты их деятельности немало удивили бы наших отцов.
В деньгах недостатка не было, но в какой-то момент, когда железные дороги перешли из частных рук в государственные, средства эти чуть было не оказались невостребованными. В результате возникли избытки капиталов, но еще больше — капиталистов, заинтересованных в финансовых операциях или промышленных сделках.
Отныне не будем удивляться тому, что повергло бы в немалое изумление парижанина девятнадцатого столетия: среди прочих чудес явился Образовательный кредит. Сие общество успешно функционировало вот уже тридцать лет; финансовым главой его являлся барон де Веркампэн.
По мере того как множились новые университеты, лицеи, начальные школы, христианские интернаты, ночлежки, сиротские приюты, работали подготовительные курсы, семинары, конференции, кое-какое образование проникало даже в самые низы общества. И хотя потребность в чтении была начисто утрачена, но, во всяком случае, умение читать и даже писать распространилось повсеместно. Не существовало ни единого отпрыска честолюбивого ремесленника или деклассированного крестьянина, который бы не претендовал на место в администрации. Чиновничество заполонило всю страну. Позже мы увидим, каким бесчисленным легионом служащих прямо-таки по-военному приходилось командовать правительству.
Пока же нам надобно лишь объяснить, каким образом одновременно с приумножением числа людей, нуждающихся в образовании, росло число заведений, где они могли это образование получить. Но разве в прошлом столетии, едва речь заходила о создании новой Франции и обновленном Париже, не были выдуманы все эти общества недвижимости, предпринимательские конторы, Земельный кредит? А строить ли, обучать ли — для деловых людей все едино, ведь, в сущности, образование — это тоже возведение здания, только невидимого.
Так в 1937 году думал барон де Веркампэн, хорошо известный своими грандиозными финансовыми предприятиями. Его посетила идея создать огромный коллеж, где древо познания раскинуло бы все свои ветви, предоставив, впрочем, государству заботу подрезать и прореживать их по собственному усмотрению.
Барон объединил парижские лицеи с провинциальными, Сент-Барб с лицеем Роллена[2] и всякого рода частными заведениями. Образование во Франции стало полностью централизованным. Держатели капиталов откликнулись на его призыв, ибо дело преподносилось под видом промышленного начинания, а сам многоопытный делец был гарантом финансового успеха. Деньги нашлись. Общество учредили.
Барон де Веркампэн затеял этот проект в 1937 году, в эпоху правления Наполеона V.
Проспект компании, выпущенный в количестве сорока миллионов экземпляров, гласил:
«Генеральное обществообразовательного кредитаАкционерное общество закрытого типа, зарегистрированное в парижской нотариальной конторе Мокара и Кº 6 апреля 1937 года и утвержденное Императорским декретом от 19 мая того же года.
Уставной капитал: сто миллионов франков, вложенный в 100 000 акций по 1000 франков каждая.
Административный совет:барон де Веркампэн, командор ордена Почетного легиона, президент; де Монто, офицер ордена Почетного легиона, директор Орлеанской железной дороги.
Вице-президенты:Гарассю, банкир,
маркиз д'Амфисбон, высший офицер ордена Почетного легиона, сенатор,
Рокамон, полковник жандармерии, кавалер Большого Креста,
Дерманжан, депутат,
Фрапплу,[3] кавалер ордена Почетного легиона, генеральный директор Образовательного кредита».
Затем следовал тщательно переложенный на язык цифр Устав общества. Как мы убедились выше, в его правлении не числилось ни единого ученого, ни единого профессора. Так оно было надежнее для коммерческого предприятия.
За деятельностью компании надзирал правительственный инспектор, подчинявшийся министру Украшательства.
Поскольку проект барона оказался удачным и на редкость практичным, то успех превзошел все ожидания. В 1960 году Образовательный кредит насчитывал не менее 157 342 учеников, а сам процесс обучения был механизирован.
Должно признать, что изучение словесности и древних языков (французского в том числе) почти полностью исключалось, латынь и греческий считались языками не только мертвыми, но и похороненными. Правда, для виду еще существовали литературные классы, но им, однако, придавали не слишком большое значение.
Словари, грамматики, сборники переводов с родного на иностранный и обратно, классические авторы — все это чтиво о славных мужьях города Рима, эти Курции Квинты,[4] Саллюстии,[5] Титы Ливии[6] преспокойно пылились на полках почтенного издательства «Ашетт». Что ж до учебников математики, механики, физики, химии, астрономии, всяческих курсов инженерии, коммерции, финансов, промышленных ремесел, то литература подобного рода, отвечая сиюминутным потребностям общества, расходилась во множестве экземпляров. Одним словом, акции компании, невероятно выросшие за двадцать два года, стоили в 1960 году по 10 000 франков каждая.
Не станем более распространяться о процветании Образовательного кредита, ибо, выражаясь языком банкиров, цифры говорят сами за себя.
В конце прошлого века Эколь Нормаль[7] уже заметно пришла в упадок, и мало кто из молодых людей, коих влекло к себе литературное поприще, хотел туда поступить. Многие из них, и отнюдь не самые худшие, забросив свои профессорские мантии, хлынули в журналистику и публицистику. Впрочем, это досадное явление больше не повторялось, ибо вот уже десять лет, как все абитуриенты норовили попасть на факультеты точных наук. Но если преподаватели греческого и латыни тихо угасали в своих опустевших классах, то их дипломированные собратья, доктора точных наук, вознеслись сверх всякой меры, с непревзойденным изяществом расписываясь в платежных ведомостях!
Технические науки преподавали на шести отделениях: математическом, с подразделениями арифметики, геометрии, алгебры; астрономическом, механическом, химическом и, наконец, наиважнейшем — отделении прикладных наук, с подразделениями металлургии, заводостроения, механики и химии, приспособленной для нужд изящных искусств.
Отделению живых языков, бывших в большом почете (кроме французского), придавалось особое значение. Одержимый филолог смог бы изучить здесь две тысячи языков и четыре тысячи наречий, употребляемых во всем мире. Подразделение китайского языка не имело такого множества студентов со времен колонизации Кохинхины.[8]
Общество образовательного кредита владело огромными зданиями, воздвигнутыми на месте бывшего Марсова поля, ставшего ненужным с тех пор, как Марс[9] перестал финансироваться из бюджета. Здесь вырос огромный район, настоящий город с кварталами, площадями, улицами, дворцами, церквями, казармами, похожий на Бордо или Нант и вмещающий сто восемьдесят тысяч душ, включая души преподавательские.
Монументальная арка вела в обширный внутренний двор, названный Вокзалом просвещения и опоясанный учебными корпусами. Столовые, дортуары, зала общего конкурса, где свободно размещались три тысячи учеников, стоили того, чтоб на них взглянуть. Впрочем, старожилов, привыкших за полвека ко всяким чудесам, все это ничуть не удивляло.
Итак, толпа жадно устремилась к месту раздачи наград; подобное торжество — всегда событие, пробуждающее любопытство и вызывающее живой интерес у родственников, друзей и знакомых, коих набиралось до пятисот тысяч. Немудрено, что особое столпотворение отмечалось на станции «Гренель», расположенной тогда в конце Университетской улицы.
Между тем, несмотря на прибывающую толпу, сохранялся полный порядок; правительственные служащие, не слишком ретивые и, стало быть, не такие несносные, как стражи порядка прежних времен, охотно открыли все двери настежь: полтора столетия потребовалось для усвоения простой истины, что при большом скоплении народа стоит не сокращать, а увеличивать количество входов и выходов.
По случаю церемонии Вокзал просвещения был в пышном убранстве. Нет такой площади, сколь велика бы она ни была, которую нельзя заполнить. И вскоре на парадном дворе уже было негде протолкнуться.
В три часа пополудни министр Украшательства города Парижа совершил торжественный выход; его сопровождали барон де Веркампэн и члены Административного совета. Барон занимал место по правую руку от его превосходительства, господин Фрапплу восседал слева. С высоты помоста, куда ни кинь взор, открывалось необъятное море голов. Грянули оркестры заведения; каждый играл в своем тоне и ритме, что создавало невообразимую какофонию, которая, впрочем, не оскорбляла слуха никого из пятисот тысяч присутствующих.
Церемония началась. По рядам прошел шепоток. Наступило время речей.
В прошлом веке некий сатирик по имени Карр[10] издевался (и весьма справедливо!) над официальными речами на дурной латыни, произносимыми при вручении наград. Сегодня он просто не сумел бы найти повода для насмешек, ибо латинское красноречие давно кануло в Лету.[11] Да и кто бы теперь его понял? Это было бы не под силу даже преподавателю класса риторики!
Речь на китайском языке как нельзя лучше заменила латынь; некоторые пассажиры вызвали даже гул одобрения; великолепная тирада о сравнительном изучении культур Зондских островов прошла на «бис». Это словцо все еще было в ходу.
Наконец поднялся заведующий отделением прикладных наук. Наступил торжественный момент. Апогей церемонии.
Неистовую речь оратора переполняли преприятнейшие звуки, напоминавшие свист, стон, шипение работающей паровой машины. Его сбивчивое словоизвержение было подобно запущенному на полную скорость маховому колесу. Режущие слух фразы цеплялись одна за другую, как зубчатые колеса. Не представлялось ни малейшей возможности пресечь напор столь бурного красноречия.
В довершение всего заведующий так взмок, что от него повалил пар, вскоре окутавший оратора с головы до ног.
— Фу ты, черт! — усмехнувшись, сказал соседу пожилой господин с тонкими чертами лица, всем своим видом выражая презрение к подобным ораторским несуразностям. — Что вы об этом думаете, господин Ришло?
Вместо ответа Ришло только пожал плечами.
— Чересчур поддает жару, — словно развивая метафору, продолжал старик, — вы можете мне возразить, что у него имеются предохранительные клапаны. Но согласитесь, если заведующий отделением прикладных наук вдруг лопнет, это создаст пренеприятнейший прецедент!
— Отлично сказано, Югнэн, — отозвался господин Ришло.
Возмущенные крики «Тише!» прервали наших собеседников, обменявшихся понимающими взглядами.
Тем временем оратор не унимался. Он витийствовал, без зазрения совести восхвалял настоящее, как мог чернил прошлое, превозносил современные технические достижения и даже дал понять, что будущему останется лишь почивать на лаврах. Со снисходительной небрежностью вещал он о ничтожном Париже 1860 года и ничтожной Франции прошлого века. Не жалея красок, он живописал блага цивилизации своей эпохи: скоростное передвижение в разные точки столицы и поезда, пересекающие город по битумному покрытию улиц; доставляемую прямо в дома электрическую энергию и уголь взамен пара; наконец, океан, самый настоящий океан, омывающий теперь набережную Гренель. Словом, оратор, то и дело впадавший в дифирамбический маразм, был возвышен, лиричен, выспренен, неподражаем, а точнее сказать, несносен и до крайности несправедлив, ибо не желал признать, что все чудеса двадцатого столетия были подготовлены веком девятнадцатым.
На той же самой площади, где сто семьдесят лет назад восторженно отмечался праздник Федерации, звучали бурные овации.
Однако всему на свете приходит конец. Кончились и речи. Наш оратор, пыхтя как машина, наконец остановился. Ораторские словоизвержения благополучно завершились. Приступили к раздаче наград.
На главный конкурс была предложена следующая задача по высшей математике:
«Даны две окружности О и О'. Из точки А на окружности О проведены касательные к окружности О'. Из той же точки А проведена касательная к окружности О. Найти точку пересечения этой касательной с хордой, соединяющей точки касания на окружности О'».
Все понимали важность этой теоремы. Стало известно, что ученик по фамилии Жигуже (Франсуа Неморен) родом из Бриансона (департамент Верхние Альпы) решил ее совершенно новым способом. Как только назвали лауреата, послышались выкрики «браво», и в течение того памятного дня имя его произнесли семьдесят четыре раза. Приветствуя победителя, публика неистовствовала, круша скамьи и стулья (что, впрочем, даже в 1960 году все еще оставалось метафорой, призванной передать энтузиазм толпы).
За свою победу Жигуже (Франсуа Неморен) награждался библиотекой из трех тысяч томов. Общество образовательного кредита, как обычно, не поскупилось.
Мы не можем приводить нескончаемый перечень всех наук, преподаваемых в этой казарме просвещения: список лауреатов сильно удивил бы прадедов молодых ученых.
Награждение шло своим чередом, причем, когда какой-нибудь бедолага из подразделения словесности, зардевшийся при оглашении его имени, получал приз за перевод на латынь или похвальный лист за переложение с греческого, отовсюду раздавались смешки. Один раз зал просто взорвался от хохота, выкрикивая колкости и иронические замечания, способные хоть кого выбить из седла. Так произошло, когда господин Фрапплу довел до сведения присутствующих следующее сообщение:
«Первый приз за стихи на латыни: Дюфренуа (Мишель Жером), город Ванн (департамент Морбиан)».
Взрыв веселья был всеобщим, то и дело слышались выкрики из толпы:
— Приз за латинские вирши, ну и ну!
— Да он единственный, кто сумел такое накропать!
— Взгляните-ка на этого обитателя Пинда![12]
— На этого завсегдатая Геликона![13]
— На этого любимца Парнаса!
— Он выйдет? Или не выйдет?! — и т. п.
Тем временем Мишель Жером Дюфренуа уверенно шагал за наградой, не обращая ни малейшего внимания на гиканье и смешки. Это был молодой человек приятной наружности с красивыми глазами, державшийся без всякого стеснения или неловкости. Длинные белокурые волосы придавали его облику нечто женственное.
Он подошел к помосту и скорее вырвал, нежели получил из рук заведующего свою награду. Она состояла из единственной книги под названием: «Пособие для образцового заводчика».
Мишель презрительно взглянул на томик, швырнул его на землю и с видом победителя преспокойно вернулся в зал, даже не облобызав чиновничьи щечки его превосходительства.
— Здорово! — заметил господин Ришло.
— Отважный малый, — подтвердил господин Югнэн.
Глухой ропот пробежал по рядам. Лауреат встретил его презрительной улыбкой и под улюлюканье однокашников уселся на место.
К семи часам вечера грандиозная церемония благополучно завершилась. Было вручено пятнадцать тысяч призов и двадцать семь тысяч похвальных грамот.
Главные лауреаты в области наук удостоились в тот вечер ужина в обществе барона де Веркампэна, членов Административного совета и крупнейших акционеров. Радость последних, впрочем, объяснялась цифрами. Дивиденды на каждую акцию за истекший 1960 год составили 1169 франков 33 сантима. Доход уже превышал исходную стоимость акций.
Глава II
ОБОЗРЕНИЕ ПАРИЖСКИХ УЛИЦ
Мишель Дюфренуа, увлекаемый толпой, уподобился ничтожнейшей капле воды в реке, которая, прорвав сковывающие ее плотины, превратилась в бурный поток. Воодушевление постепенно покидало его. В веселой кутерьме юный чемпион по латинскому стихосложению вновь обрел былую застенчивость; он чувствовал себя чужаком, одиноким и словно заброшенным в пустоту.
Однокашники Мишеля стремительно разбегались, он же шел медленно, неуверенно, остро ощущая свое сиротство на этом сборище самодовольных родственников. Похоже, он грустил и о годах своей учебы, и о своем коллеже, и о своем учителе.
У него не было ни отца, ни матери, и ему предстояло войти в семью, где никто не мог понять его. Он был уверен, что с его наградой за латинское стихосложение его ждет отнюдь не теплый прием.
— Ну что ж! — говорил он себе. — Главное — не падать духом! Перенесу стоически их дурное настроение! Дядюшка мой — человек расчетливым, тетушка — женщина практичная, а кузен — малый трезвый. И я, и мой образ мыслей конечно же будут встречены ими в штыки; но что поделаешь! Вперед!
Однако Мишель не торопился. Он даже отдаленно не напоминал школяра на каникулах, а ведь известно, что школяры стремятся к воле, как народы к свободе. Его дядя и опекун не посчитал нужным присутствовать на вручении наград. Он был уверен, что его племянник «бездарь» (он так и говорил), и, наверное, умер бы от стыда, увидев, что его награждают как юного выкормыша муз.
Толпа тем временем все дальше влекла незадачливого лауреата: в людском потоке он чувствовал себя словно утопающий на стремнине.
«Сравнение справедливо, — думал Мишель, — меня влечет в открытое море. Там, где надо бы перевоплотиться в рыбу, я могу уповать лишь на свой инстинкт птицы. Я люблю жить в бескрайнем пространстве, в тех идеальных краях, куда дорога давно забыта, в стране мечтаний, откуда возврата нет!»
Погруженный в собственные грезы, наш герой, не обращая внимания на суетливую толкотню, добрался до станции «Гренель».
Эта линия метрополитена обслуживала левый берег Сены, проходя по бульвару Сен-Жермен, простиравшемуся от Орлеанского вокзала до зданий Образовательного кредита: там, поворачивая к реке, она пересекала Йенский мост, покрытый специальным настилом с проложенными по нему рельсами, и соединялась с железнодорожными путями правого берега. Здесь эти пути, пройдя через тоннель под площадью Трокадеро, выходили на Елисейские поля, достигали Больших бульваров, поднимались вдоль них до площади Бастилии и по Аустерлицкому мосту вновь возвращались на левый берег.
Это первое кольцо метрополитена почти совпало с границами Парижа времен Людовика XV; оно проходило там, где когда-то высилась стена, от которой сохранился лишь благозвучный стих: «Le mur murant Paris rend Paris murmurant».[14]
Вторая линия метрополитена, длиною в тридцать два километра, соединила бывшие предместья Парижа, пройдя по кварталам, прежде расположенным за пределами внешних бульваров.
Общая протяженность третьей линии, совпавшей с бывшей кольцевой дорогой, составила пятьдесят шесть километров.
Наконец, четвертая линия, соединившая между собой окружавшие столицу форты, имела протяженность более ста километров.
Как видим, Париж прорвал свои границы 1843 года и, ничуть не стесняясь, поглотил Булонский лес, равнины Иси, Ванва, Бийанкура, Монружа, Иври, Сен-Манде, Баньоле, Пантена, Сен-Дени, Клиши и Сент-Уэна. Его вторжение на запад было приостановлено возвышенностями Мёдона, Севра и Сен-Клу. Современные границы столицы проходили через форты Мон-Валерьен, Сен-Дени, Обервилье, Роменвиль, Венсен, Шарантон, Витри, Бисетр, Монруж, Ванв, Иси; город окружностью в двадцать семь лье[15] полностью вобрал в себя департамент Сена.
Итак, сеть метрополитена состояла из четырех концентрических колец. Связывались они между собой радиальными ветками, которые на правом берегу следовали по бульварам Мажента и Мальзерб, а на левом — по улицам Рен и Фосе-Сен-Виктор. Теперь с одного конца Парижа в другой можно было добраться очень быстро.
Эти железнодорожные пути (рейлвеи) существовали с 1913 года. Были сооружены они на средства государства по проекту, предложенному в прошлом веке инженером Жоанном.[16]
Тогда на суд правительства было предложено немало проектов, правительство же передавало их на рассмотрение Совета инженеров гражданского строительства, поскольку корпус инженеров мостодорожного строительства вместе с Эколь Политекник[17] перестали существовать в 1889 году. Однако господа из Совета долго не могли прийти к единому мнению: одни хотели проложить надземную дорогу прямо по главным парижским улицам, другие ратовали за подземку наподобие лондонской.
Для первого решения потребовалось бы установить шлагбаумы, преграждающие пути во время прохождения поездов. Легко представить, к каким заторам для пешеходов, экипажей и повозок это бы привело. Второй проект был непомерно труден для выполнения; к тому же перспектива погрузиться в нескончаемый тоннель вряд ли вдохновила бы пассажиров. Все линии, когда-либо проложенные в подобных плачевных условиях, требовали реконструкции, в том числе и ветка, ведущая в Булонский лес. Ее тоннели и мосты создавали крайние неудобства для пассажиров, вынужденных за двадцать три минуты пути двадцать семь раз прерывать чтение своих газет.
Проект Жоанна сумел объединить все достоинства — быстроту, удобство, комфорт, и вот уже полстолетия метрополитен работал ко всеобщему удовольствию.
Система эта имела две раздельные колеи. По первой поезда шли в одном направлении, по другой — навстречу, что исключало возможность столкновения. Каждый из путей, следуя вдоль бульваров, возвышался над внешним краем тротуара в пяти метрах от домов. Все сооружение покоилось на изящных колоннах из гальванизированной бронзы, скрепленных между собой ажурной арматурой; колонны и соседние дома на равных расстояниях были соединены поперечными аркадами, служившими дополнительными упорами.
Таким образом, этот длинный виадук, по которому шла рельсовая колея, образовывал нечто вроде крытой галереи, где прохожие могли укрыться от дождя и солнца. Залитая битумом часть улицы отводилась для экипажей; элегантной дугой виадук перешагивал через все магистрали, перерезавшие его путь, и железнодорожное полотно, подвешенное на уровне антресольных этажей, нисколько не мешало уличному движению. В нескольких прилегающих зданиях были оборудованы станции с залами ожидания; они сообщались с платформами широкими пешеходными мостиками, а снизу, с улицы, пассажиры поднимались в зал по лестнице с двойными маршами.
Станции метрополитена, проходившего по бульварам, располагались на площадях Трокадеро и Мадлен, возле рынка Бон-Нувель, на улице Тампль и на площади Бастилии.
Подобный виадук, покоящийся на простых колоннах, наверняка бы не выдержал прежних тягловых средств с их тяжеловесными локомотивами. Однако благодаря применению новой движущей силы поезда стали легкими и быстроходными, они следовали один за другим с интервалом в десять минут, и каждый вмещал в свои комфортабельные салоны до тысячи пассажиров.
Близлежащие дома не страдали ни от пара, ни от копоти по той простой причине, что упразднили локомотивы. Поезда двигались силою сжатого воздуха по системе Уильяма, рекомендованной известным бельгийским инженером Жобаром,[18] успешно работавшим в середине XIX века.
На всем протяжении пути между рельсами была проложена ведущая труба диаметром в двадцать сантиметров и толщиной в два миллиметра. В ней помещался диск из мягкой стали, приводившийся в движение воздействием воздуха, сжатого до нескольких атмосфер, подаваемого Обществом парижских катакомб. Этот диск, подобно пуле, выпущенной из духового ружья, скользил по трубе с огромной скоростью, увлекая за собой головной вагон состава. Но каким образом вагон взаимодействовал с диском, заключенным в сплошную трубу и никак не соприкасавшимся с внешней средой? С помощью электромагнитной силы.
Действительно, между колесами головного вагона, совсем близко к трубе, но не касаясь ее, справа и слева размещались магниты. Через стенки трубы они воздействовали на диск из мягкой стали.[19] Последний же скользил, движимый сжатым воздухом, не имеющим возможности вырваться наружу, и тащил за собой весь состав.
Для остановки поезда станционный служащий должен был открыть кран: тогда воздух устремлялся наружу, а диск замирал на месте. Как только кран закрывали и подавали воздух, который вновь начинал давить на диск, поезд немедленно набирал скорость.
Итак, могло показаться, что столь простая система, с таким несложным управлением, не дающая ни дыма, ни копоти, исключающая столкновения и позволяющая преодолевать любые подъемы, существовала с незапамятных времен.
На станции «Гренель» молодой Дюфренуа взял билет и через десять минут был уже на платформе «Мадлен». Спустившись на бульвар, он направился к улице Империаль, ведущей от Оперы до сада Тюильри.
День клонился к вечеру, на улицах царило оживление. Роскошные магазины расточали тысячи электрических огней. Уличные канделябры, использовавшие открытый Уэем принцип электризации ртутной струи, светили необычайно ярко. Они соединялись между собой подземным кабелем, и, таким образом, сто тысяч парижских фонарей вспыхивали одновременно, все как один.
Однако некоторые старомодные лавчонки хранили верность газовым светильникам. Разработка новых месторождений угля позволяла снабжать потребителей газом по цене десять сантимов за один кубический метр; при этом компания получала немалые прибыли, особенно продавая газ в качестве горючего для двигателей.
В самом деле, среди сновавших по бульварам бесчисленных экипажей большинство передвигалось без помощи лошадей. Толкала их невидимая сила, а именно мотор, работавший по принципу расширения воздуха за счет сгорания газа. Мотор этот, изобретенный Ленуаром[20] в 1859 году и теперь применяемый в качестве двигателя, обладал тем несомненным преимуществом, что ему не требовались ни котел, ни топка, ни обычное горючее. Небольшое количество осветительного газа смешивалось с воздухом, поступало под поршень и зажигалось электрической искрой, отчего и происходило движение. Газозаправочные колонки, установленные на многочисленных стоянках, снабжали всех водородом, необходимым для двигателей. Новые усовершенствования позволили обходиться без воды, которая прежде требовалась для охлаждения цилиндра машины.
Итак, машина стала доступной, простой и удобной в управлении. Механик со своего сиденья управлял рулевым колесом, а с помощью педали, расположенной у него под ногой, мог быстро изменять скорость движения.
Ежедневные затраты на подобный экипаж мощностью в одну лошадиную силу были в восемь раз меньше, чем стоимость содержания одной лошади. Тщательно контролируемый расход газа позволял подсчитать время полезной работы каждого экипажа, и уже никто не мог обмануть компанию, как прежде это делали возницы.
Газ-кебы потребляли очень много водорода, не говоря уж о груженных камнями и прочими тяжестями огромных повозках мощностью в двадцать — тридцать лошадиных сил. Система Ленуара имела и то преимущество, что во время простоя поддержание машины на ходу ничего не стоило. Разве можно было представить такое с паровыми машинами, пожиравшими топливо даже на остановках?
В результате транспорт стал скоростным, а движение по улицам менее интенсивным, ибо постановлением министра полиции въезд в город всему тяжелому транспорту после десяти часов утра был воспрещен, и водителям приходилось пользоваться окружной дорогой.
Все эти нововведения как нельзя лучше соответствовали тому суматошному веку, когда ни одно дело не терпело ни малейшего отлагательства, не давало никакой передышки.
Что сказали бы наши предки, доведись им увидеть бульвары, залитые светом, сравнимым разве с сиянием солнца; бесконечные вереницы бесшумно скользящих по гладкому битуму экипажей; ослепительно сверкающие, похожие на сказочные дворцы, роскошные магазины; улицы, обширные как площади, и площади, бескрайние как равнины; грандиозные шикарные отели, вмещающие до двадцати тысяч постояльцев; легкие виадуки; бесконечные изысканные галереи; мосты, переброшенные через улицы, и, наконец, эти сверкающие поезда, рассекающие пространство с фантастической скоростью!
Они, несомненно, подивились бы всему этому великолепию, но люди 1960-х годов вовсе не были в восторге от подобных чудес. Они спокойно пользовались ими, отнюдь не становясь от этого более счастливыми: их торопливая походка, способность схватывать все на лету, их прямо-таки американский азарт свидетельствовали о том, что ими овладела жажда обогащения, безудержно влекущая их вперед и вперед, без устали и милосердия.
Глава III
В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ ПРАКТИЧНОЕ СЕМЕЙСТВО
Наконец-то молодой человек прибыл к своему дядюшке, господину Станисласу Бутардэну, банкиру и директору Общества парижских катакомб.
Сия важная персона обитала на улице Империаль в великолепном особняке — тяжеловесном сооружении дурного вкуса, продырявленном множеством окон; то была настоящая казарма, превращенная в частное жилище, угрюмая и приземистая. Весь первый этаж и флигели особняка занимали конторы.
«Так вот где пройдет вся моя жизнь! — думал Мишель, не решаясь переступить порог. — Неужели у этих дверей мне придется оставить всякую надежду?»
У него возникло непреодолимое желание бежать куда глаза глядят, но он справился с собой и нажал кнопку электрического звонка. Ворота распахнулись, повинуясь невидимому механизму, и, пропустив посетителя, сами же закрылись.
Через просторный двор можно было попасть в конторы, разместившиеся по кругу под общей крышей из матового стекла. В глубине виднелся громадный гараж, где несколько газ-кебов ожидали приказа своего хозяина.
Мишель направился к подъемнику, представляющему собой нечто вроде комнатки с обитым материей круговым диваном вдоль стен; там неотлучно дежурил слуга в оранжевой ливрее.
— Месье Бутардэн у себя? — спросил Мишель.
— Месье Бутардэн только что сел за стол, — отозвался лакей.
— Соблаговолите доложить о месье Дюфренуа, его племяннике.
Слуга дотронулся до металлической кнопки, видневшейся среди деревянных инкрустаций, и подъемник плавно взмыл на второй этаж, где и была столовая.
— Месье Дюфренуа, — объявил лакей.
Господин Бутардэн, госпожа Бутардэн и их сын сидели за столом. Появление молодого человека было встречено гробовым молчанием. Для него был уже накрыт прибор. Обед только начался, и по знаку дяди племянник занял за столом свое место. Никто с ним не заговорил. Здесь явно знали о его бедственном положении. К еде Мишель так и не притронулся.
Трапеза напоминала поминки. Слуги бесшумно сновали, блюда доставлялись с помощью специальных бесшумных подъемников, скользящих в шахтах, пробитых в толще стен. На обильных яствах, казалось, лежала печать скаредности: гостей угощали как бы по необходимости. В этой печальной, нелепо раззолоченной зале ели торопливо и без всякого удовольствия, словно еда являла собой не наслаждение, а бесконечный труд ради насыщения. Задумавшись, Мишель внутренне содрогнулся.
За десертом дядя наконец заговорил:
— Завтра поутру, сударь мой, нам следует побеседовать.
Мишель молча поклонился. Слуга в оранжевой ливрее проводил молодого человека в отведенную ему комнату, и тот сразу же лег в постель. При виде шестиугольного потолка в памяти его закружился рой геометрических теорем; невольно он стал представлять себе треугольники и прямые, опускающиеся с вершин на одно из оснований.
— Ну и семейка! — засыпая, бормотал Мишель, беспокойно ворочаясь.
Господин Станислас Бутардэн, типичный продукт индустриального века, был явно взращен в теплице, а не рос свободно на воле. Человек до крайности практичный, он занимался только тем, что приносило выгоду, и все его мысли были направлены на извлечение этой самой выгоды. Им руководило неуемное желание быть полезным, воистину перераставшее в идеальный эгоизм. Как выразился бы Гораций,[21] банкир соединял неприятное с полезным. Его тщеславие проявлялось в каждом слове, а еще больше в каждом жесте. Он не позволил бы опередить себя даже собственной тени. Он изъяснялся граммами и сантиметрами и постоянно носил с собой трость с метрическими делениями, что позволяло ему досконально познавать предметы этого мира. Он выказывал исключительное презрение к искусствам, а особенно к художникам, создавая тем самым впечатление, что знаком с ними. Для него живопись остановилась на сепии, рисунок — на чертеже, скульптура — на гипсовой фигурке, музыка — на паровозном свистке, а литература — на биржевом бюллетене.
Этот человек, воспитанный на вере в механику, всю свою жизнь представлял в виде сцеплений и трансмиссий. Да и сам он двигался равномерно, стараясь производить как можно меньше трения, словно поршень в хорошо расточенном цилиндре. Свое равномерное движение он передавал жене, сыну, служащим, слугам, выступавшим в роли станков, из которых он, главный мотор, извлекал наибольшую в мире пользу.
Короче говоря, равнодушный тип, равно не склонный ни к добрым побуждениям, ни к дурным поступкам. Он не был ни плохим, ни хорошим, а просто ничтожным, крикливым и чудовищно заурядным.
Бутардэн-старший сколотил себе немалое состояние, если в этом случае вообще уместно понятие «сколотить». Индустриальный взлет века вознес нашего героя; за это он возблагодарил технический прогресс, в полном смысле слова обожествив его. Одним из первых он обрядил себя и свое семейство в одежду из железной пряжи, появившейся в 1934 году. К сожалению, ткань из нее, довольно мягкая и на ощупь напоминавшая кашемир, плохо грела, и зимой такую одежду сажали на теплую подкладку. Сносу одежде из железной пряжи не было, но рано или поздно она начинала ржаветь; тогда ее чистили наждаком и перекрашивали по моде дня.
В обществе положение банкира Бутардэна определялось так: директор Общества парижских катакомб и поставок на дом двигательной силы.
Деятельность этого общества состояла в накоплении воздуха в огромных, давно заброшенных подземельях. Воздух нагнетали туда под постоянным давлением в сорок — пятьдесят атмосфер, а затем по трубопроводам подавали в мастерские, прядильни, мукомольни, на фабрики и заводы, в общем, туда, где требовалась механическая тяга. Как уже отмечалось, этот воздух приводил в движение и поезда метрополитена, следовавшие по бульварам. Чтобы обширные резервуары не оскудевали, тысяча восемьсот пятьдесят три ветряные мельницы, сооруженные на равнине Монруж, с помощью мощных насосов бесперебойно качали в них воздух.
Идея использовать силы природы — бесспорно крайне практичная — быстро нашла в лице банкира Бутардэна самого горячего приверженца. Он стал директором вышеназванной крупнейшей компании, одновременно оставаясь членом пятнадцати или двадцати наблюдательных советов, вице-президентом Общества тягловых локомотивов, управляющим отделения Объединенной торговой конторы битумных покрытий и т. д. и т. п.
Сорок лет назад господин Бутардэн женился на девице Атенаис Дюфренуа, тетке Мишеля. Для банкира она стала на редкость достойной спутницей: угрюмая, расплывшаяся страхолюдина, типичная учетчица или кассирша, начисто лишенная женского обаяния, но зато знавшая толк в счете; она превосходно разбиралась в двойной бухгалтерии, а при надобности изобрела бы и тройную; словом, этакий администратор в юбке, управляющий женского пола.
Любила ли она господина Бутардэна и была ли любима им? Да, насколько могли любить эти индустриальные сердца. Завершая портрет нашей супружеской пары, образно скажем: она была паровой машиной, а он — машинистом-механиком. Он поддерживал ее в прекрасном состоянии, чистил, смазывал, и так она катилась уже полвека; при этом разума и воображения у нее было не больше, чем у паровоза Крэмптона.[22]
Излишне говорить, что с рельсов она никогда не сходила.
Чтобы представить себе сынка, помножьте мать на отца, и в итоге получите главного компаньона банковского дома «Касмодаж и Кº» Атаназа Бутардэна, в высшей степени приятного молодого человека, унаследовавшего веселость отца и элегантность матушки. В его присутствии не рекомендовалось шутить: ему казалось, что над ним смеются, и он принимался хмурить брови и непонимающе глядеть на собеседника. На генеральном конкурсе он удостоился главного приза по банковскому делу; стоит подчеркнуть, что он не просто заставлял деньги работать, а умудрялся выжать из них все до последней капли. В душе он был истинным ростовщиком. Атаназ мечтал жениться на дурнушке с богатым приданым, дабы оно возместило ее уродство. В двадцать лет он уже носил очки в алюминиевой оправе. Будучи человеком недалеким и отменным занудой, он всегда находил повод придраться к своим сотрудникам, устраивая им нечто вроде игры в веревочку. Одна из его причуд состояла в том, чтобы поднять шум по поводу пустой кассы, в то время как на деле она ломилась от золота и банкнот. В общем, скверный человечек, юный бессердечный старичок, не знавший ни молодости, ни друзей. Отец просто боготворил его.
Итак, вот к какому семейству, к какой домашней троице юный Дюфренуа вынужден был обратиться за помощью и поддержкой. Господин Дюфренуа, брат мадам Бутардэн, обладал изрядной деликатностью и утонченными чувствами, то есть теми качествами, которые у его сестрицы обратились в пренеприятнейшие свойства характера. Этот несчастный художник, талантливейший музыкант, рожденный для лучшей участи, рано скончался, не выдержав нужды и лишений, оставив сыну в наследство лишь свой поэтический дар, свои способности и высокие устремления.
Мишель знал, что у него где-то есть еще дядя, некий Югнэн, о котором, впрочем, никогда не упоминали; дядя был одним из образованных и скромных бедняков, смирившихся со своей судьбой, одно лишь упоминание о которых вгоняло в краску богатых родственников. Мишелю запретили видеться с дядей, и поскольку он не был с ним знаком, то и не помышлял о встрече.
Положение нашего сироты в обществе было, таким образом, четко предопределено: с одной стороны — дядюшка, бессильный ему помочь, с другой стороны — семейка, нуждавшаяся в сердце исключительно для того, чтобы проталкивать кровь в артерии, и богатая только теми достоинствами, что чеканятся на Монетном дворе.
Поэтому благодарить Провидение было явно не за что.
На следующий день Мишель спустился в дядюшкин кабинет — помещение в высшей степени внушительное, затянутое строгих тонов тканью; там его уже ждали банкир, его супруга и их сын. Встреча обещала быть торжественной.
Стоя у камина, господин Бутардэн, выпятив грудь и заложив руку за борт жилета, произнес следующее:
— Месье, сейчас вы услышите слова, которые я попрошу вас запомнить раз и навсегда. Ваш отец был художником. Этим все сказано. Мне хотелось бы надеяться, что вы не унаследовали его плачевных наклонностей. Однако я обнаружил в вас задатки, которые следует искоренить. Вы любите витать в облаках, и до сих пор самым ощутимым результатом всех ваших потуг явился бесславно выигранный вами вчера приз за латинские стихи. Подведем итог. У вас нет ни гроша, что само по себе прискорбно. Еще немного, и вы рискуете лишиться родственников. У себя в семье я не потерплю поэтов! Вы меня поняли? Не желаю видеть этих субъектов, что плюются рифмами людям в лицо! Отныне вы живете в богатом семействе, и будьте любезны не компрометировать его! Художник недалеко ушел от клоуна, которому я бросаю из своей ложи сто солей,[23] дабы он потешил меня после трапезы. Вам ясно? Никаких талантов. Только способности. А поскольку я не обнаружил в вас никаких особых склонностей, то решил, что вы будете служить в банке «Касмодаж и K°» под руководством вашего кузена. Берите с него пример, старайтесь стать практичным человеком! Помните: в ваших жилах течет также кровь Бутардэнов, зарубите это себе на носу и потрудитесь никогда не забывать об этом!
Как видно, в 1960 году порода Прюдомов еще не исчезла; напротив, они преуспевали в сохранении своих славных традиций. Что мог возразить Мишель на подобную тираду? Да ничего. Он промолчал, в то время как тетушка и кузен согласно кивали.
— Ваши каникулы, — продолжал банкир, — начались сегодня утром и заканчиваются сегодня вечером. Завтра вас представят главе дома «Касмодаж и Кº». А теперь ступайте.
Молодой человек покинул дядюшкин кабинет. На глаза его навернулись слезы, но он сдержался и не заплакал.
— У меня только один день свободы, — сказал он себе, — и я проведу его так, как мне будет угодно. У меня осталось несколько солей. Положим начало собственной библиотеке и накупим книг великих поэтов и знаменитых авторов прошлого века. Вечерами они помогут мне позабыть мои дневные невзгоды.
Глава IV
О НЕКОТОРЫХ АВТОРАХ XIX СТОЛЕТИЯ,
А ТАКЖЕ О ТОМ, КАК ТРУДНО
РАЗДОБЫТЬ ИХ КНИГИ
Мишель быстро вышел на улицу и направился к Дому книги пяти частей света, огромному пакгаузу на улице Мира, которым руководил крупный государственный чиновник.
«Тут наверняка сосредоточены все сокровища человеческого разума», — думал наш герой.
Он вступил в обширный вестибюль, посередине которого размещалось центральное Бюро заказов, связанное телеграфом с самыми удаленными точками магазина. Многочисленные служащие беспрестанно сновали во всех направлениях. Специальные подъемники, приводимые в движете противовесами, скользящими по проложенным в стенах шахтам, поднимали служащих к верхним рядам стеллажей. Толпы посетителей осаждали бюро, и разносчики сгибались под тяжестью книг.
Застыв от изумления, Мишель тщетно пытался пересчитать бесчисленное множество томов, теснившихся на полках, но вскоре взгляд его заблудился в бесконечных галереях этого имперского учреждения.
«Мне никогда не удастся прочесть все это», — подумал он, занимая очередь в Бюро заказов. Наконец он добрался до окошечка.
— Что желаете, месье? — спросил его служащий, заведующий секцией заказов.
— Я хотел бы Полное собрание сочинений Виктора Гюго, — ответил Мишель.
Служащий вытаращил глаза:
— Виктора Гюго? А что он написал?
— Это один из великих, даже величайших поэтов девятнадцатого века! — проговорил, краснея, Мишель.
— Вам известно это имя? — спросил служащий у своего коллеги, заведующего секцией поиска.
— Никогда о нем не слышал, — удивился тот. — Вы уверены, что правильно написали имя? — обратился он к Мишелю.
— Совершенно уверен, — подтвердил молодой человек.
— Честно говоря, — продолжал служащий, — нам не часто приходится продавать литературные сочинения, но раз вы так уверены… Рюго, Рюго… — повторял он, передавая по телеграфу заказ.
— Гюго, — поправил Мишель. — Будьте любезны, справьтесь также о Бальзаке, де Мюссе и Ламартине.
— Это ученые?
— Нет! Писатели.
— Ныне живущие?
— Нет. Умершие сто лет назад.
— Месье, мы приложим все усилия, чтобы выполнить ваш заказ. Но, боюсь, наши поиски будут долгими, а главное, совершенно напрасными.
— Я подожду, — растерянно произнес Мишель и отошел в сторону.
«Значит, всей этой славы не хватило даже на век! — думал он. — И „Восточные мотивы“,[24] „Раздумья“,[25] „Первые стихотворения“,[26] „Человеческая комедия“[27] забыты, затеряны, утрачены безвозвратно, никому не известны! В общем, канули в Лету!»
Тем временем гигантские паровые подъемные краны опускали в различные залы огромные пачки книг, а возле центрального бюро толпилось изрядное количество покупателей. Один заказывал «Теорию трения» в двадцати томах, другой — «Обзор работ по проблемам электричества», третий — «Руководство по смазке ведущих колес», четвертый спрашивал «Монографию о новейших открытиях в области рака мозга».
«Вот так, — размышлял Мишель, — опять естественные науки! Опять промышленность! Здесь, как и в коллеже, ни звука об искусстве! Надо быть безумцем, чтобы спрашивать художественную литературу! Может, я и впрямь не в своем уме?»
В таких вот раздумьях наш герой провел целый час. Поиски продолжались, телеграф работал без устали, требуя подтверждения имен авторов. Перерыли подвалы и чердаки — все тщетно. Пришлось смириться.
— Месье, — заведующий отделом ответов наконец обратился к Мишелю, — у нас указанных вами авторов нет. В свое время они были, наверное, не слишком известны; их сочинения вряд ли переиздавались…
— Но «Собор Парижской Богоматери», — отозвался молодой человек, — был издан тиражом в пятьсот тысяч экземпляров.
— Охотно верю, месье, но из старых авторов, переизданных в наши дни, у нас имеется только Поль де Кок,[28] моралист прошлого века; сдается мне, что он недурно писал. Если вы желаете…
— Я поищу в другом месте, — уклонился Мишель.
— О! Вы обегаете весь Париж и ничего не найдете. Чего нет здесь, нет нигде.
— Посмотрим, — пробурчал Мишель, направляясь к выходу.
— Но, месье, — настаивал служащий с усердием, достойным приказчика из бакалейной лавочки, — может, вам предложить современных авторов? У нас есть несколько сочинений, наделавших немало шума в последнее время. Для поэтических сборников они идут совсем неплохо…
— О! Весьма заманчиво, — оживился Мишель, — у вас есть и современная поэзия?
— Разумеется. Например, «Электрические гармонии» Мартийяка, отмеченные Академией наук; или, к примеру, «Раздумья о кислороде» господина де Пюльфаса, «Поэтический параллелограмм», «Обезуглероженные оды»…
Дальше Мишель слушать уже не мог. Ошеломленный и обескураженный, он выскочил на улицу. Даже то немногое, что осталось от искусства, не избежало гибельного воздействия времени! Естественные науки, химия, механика безжалостно вторглись в сферу поэзии!
— И такую галиматью читают, — повторял он, шагая по улицам, — и даже покупают! И авторы под ней подписываются! И занимают место на книжных полках, отведенных под беллетристику! А Бальзака и Виктора Гюго в магазинах не найти! Но где же тогда их искать? Конечно, в библиотеке!
И Мишель устремился в Императорскую библиотеку. Она заметно разрослась и уже занимала большую часть зданий на улице Ришелье, начиная от улицы Нёв-де-Пети-Шам до улицы Биржи. От беспрестанно поступающих книг старинный особняк Неверов трещал по швам. Каждый год в свет выходило баснословное количество научных трудов, издатели с ними не справлялись, и поэтому государству пришлось взять на себя труд издателя. Даже если умножить на тысячу девятьсот томов, оставленных Карлом V,[29] то полученная цифра все равно будет далека от общего числа книг, хранящихся в библиотеке; с восьмисот тысяч книг в 1860 году библиотечное собрание возросло до двух миллионов с липшим.
Мишелю указали на залы, отведенные под художественную литературу, и по лестнице иероглифов, на которой вовсю орудовали киркой реставраторы-каменщики, он поднялся наверх.
Добравшись до зала словесности, Мишель нашел его совершенно безлюдным; однако теперь он казался гораздо более притягательным, нежели был в прежние времена, когда его заполняли любознательные читатели. Впрочем, сюда иногда забредали поглазеть иностранцы, подобно тому как едут взглянуть на пустыню Сахару; тогда им показывали стол, за которым в 1875 году умер один араб, проведший здесь всю свою жизнь.
Формальности, необходимые для получения литературы, оказались тем не менее достаточно сложными: в требовании за подписью читателя следовало указать название книги, ее формат, дату выхода, номер и фамилию автора, словом, не будучи отягощенным изрядным грузом знаний, листок заполнить было невозможно. Более того, требовалось еще указать свой возраст, место жительства, профессию и цель исследования.
Мишель заполнил требование в полном соответствии с принятыми правилами и протянул его заспанному библиотекарю. Следуя его примеру, дежурные по залу, прикорнувшие на стульях, расставленных вдоль стен, оглушительно храпели. Их должности стали теперь такой же синекурой, как и обязанности билетеров в театре «Одеон».
Внезапно пробудившись, библиотекарь поднял глаза на дерзкого юношу, затем прочитал требование, и на его физиономии отразилось полное изумление. После долгого размышления он, к великому ужасу Мишеля, отослал его к служащему рангом пониже, одиноко трудившемуся возле окна за маленьким столиком.
Мишель увидел человека лет семидесяти, с живым, доброжелательным взглядом и улыбкой на лице, словом, типичного ученого, который знает, что ничего не знает. Этот скромный служащий взял требование и внимательно изучил его.
— Так вы спрашиваете авторов девятнадцатого столетия? — проговорил он. — Право же, для них это большая честь; воспользуемся случаем и смахнем с книг вековую пыль. Итак, господин… Мишель Дюфренуа?
Прочитав имя, старик порывисто вскинул голову.
— Вы — Мишель Дюфренуа! — воскликнул он. — В самом деле, а я даже и не взглянул на вас.
— Вы меня знаете?
— Знаю ли я вас!..
Больше старик не мог вымолвить ни слова: на его добром лице отразилось неподдельное волнение, он протянул Мишелю руку, и тот искренне и горячо пожал ее.
— Я — твой дядя, — произнес наконец старичок, — твой старый дядюшка Югнэн, брат твоей бедной матушки.
— Вы — мой дядя? — взволнованно воскликнул Мишель.
— Ты меня не знаешь! Но я тебя знаю, дитя мое! Я присутствовал при вручении тебе приза за великолепное латинское стихосложение! Ах, как сильно билось мое сердце, а ты об этом даже не подозревал!
— Дядюшка!
— Знаю, дорогой мой мальчик, твоей вины тут нет! Я всегда держался в стороне, вдали от тебя, чтоб не скомпрометировать тебя в глазах тетушкиного семейства, но я неустанно, день за днем следил за твоей учебой. Я говорил себе: быть не может, чтобы дитя моей сестры, сын великого художника, совсем не унаследовал бы поэтических наклонностей своего отца. И я не ошибся. Ведь ты пришел сюда отыскать творения величайших поэтов Франции! Да, мальчик мой! И я разыщу их для тебя! Мы будем читать их вместе, и никто не станет нам мешать. Позволь мне обнять тебя — в первый раз!
Старик сжал Мишеля в объятиях, и тот почувствовал, что возрождается к новой жизни. Никогда еще ему не приходилось испытывать столь сладостного волнения.
— Но скажите, дядюшка, а как вам удалось узнать обо мне все, начиная с самого детства?
— Мой дорогой мальчик! У меня есть друг, славный человек, который очень тебя любит, — это твой преподаватель Ришло. От него-то я и узнал, что ты из нашей породы. Я всегда следил за тобой, я прочел и твое сочинение по латинскому стихосложению. Сюжет отнюдь не простой, взять, к примеру, хотя бы имена собственные: «Маршал Пелисье[30] на башне Малахова». Но в конечном счете мода на исторические сюжеты не проходит, и, клянусь, ты неплохо с этим справился!
— Ну что вы! — запротестовал Мишель.
— Не возражай, — оборвал его старый ученый, — в имени Пелисьеруса ты сделал два долгих и два кратких слога, а в названии Малахов — один краткий и два долгих. И ты совершенно прав! Послушай! Я запомнил эти две превосходные строчки:
Ax, дитя мое, сколько раз я жалел, что не могу ободрить тебя, поддержать твои прекрасные начинания, и все из-за этого семейства, которое презирает меня; но ведь все-таки оно оплачивало твою учебу! Теперь, надеюсь, ты будешь меня навещать, и довольно часто.
— Каждый вечер, дядюшка, как только выдастся свободное время.
— Но мне кажется, что твои каникулы…
— Какие каникулы, дядюшка! С завтрашнего утра я начинаю работать в банкирском доме моего кузена!
— Ты — в банкирском доме! — воскликнул старик. — Ты — в мире дельцов! Что ж, неудивительно! Кем бы ты мог стать? Такой неудачник, как я, вряд ли сможет тебе помочь! О дитя мое, с твоими идеями и твоими способностями ты родился слишком поздно, чтобы не сказать — слишком рано, ибо, судя по нынешним обстоятельствам, не остается даже надежды на будущее!
— Разве я не могу отказаться? Разве я не свободен?
— Нет, ты не свободен. К несчастью, господин Бутардэн больше чем просто твой дядя, он — твой опекун, и я не хочу, не должен поощрять твои пагубные стремления! Ты молод, работай, чтобы стать независимым, и тогда, если вкусы твои не изменятся, а я еще буду жив, приходи ко мне.
— Но работа в банке приводит меня в ужас, — взволнованно проговорил Мишель.
— Не сомневаюсь, мой мальчик! Но если бы у моего очага хватило места для двоих, я сказал бы тебе: приди, и мы будем счастливы! Однако такое существование для тебя совершенно бессмысленно, ибо все устроено так, что следует стремиться хоть к какой-нибудь цели. Нет, надо работать! Забудь обо мне на несколько лет — я был бы тебе плохим советчиком. Не говори дяде о нашей встрече, это может тебе только навредить. Не думай больше о старике, который давным-давно покинул бы сей мир, если б не сладостная привычка — каждый день навещать своих старых друзей на книжных полках этого зала.
— Когда я стану свободным… — начал Мишель.
— Да, через пару лет. Сейчас тебе шестнадцать, в восемнадцать ты достигнешь совершеннолетия. Что ж, подождем. Но помни, Мишель, что ты всегда можешь рассчитывать на мое крепкое рукопожатие, добрый совет и любящее тебя сердце. Ты ведь будешь меня навещать? — добавил старик, противореча самому себе.
— Да! Конечно, дядюшка! А где вы живете?
— Далеко, очень далеко! На равнине Сен-Дени; но благодаря радиальной ветке метрополитена, что идет по бульвару Мальзерб, дом мой оказывается буквально в двух шагах. Я занимаю крошечную, очень холодную комнату, но с твоим появлением она станет большой, а наше горячее рукопожатие согреет ее.
Беседа племянника с дядей продолжалась в том же духе: старый ученый пытался умерить те благородные устремления, которыми так восхищался в юном поэте, но его слова то и дело опровергали его намерения. Он хорошо знал, до какой степени неестественным, невыносимым, несуразным было положение художника в деловом мире.
Так они беседовали обо всем. Добрый старик был подобен старинной книге, которую юноша мог бы листать время от времени, дабы она поведала ему о делах давно минувших.
Мишель рассказал о цели своего визита в библиотеку и попросил дядюшку объяснить, отчего словесность в таком упадке.
— Литература мертва, мой мальчик, — ответил дядя. — Видишь эти пустынные залы, эти книги, погребенные под слоем пыли… Никто их больше не читает. Я здесь как сторож на кладбище, где эксгумация воспрещается.
За разговором время протекло незаметно.
— Уже четыре часа! — воскликнул старик. — Пора расставаться.
— Мы будем видеться, — сказал Мишель.
— Да! То есть нет! Дитя мое! Давай никогда больше не говорить ни о литературе, ни об искусстве! Принимай жизнь такой, какая она есть! Ты прежде всего воспитанник господина Бутардэна, а уж потом племянник дядюшки Югнэна!
— Позвольте мне проводить вас, — проговорил юный Дюфренуа.
— Нет! Нас могут увидеть. Я пойду один.
— Тогда до следующего воскресенья, дядюшка.
— До воскресенья, дорогое дитя.
Мишель вышел первым, но на некоторое время задержался на улице. Он видел, как старик еще довольно твердым шагом направился к бульвару. Юноша следовал за ним до самой станции «Мадлен».
«Наконец-то, — говорил он себе, — я больше не одинок в этом мире!»
Он возвратился в особняк Бутардэнов. К счастью, семейство обедало в городе, и Мишель мог спокойно завершить у себя в комнате свой первый и последний день каникул.
Глава V
ГДЕ РЕЧЬ ПОЙДЕТ О СЧЕТНЫХ МАШИНАХ
И О КАССАХ, КОТОРЫЕ ЗАЩИЩАЮТ САМИ СЕБЯ
На следующее утро, в восемь часов, Мишель Дюфренуа направился в банк «Касмодаж и Кº». Конторы размещались на улице Нёв-Друо, в одном из домов, возвышавшихся на месте старой Оперы. Молодого человека проводили в обширное помещение в форме параллелограмма, где стояли аппараты необычной конструкции, чем-то напоминавшие огромные пианино; назначение этих машин он понял не сразу.
Бросив взгляд в соседнюю комнату, Мишель обнаружил там гигантские, похожие на крепости кассы. Еще немного — и на них вот-вот появятся зубцы и, похоже, в каждой свободно разместится человек двадцать гарнизона.
При виде этих бронированных сейфов Мишель содрогнулся.
«Да они наверняка выстоят даже при взрыве бомбы», — подумал он.
Несмотря на столь ранний час, вдоль этих внушительных монументов степенно прогуливался человек лет пятидесяти; за ухом у него с готовностью торчало гусиное перо. Вскоре Мишель узнал, что тот принадлежал к семейству Счетоводов и сословию Кассиров. Этот пунктуальный, педантичный, злобный и ворчливый тип с энтузиазмом инкассировал и с горечью выплачивал. Казалось, выплаты им расценивались как грабеж собственной же кассы, а поступления — как возмещение убытков. Под его руководством около шестидесяти клерков, экспедиторов, копировщиков торопливо записывали и подсчитывали.
Юному Дюфренуа предстояло занять место среди них. Рассыльный отвел Мишеля к важному лицу, уже ожидавшему его прихода.
— Месье, — произнес Кассир, — войдя сюда, прежде всего за будьте, что вы принадлежите к семье Бутардэн. Это приказ.
— Меня вполне устраивает… — отозвался Мишель.
— В начале обучения вы прикрепляетесь к машине номер четыре.
Мишель обернулся и увидел агрегат. Это был счетный аппарат.
С тех пор как Паскаль сконструировал подобный инструмент — изобретение, казавшееся тогда воистину чудом, мы ушли далеко вперед. Впоследствии архитектор Перро,[32] граф де Стэнхоуп,[33] Тома де Кольмар,[34] Море и Жэйе[35] удачно усовершенствовали счетные устройства.
Банк «Касмодаж» владел подлинными шедеврами. В самом деле, его аппараты напоминали гигантские пианино. Нажимая на клавиши, можно было мгновенно подсчитать итоговые суммы, сдачу, результаты деления и умножения, пропорции, дроби, амортизацию и сложные проценты на какие угодно сроки и с любыми процентными ставками. Самые крайние клавиши позволяли получать до ста пятидесяти процентов. Ничто не могло сравниться с такими чудесными машинами, которые без труда побили бы даже Мондё.[36]
Однако требовалось научиться на них играть, и Мишелю предстояло брать уроки, чтобы поставить пальцы.
Теперь очевидно, что молодой человек поступал в банкирский дом, призвавший себе на помощь и использовавший весь потенциал механики.
Впрочем, в описываемую эпоху избыток дел и огромное количество корреспонденции придавали исключительную значимость даже самому простому канцелярскому оборудованию.
Так, почта банка «Касмодаж» насчитывала ежедневно не менее трех тысяч писем, рассылавшихся во все концы света. Машина Лену ар а мощностью в пятнадцать лошадиных сил без устали копировала все эти послания, которые бесперебойно направляли ей пятьсот клерков.
А ведь электрический телеграф должен был бы существенно сократить количество писем, ибо новые усовершенствования позволяли отправителю напрямик общаться с адресатом. Таким образом, тайна переписки сохранялась, и важнейшие сделки могли заключаться на расстоянии. Каждая компания имела свои частные линии системы Уитстоуна,[37] давно уже введенные в действие по всей Англии. Курсы бесчисленных ценных бумаг, котируемых на свободных торгах, сами выписывались на табло в центральных залах бирж Парижа, Лондона, Франкфурта, Амстердама, Турина, Берлина, Вены, Константинополя, Санкт-Петербурга, Нью-Йорка, Вальпараисо, Калькутты, Сиднея, Пекина и Нука-Хивы.
Более того, фототелеграф, изобретенный в прошлом столетии флорентийским профессором Джованни Казелли,[38] позволил посылать факсимиле всевозможных записей, автографов или рисунков и на расстоянии в пять тысяч лье подписывать переводные векселя или контракты.
В то время телеграфная сеть покрывала не только всю поверхность суши, но и морское дно; связь между Америкой и Европой устанавливалась буквально за секунду, а в ходе торжественного эксперимента, осуществленного в Лондоне в 1903 году, двое ученых установили между собой связь, заставив свои послания обежать вокруг света.
Понятно, что в эту деловую эпоху потребление бумаги должно было неслыханно возрасти. Франция, каких-нибудь сто лет назад производившая бумагу в количестве шестидесяти миллионов килограммов, сейчас расходовала ее более трехсот миллионов. Впрочем, теперь уже не опасались, что не хватит тряпичной массы для изготовления бумаги; ее успешно заменили альфа, алоэ, топинамбур, люпин и два десятка других дешевых растений. За двенадцать часов способом Уатта и Бэрджесса ствол дерева превращали в прекрасную бумагу.[39] Леса не использовались больше для отопления, они шли лишь на нужды полиграфии.
Банкирский дом «Касмодаж» одним из первых стал употреблять древесную бумагу. Когда она предназначалась для изготовления векселей, акций и ассигнаций, ее предварительно обрабатывали дубильной кислотой Лемфельдера, дабы защитить от воздействия химических веществ, используемых фальшивомонетчиками. Поскольку число преступников росло день ото дня по мере расширения деловых операций, следовало принимать меры предосторожности.
Таков был этот банкирский дом, где ворочали столь крупными делами. Молодому Дюфренуа предстояло там играть ничтожнейшую роль младшего клерка, обслуживающего счетную машину. В тот же день он приступил к своим обязанностям.
Механическая работа давалась ему с трудом; он не чувствовал в себе священного огня, и машина плохо слушалась его пальцев. Все старания были напрасны, и месяц спустя Мишель делал даже больше ошибок, чем в свой первый рабочий день. А ведь от усердия он едва не сходил с ума.
Впрочем, с ним обращались весьма сурово, стремясь подавить в нем малейшие поползновения к независимости и любые художественные наклонности. У Мишеля не было ни одного свободного воскресенья, ни одного вечера, который он смог бы посвятить дядюшке, и единственным его утешением была их тайная переписка.
Вскоре юноша впал в уныние, им овладело отвращение, и он был не в силах продолжать свою работу подручного при машине.
В конце ноября по поводу сего обстоятельства между месье Касмодажем, Кассиром и Бутардэном-сыном состоялся следующий разговор:
— Этот молодой человек в высшей степени несообразителен, — утверждал банкир.
— Истина требует с этим согласиться, — отвечал Кассир.
— Когда-то подобных индивидуумов называли артистическими натурами, — подхватывал Атаназ, — а теперь мы считаем их просто безумцами.
— В его руках машина становится опасным инструментом, — вторил банкир. — Там, где следует вычитать, он складывает; ему недоступна даже простейшая операция — подсчитать хотя бы пятнадцатипроцентный доход!
— Хуже не придумаешь, — подтверждал кузен.
— Так чем же его занять? — поинтересовался Кассир.
— А читать он умеет? — вдруг спросил господин Касмодаж.
— Полагаю, да, — не совсем уверенно откликнулся Атаназ.
— Его можно было бы приставить к Большой Книге. Он стал бы диктовать Кэнсоннасу, тому требуется помощник.
— Наилучший выход, — согласился кузен. — Диктовать — вот все, на что он способен; ведь даже почерк у него ужасный.
— И это в наше время, когда все так красиво пишут, — отозвался Кассир.
— Если же и с новой работой Дюфренуа не справится, то пусть идет подметать помещения! — заключил Касмодаж.
— Гм… — засомневался кузен.
— Вызовите его, — приказал банкир.
Мишель предстал пред грозным триумвиратом.
— Месье Дюфренуа, — процедил Касмодаж, скривив губы в презрительной улыбке, — ваша очевидная непригодность вынуждает нас отстранить вас от управления машиной номер четыре; получаемые вами результаты являются причиной бесконечных ошибок в наших записях. Дальше так продолжаться не может.
— Сожалею, господа… — холодно ответил Мишель.
— Ваши сожаления никому не нужны, — строго проговорил банкир. — Отныне вы приставлены к Большой Книге. Меня заверили, что вы умеете читать. Итак, вы будете диктовать месье Кэнсоннасу.
Мишель ничего не ответил. Какая ему разница! Большая Книга или счетная машина! Одно другого стоит! Поэтому он удалился, предварительно справившись, когда ему приступить к новым обязанностям.
— Завтра, — ответил ему Атаназ. — Месье Кэнсоннас будет предупрежден.
Покидая контору, молодой человек думал не о своей новой работе, а об этом Кэнсоннасе,[40] одно только имя которого внушало ему страх. Что он за человек? Какой-нибудь субъект, состарившийся за переписыванием статей из Большой Книги, все свои шестьдесят лет подводящий баланс текущих счетов, лихорадочно подбивающий сальдо, яростно выводя обратные записи! Мишеля удивляло одно — отчего бухгалтера до сих пор не заменили машиной.
Тем не менее молодой человек испытывал истинную радость, расставаясь со своим счетным аппаратом. Он даже гордился, что плохо им управлял. Сходство машины с пианино оказалось ложным, и это вызывало у него отвращение.
Закрывшись у себя в комнате, наш герой вновь предался размышлениям и даже не заметил, как опустилась ночь. Он лег, но заснуть не мог: его одолевали кошмары. Перед ним возникла Книга гигантских размеров. Мишель то ощущал себя высохшим растением из гербария, распластанным между чистыми страницами этой фантастической Большой Книги, то оказывался пленником корешка переплета, сжимавшего его своим металлическим панцирем.
Проснулся он в крайнем возбуждении, охваченный непреодолимым желанием увидеть этот чудовищный механизм.
— Конечно, это ребячество, — уговаривал он себя, — однако так хочется во всем разобраться!
Он соскочил с кровати, открыл дверь своей комнаты и ощупью, вытянув руки вперед, спотыкаясь и щуря глаза, устремился в контору.
В просторных залах было темно и тихо, не то что в дневные часы, когда они наполнялись привычными звуками: бренчанием серебряных монет и звоном золота, шуршанием банкнот, поскрипыванием перьев служащих! Мишель двигался наугад, теряясь в этом лабиринте. Он точно не знал, где находится Большая Книга, но продолжал идти. Ему пришлось миновать машинный зал, и он уже различал в темноте силуэты счетных аппаратов.
«Они спят, — думал молодой человек, — и не ведут подсчетов».
Продолжая свое путешествие, он свернул в зал, где то и дело наталкивался на размещенные там гигантские кассы.
Внезапно Мишель почувствовал, как почва уходит у него из-под ног: раздался страшный грохот, двери залов с треском захлопнулись, засовы и задвижки мгновенно запали в свои пазы, оглушительно завыли спрятанные в карнизах сирены. Вспыхнул яркий свет. Мишель же между тем стремительно скользил вниз, скатываясь в какую-то бездонную пропасть.
Оглушенный и смертельно испуганный, он, едва почувствовав под ногами твердую почву, тотчас попытался бежать. Но тщетно! Он очутился в железной клетке.
В тот же миг к нему бросились какие-то едва одетые люди.
— Вот он, вор! — кричал один.
— Попался! — вторил другой.
— Зовите полицию!
Среди свидетелей своего несчастья Мишель сразу же узнал месье Касмодажа и кузена Атаназа.
— Вы? — воскликнул один.
— Он! — подтвердил другой.
— Вы хотели вскрыть мою кассу!
— Только этого еще не хватало!
— Да он просто лунатик, — заметил кто-то.
К чести юного Дюфренуа, подобное мнение возобладало в умах людей в ночных рубашках. Невинную жертву усовершенствованных касс, умевших самостоятельно себя защитить, высвободили из клетки.
Дело в том, что, пробираясь в темноте на ощупь, Мишель Дюфренуа дотронулся до кассы с ценностями, чувствительной и целомудренной, как юная девушка. Сразу же заработал механизм безопасности. В зале открылся раздвижной пол, а в конторах резко захлопнулись двери и вспыхнул яркий свет. Разбуженные оглушительными гудками служащие бросились к провалившейся в подвал клетке.
— Теперь будете знать, — сказал банкир молодому человеку, — как гулять там, где вам нечего делать!
Пристыженный Мишель не нашелся, что ответить.
— Но каково! — воскликнул Атаназ. — Вот уж действительно хитроумная штука!
— Однако, — возразил ему господин Касмодаж, — эту машину только тогда можно будет назвать совершенной, когда вор, помещенный в опломбированный вагон, с помощью толкающего устройства прямиком окажется в префектуре полиции!
«И особенно, — подумал Мишель, — когда машина сама же вынесет ему приговор по статье кодекса: кража со взломом».
Но, оставив подобное замечание при себе, он под всеобщий хохот выбежал из зала.
Глава VI
ГДЕ КЭНСОННАС ПОЯВЛЯЕТСЯ
НА САМОЙ ВЕРШИНЕ ВЕЛИКОЙ КНИГИ
На следующий день Мишель, провожаемый насмешливым перешептыванием клерков, отправился в бухгалтерию. Слухи о его ночном приключении уже передавались из уст в уста, и мало кто мог удержаться от смеха.
Мишель вошел в обширную залу, увенчанную куполом из матового стекла. Прямо посередине, на одной ножке-опоре, этом настоящем чуде механики, возвышалась Большая Книга банкирского дома. Она заслужила прозвание «Великой» с гораздо большим правом, нежели сам Людовик XIV. В ней было двадцать футов высоты, искусный механизм позволял поворачивать ее, словно телескоп, к любой точке горизонта, а хитроумное сооружение из легких мостков по желанию писца опускалось или поднималось.
На белых листах трехметровой ширины трехдюймовыми буквами записывались текущие операции банка. Заголовки «Выплаты из кассы», «Поступление в кассу», «Суммы, являющиеся предметом переговоров», выписанные золотыми чернилами, ласкали взор любителей подобных вещей. Другими чернилами отмечались переносы и нумерация страниц. Что же до цифр, идеально расположенных в столбик, что изрядно облегчало сложение, то франки узнавались по вишнево-красному цвету, а сантимы, рассчитанные до третьей цифры после запятой, отличались темно-зеленой окраской.
Мишель был потрясен, увидев столь величественный монумент. Наконец он осведомился о господине Кэнсоннасе.
Ему указали на молодого человека, устроившегося на самых высоких мостках. Поднявшись по винтовой лестнице, Мишель через несколько секунд оказался на вершине Большой Книги.
Месье Кэнсоннас поразительно уверенной рукой как раз трудился над заглавным «Ф» высотой в три фута.
— Господин Кэнсоннас? — осведомился Мишель.
— Не сочтите за труд подойти ко мне, — ответил счетовод. — С кем имею честь?
— Месье Дюфренуа.
— Не вы ли герой ночного происшествия, который…
— Да, я тот самый герой, — довольно дерзко ответил Мишель.
— Это делает вам честь, — продолжал Кэнсоннас, — вы — честный человек. Думаю, вор не попался бы на такую удочку.
Мишель внимательно разглядывал своего собеседника: уж не насмехается ли тот над ним? Удивительно серьезное лицо счетовода исключало подобное предположение.
— Я — в вашем распоряжении, — проговорил молодой человек.
— А я — в вашем, — сказал копировщик.
— Что я должен делать?
— Просто медленно и четко диктовать мне все статьи текущих записей, которые я заношу в Большую Книгу! Не ошибайтесь! Соблюдайте правильную интонацию! И, пожалуйста, погромче! Одна помарка, и меня выставят за дверь!
Других указаний не последовало, и они приступили к работе.
Хотя Кэнсоннасу исполнилось всего лишь тридцать, но вид его был столь серьезен, что выглядел он на все сорок. Однако, если приглядеться повнимательней, под этой отпугивающей своей строгостью маской в конце концов можно было обнаружить неподдельную жизнерадостность и поистине дьявольское остроумие. На третий день Мишелю показалось, что именно эти черты он разгадал в своем новом наставнике.
Тем не менее в конторе у счетовода прочно утвердилась репутация простачка, если не сказать больше — дурачка. О нем рассказывали истории, перед которыми тускнели все Калино[41] былых времен! Но он обладал двумя неоспоримыми достоинствами: отменным почерком и аккуратностью. У него не было равных в письме как крупным, так и мелким курсивом.
Он был настолько аккуратен, что требовать большего вряд ли было возможно, и хотя тупость его стала притчей во языцех, он тем не менее сумел избежать двух неприятных для любого клерка повинностей: обязанности заседать в суде и служить в Национальной гвардии. Оба эти института еще действовали Божьей милостью в 1960 году.
Вот при каких обстоятельствах Кэнсоннас был вычеркнут из числа судей и списков военнообязанных.
Примерно год тому назад Кэнсоннас волею судьбы оказался в числе присяжных заседателей. Вот уже больше недели в суде слушалось очень серьезное, а главное, длинное уголовное дело. Его наверняка закрыли бы после допроса последних свидетелей, если бы не Кэнсоннас. Во время заседания он вдруг встал и попросил у председателя разрешения задать обвиняемому вопрос. Просьба была уважена, и подсудимый ответил своему присяжному.
— Ну вот, — громогласно заявил Кэнсоннас, — теперь очевидно, что обвиняемый не виновен.
Можете себе представить, что тут началось! Присяжным запрещалось высказывать частное мнение в ходе судебного разбирательства, иначе решение судей считалось недействительным. Подобная оплошность Кэнсоннаса заставила отложить дело до нового слушания. И все пришлось начинать сначала! А поскольку неисправимый присяжный невольно или же по простоте душевной все время впадал в одну и ту же ошибку, то ни одно дело не могло завершиться!
В чем можно было упрекнуть незадачливого Кэнсоннаса? Очевидно, что, возбужденный судебными дебатами, он начинал говорить помимо собственной воли: слова сами слетали с его губ! Все это напоминало врожденное увечье, но так как машина правосудия не могла вот так, враз, застопориться, то Кэнсоннаса навсегда исключили из списков присяжных.
С Национальной гвардией произошла другая история.
С первого раза, когда он заступил на пост у дверей мэрии, он всерьез проникся своим воинским долгом. В боевой готовности он встал перед будкой часового: ружье заряжено, палец на спусковом крючке. Он был исполнен решимости открыть огонь: ему казалось, будто враг засел на соседней улице и вот-вот начнет наступление. Разумеется, столь рьяный часовой стал привлекать к себе внимание прохожих, вокруг него собралась толпа, кое-кто добродушно улыбался. Это не понравилось свирепому национальному гвардейцу. Сначала он взял под стражу одного прохожего, потом другого, третьего, а в конце его двухчасового дежурства весь участок уже кишел арестованными. Теперь это уже походило на бунт.
В чем можно было обвинить Кэнсоннаса? Он имел полное право так поступить, ибо счел себя оскорбленным при исполнении служебных обязанностей! А он испытывал поистине священный трепет перед знаменем. История повторилась и на следующем дежурстве. И поскольку не удалось умерить ни его пыл, ни его чувство собственного достоинства, впрочем весьма похвальное, то сочли за благо исключить его из воинских списков.
В общем, Кэнсоннас прослыл дурачком, но таким образом он отделался и от заседаний в суде присяжных, и от службы в Национальной гвардии.
Сбросив бремя двух тяжких общественных повинностей, Кэнсоннас стал образцовым писарем-счетоводом.
В течение целого месяца Мишель занимался диктовкой. Работа была легкой, однако не оставляла ему ни одной свободной минуты. Кэнсоннас писал, время от времени испытующе поглядывая на молодого Дюфренуа, особенно когда тот принимался вдохновенно декламировать статьи Большой Книги.
«Странный юноша, — размышлял Кэнсоннас, — и, пожалуй, слишком умен для такого занятия! Почему же его, племянника Бутардэна, назначили сюда? Может быть, мне ищут замену? Вряд ли! Он ведь пишет как курица лапой! А если он и впрямь идиот? Надо бы узнать наверняка».
Подобные мысли посещали и Мишеля.
«Этот Кэнсоннас явно ведет свою игру! — говорил он себе. — Очевидно, что он рожден вовсе не для того, чтобы выписывать буквы „F“ и „М“! Временами in petto[42] на него находит такое веселье, что невольно спрашиваешь себя: „О чем это он думает?“»
Итак, оба прислужника Большой Книги наблюдали друг за другом. Случалось, их взгляды встречались, и в те мгновенья казалось, что люди эти прекрасно понимают друг друга. Дальше так не могло продолжаться: Кэнсоннасу не терпелось задать Мишелю вопросы, а тому на них ответить. И вот однажды, в порыве откровенности, Мишель вдруг стал рассказывать о себе. Он говорил с увлечением, с жаром — он слишком долго молчал. Судя по тому, как горячо Кэнсоннас сжимал руку своего молодого товарища, видно было, что он очень взволнован.
— А кто ваш отец? — спросил Кэнсоннас Мишеля.
— Он был композитором.
— Как! Тот самый Дюфренуа, чьи последние творения — подлинные шедевры!
— Он самый.
— Истинный гений, — восторженно отозвался Кэнсоннас, — бедный и непризнанный! А знаете ли, мой мальчик, ваш отец был моим учителем!
— Вашим учителем? — изумился Мишель.
— Да! К чему скрывать! — воскликнул Кэнсоннас, размахивая пером. — К черту осторожность! Io son pictor![43] Я — музыкант!
— Музыкант! — воскликнул молодой человек.
— Да! Только не так громко! А то меня вышвырнут вон, — произнес Кэнсоннас, утихомиривая Мишеля.
— Но здесь…
— Здесь я счетовод. Копиист кормит музыканта до тех пор, пока…
Он умолк, внимательно глядя на юношу.
— Пока… — подхватил молодой человек.
— Ну… пока в голову не придет какая-нибудь практическая идея!
— В промышленности… — разочарованно проговорил Мишель.
— Да нет, сын мой, — по-отечески сказал Кэнсоннас. — В музыке!
— В музыке?
— Тс! Не переспрашивайте меня больше! Это тайна! Я хочу удивить весь мир! Только не смейтесь! В наше время смех карается смертной казнью, с этим не шутят!
— Удивить весь мир! — машинально повторил Мишель.
— Таков мой девиз! — произнес Кэнсоннас. — Наш век нельзя очаровать, так удивим же его! Как и вы, я опоздал родиться лет на сто! Так что следуйте моему примеру и работайте! Зарабатывайте на собственное пропитание, раз уж нельзя обойтись без этой низменной потребности в хлебе насущном! Если пожелаете, я преподам вам урок выживания. Вот уже пятнадцать лет, как я с превеликим трудом поддерживаю свое существование. Мне понадобились крепкие зубы, чтобы перемалывать все, что судьба запихивала мне в глотку! Хорошо еще, что мой луженый желудок не подвел меня! К счастью, я овладел недурным ремеслом: говорят, у меня красивый почерк. Черт побери, а если б я вдруг потерял одну руку, что бы тогда я делал? Прощай, пианино и Великая Книга! Ну что ж, пустяки, со временем пришлось бы научиться играть ногами! Да, да! Неплохо придумано! Вот что могло бы удивить наш век!
Мишель судорожно расхохотался.
— Не смейтесь, несчастный! — прервал его Кэнсоннас. — В доме Касмодажа это запрещено! Взгляните на меня! Одним своим холодящим душу взором я способен в разгаре лета заморозить фонтаны Тюильри! Вы, наверное, знаете, что американские филантропы когда-то придумали для узников круглые камеры, дабы лишить их невинного развлечения ходить из угла в угол. Так вот, мой мальчик, наше общество подобно этим круглым камерам! Поэтому в нем все так безнадежно скучно!
— Но мне почему-то кажется, — возразил Мишель, — что в глубине души вы способны радоваться…
— Только не здесь! Дома — другое дело! Зайдите ко мне как-нибудь! И вы услышите хорошую музыку! Музыку старого доброго времени!
— Когда вам будет угодно, — радостно проговорил Мишель, — но как мне освободиться…
— Пустяки! Предположим, я скажу, что вам необходимо пройти курс диктовки… Но здесь больше никаких подрывных разговоров! Я — колесико, вы — колесико! Будем крутиться и повторять молитвы из Священной Бухгалтерии!
— Выплаты из кассы, — продиктовал Мишель.
— Выплаты из кассы, — повторил Кэнсоннас.
И работа пошла своим ходом. С этого дня жизнь молодого Дюфренуа заметно изменилась: он нашел друга. Он говорил, и его понимали. Он был счастлив, как немой, внезапно обретший дар речи. Вершины Большой Книги уже не казались ему столь пустынными, там ему дышалось легко. Вскоре оба приятеля, презрев условности, перешли на «ты».
Кэнсоннас делился с Мишелем своим жизненным опытом, и юноша в часы бессонницы размышлял о невзгодах этого мира. Явившись утром на службу, он долго пребывал во власти ночных размышлений, а затем принимался делиться с музыкантом своими мыслями, и тому долго не удавалось заставить друга умолкнуть.
Вскоре Большая Книга перестала справляться с дневными операциями.
— Кончится тем, что из-за тебя мы допустим серьезную ошибку, — твердил Кэнсоннас, — и нас выставят за дверь!
— Но мне просто необходимо выговориться, — отвечал Мишель.
И вот однажды Кэнсоннас сказал ему:
— Послушай! Приходи-ка сегодня ко мне на обед. Будет мой друг Жак Обане.
— К тебе? Но разрешение?
— Получено. Где же мы остановились?
— Расчетная касса, — продолжил диктовку Мишель.
— Расчетная касса, — эхом отозвался Кэнсоннас.
Глава VII
ТРИ БЕСПОЛЕЗНЫХ ДЛЯ ОБЩЕСТВА РТА
Когда по окончании работы служители заперли двери конторы, друзья направились к дому Кэнсоннаса, расположенному на улице Гранж-о-Бель. Опьяненный свободой, Мишель победно вышагивал возле друга, подхватив его под руку.
Путь от банка до улицы Гранж-о-Бель был не близок. Снять квартиру в столице, с трудом размещавшей свое пятимиллионное население, в то время было делом не легким. Площади становились шире, прокладывались новые бульвары и улицы, а для строительства жилья просто не хватало места. Существовало тогда ходячее выражение: «В Париже больше нет домов, есть только улицы!»
Некоторые кварталы и вовсе не имели жилых домов. Взять хоть Сите, занятый собором, зданиями Коммерческого суда, Дворца правосудия, префектуры полиции, морга, то есть всем необходимым для объявления человека банкротом, его осуждения, заключения в тюрьму и захоронения — даже в том случае, если тело его выудили из реки. Общественные здания вытеснили жилые дома.
Вышеназванные причины объясняли чрезмерную дороговизну современных жилищ. Генеральное императорское общество недвижимости, владевшее Парижем наравне с Земельным кредитом, получало огромные прибыли. Его основатели, братья Перер, финансовые гении прошлого века, сумели также завладеть чуть ли не всеми крупными городами Франции: Бордо, Лиллем, Лионом, Марселем, Страсбургом, Нантом, и постепенно перестроить их. Акции Общества, пять раз удваивавшие стоимость, оценивались в 4450 франков на свободном биржевом рынке.
Люди небогатые, но не желавшие покидать деловой центр столицы, вынуждены были селиться на самых верхних этажах. Близость к центру давала выигрыш во времени, но не избавляла от усталости, вызванной ежедневными подъемами наверх.
Кэнсоннас жил на тринадцатом этаже старого дома без лифта, который явно не был бы здесь лишним. Но когда музыкант добирался к себе, все неудобства сразу же забывались.
Вот и на этот раз, дойдя до улицы Гранж-о-Бель, Кэнсоннас устремился к винтовой лестнице.
— Давай, смелее! — подбадривал он Мишеля, еле успевавшего за другом в его стремительном взлете. — Рано или поздно мы достигнем цели. Все имеет конец, даже наша лестница. Ну, вот мы и дома, — запыхавшись сказал музыкант, открывая дверь своего жилища.
Он буквально втолкнул молодого человека в «свои апартаменты», состоящие из одной шестнадцатиметровой комнатки.
— Прихожей нет! — объявил он. — Да и зачем мне она, когда никого не заставляешь ждать! А поскольку толпа просителей никогда не бросится на мою верхотуру по той простой причине, что бросаться можно только сверху вниз, я прекрасно обхожусь без прихожей. Я отказался и от гостиной, чтобы не было так заметно отсутствия столовой.
— Но, кажется, тут тебе совсем неплохо, — отозвался Мишель.
— И воздух довольно чистый, и аммиачные испарения не долетают с улицы.
— На первый взгляд места не слишком-то много, — продолжал Мишель.
— На второй — тоже, но вполне хватает.
— Впрочем, и планировка недурна, — заметил, посмеиваясь, юноша.
— Ну что, матушка? — обратился Кэнсоннас к входящей в комнату пожилой женщине. — Как там с обедом? Нас будет трое, и мы умираем от голода.
— Все в порядке, месье Кэнсоннас, — ответила экономка, — только я не смогла накрыть — нет стола!
— Обойдемся и без стола! — радостно воскликнул Мишель, которого забавляла сама возможность держать тарелку прямо на коленях.
— Ну что ты, как можно! — возразил Кэнсоннас. — И как только тебе пришло в голову, что я могу пригласить друзей и не усадить их за стол!
— Но я не вижу… — начал было Мишель, беспомощно озираясь вокруг.
В комнате действительно не было ни стола, ни кровати, ни шкафа, ни комода, ни стула — вообще никакой мебели, одно лишь огромное пианино.
— Не видишь… — отозвался Кэнсоннас, — а на что же тогда промышленность — наша добрая матушка, а механика на что — наша дочурка любезная? Ты забыл о них? Вот тебе стол.
С этими словами он подошел к пианино, нажал какую-то кнопку, и оттуда тотчас выскочил — да, именно выскочил — стол вместе со скамьями, на которых вполне могли разместиться трое.
— Здорово придумано, — восхитился Мишель.
— Другого выхода не было. Рано или поздно пришлось бы прийти к такому решению, — ответил пианист. — Наши тесные квартиры больше не позволяют обзаводиться нормальной мебелью! Взгляни на этот сложный инструмент, изготовленный «Объединенными фирмами Эрар и Жансельм».[44] Он пригоден для всех случаев жизни, не слишком громоздок, и, поверь мне, пианино от этого хуже не стало.
В эту минуту в дверь позвонили. Кэнсоннас открыл и громогласно объявил о приходе своего друга, служащего Генерального общества подводных копей — Жака Обанэ. Без лишних церемоний Мишель и Жак были представлены друг другу.
Жак Обанэ, молодой человек лет двадцати пяти, приятной наружности, чувствовал себя в этом мире чужим, впрочем, как и добрый приятель его, Кэнсоннас. Мишель не знал, чем занимается Жак в вышеуказанном Обществе, но легко догадался, что явился он с отменным аппетитом.
К счастью, обед был скоро подан, и трое молодых людей буквально набросились на съестное. И только через некоторое время, после первой решительной схватки с едой, в краткие мгновения между усердным поглощением пищи, они сподобились выдавить из себя кое-какие слова.
— Дорогой Жак, — проговорил Кэнсоннас, представляя Мишеля Дюфренуа, — я хочу, чтоб ты познакомился с моим юным другом. Он, разумеется, из «наших», один из тех бедолаг, в чьих способностях наше общество не нуждается, отчего и навешивает замки на их бесполезные рты, дабы не кормить их.
— А, господин Дюфренуа — мечтатель! — воскликнул Жак.
— Поэт, друг мой, поэт! И я спрашиваю тебя: зачем он пришел в этот мир, где первейший долг человека — делать деньги?
— Очевидно, родился не на той планете, — заключил Жак.
— Друзья, — вступил в разговор Мишель, — слова ваши не слишком-то ободряющие; мне кажется, вы преувеличиваете.
— Этот милый юноша, — отозвался Кэнсоннас, — еще на что-то надеется. Он трудится, восторгается прекрасными книгами и в эпоху забвения Гюго, Мюссе, Ламартина уповает на то, что его стихи найдут своего читателя! Глупыш! Разве тебе удалось изобрести утилитарную поэзию, литературу, которая бы заменила водяной пар или тормоз мгновенной остановки? Нет? Тогда умерь свой пыл, сын мой! Если не можешь поведать миру ничего удивительного, кто же станет тебя слушать? Искусство действенно, когда его преподносят с помощью трюка! В наши дни Гюго читал бы свои «Восточные мотивы», проделывая кульбиты на цирковых лошадях. А Ламартину пришлось бы декламировать свои «Созвучия», повиснув вниз головой на трапеции.
— Это уж слишком! — воскликнул, вскакивая, Мишель.
— Успокойся, мой мальчик, — откликнулся пианист, — и спроси-ка у Жака, прав ли я?
— Сто раз прав, — ответил Жак. — Сегодняшний мир — настоящая ярмарка, гигантский балаган, где публику развлекает лишь грубое фиглярство.
— Бедняга Мишель, — вздохнул Кэнсоннас, — приз за латинские стихи вскружил ему голову!
— Что ты хочешь этим сказать? — спросил молодой человек.
— Ничего, мальчик мой! Ведь, в сущности, ты просто верен своему предназначению! Ты — великий поэт! Я читал твои сочинения, и позволь мне сказать только одно: они вовсе не в духе времени.
— Отчего же?
— Да оттого, что ты обращаешься к самым лирическим темам, а сегодня они не в чести! Ты воспеваешь любовь, поля и долины, звезды и небеса, словом, то, что относится к прошлому. Теперь же это никому не нужно.
— Но о чем же тогда писать? — спросил молодой человек.
— В стихах следует воспевать чудеса промышленности!
— Никогда! — воскликнул Мишель.
— Здорово сказано, — отозвался Жак.
— Послушай, — продолжал Кэнсоннас, — тебе известна ода де Брольи,[45] месяц назад получившая премию сорока, окопавшихся в Академии?
— Нет!
— Ну, тогда слушай и наматывай на ус! Вот две последние строфы:
— Какой ужас! — воскликнул Мишель.
— Недурно зарифмовано! — отозвался Жак.
— Вот так-то, сынок! — проговорил Кэнсоннас с прежней убийственной интонацией. — Дай Бог, чтобы тебе не пришлось зарабатывать только своим талантом, и бери пример с нас, смирившихся с действительностью в ожидании лучших времен.
— А что, и месье Жак тоже вынужден заниматься каким-нибудь ненавистным ремеслом?
— Жак — экспедитор в одной промышленной компании, — ответил Кэнсоннас, — но, к его великому сожалению, это вовсе не означает, что он участвует в каких-либо экспедициях!
— Что он хочет этим сказать? — поинтересовался Мишель.
— Он хочет сказать, — откликнулся Жак, — что я предпочел бы стать солдатом!
— Солдатом? — удивился молодой человек.
— Да, солдатом! Превосходное ремесло! Еще совсем недавно, каких-нибудь пятьдесят лет назад, им можно было достойно зарабатывать себе на жизнь!
— И столь же достойно с ней расстаться! — возразил Кэнсоннас. — Но о чем говорить, дело конченое, ведь армии как таковой уже больше нет. Разве только податься в жандармы. Раньше Жак поступил бы в военную школу или пошел бы служить по контракту. В армии, одерживая победы и проигрывая сражения, он дослужился бы до генерала, как Тюренн,[46] или даже стал бы императором, как Бонапарт! Но, увы, мой бравый вояка, теперь это только мечты!
— Полноте! Как знать! — проговорил Жак. — Франция, Англия, Италия, Россия, конечно, распустили свои армии. В прошлом веке мы так далеко продвинулись в усовершенствовании вооружений, что это стало просто смешным, и Франция не смогла удержаться от смеха…
— И, посмеявшись вволю, она оказалась разоруженной, — вставил Кэнсоннас.
— Да. Злой шутник! Согласен с тобой, все европейские державы, кроме старушки Австрии, покончили с воинственными устремлениями. Но означает ли это, что искоренен боевой дух, живущий в каждом человеке, и естественный инстинкт завоевателя, присущий любому правительству?
— Безусловно, — ответил Кэнсоннас.
— Но почему же?
— Да по той простой причине, что инстинкты эти существовали тогда, когда им потакали и давали полную волю! «Если хочешь мира — готовься к войне!» — говаривали в старину. Да, но какая война без воинов? Упраздните живописцев — не будет живописи, скульпторов — скульптуры, музыкантов — музыки! Так и солдаты — это те же артисты!
— Разумеется! — согласился Мишель. — Уж лучше бы я завербовался в армию, чем заниматься своим мерзким ремеслом.
— О! И ты туда же, малыш! — воскликнул Кэнсоннас. — Неужели ты действительно хочешь сражаться?
— Следуя словам Стендаля, величайшего из мыслителей прошлого века, сражение возвышает душу, — ответил Мишель.
— Да… — задумался пианист и тут же добавил: — А много ли надо ума, чтоб размахивать саблей?
— Немало, — ответил Жак, — если точно направить удар.
— Но еще больше, чтоб его отразить, — парировал пианист. — Ну что ж, друзья, возможно, кое в чем вы правы, и я, быть может, и поддержал бы вас в вашем решении стать солдатами, но, увы, — армии больше нет! Впрочем, если порассуждать, то солдатское ремесло не такое уж плохое! Но раз уж Марсово поле застроено зданиями коллежа, придется отказаться от этой затеи.
— К ней еще вернутся, — проговорил Жак, — в один прекрасный день возникнут непредвиденные осложнения…
— Не думаю, мой храбрый друг, ибо все эти воинственные идеи, равно как и понятия чести, уходят в прошлое. Прежде во Франции люди боялись прослыть смешными, а теперь сам знаешь, во что превратился кодекс чести. На дуэлях больше не дерутся, поединки давно вышли из моды, все судятся или полюбовно договариваются. И уж если человек не отстаивает в поединке свою честь, то с какой стати ему рисковать жизнью ради политики? Если никто больше не берется за шпагу, с чего бы это правительствам вытаскивать ее из ножен? Никогда не бывало такого множества сражений, как в эпоху дуэлей. Но дуэлянты перевелись, а значит, и солдаты тоже.
— О! Их время еще вернется, — проговорил Жак.
— А какой в них прок, если торговые связи все больше сплачивают народы! Разве русские, англичане, американцы не вкладывают свои рубли, банкноты и доллары в наши коммерческие предприятия? Разве деньги — не враг свинцу, а кипа хлопка не вытеснила пулю?[47] Ну, подумай сам, Жак! Разве англичане, воспользовавшись правом, в котором отказывают нам, не превращаются во Франции в крупных земельных собственников? Они владеют обширными территориями, почти целыми департаментами, и отнюдь не завоеванными, а купленными за деньги, что гораздо надежнее! Мы как-то упустили это из виду и никак им не препятствовали. В конце концов, эти люди захватят всю нашу землю, взяв тем самым реванш за покорение Англии Вильгельмом Завоевателем.
— Мой дорогой Кэнсоннас, — откликнулся Жак, — запоминай хорошенько, а вы, молодой человек, послушайте: сейчас я изложу вам символ веры нашего века. Когда-то во времена Монтеня,[48] а может, и Рабле,[49] говаривали: «А что знаю я?» В девятнадцатом веке заговорили иначе: «А мне какое дело!» Сегодня же говорят: «А что я с этого буду иметь?» Так вот, как только война будет способна принести такую же выгоду, как и промышленная сделка, она немедленно разразится.
— Можно подумать, что война когда-нибудь приносила какую-либо выгоду, особенно Франции!
— Потому что сражались не ради денег, а ради чести, — отозвался Жак.
— А ты полагаешь, что может существовать армия неустрашимых негоциантов?
— Не сомневаюсь. Возьми, к примеру, американцев и их чудовищную войну тысяча восемьсот шестьдесят третьего года.[50]
— Но, дорогой мой, армия, вынужденная сражаться только ради денег, — это уже не армия, а сборище мародеров!
— И все-таки она способна проявлять чудеса храбрости, — вставил Жак.
— Да, грабительские чудеса, — парировал Мишель.
И все трое рассмеялись.
— Итак, — продолжал пианист, — подведем итоги. Ты, Мишель, — поэт, ты, Жак, — солдат, а я, Кэнсоннас, — музыкант, и это в то время, когда больше нет ни музыки, ни поэзии, ни армии! Да мы просто сборище глупцов! Но тем не менее наш обед удался и был крайне содержательным, особенно по части разговора. Теперь давайте перейдем к другим занятиям.
Стол был убран, задвинут обратно, и пианино вновь заняло свое почетное место.
Глава VIII
ГДЕ РЕЧЬ ПОЙДЕТ
О СТАРИННОЙ И СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКЕ
И О ПРАКТИЧЕСКОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
НЕКОТОРЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
— Наконец-то мы перейдем к музыке! — воскликнул Мишель.
— Только не надо современной, — сказал Жак, — эта музыка слишком сложна…
— Для понимания — да, для сочинения — нет, — ответил Кэнсоннас.
— Отчего же? — спросил Мишель.
— Объясняю, — продолжил Кэнсоннас, — готов подтвердить мои слова сногсшибательным примером. Мишель, возьми на себя труд открыть пианино.
Молодой человек повиновался.
— Хорошо. Теперь садись на клавиши.
— Что? Ты хочешь…
— Садись, говорю тебе.
Мишель опустился на клавиши. Инструмент издал душераздирающие звуки.
— Знаешь ли ты, что ты сейчас делаешь? — спросил пианист.
— Понятия не имею.
— Сам того не ведая, ты создаешь современную музыку.
— Истинная правда! — подтвердил Жак.
— Это называется современным аккордом! Самое страшное, что нынешние досужие теоретики пытаются дать ему научное обоснование! Прежде лишь некоторым звукам дозволено было соединяться друг с другом. Но с тех самых пор, как их примирили, они больше не ссорятся между собой! Они слишком хорошо воспитаны!
— Но от этого они не стали менее неприятными, — проговорил Жак.
— Чего же ты хочешь, друг мой! Нас привела к подобной музыке сама логика вещей. В прошлом веке некий Рихард Вагнер, новоявленный пророк, которого не успели распять, сотворил музыку будущего, и мы до сих пор находимся под ее гнетом. В его время уже упразднили мелодию, он же посчитал возможным выставить за дверь и гармонию. Дом совсем опустел.
— Почти то же самое, — вставил Мишель, — что писать картины, не прибегая к рисунку и краскам.
— Именно так, — отозвался Кэнсоннас. — Ты говоришь о живописи, но это искусство родилось не во Франции. Оно пришло к нам из Италии и Германии, поэтому мне было бы не столь больно видеть, как его профанируют! Иное дело — музыка, она — наше кровное дитя…
— А я думал, — перебил его Жак, — что музыка родом из Италии!
— Ошибаешься, друг мой, до середины шестнадцатого века в Европе преобладала французская музыка; гугенот Гудимель[51] был учителем Палестрины,[52] а самые старые, самые наивные мелодии пришли к нам из Галлии.
— И вот до чего мы докатились, — вздохнул Мишель.
— Да, сын мой, под предлогом создания новых форм партитуру строят теперь на единственной бесконечно тягучей музыкальной фразе. В Опере она начинает звучать в восемь часов вечера и заканчивается без десяти двенадцать. Стоит только ей продлиться минут на пять дольше, как дирекцию штрафуют, а охране удваивают вознаграждение.
— И никто не протестует?
— Мальчик мой, музыкой больше не наслаждаются, ее потребляют. Кое-кто из артистов противился этому; твой отец был в их числе. Но после его кончины не написано ничего, достойного называться музыкой! Отныне нам суждено либо поглощать тошнотворную «Мелодию девственного леса», пресную, занудную, невнятную, либо выслушивать гармонический грохот, который ты столь трогательно нам продемонстрировал, усевшись на пианино.
— Печально, — проговорил Мишель.
— Ужасно! — отозвался Жак.
— Итак, друзья мои, — продолжал Кэнсоннас, — не замечали ли вы, какие большие у нас уши?
— Нет! — ответил Жак.
— Так вот, сравни-ка их с ушами античными или же средневековыми. Внимательно рассмотри картины и статуи, произведи замеры — и ты ужаснешься! Уши растут все больше, а рост человеческий все убывает. Представь себе, какими красавцами однажды мы станем! Так вот, знайте, друзья мои, что натуралисты все-таки докопались до причины подобного вырождения! Оказывается, всему виной музыка, именно из-за нее наши уши столь чудовищно выросли! Мы живем в век заскорузлых барабанных перепонок и фальшивого слуха. Вы же прекрасно понимаете, что нельзя безнаказанно целое столетие пропускать через собственные уши музыку Верди или Вагнера, не повредив при этом наши органы слуха.
— Этот чертов Кэнсоннас вечно всех пугает, — пожаловался Жак.
— Однако в Опере все еще можно услышать старые шедевры, — заметил Мишель.
— Знаю, — согласился Кэнсоннас. — Хотят даже возобновить «Орфея в аду» Оффенбаха,[53] но с речитативами, введенными в этот шедевр Шарлем Гуно. Тогда, возможно, благодаря балету сборы немного повысятся! Танец — вот что нужно нашей просвещенной публике! Когда подумаешь, что на устройство гигантской сцены угрохали двадцать миллионов, чтобы было где развернуться каким-то попрыгуньям, поневоле пожалеешь, что не появился на свет от одного из этих созданий! «Гугеноты»[54] урезаны до одного акта и служат лишь вступлением к модным балетным номерам. Облегающие прозрачные трико балерин производят впечатление совершенной естественности, что немало забавляет наших финансистов. Впрочем, Опера уже превратилась в своеобразный филиал Биржи: там так же орут, так же, не понижая голоса, обсуждают сделки, и никому нет дела до музыки! Между нами, стоит отметить, что исполнение оставляет желать лучшего!
— Более того, — отозвался Жак. — Певцы воют, рычат, блеют, ревут, испускают какие угодно звуки, только не поют. Настоящий зверинец!
— Что ж до оркестра, — проговорил Кэнсоннас, — то он пал так низко, что дальше некуда, особенно с тех пор, когда инструменты перестали кормить своих хозяев! Вот уж бесполезное ремесло! Ах, если б можно было использовать растрачиваемую попусту энергию, возникающую при нажатии на педали пианино, чтобы черпать, к примеру, воду из угольных шахт! Если б только воздух, выдуваемый из офиклеидов, приводил в движение мельницы Общества катакомб! Если б возвратно-поступательное движение кулисы тромбона могло бы применяться на механической лесопилке! О! Тогда бы исполнители разбогатели, а их ряды незамедлительно пополнились!
— Ты что, смеешься! — воскликнул Мишель.
— Черт побери, не удивлюсь, если какой-нибудь изощреннейший ум дойдет до этого! — вполне серьезно заметил Кэнсоннас. — Дух изобретательства так и витает над Францией! Пожалуй, это единственный дух, который еще нас не покинул! Однако, уверяю вас, он отнюдь не способствует занимательным беседам! Но кто теперь думает о приятном общении! «Будем скучать вместе!» — таков девиз нашего века.
— И никак невозможно исправить такое положение? — поинтересовался Мишель.
— Нет, покуда будут царить деньги и машины! Лично мне больше всего ненавистны машины!
— Но почему?
— Да потому, что в богатстве есть свои преимущества: деньгами платят за шедевры, а, как известно, даже гениям нужно есть! Генуэзцы, венецианцы, флорентийцы эпохи Лоренцо Великолепного,[55] негоцианты и банкиры всегда поощряли искусства! Но черт меня побери, если все эти Рафаэли, Леонардо, Тицианы, Веронезе смогли бы существовать под покровительством одержимых механиков! Они не вынесли бы конкуренции с машинным производством и умерли бы с голоду! Ох уж эти машины! Как тут не возненавидеть изобретателей с их изобретениями!
— Но, в конце концов, — начал Мишель, — ты же музыкант, Кэнсоннас, ты трудишься, проводишь ночи напролет за своим инструментом! Можно подумать, что ты отказываешься играть современную музыку!
— Почему же, я как все! Только что я сочинил пьесу в современном вкусе. Я верю в ее успех, если, конечно, найдется издатель.
— И как ты назвал ее?
— «Тилорьенна, большая фантазия на тему сжижения углекислого газа».
— Не может быть! — воскликнул Мишель.
— Слушай и суди сам, — отозвался Кэнсоннас.
Он сел за пианино, вернее, набросился на него. И под его пальцами, ладонями и локтями бедный инструмент принялся издавать умопомрачительные звуки. Они сталкивались друг с другом, барабаня, словно град по крыше. Где уж там мелодия! Какой уж там ритм! Средствами музыки композитор вознамерился воссоздать опыт Тилорье,[56] стоивший физику жизни![57]
— Ну! — вскричал музыкант. — До вас дошло? Вам понятно, что вы присутствуете при опыте великого ученого? Что оказались в его лаборатории? Вы чувствуете, как выделяется углекислый газ? Ощущаете давление в четыреста восемьдесят атмосфер? Цилиндр начинает вибрировать! Осторожно! Берегись! Аппарат вот-вот взорвется! Спасайся, кто может!
И мощным ударом кулака по клавишам, способным разбить их вдребезги, Кэнсоннас воспроизвел взрыв.
— Уф! — выдохнул он. — Достаточно ли убедительно? Достаточно ли эффектно?
Мишель просто остолбенел. Жак едва сдерживался, чтобы не расхохотаться.
— И ты делаешь ставку на подобную музыку? — наконец спросил Мишель.
— Еще бы! — ответил Кэнсоннас. — Это вполне в духе времени. Сейчас все увлечены химией. Меня поймут. Но одной идеи мало, требуется ее воплощение.
— Что ты хочешь этим сказать? — поинтересовался Жак.
— Что именно исполнением я хочу удивить наш век.
— Но мне кажется, — вставил Мишель, — что ты прекрасно исполнил эту пьесу.
— Ерунда, — пожал плечами артист. — Я не записал ни единой ноты, хотя вот уже три года экспериментирую.
— И чего ты добиваешься?
— Секрет, дети мои. И не спрашивайте меня больше. А то, чего доброго, сочтете меня за безумца. И тогда — прощай надежды! Но смею вас заверить, что я превзойду всех этих Листов, Тальбергов, Прюдантов, Шульгофов.[58]
— Ты что, собираешься за секунду сыграть в три раза больше нот, чем они? — спросил Жак.
— Нет. Но я собираюсь играть в иной манере, — публика будет в восторге! Каким образом? Пока сказать не могу. Любой намек, любое лишнее слово — и моя идея будет украдена. Презренная толпа подражателей бросится по моим следам, а я хочу быть единственным! Но это потребует сверхчеловеческих усилий! Когда же наконец я поверю в собственные силы и мне улыбнется счастье, я навсегда распрощаюсь с Великой Книгой.
— Ты что, действительно не в своем уме? — не сдержался Жак.
— О нет! Я только одержимый. Как одержим всякий, кто рассчитывает на успех! Но вернемся к воспоминаниям более приятным, к нашему милому прошлому, для которого мы, собственно, и были рождены. Друзья мои, вот истина в музыке!
Кэнсоннас был великим музыкантом, он играл с глубочайшим чувством; он знал все, что предшествующие века завещали веку нынешнему, не желавшему ничего наследовать! Он начал от зарождения искусства, быстро переходя от одного мэтра к другому, а его в меру грубоватый, но вполне приятный голос дополнял то, чего не хватало исполнителю. Перед зачарованными друзьями он развернул грандиозную панораму истории музыки, переходя от Рамо[59] к Люлли,[60] от Моцарта к Веберу и Бетховену, основоположникам музыкального искусства. Он исполнял вдохновенные создания Гретри,[61] и слезы умиления текли по его щекам. Он торжествовал, играя совершеннейшие пассажи из Россини и Мейербера.
— Слушайте, — говорил он, — вот забытые арии из «Вильгельма Телля»,[62] «Роберта-Дьявола»,[63] «Гугенотов», вот галантная музыка эпохи Герольда[64] и Обера,[65] двух ученых, гордившихся, что ничего не знают! И к чему наука в музыке? А в живописи? Да ни к чему! Музыка и живопись едины! Так понимали это великое искусство в первой половине девятнадцатого столетия и не искали в музыке новых формул. В музыке, как и в любви, невозможно найти что-либо новое. Очаровательное преимущество чувственных искусств в том и заключается, что они вечно молоды!
— Здорово сказано! — воскликнул Жак.
— Но тогда же, — продолжал музыкант, — нашлись честолюбцы, возжелавшие пуститься на поиски неизведанных путей. Они-то и привели музыку к неизбежному краху.
— Означает ли это, что для тебя все остановилось на Россини и Мейербере? — спросил Мишель.
— Ну по-че-му же! — пропел музыкант, переходя от обычного «ре» в «ми-бемоль». Я не говорю тебе о Берлиозе, главе бесплодной школы, чьи музыкальные идеи вылились в амбициозные фельетоны.[66] Нет, наследники великих маэстро не перевелись. Послушай Фелисьена Давида,[67] профессионала, которого теперешние ученые путают с царем Давидом,[68] первым арфистом Иудеи! Отдайся с благоговением простой незатейливой мелодии Массе,[69] последнего лирического музыканта, сочинявшего сердцем, чья опера «Индианка» стала подлинным шедевром своей эпохи! А вот Гуно, несравненный создатель «Фауста»! Он умер вскоре после того, как стал проповедником вагнеровской церкви. А вот и творец гармоничного шума, герой музыкального грохота, срабатывающий грубо отесанную мелодию подобно сочинявшейся в то время грубо сколоченной литературе, — Верди, автор неисчерпаемого «Трубадура», немало поспособствовавший падению вкусов своего времени. Наконец явился Вагнерб…[70]
И тут Кэнсоннас, давший волю своим пальцам, не подчинявшимся более законам ритма, погрузился в туманные грезы Созерцательной Музыки с ее внезапными паузами посреди нескончаемой, словно теряющейся в лабиринте мелодии.
С неподражаемым мастерством Кэнсоннас продемонстрировал все этапы развития музыки. Под его пальцами воскресли двести лет музыкального искусства, и друзья, потрясенные, в молчаливом благоговении слушали пианиста.
Внезапно посреди вымученных пассажей вагнеровской школы, в мгновенье, когда заплутавшаяся мысль теряется безвозвратно, а звуки постепенно уступают место шуму, который музыкой не назовешь, под пальцами пианиста вдруг возникает что-то простое, пленительное, мелодичное, так и хватающее за душу. То было затишье после бури, песнь сердца после всех этих рыков и стонов.
— Ах! — только и смог вымолвить Жак.
— Друзья мои, — начал Кэнсоннас, — среди нас жил еще один великий, никому не известный артист, воплотивший в себе гения музыки. Сыгранное мною сочинение, созданное в тысяча девятьсот сорок седьмом году, стало последним вздохом умирающего искусства.
— И кто же он, этот гений? — спросил Мишель.
— Твой отец и мой обожаемый учитель!
— Отец! — едва не разрыдавшись, воскликнул юноша.
— Да! Слушай.
И Кэнсоннас, воспроизводя мелодии, под которыми подписались бы Бетховен и Вебер, вознесся в своей игре до небывалых высот.
— Мой отец! — повторял Мишель.
— Да! — откликнулся музыкант, в сердцах захлопывая крышку пианино. — После него — пустота! Кому он сегодня понятен? Ну хватит, дети мои, хватит воспоминаний! Подумаем о настоящем, и пусть снова владычествует индустриализм!
С этими словами он дотронулся до инструмента, клавиатура откинулась назад, и взору присутствующих предстала застеленная кровать с туалетным столиком, снабженным всеми необходимыми принадлежностями.
— Вот изобретение, достойное нашей эпохи! — проговорил музыкант. — Пианино-кровать-комод-туалет!
— И ночной столик, — добавил Жак.
— Так и есть, дорогой. Полный набор!
Глава IX
ВИЗИТ К ДЯДЮШКЕ ЮГНЭНУ
С того памятного вечера трое молодых людей стали неразлучны. В громадной французской столице они образовывали свой обособленный крошечный мирок.
Мишель проводил свои дни в служении Большой Книге. Казалось, что он смирился с судьбой, но для счастья ему не хватало общения с дядюшкой Югнэном. Подле него он обрел бы настоящую семью: дядюшка заменил бы ему отца, друзья — старших братьев. Он часто писал старику библиотекарю, а тот исправно ему отвечал.
Так пролетели четыре месяца. Казалось, в конторе Мишелем были довольны, кузен уже не так презирал его, а Кэнсоннас расхваливал на все лады. Судя по всему, молодой человек нашел свое призвание: он родился диктовальщиком.
Кое-как перезимовали. Калориферы и газовые камины успешно справились с холодами.
Наступила весна. Первое же свободное воскресенье Мишель решил посвятить дядюшке Югнэну.
В восемь часов утра в прекрасном настроении он выбежал из дома банкира, радуясь, что сможет всласть надышаться кислородом вдали от делового центра. Стояла чудесная погода. Апрель нес с собой возрождение природы, готовясь одарить всех новыми цветами, с которыми не без успеха соперничали цветочные магазины. Мишель чувствовал новый прилив сил.
Дядюшка жил далеко. Ему пришлось перенести свои пенаты на самую окраину, где можно было найти недорогое приемлемое жилище.
Юный Дюфренуа отправился к станции «Мадлен», взял билет и, войдя в вагон, устремился на второй этаж. Был дан сигнал отправления, и поезд двинулся вверх по бульвару Мальзерб, оставив с правой стороны массивную церковь Святого Августина, а с левой — парк Монсо, обрамленный великолепными зданиями. Поезд пересек первую, потом вторую кольцевые линии метрополитена и остановился на станции «Порт-Аньер», неподалеку от старинных фортификаций.
Первая часть путешествия завершилась: Мишель проворно спрыгнул на перрон, проследовал по улице Аньер до улицы Револьт, свернул направо, прошел под железнодорожным полотном Версальской дороги и наконец добрался до угла улицы Кайю.
Он очутился перед высоким густонаселенным домом, весьма скромным с виду, и спросил у консьержа, где живет месье Югнэн.
— На десятом, дверь направо, — ответствовал сей важный господин; в те времена консьержи были государственными служащими, назначаемыми на этот доверительный пост непосредственно правительством.
Мишель поклонился, вошел в подъемник и через несколько секунд был уже на площадке десятого этажа.
Он позвонил. Дверь открыл сам месье Югнэн.
— Дядюшка! — воскликнул Мишель.
— Мальчик мой! — проговорил старик, заключая юношу в объятья — Наконец-то ты здесь!
— Да, дядюшка! Первый же мой свободный день — ваш!
— Спасибо, мой дорогой мальчик! Какое удовольствие видеть тебя! — говорил дядюшка Югнэн, пропуская Мишеля в комнату. — Ну, снимай же шляпу, садись, располагайся поудобнее! Ты ведь останешься у меня?
— На целый день, если только я вас не стесню.
— Ну что ты! Ни в коем случае! Я ведь ждал тебя, мое дорогое дитя!
— Вы меня ждали! А я даже не успел вас предупредить! Но все равно я бы опередил мое письмо!
— Я ждал тебя, Мишель, каждое воскресенье, и твой обеденный прибор всегда был на столе, вот как теперь.
— Неужели?
— Я был уверен, что рано или поздно ты придешь повидать своего дядюшку! Правда, вышло скорее поздно.
— Ведь я не свободен, — поспешил оправдаться Мишель.
— Прекрасно все понимаю, мой мальчик, и не сержусь на тебя! Как ты мог подумать!
— О! Как хорошо у вас здесь! — с завистью проговорил Мишель, оглядываясь по сторонам.
— Ты, наверное, имеешь в виду мои книги! Старых моих друзей! — отозвался дядюшка Югнэн. — Действительно, здесь я счастлив! Но об этом позже. А пока все-таки сядем за стол. Обо всем, обо всем потолкуем, хотя я и зарекся говорить с тобой о литературе!
— Что вы, дядюшка! — взмолился Мишель.
— Ну, посмотрим, посмотрим! Ты лучше расскажи мне, чем занят, что делаешь в этом самом банке? Возможно, твои идеи…
— Все еще прежние.
— Черт побери, тогда прошу за стол! Да, кстати, сдается мне, что ты меня не обнял.
— Быть того не может!
— Ну что ж, племянничек, повтори еще раз! Сие не повредит и только поспособствует моему и без того отменному аппетиту. Я ведь еще ничего не ел.
Мишель от всего сердца обнял старика, и оба уселись за стол.
Все возбуждало любопытство юноши: он беспрестанно озирался вокруг. И действительно, в комнате было много удивительного, что могло бы поразить воображение поэта.
Вся квартира, состоявшая из крошечной гостиной и спальни, была до отказа забита книгами. Из-за полок не было видно даже стен. Зато потемневшие переплеты являли взору свое благородное, тронутое временем облачение. Книгам здесь было явно тесно, и они беззастенчиво вторгались в соседнюю комнату, проскальзывая над дверьми и устраиваясь в оконных проемах. Эти драгоценные тома, вольготно расположившиеся повсюду — на мебели, в камине, в ящиках приоткрытых комодов, никак не походили на книги богачей, устроившихся в столь же роскошных, сколь и ненужных книжных шкафах. Здесь книги чувствовали себя как хозяева, свободно и непринужденно, хотя им приходилось жить в тесноте. Впрочем, каждое утро к ним прикасалась бережная рука, не оставлявшая ни пылинки, ни загнутого уголка, ни пятнышка на переплете.
Все убранство салона состояло из двух видавших виды кресел и старинного стола в стиле «ампир»[71] с позолоченными сфинксами и римскими фасциями.[72]
Окна комнаты выходили на юг. Но высокие стены, огораживающие двор, не пропускали солнца. Только один-единственный раз в году, 21 июня, в день солнцестояния, если, конечно, погода тому благоприятствовала, самый длинный из лучей сияющего небесного светила, слегка коснувшись соседней крыши, стремительно проскальзывал в окно и, словно птичка вспорхнув на край полки или же на книжный корешок, задерживался на миг, освещая в своем сверкающем броске мириады пылинок. Мгновенье — и луч угасал, исчезая до следующего года.
Дядюшка Югнэн знал все повадки этого удивительного в своем постоянстве пришельца. С бьющимся сердцем и готовностью астронома он поджидал этот луч; он купался в его благотворном сиянии, выверял по нему старые часы, воздавал солнцу хвалу, что не был им забыт.
Это была его собственная пушка Пале-Руаяль, с тем только отличием, что стреляла она раз в году, да и то не всегда!
Дядюшка Югнэн не забыл пригласить племянника на очередное великое торжество 21 июня, и тот с радостью согласился.
Обед не обещал быть слишком обильным, но предлагался от чистого сердца.
— Сегодня у меня праздник, — проговорил Югнэн, — и я принимаю гостей. Кстати, знаешь ли ты, с кем мы вечером будем ужинать?
— Нет, дядя.
— С твоим преподавателем Ришло и его внучкой мадемуазель Люси.
— Признаюсь, дядюшка, мне доставит истинное удовольствие увидеть этого достойного человека.
— А мадемуазель Люси?
— Я с ней не знаком.
— Ну что ж, мой мальчик, ты будешь ей представлен, но предупреждаю тебя: она очаровательна, хотя об этом не догадывается! Так что смотри не проговорись! — лукаво усмехнулся дядюшка Югнэн.
— Ни в коем случае, — отозвался Мишель.
— После ужина мы смогли бы все вчетвером совершить приятную прогулку.
— Согласен, дядюшка! Это будет чудесным завершением сегодняшнего дня!
— Но почему ты ничего не ешь и не пьешь, мой мальчик?
— Что вы, дядюшка, — задыхаясь от охвативших его чувств, проговорил Мишель, — за ваше здоровье!
— И за нашу новую встречу! Ведь когда мы с тобой расстаемся, мне все время кажется, что ты отправляешься в долгое путешествие! Ну хорошо, расскажи все-таки о себе! Что происходит в твоей жизни? Обстановка как нельзя лучше располагает к откровенности.
— С удовольствием, дядя.
Мишель в деталях рассказал о всех своих злоключениях, о печалях, об отчаянии и даже о счетной машине, не упустив подробностей ночного приключения с усовершенствованной кассой. Наконец, поведал он и о прекрасных днях, проводимых на вершине Большой Книги.
— Именно здесь я встретил моего первого друга, — признался Мишель.
— Что? У тебя есть друзья? — проговорил, нахмурившись, Югнэн.
— У меня их двое, — отозвался молодой человек.
— Немало, если они предадут тебя, и вполне достаточно, если они тебя любят, — наставительно произнес старик.
— Ах, дядюшка! — с горячностью откликнулся Мишель. — Они же художники!
— Да, безусловно, это гарантия, — проговорил Югнэн, покачивая головой. — Мои сомнения явно неуместны, ибо статистика свидетельствует, что в тюрьмах и на каторге пребывают дельцы, адвокаты, священнослужители, банкиры, нотариусы, ростовщики, но нет ни одного художника! Однако…
— Вы познакомитесь с ними, дядюшка, и увидите, какие это славные ребята!
— С удовольствием, — проговорил Югнэн, — я люблю молодых, если они действительно молоды. Юные старички мне всегда казались лицемерами!
— За этих я ручаюсь!
— Что ж, Мишель, судя по людям, с которыми ты общаешься, твои идеи не изменились?
— Нет, напротив, — отвечал молодой человек.
— И ты упорствуешь в грехе?
— Да, дядюшка.
— Тогда признайся мне, несчастный, в твоих последних прегрешениях!
— С превеликим удовольствием!
И молодой человек вдохновенно прочел прекраснейшие стихи, проникнутые глубокой мыслью и истинной поэзией.
— Браво! — восторженно воскликнул Югнэн. — Браво, мой мальчик! Так, значит, кто-то еще способен создавать подобные шедевры! Ты говоришь на дивном языке давно ушедшего времени! О дитя мое! Как мне грустно и вместе с тем как радостно!
Некоторое время они молчали. Потом дядюшка произнес:
— Ну, будет, будет… Давай-ка уберем этот стол. Он нам мешает.
Мишель помог старику, и столовая тут же превратилась в библиотеку.
— Что же дальше, дядюшка? — спросил молодой человек.
Глава X
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА:
ДЯДЮШКА ЮГНЭН ПРИНИМАЕТ
БОЛЬШОЙ ПАРАД ПИСАТЕЛЕЙ ФРАНЦИИ
— А вот и десерт, — произнес Югнэн, указывая на забитые книгами полки.
— У меня волчий аппетит, — откликнулся Мишель, — и я готов приступить к пище духовной.
Дядя и племянник, в едином порыве, с подлинно юным воодушевлением принялись перелистывать книги, переходя от полки к полке. Но месье Югнэн тут же постарался внести хоть сколько-нибудь порядка в это сумбурное рысканье.
— Иди-ка сюда, — обратился он к Мишелю, — и начнем все сначала. Сегодня мы не читаем, а лишь обозреваем и обмениваемся впечатлениями. Это будет скорее смотр, нежели сражение. Представь себе Наполеона во дворе Тюильри, а не на поле Аустерлица. Заложи-ка руки за спину, и пройдемся по рядам.
— Следую за вами, дядюшка.
— Сын мой, будь готов к тому, что сейчас перед тобой предстанет самая прекрасная армия в мире; ни одна другая страна не смогла бы выставить подобного ей войска, одержавшего столь блистательные победы над варварством.
— Великая Армия Словесности.
— Посмотри сюда. Видишь, на первой полке построились облаченные в броню чудесных переплетов наши старые ворчуны шестнадцатого столетия — Амио,[73] Ронсар,[74] Рабле, Монтень, Матюрен Ренье.[75] Они — как стойкие солдаты на посту; и по сю пору еще ощутимо их влияние на наш великолепный французский язык, основы которого они заложили. Однако следует помнить, что они сражались больше за идею, нежели за форму. Рядом с ними — доблестный генерал, в свое время отличавшийся неимоверной храбростью. Но главная его заслуга — в усовершенствовании тогдашнего оружия.
— Это Малерб,[76] — подхватил Мишель.
— Он самый. Как-то Малерб признался, что учился у грузчиков Сенного порта; он ходил туда подслушивать их метафоры, характерные галльские словечки. Потом он подчищал их, полировал и ваял из всего этого мусора дивный язык, на котором так чудесно говаривали в семнадцатом, восемнадцатом, девятнадцатом веках.
— О! — воскликнул Мишель, указывая на единственный экземпляр в суровом и горделивом облачении. — Вот истинный полководец!
— Да, сын мой! Как Александр, Цезарь или Наполеон. Император французов, несомненно, сделал бы принцем старину Корнеля,[77] этого воина, породившего множество себе подобных, ибо его академическим изданиям поистине несть числа. Вот, к примеру, пятьдесят первое, последнее, издание его Полного собрания сочинений, вышедшего в тысяча восемьсот семьдесят третьем году. С тех пор Корнеля не переиздавали.
— Должно быть, трудно было раздобыть эти сочинения!
— Напротив! Все стремятся сбыть их с рук! Взгляни, вот сорок девятое издание Полного собрания сочинений Расина,[78] сто пятидесятое — Мольера, сороковое — Паскаля,[79] двести третье — Лафонтена,[80] одним словом, последние публикации, которым не меньше века. Сущий клад для библиофилов! Эти великие гении сделали свое дело и теперь зачислены в разряд археологических древностей.
— В самом деле, — отозвался молодой человек, — они говорят на другом языке, который вряд ли был бы понятен сегодня.
— Верно, дитя мое! Прекрасный французский язык исчез навсегда! Утрачено дивное наречие, избранное даже великими иноземцами — Лейбницем,[81] Фридрихом Великим, Ансильоном,[82] Гумбольдтом,[83] Гейне для выражения их собственных мыслей! Сам Гёте сожалел, что не может писать на французском, этом изысканном языке, который не сумели вытеснить греческим или латынью в пятнадцатом столетии, итальянским — в эпоху Екатерины Медичи и гасконским — при Генрихе IV. Французский язык превратился ныне в отвратительный жаргон. Позабыв, что лучше иметь язык удобный, нежели богатый, каждый для своих занятий норовил создать собственный словарь. Ботаники, биологи, физики, химики, математики составили чудовищную мешанину из слов; изобретатели позаимствовали из английского свои неблагозвучные термины. Барышники, торгующие лошадьми, жокеи, участвующие в скачках, продавцы, предлагающие машины, и даже философы, мыслящие категориями, сочли родной язык слишком беспомощным, бесцветным и ринулись заимствовать иностранные слова! Что ж! Тем лучше! Пусть они совсем его забудут! Зато французская речь, ставшая еще краше в своей бедности, не пожелала обогащаться, проституируя! Наше достояние, мальчик мой, — язык Малерба, Мольера, Боссюэ,[84] Вольтера, Нодье,[85] Виктора Гюго — это благовоспитанная барышня, и ты можешь любить ее без опасений, ибо варвары двадцатого века так и не сумели обратить ее в куртизанку!
— Здóрово сказано! Теперь мне понятна очаровательная манера моего профессора Ришло, который из презрения к нынешнему жаргону изъясняется только на офранцуженной латыни. Над ним смеются, но он прав. Кстати, скажите мне, разве французский не стал языком дипломатии?
— Да! В наказание ему, на Неймегенском конгрессе в тысяча шестьсот семьдесят восьмом году.[86] За свою ясность и открытость французский был избран языком дипломатии — наукой двурушнической, двусмысленной и лживой, в результате чего наш язык стал постепенно ухудшаться, пока не погиб совсем! Вот увидишь, когда-нибудь придется искать ему замену!
— Бедный французский! — проговорил Мишель. — Я вижу тут Боссюэ, Фенелона,[87] Сен-Симона;[88] они ни за что бы его не узнали!
— Да! Их детище плохо кончило! Вот что значит знаться с учеными, промышленниками, дипломатами и прочими сомнительными личностями. Сам становишься мотом, погрязаешь в разврате! Словарь тысяча девятьсот шестидесятого года, если в него поместить все употребляемые ныне термины, станет по меньшей мере в два раза толще, чем словарь тысяча восьмисотого года! Можно только гадать, что там обнаружится! Но давай продолжим наш смотр: негоже солдатам стоять так долго по стойке смирно!
— Я вижу там целую шеренгу превосходных томов.
— Превосходных и порою значительных! — откликнулся дядюшка Югнэн. — Это четыреста двадцать восьмое издание избранных сочинений Вольтера: универсальный ум, бывший вторым во всех областях человеческого знания, как сказал о нем господин Жозеф Прюдом.[89] По словам Стендаля, в тысяча девятьсот семьдесят восьмом году Вольтер станет вторым Вуатюром,[90] и полуглупцы в конце концов сотворят из него своего кумира. К счастью, Стендаль чересчур уповал на следующие поколения! Полуглупцы? На самом деле остались одни круглые дураки, для которых ни Вольтер, ни кто-либо другой из писателей ничего не значат! Давай продолжим метафору: Вольтер, по-моему, был просто кабинетным генералом! Он сражался, не покидая собственных апартаментов, ничем особенно не рискуя. Его шутки — в общем-то оружие достаточно безобидное, нередко давало осечку, и люди, в которых он метал свои убийственные стрелы, порой жили дольше него.
— Но вы согласны, дядюшка, что он — великий писатель?
— Несомненно, мой мальчик. Он был воплощением стихии французского языка, владел им с таким остроумием и изяществом, с каким орудовали шпагой полковые учителя фехтования. Они беспрестанно упражнялись в фехтовальных залах, но едва доходило до дела, как находился какой-нибудь молокосос, который пронзал мэтра при первом же выпаде. Но самое удивительное, что человек, столь великолепно владевший французским, никогда не был по-настоящему смелым.
— Я тоже так думаю, — согласился Мишель.
— Последуем дальше, — проговорил Югнэн, направляясь к новому строю, где солдаты имели строгий и неприветливый вид.
— Вот авторы конца восемнадцатого века, — сказал молодой человек.
— Да! Жан-Жак Руссо, написавший самые прекрасные слова о Евангелии,[91] как и Робеспьер, высказавший замечательные мысли о бессмертии души![92] Настоящий генерал Республики, в сабо, без эполет, без расшитого мундира! И тем не менее это не помешало ему одержать множество славных побед! Смотри, возле него стоит Бомарше — стрелок в авангарде! Он очень кстати развязал великое сражение восемьдесят девятого года, в котором цивилизация одержала верх над варварством! К несчастью, потом мы несколько злоупотребили плодами этой победы, и вот чертов прогресс привел нас туда, где мы сегодня находимся.
— Кончится тем, быть может, что придется снова совершить революцию, — заметил Мишель.
— Все возможно, — отозвался Югнэн, — и это предположение не столь уж смешно. Но оставим философские разглагольствования и продолжим смотр. Вот тщеславный полководец, убивший лет сорок на то, чтобы доказать собственную скромность, — Шатобриан,[93] чьи «Замогильные записки» не смогли спасти его от забвения.
— Возле него я вижу Бернардена де Сен-Пьера,[94] — проговорил Мишель, — его прелестный сентиментальный роман «Поль и Виргиния» вряд ли бы теперь растрогал кого-нибудь.
— Увы! — вздохнул дядюшка Югнэн. — Поль, ставший бы сегодня банкиром, выжимал бы все соки из своих клерков, а Виргиния вышла бы замуж за сына фабриканта рессор для локомотивов. А вот, погляди! Знаменитые мемуары господина Талейрана,[95] вышедшие в свет, согласно его воле, только спустя тридцать лет после его кончины. Я уверен, что этот тип там, где теперь пребывает, все еще занимается дипломатией, но дьявола ему не провести! Вон там я вижу офицера, равно владевшего и саблей и пером, — великого эллиниста Поля Луи Курье,[96] писавшего на французском как современник Тацита.[97] Когда наш язык, Мишель, будет окончательно утерян, его смогут полностью восстановить по произведениям этого славного сочинителя. А вот Нодье, прозванный любезным, и Беранже[98] — государственный муж, сочинявший на досуге свои песенки. Наконец, мы подходим к блестящему поколению, вырвавшемуся на волю во времена Реставрации,[99] словно расшумевшиеся семинаристы на улицу.
— Ламартин,[100] — вставил Мишель, — великий поэт!
— Один из генералов Литературы образа, подобный статуе Мемнона,[101] чарующе звучавшей при касании солнечного луча! Бедный Ламартин! Во благо великих идей он промотал все свое состояние и вынужден был влачить нищенское существование в неблагодарном городишке, источая свой талант на кредиторов! Он освободил поместье Сен-Пуэн от разъедающей язвы ипотеки и умер с горя, видя, как земля его предков, где покоятся близкие ему люди, переходит к Компании железных дорог!
— Бедный поэт! — вздохнул молодой человек.
— Возле его лиры, — продолжал дядюшка Югнэн, — ты видишь гитару Альфреда де Мюссе.[102] На ней уже больше не играют. И надо быть давним почитателем поэта, вроде меня, чтоб услаждать свой слух бренчанием на ее спущенных струнах. Мы приблизились к оркестру нашей славной армии!
— А вот и Виктор Гюго! — воскликнул Мишель. — Надеюсь, дядюшка, вы причисляете его к великим полководцам!
— Его, мой мальчик, я помещаю в первую шеренгу. Это он размахивает на Аркольском мосту знаменем романтизма,[103] он выигрывает баталии при Эрнани,[104] Бургграфах,[105] Рюи Блазе,[106] Марион Делорм![107] В свои двадцать пять лет, подобно Бонапарту, он уже стал главнокомандующим и побивал австрийских классиков в каждом единоборстве. Никогда, сын мой, человеческая мысль не была столь могущественна, столь сконцентрированна, как в голове этого человека, этом горниле, способном выдержать самые высокие температуры. Я не знаю никого, ни в античности, ни в новые времена, кто бы превзошел его по силе и богатству воображения. Виктор Гюго — ярчайшая личность первой половины девятнадцатого столетия, глава школы, равной которой не будет никогда. Его Полное собрание сочинений выдержало семьдесят пять переизданий, и вот — последнее из них. Но и Гюго, дитя мое, подобно прочим авторам, увы, канул в Лету. Он ведь не истребил множества людей, так к чему же и вспоминать о нем!
— О дядюшка! — вновь воскликнул молодой человек, карабкаясь по лестнице. — Да у вас двадцать томов Бальзака!
— Ну конечно! Ведь Бальзак — первый романист мира, и многие из созданных им персонажей превзошли героев Мольера! Но в наши дни он не отважился бы создать свою «Человеческую комедию».
— Однако он мастерски описал человеческие пороки! — заметил Мишель. — У него немало героев настолько жизненных, что они неплохо вписались бы в нашу эпоху.
— Несомненно, — согласился старик. — Но где теперь бы он отыскал всех этих де Марсэ, Гранвиллей, Шенелей, Мируэ, Дю Геников, Монриво, кавалеров де Валуа, ла Шантери, Мофриньезов, Евгений Гранде и Пьеретт, чьи очаровательные образы олицетворяли благородство, ум, храбрость, милосердие, чистоту — он ведь не выдумывал их, а брал из жизни! Что же до образов людей алчных — охраняемых законом банкиров и амнистированных воров, то в них он не испытывал бы недостатка; от всех этих Кревелей, Нюсингенов, Вотрэнов, Корантэнов, Юло и Гобсеков отбоя бы не было.
— Мне кажется, — проговорил Мишель, переходя к другим полкам, — что здесь стоит значительный автор!
— Еще бы! — согласился Югнэн. — Это Александр Дюма, Мюрат от литературы: смерть прервала его работу над тысяча девятьсот девяносто третьим томом! Он был самым увлекательным рассказчиком, коему щедрая природа без малейшего для себя ущерба позволила расточать свой ум, талант, остроумие; он сумел воспользоваться всем — своей незаурядной физической силой, захватывая пороховой склад в Суассоне,[108] своим происхождением[109] и цветом кожи, путешествуя по Испании, Франции, Италии, Швейцарии, по берегам Рейна, в Алжире, на Кавказе, на Синайской горе и, особенно, врываясь в Неаполь на своем Сперонаре.[110] Ах, какая удивительная личность! Полагают, что он выпустил бы и четырехтысячный том, если б в расцвете лет не отравился блюдом собственного изобретения.[111]
— Как жалко! — вздохнул молодой человек. — А этот трагический случай не привел к другим жертвам?
— Увы, привел. К несчастью, среди прочих оказался и тогдашний критик, Жюль Жанен,[112] сочинявший свои латинские стихи на полях газет. Все случилось на обеде, который давал ему Александр Дюма в знак примирения. Вместе с ними погиб и молодой писатель Монселе,[113] оставивший нам шедевр, к несчастью не законченный, — «Словарь гурманов», сорок пять томов, оборвавшийся на букве «Ф» — «фарш».
— Черт побери, автор подавал большие надежды! — заметил Мишель.
— А вот Фредерик Сулье,[114] — продолжал Югнэн, — храбрый солдат, способный прийти на помощь и взять приступом крепость; рядом — Гозлан,[115] гусарский капитан; Мериме,[116] генерал от передней, Сент-Бёв,[117] помощник военного интенданта, начальник склада; Араго,[118] ученый офицер инженерных войск, сумевший получить отпущение грехов за свою науку. Посмотри, Мишель, вот произведения гениальной, несравненной Жорж Санд, из числа величайших писателей Франции. В 1859 году ее наконец наградили орденом Почетного легиона, но она отдала врученный ей крест своему сыну.
— А что там за насупившиеся книги? — спросил Мишель, указывая на длинный ряд томов, укрывшихся под карнизом.
— Не стоит задерживаться на них. Это шеренга философов — Кузенов,[119] Пьеров Леру,[120] Демуленов[121] и прочих. Неудивительно, что теперь их никто не читает, ведь мода на философию прошла.
— А это кто?
— Это — Ренан,[122] археолог, произведший переполох своей попыткой развенчать божественную сущность Христа и умерший, сраженный молнией, в тысяча восемьсот семьдесят третьем году!
— А тот, другой, рядом с ним?
— Ах, этот — журналист, публицист, экономист, вездесущий генерал от артиллерии, человек скорее шумный, нежели умный. Имя его — Жирарден.[123]
— А не был ли он атеистом?
— Нет. Но он верил только в себя. А теперь посмотри сюда! Здесь пребывает исполненный дерзости персонаж, человек, который, будь в том нужда, выдумал бы французский язык и стал бы классиком, если бы языку еще обучали. Речь идет о Луи Вёйо,[124] самом непоколебимом поборнике Римской церкви, к своему великому удивлению умершем отлученным от нее. А вот Гизо[125] — строгий историк, забавлявшийся в часы досуга разоблачением Орлеанской династии. Видишь вон ту огромную компиляцию? Это единственно достоверная и самая подлинная история Революции и Империи, опубликованная в 1895 году по распоряжению правительства, дабы покончить с различными толкованиями данного периода нашей истории. Для составления этого труда широко использовались хроники Тьера.[126]
— А! — воскликнул Мишель. — Вот и славные ребята, мне они кажутся пылкими юнцами.
— Верно говоришь, это легкая кавалерия тысяча восемьсот шестидесятого года — блистательная, шумная, отважная, сметающая со своего пути предрассудки, перемахивающая через барьеры приличий, падающая наземь и тотчас вскакивающая, чтоб снова мчаться сломя голову навстречу любой опасности! Вот истинный шедевр той эпохи — «Мадам Бовари», а здесь — «Человеческая глупость» некоего Норьяка,[127] вечный, неисчерпаемый сюжет! Рядом — все эти Ассоланы,[128] Оревильи, Бодлеры,[129] Парадоли,[130] Шолли, славные ребята, на которых волей-неволей приходилось обращать внимание, ибо они палили вам по ногам…
— Но только холостыми, — отметил Мишель.
— Не только. Еще солью, а она здорово щиплется. Послушай, вот еще юнец, настоящий сын полка, отнюдь не обделенный талантом.
— Вы имеете в виду Абу?[131]
— Да! Он вообразил себя Вольтером, или, точнее, его считали вторым Вольтером. Может, со временем он дорос бы тому до щиколотки, но, к несчастью, в тысяча восемьсот шестьдесят девятом году, когда Абу почти добился принятия в Академию, один свирепый критик, небезызвестный Сарсэ,[132] убил его на дуэли.
— Не будь этого несчастья, он, вероятно, далеко бы пошел? — спросил молодой человек.
— Ему всегда все было мало! — ответил дядюшка. — Таковы, мой мальчик, главные военачальники нашего литературного войска. Там, на последних полках, стоят шеренги малоизвестных солдат, чьи имена удивляют даже завзятых книжников. Развлекись немного, продолжи смотр, на очереди еще пять или шесть веков, которые не были бы в обиде, если б перелистали прошлое!
Так пролетел этот день. Мишель отставил авторов неизвестных и обратился к именам знакомым, натыкаясь, однако, на забавные контрасты: за блистательным, но слегка устаревшим Готье[133] шел Фейдо,[134] продолжатель таких скабрезных авторов, как Луве[135] и Лакло;[136] а за Шанфлери[137] следовал Жан Масе,[138] самый искусный вульгаризатор науки. Взгляд юноши скользил от некоего Мери,[139] выдававшего свои остроты на заказ, словно тачающий туфли сапожник, к Банвиллю, коего дядюшка Югнэн, нимало не церемонясь, обозвал жонглером слова. Мишелю попадались то Сталь,[140] любовно изданный в типографии Этцеля, то Карр, остроумный и сильный духом моралист, не позволявший никому себя обворовывать. Взгляд его падал то на Уссе,[141] который, отслужив в салоне Рамбуйе, вынес оттуда нелепый стиль и претенциозные манеры, то на Сен-Виктора,[142] не утратившего своего блеска и сто лет спустя.
Затем молодой человек вернулся к началу. Он брал свои любимые книги, открывал их, перелистывал, прочитывал фразу в одной, целую страницу — в другой, проглядывал заголовки — в третьей. Он вдыхал этот книжный аромат, дурманящий его, пронизывавший все его существо волнующими ощущениями давно ушедшего времени. Он пожимал руки всем этим друзьям из прошлого, которых он бы знал и любил, доведись ему родиться намного раньше!
Дядюшка Югнэн любовался племянником и чувствовал, что молодеет сам.
— Ну, о чем ты задумался? — спрашивал Югнэн Мишеля всякий раз, когда замечал, что мысли юноши витают где-то далеко.
— Мне кажется, в этой комнате есть решительно все, чтобы сделать человека счастливым на всю жизнь!
— Если он умеет читать!
— Я это и имел в виду! — согласился Мишель.
— Конечно, но только при одном условии, — продолжал Югнэн.
— При каком же?
— Чтобы он не умел писать!
— Но почему, дядюшка?
— Да потому, мой мальчик, что легок соблазн пойти по стопам великих писателей!
— Ну и что тут плохого? — живо отозвался молодой человек.
— Он погубил бы себя.
— Ах, дядюшка! — воскликнул Мишель. — Вы решили преподать мне урок!
— Ни в коем случае! Если кто и заслуживает здесь нравоучения, то это я!
— Вы? Но за что?
— За то, что я увлек тебя безумными мечтаниями, бедное мое дитя, я приоткрыл тебе землю обетованную, и…
— И вы позволите мне вступить туда?
— Да, если ты поклянешься…
— В чем?
— Что ты будешь там всего лишь прогуливаться! Не хочу, чтобы тебе пришлось распахивать эту неблагодарную почву! Не забывай, кто ты есть и чего хочешь добиться, кто есть я и в какое время оба мы живем.
Мишель ничего не ответил, а только сжал руку дядюшки. Тот, несомненно, продолжил бы выдвигать и дальше все новые веские аргументы, но в этот момент в дверь позвонили и господин Югнэн пошел открывать.
Глава XI
ПРОГУЛКА В ПОРТ ГРЕНЕЛЬ
То был господин Ришло собственной персоной. Мишель бросился к своему старому учителю… Еще мгновенье, и он оказался бы также в объятиях мадемуазель Люси, распростершей руки навстречу дядюшке Югнэну. Но, к счастью, старик успел занять предназначенное для него место у двери и тем самым предупредить эту милую оплошность.
— Мишель! — воскликнул господин Ришло.
— Он самый! — проговорил Югнэн.
— Вот так приятный сюрприз! — откликнулся преподаватель, мешая французские слова с латынью. — Какой радостный вечер нас ожидает!
— Dies albo №tanda lapillo,[143] — продекламировал господин Югнэн.
— Как говаривал наш дорогой Флакк,[144] — добавил Ришло.
— Мадемуазель, — пролепетал молодой человек, приветствуя юную красавицу.
— Месье, — сказала в ответ Люси, кланяясь с застенчивой грациозностью.
— Candore №tabilis albo,[145] — пробормотал Мишель, к великой радости своего учителя, простившего ученика за такой комплимент, ибо произнесен он был на языке иностранном.
Впрочем, молодой человек выразился точно: этим дивным полустишием Овидий сумел передать всю прелесть юной Люси. Изумительна своей белоснежной чистотой! В свои шестнадцать лет мадемуазель Люси была воистину очаровательна: ее длинные светлые волосы по велению тогдашней моды ниспадали на плечи; своей восхитительной свежестью она напоминала едва раскрывшийся бутон — если вообще этими словами можно передать всю первозданность, хрупкость и чистоту ее образа! Наивный взгляд, бездонные голубые глаза, кокетливый носик с маленькими прозрачными ноздрями, чудесный, словно слегка увлажненный росой рот, грациозный, немного небрежный поворот головы, нежные гибкие руки, тонкий стан — все это очаровало молодого человека, от восторга утратившего дар речи. Девушка была живым воплощением поэзии, он воспринимал ее скорее чувствами, нежели зрением, она тронула его сердце прежде, чем его взгляд прикоснулся к ней.
Экстаз юноши грозил продлиться вечно, если б не дядюшка Югнэн, поспешивший рассадить гостей, дабы уберечь Люси от излучения, исходившего от юного поэта. Разговор возобновился.
— Друзья мои, — начал хозяин, — обед подоспеет вовремя. А пока давайте поболтаем! Мы ведь, Ришло, не виделись с вами целый месяц! Как обстоят дела в гуманитарных науках?
— Да никак. Идут из рук вон плохо! — откликнулся старый преподаватель. — В моем классе риторики осталось всего три ученика! Полный упадок! Нас распустят, и правильно сделают!
— Вас уволят! — воскликнул Мишель.
— А что, об этом уже поговаривают? — спросил Югнэн.
— Да, безусловно, — откликнулся Ришло. — Прошел слух, что по решению общего собрания акционеров с тысяча девятьсот шестьдесят второго года все кафедры словесности упраздняются.
«Что станет с ними?» — подумал Мишель, глядя на девушку.
— Не могу поверить, — проговорил, нахмурившись, дядюшка Югнэн, — они не посмеют!
— Посмеют, — отозвался Ришло, — и это к лучшему! Кого нынче интересуют греческий и латынь, годные лишь на то, чтобы поставлять корни для новых научных терминов! Ученики больше не понимают эти чудесные языки; тупость подрастающего поколения мне отвратительна, я просто прихожу в отчаяние!
— Не может быть, что в вашем классе осталось всего три ученика! — воскликнул юный Дюфренуа.
— Да, три, и те лишние! — в сердцах проговорил Ришло.
— К тому же они бездельники, — добавил Югнэн.
— Первостатейные лентяи, — отозвался господин Ришло. — Подумать только, недавно один из них перевел: jus divinum как jus divin![146]
— Божественный сок! — воскликнул дядюшка. — Да это готовый поклонник Бахуса![147]
— Ну а вчера! Только вчера! Horresco referens,[148] догадайтесь, если только сможете, как другой ученик перевел стих из четвертой песни «Георгик»: «Immanis pecoris custos…»[149]
— Мне кажется… — промолвил Мишель.
— Я сгораю от стыда, — перебил его Ришло.
— Подождите, — вмешался Югнэн, — сначала скажите, как переведен этот пассаж в году от Рождества Христова тысяча девятьсот шестьдесят первом?
— «Надзиратель ужасающей дуры», — выдавил из себя старый преподаватель, закрыв лицо руками.
Дядюшка Югнэн не смог удержаться и громко расхохотался. Люси отвернулась, чтобы скрыть невольную улыбку. Мишель печально глядел на нее, а смущенный Ришло не знал, куда деваться от стыда.
— О, Вергилий! — воскликнул дядюшка Югнэн. — Мог ли ты представить себе что-либо подобное?
— Теперь вам ясно, друзья мои, — вмешался Ришло, — уж лучше не переводить вовсе, чем переводить так! Да еще в классе риторики! Нас распустят — и правильно сделают!
— Но что тогда будет с вами? — спросил Мишель.
— А это, друг мой, уже другой вопрос, но не сейчас же нам решать его! Мы собрались здесь, чтобы приятно провести время…
— Тогда давайте обедать, — предложил хозяин.
Пока накрывали на стол, Мишель вел с мадемуазель Люси милую и незатейливую беседу, полную очаровательных глупостей, за которыми иногда проглядывала подлинная мысль. В свои шестнадцать лет мадемуазель Люси была вправе считать себя более взрослой, чем Мишель в свои девятнадцать, но показывать это не стремилась. Однако тревога за будущее, омрачавшая ее чистое личико, придавала серьезность всему ее облику. Она беспокойно поглядывала на дедушку Ришло — в нем заключалась вся ее жизнь.
Мишель перехватил один из таких взглядов.
— Вы очень любите месье Ришло? — заметил он.
— Очень, — кивнула девушка.
— Я тоже, мадемуазель, — признался молодой человек.
Люси смутилась, видя, что они оба испытывают самую нежную привязанность к одному и тому же человеку; их сокровенные чувства словно бы слились воедино. Мишель ощутил это и больше уже не решался взглянуть на нее.
Тут дядюшка Югнэн нарушил уединение молодых людей, громогласно призвав всех к столу. Прекрасный обед, заказанный по такому случаю у соседнего поставщика готовых блюд, был подан. Все принялись за еду.
Наваристый суп и великолепная вареная конина — мясо, столь любимое вплоть до восемнадцатого столетия и вновь обретшее популярность в веке двадцатом, утолили первый голод сотрапезников. Затем последовала солидная баранья нога, законсервированная по новому рецепту, с сахаром и селитрой, предохранявшими мясо от порчи и придававшими ему новые несравненные вкусовые качества. Несколько сортов овощей, происходящих из Эквадора и акклиматизированных во Франции, прекрасное расположение духа дядюшки Югнэна, очарование Люси, исполнявшей за столом роль хозяйки, сентиментальное настроение Мишеля — все как нельзя лучше способствовало созданию приятнейшей атмосферы, царившей во время этой почти семейной трапезы. Но сколько ни старайся продлить удовольствие, увы, оно всегда кончается слишком быстро. Вот и теперь полный желудок диктовал свою волю.
Встали из-за стола.
— Теперь главное — достойно завершить этот прекрасный день, — проговорил дядюшка Югнэн.
— Давайте пойдем погуляем, — предложил Мишель.
— Давайте, — откликнулась Люси.
— А куда направимся? — спросил дядюшка.
— К порту Гренель, — ответил молодой человек.
— Чудесно! «Левиафан IV» только что пришвартовался, и мы сможем полюбоваться этим чудом.
Все вышли на улицу. Мишель предложил девушке руку, и наша небольшая компания направилась к кольцевой линии метрополитена.
Знаменитый проект — превратить Париж в морской порт — наконец стал реальностью. Долгое время в него не хотели верить. Многие из тех, кто приходил поглазеть на строительство канала, в открытую высмеивали даже сам замысел, предрекая его бесполезность. Однако не прошло и десяти лет, как скептикам пришлось признать очевидный факт.
Французская столица могла бы превратиться в нечто вроде Ливерпуля, только в самом сердце страны: нескончаемая вереница доков, вырытых на обширных равнинах Иси и Гренель, могла вместить тысячу крупнотоннажных судов. Размах этой исполинской работы, казалось, достиг предела возможного.
В прежние времена, при Людовике XIV и при Луи-Филиппе, не раз возникала идея прорыть канал от столицы к морю. Наконец, в 1863 году некоему обществу была предоставлена возможность на свой страх и риск начать изыскания в Бове, Крее и Дьепе. Однако на предполагаемой трассе канала оказалось множество возвышенностей, которые потребовали бы сооружения многочисленных шлюзов с обильной подачей воды из ближайших рек. Поскольку Уазу и Бетюн, единственные реки на пути следования канала, посчитали недостаточно полноводными для подобной задачи, компания свернула свои работы.
Через шестьдесят пять лет к предложенной в прошлом веке старой идее, отвергнутой по причине своей простоты и логичности — использовать Сену как естественную артерию, связывающую столицу и океан, — обратилось уже само государство.
Менее чем за пятнадцать лет под руководством гражданского инженера по фамилии Монтане прорыли канал, бравший свое начало на равнине Гренель и заканчивавшийся чуть пониже Руана. Его протяженность была 140 километров, ширина — 70 метров, глубина — 20 метров. Образовывалось русло вместимостью примерно 190 000 000 кубических метров. Обмеление каналу явно не грозило, поскольку каждую секунду в него поступало из Сены до пятидесяти тысяч литров воды. Необходимые работы, произведенные в низовьях реки, сделали фарватер проходимым и для большегрузных судов, так что навигация от Гавра до Парижа осуществлялась беспрепятственно.
К тому времени по проекту инженера Дюпейра во Франции, по пути следования бывших волоков, построили целую сеть железнодорожных путей, протянувшихся вдоль каналов. Мощные локомотивы, движущиеся по рельсам, без труда тащили на буксире баржи и грузовые суда.
Та же система перевозок широко использовалась на Руанском канале, и понятно, с какой быстротой частные торговые суда и корабли государственного флота достигали Парижа.
Новый порт был великолепен. Вскоре дядюшка Югнэн и его гости уже прогуливались по его гранитным набережным среди многочисленной публики.
Всего сооружено было восемнадцать морских доков, два из которых предназначались для военно-морских судов, призванных защищать французские рыболовецкие промыслы и колонии. Здесь еще можно было увидеть старые бронированные фрегаты девятнадцатого столетия, вызывавшие восхищение любителей древностей, не слишком разбиравшихся в морском деле.
Военные корабли, в конце концов, обрели невероятные размеры, что вполне объяснимо, ибо в течение полувека происходила достойная осмеяния война между пушечным ядром и броней — кто пробьет и кто выстоит. Корпуса кораблей из кованой стали делались все массивнее, а пушки такими тяжелыми, что суда в конце концов стали тонуть от собственного веса. Так и завершилось это благородное соперничество — в момент, когда казалось, что ядро одолеет броню.
— Вот так сражались в старину, — проговорил дядюшка Югнэн, указывая на железное чудище, мирно покоившееся в глубине дока. — У людей, заключенных в эти бронированные коробки, был только один выбор: или потопишь ты, или потопят тебя.
— Значит, личное мужество при этом вовсе ничего не значило, — заметил Мишель.
— Оно стало таким же бесполезным, как и пушки, — усмехнулся дядюшка. — Сражались машины, а не люди. И войны постепенно прекращались, ибо становились просто смешными. Я еще могу понять рукопашный бой, когда сам убиваешь своего противника…
— Какой вы кровожадный, месье Югнэн, — вмешалась Люси.
— Нет, дорогое дитя, я просто здравомыслящий человек, насколько здравый смысл вообще уместен в подобном вопросе. Когда-то война еще имела некое право на существование, но с тех пор, как дальнобойность пушек доведена до восьми тысяч метров, а пушечное ядро тридцать шестого калибра на расстоянии в сто метров способно пробивать тридцать четыре стоящих бок о бок лошади и шестьдесят восемь человек, — согласитесь, личная храбрость стала излишней роскошью.
— Вы правы, — откликнулся Мишель. — Машины погубили личную отвагу, а солдаты стали просто механизмами.
Так, размышляя вслух о войнах прежних времен, наши герои прогуливались среди чудес торговых доков. Вокруг вырос целый городок сплошных таверн, где сошедшие на берег матросы проматывали все до нитки. Отовсюду доносились их сиплые голоса и соленая матросская брань. Эти бесшабашные молодцы чувствовали себя как дома в новом торговом порту, раскинувшемся прямо посреди долины Гренель, и считали, что вправе вести себя так, как им заблагорассудится. Впрочем, они держались особняком, не смешивались с жителями окрестных предместий. Как будто это Гавр, отделенный от Парижа всего лишь Сеной…
Доки соединялись между собой разводными мостами, в определенный час приводимыми в движение механизмами, работающими на сжатом воздухе Общества катакомб. Судов было так много, что воды почти не было видно. Большинство из них приводилось в движение моторами, работавшими на углекислом газе. Любой трехмачтовый корабль, бриг, шхуна, люгер или даже рыбачья лодка были снабжены винтом. Время парусов прошло, ветер вышел из моды, в нем больше не нуждались, и старый гордец Эол[150] стыдливо прятался в своем мешке.
Вполне понятно, что прорытие Суэцкого и Панамского каналов способствовало расцвету дальней навигации. Морские перевозки, освободившиеся от пут всяческих монополий и ярма чиновничьей волокиты, получили небывалый размах. Множились суда разных типов и моделей. Развевающиеся по ветру разноцветные флаги заморских кораблей являли собой великолепное зрелище. Обширные причалы, огромные склады, ломившиеся от товаров, выгружаемых с помощью замысловатых механизмов: одни машины вязали и взвешивали тюки, другие маркировали их и переправляли на судно, которое локомотив уже притащил сюда на буксире. Повсюду вздымались огромные горы из кип шерсти и хлопка, ящиков чая, мешков кофе и сахара. От обилия товаров, прибывших с пяти континентов, в воздухе был разлит какой-то особенный запах, который можно назвать сладостным духом торговли. Красочные объявления оповещали об отплытии кораблей в любые точки света. Здесь, в Гренеле, самом оживленном порту мира, смешались все языки.
С высот Аркёя или Мёдона открывалась поистине великолепная панорама порта. Куда ни бросишь взгляд — всюду лес мачт, расцвеченных в праздники реющими флагами; у входа в порт — высокая башня приливной сигнализации, а в глубине его — устремившийся на пятьсот футов ввысь электрический маяк, в общем-то совершенно бесполезный. Огни этого высочайшего в мире сооружения виднелись с расстояния сорока лье — их можно было заметить даже с башен Руанского собора.
На всю эту величественную картину стоило поглядеть.
— Действительно красиво, — заметил дядюшка Югнэн.
— Прекрасное зрелище, — отозвался Ришло.
— Пусть у нас нет ни моря, ни бриза, — вставил месье Югнэн, — но зато мы можем прийти сюда и полюбоваться кораблями, спущенными на воду и гонимыми ветрами!
На набережной самого большого дока, где толпа особенно напирала, требовалось немало усилий, чтобы пробраться сквозь нее. В этом доке с трудом разместился только что прибывший гигант — «Левиафан IV». Огромное судно «Грейт-Истерн», построенное в прошлом веке,[151] не сгодилось бы ему и в шлюпки. «Левиафан» прибыл из Нью-Йорка, и американцы вполне могли бы гордиться своей победой над англичанами. У корабля было тридцать мачт и пятнадцать труб, мощность его машины была равна тридцати тысячам лошадиных сил, из которых двадцать тысяч приводили в движение колеса, а десять тысяч — обеспечивали работу винта. Проложенные вдоль палубы рельсы позволяли быстро передвигаться с одного конца корабля на другой. Между мачтами изумленному взору открывались великолепные скверы с большими деревьями, тень от которых падала на зеленые куртины, газоны и цветочные клумбы. Щеголи могли скакать верхом по извилистым аллеям. Этот плавучий парк вырос на десяти футах плодородной почвы, уложенной на верхней палубе. Корабль вмещал в себя целый мир; он побивал самые невероятные рекорды: путь от Нью-Йорка до Саутгемптона он преодолевал за три дня. Шириной он был двести футов, о длине можно было судить по следующему факту: когда «Левиафан IV» пришвартовывался носом к причалу, пассажирам с кормы приходилось пройти четверть лье, чтобы достигнуть твердой земли.
— Скоро, — рассуждал дядюшка Югнэн, прогуливаясь в тени дубов, рябин и акаций на верхней палубе, — и вправду сумеют соорудить фантастический корабль из голландских преданий, так что, когда его бушприт уткнется в остров Маврикий, корма еще пребудет на рейде в Бресте.
Ну а Мишель и Люси? Восхищались ли они, подобно всей этой оторопелой толпе, невиданной громадой «Левиафана»? Трудно сказать. Они мирно прогуливались, неторопливо беседовали или просто молчали, не в силах оторвать друг от друга проникновенных взоров. Молодые люди вернулись в жилище дядюшки Югнэна, так и не заметив всех чудес порта Гренель!
Глава XII
МНЕНИЕ КЭНСОННАСА О ЖЕНЩИНАХ
Следующую ночь юный Дюфренуа провел в сладостной бессоннице. К чему спать? Лучше уж грезить наяву. И до самого рассвета Мишель пребывал во власти поэтических мечтаний, уносивших его в заоблачные выси.
На следующее утро он спустился в контору и тут же взобрался на привычную верхотуру.
Кэнсоннас ждал его. Мишель пожал или, вернее, крепко сжал руку друга. Он был, однако, немногословен и сразу с рвением принялся за диктовку.
Кэнсоннас удивленно взглянул на него, но тот сразу отвел глаза.
«Что-то тут не так, — подумал пианист. — Он выглядит как-то непривычно! Словно только что вернулся из жарких стран!»
Так прошел целый день. Мишель диктовал. Кэнсоннас писал, и оба исподтишка поглядывали друг на друга. Прошел второй день — тоже без изменений. Друзья по-прежнему молчали.
«Похоже, тут кроется любовь, — подумал пианист. — Пусть побудет наедине со своим чувством, потом и сам все мне расскажет».
На третий день Мишель внезапно остановил Кэнсоннаса, когда тот старательно выводил великолепную заглавную букву.
— Друг мой! Что думаешь ты о женщинах? — краснея, проговорил он.
«Так я и знал», — промелькнуло в голове Кэнсоннаса, но он промолчал.
Тогда, еще более смутившись, молодой человек повторил свой вопрос.
— Сын мой, — торжественно начал Кэнсоннас, прерывая работу. — Мнение мужчин о женщинах весьма переменчиво. Утром я думаю о них иначе, нежели вечером. Весной у меня совсем иные представления о них, нежели осенью. Все — даже погода, хорошая или плохая, способна изменить ход моих мыслей, не говоря уже о процессе пищеварения, имеющего бесспорное влияние на мои к ним чувства.
— Это не ответ, — проговорил молодой Дюфренуа.
— Тогда, сын мой, позволь мне ответить вопросом на вопрос. Веришь ли ты, что на нашей земле еще не перевелись женщины?
— Еще как верю! — воскликнул юноша.
— А тебе случалось их встречать?
— Ну да, каждый день.
— Давай уточним, — проговорил пианист. — Я не имею в виду те существа женского пола, которые пригодны только для продолжения рода человеческого. Со временем их заменят машинами на сжатом воздухе.
— Ты шутишь…
— Друг мой, об этом говорят весьма серьезно, но проект, конечно, вызывает немало возражений.
— Послушай, Кэнсоннас, — прервал его юноша, — давай говорить серьезно!
— Ну уж нет, давай лучше повеселимся! Ладно, возвращаюсь к моим умозаключениям: настоящих женщин больше нет, эта раса исчезла, подобно мопсам или мегатериям.[152]
— Прошу тебя, — вновь прервал его юноша.
— Дай мне договорить, сын мой. Полагаю, что когда-то, в очень отдаленную эпоху, женщины все же существовали. Древние авторы вполне определенно подтверждают сей факт. Более того, они свидетельствуют о самом совершенном их виде — парижанке. Судя по старым текстам и гравюрам прежних времен, это было очаровательное создание, не имевшее себе равных в мире. Она соединяла в себе совершеннейшие пороки и порочнейшие совершенства, то есть была женщиной в самом полном смысле этого слова. Но постепенно происходило вырождение этой расы, и сей прискорбный декаданс засвидетельствован в трудах физиологов. Приходилось ли тебе когда-нибудь видеть, как из гусеницы выпархивает бабочка?
— Да, — ответил Мишель.
— Так вот здесь все наоборот: бабочка превратилась в гусеницу, — продолжал пианист. — Парижанка с ее очаровательным обликом, с восхитительной улыбкой и нежным загадочным взглядом, с упругой, в меру плотной фигуркой и волнующей походкой, уступила место иному типу женщины: длиннющей, худющей, сухопарой, изможденной, иссохшей, тощей, с пуританской и в то же время преднамеренной развязностью. Ее суставы словно на шарнирах, она неуклюжа, плоска как доска, взгляд ее свиреп, нос, одеревенелый и острый, нависает над тонкими поджатыми губами. Шаг ее удлинился. Гений геометрии, прежде одарявший женщин приятнейшими округлостями, заставил их полностью подчиниться строгости острых углов и прямых линий. Француженка стала похожа на американку: она всерьез рассуждает о важных делах, жизнь воспринимает прямолинейно, оседлала конька показной нравственности, одевается скверно, без малейшего вкуса и носит корсеты из гальванизированной стали, не поддающейся ни малейшему воздействию. Сын мой, Франция утратила свое истинное превосходство! В галантный век Людовика Пятнадцатого женщины феминизировали мужчин, а теперь сами превратились в нечто мужеподобное и уже не достойны ни взгляда художника, ни внимания возлюбленного!
— Ты преувеличиваешь, — возразил Мишель.
— Вот ты улыбаешься, — вновь начал Кэнсоннас, — и воображаешь, что у тебя на все готов ответ и что ты всегда отыщешь свое маленькое исключение из общего правила! Так знай, что в любом случае ты только липший раз подтвердишь мои выводы. И я настаиваю на сказанном! Иду даже дальше! Ни одна женщина, к какому бы классу она ни принадлежала, не избежала вырождения! Гризетки исчезли, куртизанки поблекли, превратившись в заурядных содержанок, являя собой пример вопиющей аморальности! Они глупы и неуклюжи, но богатеют за счет приверженности к порядку и экономии, деньги копят методично, и никто ради них не разоряется. Разоряться! Упаси Господи! Да это слово давно устарело! Все богатеют, мой мальчик, только дух человеческий и бренное тело нищают!
— Так ты хочешь сказать, — подхватил Мишель, — что в наше время встретить настоящую женщину просто невозможно?
— Да, разумеется, во всяком случае, моложе девяноста пяти. Последние женщины умерли вместе с нашими бабушками. Однако…
— Ага, есть и однако?
— Образцовый экземпляр можно встретить в предместье Сен-Жермен. В этом маленьком уголке большого Парижа иногда еще произрастают редкие растения, эти puella desiderata,[153] как сказал бы твой преподаватель. Но только там, и нигде больше.
— Итак, — насмешливо улыбнулся Мишель, — ты упорствуешь во мнении, что женщины — это вымершая раса.
— Безусловно! Великие моралисты девятнадцатого столетия уже предчувствовали катастрофу. Бальзак, знавший толк в женщинах, высказался об этом в известном письме к Стендалю. «Женщина, — писал он, — страсть, а мужчина — действие, вот почему мужчина обожает женщину». Ну а сегодня оба они — действие, а посему во Франции нет больше женщин!
— Ну хорошо, — пробурчал Мишель, — а что ты думаешь о браке?
— Да ничего хорошего.
— Но все-таки?
— Я, может быть, и согласился бы на брак своего ближнего, но только не на свой собственный.
— Означает ли это, что ты никогда не женишься?
— Нет, пока не утвердят тот знаменитый суд присяжных, который требовал еще Вольтер, дабы судить супружескую неверность. Он должен состоять из шести мужчин, шести женщин и одного гермафродита, наделенного решающим голосом в случае, если мнения разделятся поровну.
— Хватит шутить.
— А я и не шучу. Только такой суд мог бы дать гарантию! Помнишь ли ты, что произошло два месяца тому назад, когда слушалось дело госпожи де Кутанс, обвиненной мужем в адюльтере?[154]
— Нет.
— Так вот, на вопрос председателя суда, что заставило мадам де Кутанс забыть о своем супружеском долге, та ответила: «Память подвела». И ее оправдали. Честно говоря, такой ответ заслуживает оправдания.
— Но оставим эту мадам де Кутанс, — вмешался Мишель, — и вернемся к вопросу о браке.
— Сын мой, вот тебе чистая правда о сем предмете. Будучи холостяком — всегда можно жениться, но будучи женатым — невозможно вновь стать холостяком. Как видишь, между положением супруга и холостяка — огромная разница.
— Кэнсоннас, а что по сути ты имеешь против брака?
— А вот что: в эпоху, когда семья разрушается, когда личный интерес каждого из ее членов ставится во главу угла, когда страсть к обогащению во что бы то ни стало убивает всякую привязанность, супружество представляется мне героической ненужностью. Раньше, если верить древним авторам, все было иначе. Перелистай старые словари, и ты удивишься, обнаружив там такие слова, как пенаты, лары, домашний очаг, домашняя обстановка, спутница жизни и тому подобное. Но все эти слова и понятия давным-давно исчезли из обращения вместе с явлениями, кои они обозначали. Их больше нет в обиходе. Кажется, прежде супруги (вот еще одно слово, вышедшее из моды!) жили общей жизнью и помнили высказывание Санчо:[155] совет жены, конечно, не бог весть что, но надо быть безумцем, чтоб ему не последовать! И следовали. А что теперь? Все стало по-другому: муж живет отдельно от жены, сегодня его дом — в клубе, там он работает, играет, обедает, ужинает и спит. Жена тоже всегда занята делом. Если случайно супруги встречаются на улице, то здороваются как чужие. Изредка муж навещает свою половину, появляется на ее приемах по понедельникам или средам, иногда его оставляют на ужин, а еще реже — провести вместе остаток вечера. В конце концов, они встречаются так редко, видятся столь мимолетно, общаются так мало, почти никогда не переходя на «ты», что возникает справедливый вопрос: а откуда вообще в этом мире берутся наследники?
— Похоже на правду! — сказал Мишель.
— Так оно и есть, — отозвался Кэнсоннас. — От прошлого века мы унаследовали и тенденцию: делать все возможное, чтобы иметь меньше детей. Стоило молодой девице оказаться в интересном положении, как ее мамочке не терпелось высказать недовольство, а отчаявшийся молодой супруг проклинал свою оплошность. По этой причине число незаконнорожденных детей сегодня значительно увеличивается, а законные остаются в меньшинстве. Кончится тем, что бастарды[156] окажутся в большинстве, станут хозяевами во Франции и сделают все возможное, чтобы принять закон, запрещающий установление отцовства.
— Похоже, вы правы, — заметил Мишель.
— Зло, если только можно говорить о зле, проникло во все слои общества, — продолжал Кэнсоннас. — Заметь, что такой закоренелый эгоист, как я, не порицает подобное положение вещей, он просто его использует. Но я хотел, чтоб ты усвоил: брак нынче отнюдь не означает семью, а узы Гименея,[157] увы, не способны более зажечь огонь домашнего очага.
— Итак, — вставил молодой человек, — допустим, что, по какой-либо невероятной причине, ты вдруг захотел бы жениться…
— Мой дорогой, я, как и все, начал бы с того, что нажил бы миллионы. Для совместной жизни требуется немало средств. Девушка без солидного приданого вряд ли выйдет замуж. И какая-нибудь Мария-Луиза со своими жалкими двумястами пятьюдесятью тысячами франков не может рассчитывать на внимание сына банкира.
— А как же Наполеон?
— Ну, Наполеоны не часто встречаются.
— Значит, ты не горишь желанием жениться?
— Отнюдь.
— А как насчет меня?
«Ну вот мы и приехали», — подумал пианист, уклонившись от ответа.
— Так и будешь молчать? — настаивал молодой человек.
— Гляжу я на тебя… — задумчиво начал Кэнсоннас.
— Ну и что?..
— И прикидываю, как получше связать тебя.
— Меня?
— Да, тебя, безумец, сумасшедший! Подумай, что с тобой станет?
— Я стану самым счастливым человеком!
— Давай поразмыслим: ты или гений, или нет! Если от этого слова тебя коробит, пусть будет — талант. Если у тебя нет таланта, то вам обоим грозит нищета. Если же он есть — другое дело!
— Как это…
— Дитя мое, разве тебе не известно, что гений и даже просто талант — это род болезни, и жене художника останется лишь смириться с участью сиделки.
— Представь себе, я нашел…
— Сестру милосердия, — парировал Кэнсоннас. — Да таких больше нет! На худой конец, отыщется что-то отдаленно напоминающее сестру, так сказать, кузину милосердия!
— Уверяю тебя, я ее нашел, — упорствовал Мишель.
— Женщину?
— Да!
— Девушку?
— Да!
— Ангела?
— Да!
— Тогда, друг мой, оторви у него крылышки и посади в клетку! А не то улетит!
— Послушай, Кэнсоннас, речь идет о юном, нежном, добром, любящем создании…
— И богатом?
— Напротив. На грани нищеты. Я видел ее только один раз…
— Ох, как много!.. Стоило бы, пожалуй, еще повидаться…
— Не шути, дружище! Она — внучка моего старого преподавателя, и я люблю ее до безумия! Мы говорили с ней будто старые друзья. Она еще полюбит меня! Поверь, она — сущий ангел!
— Ты повторяешься, Мишель! Паскаль сказал, что человек никогда не бывает ни ангелом, ни зверем! А ты со своей красавицей хочешь опровергнуть эти слова?
— О, Кэнсоннас!
— Успокойся! Ты не ангел! Черт знает что! Он, видите ли, влюблен! Он в свои девятнадцать задумал сделать то, что и в сорок еще почитается глупостью!
— А по-моему, быть любимым — большое счастье! — проговорил молодой человек.
— Хватит! Замолчи! — закричал пианист. — Ты меня бесишь! Больше ни слова! Не то я…
И Кэнсоннас, не на шутку рассерженный, стал тарабанить по девственно чистым страницам Большой Книги.
Разговоры о женщинах, о любви бесконечны, друзья продолжали бы их до самого вечера, если б… не ужасное происшествие, последствия которого предсказать было просто невозможно.
Страстно жестикулируя, Кэнсоннас неловко задел огромный сифонообразный аппарат, откуда он черпал разноцветные чернила, и красные, желтые, синие, зеленые потоки, словно извергающаяся лава, хлынули на страницы Большой Книги.
Кэнсоннас издал душераздирающий вопль, от которого все вокруг содрогнулось. Конторские служащие решили, что обрушилась Большая Книга.
— Мы пропали, — упавшим голосом пробормотал Мишель.
— Точно, мой милый, — подтвердил Кэнсоннас. — Нас затопляет! Спасайся кто может!
В этот момент на пороге возник господин Касмодаж в сопровождении кузена Атаназа. Банкир устремился к месту происшествия, но вдруг остановился как вкопанный. Он хотел что-то сказать, но не смог вымолвить ни слова — гнев душил его!
И было отчего! Великолепнейшая книга, куда заносили разнообразнейшие финансовые операции банковского дома, — запятнана! Ценнейшее собрание финансовых сделок — замарано! Настоящий атлас, вмещавший целый мир, — испорчен! Гигантский монумент, представляемый на обозрение посетителей местным привратником в праздничные дни, — заляпан грязью, осквернен и навсегда потерян! Его хранитель, человек, которому доверили эту великую миссию, не выполнил своего предназначения и предал дело! Жрец собственными руками осквернил алтарь!
Все эти нерадостные мысли проносились в голове месье Касмодажа, и ему никак не удавалось обрести дар речи. В конторе воцарилась мертвая тишина.
Внезапно господин Касмодаж сделал жест, обращенный к незадачливому копировщику. Рука банкира столь решительно, столь красноречиво указывала на дверь, что ошибиться было просто невозможно. Сей недвусмысленный жест, понятный на всех языках, означал: «Убирайтесь вон!» Кэнсоннас не замедлил подчиниться: он спустился с гостеприимных высот, где прошла вся его юность. Мишель, последовавший за ним, обратился к банкиру.
— Месье, — начал он, — это я во всем виноват…
Следующий взмах той же самой руки, только еще более энергичный, если вообще таковое возможно, послал диктовальщика вслед копировщику.
Тогда Кэнсоннас старательно стянул полотняные нарукавники, взял шляпу, рукавом смахнул с нее пыль, водрузил ее на голову и направился прямо к банкиру.
Глаза Касмодажа метали молнии, но до грома дело никак не доходило.
— Месье Касмодаж и Кº, — проговорил копировщик с подчеркнутой любезностью, — вы наверняка считаете меня виновником совершившегося преступления, ибо только так можно именовать бесчестье вашей Большой Книги. Но я не хотел бы оставлять вас в заблуждении. Как и во всех бедах нашего мира, виновником происшедшего здесь непоправимого несчастья стала женщина! Так что пеняйте на Еву, нашу прародительницу, и на ее супруга — дурака! Все наши горести и несчастья — только от них! И если мы маемся животом, надо винить Адама, вкусившего незрелый плод! Засим, господа, прощайте!
С этими словами артист удалился, за ним последовал Мишель; кузен Атаназ между тем бережно поддерживал распростертую руку банкира, словно Аарон — руку Моисея во время битвы с амаликитянами.[158]
Глава XIII
ГДЕ РАССКАЗЫВАЕТСЯ О ТОМ,
КАК В ДВАДЦАТОМ СТОЛЕТИИ
ХУДОЖНИКУ ЛЕГКО УМЕРЕТЬ С ГОЛОДУ
В судьбе молодого Дюфренуа произошел решительный поворот. Сколь многих, не способных посмотреть на случившееся его глазами, подобное происшествие привело бы в отчаяние! Конечно, Мишель больше не мог рассчитывать на поддержку дядюшкиного семейства, но зато он чувствовал себя абсолютно свободным. Его уволили, выставили за дверь, а ему казалось, что его выпустили из тюрьмы; его, что называется, «отблагодарили», а он сам готов был рассыпаться в благодарностях. О будущем Мишель не задумывался. Вырвавшись на волю, он вдруг почувствовал, что способен на великие дела.
Успокоить юношу было не так-то просто, и Кэнсоннас терпеливо ждал, когда пройдет его радостное возбуждение.
— Идем ко мне, — предложил он юному другу, — надо же где-то спать.
— Спать, когда день только занимается! — возразил Мишель, воздевая к небу руки.
— Образно говоря, да, день занимается, — согласился Кэнсоннас, — но, в сущности, сейчас ночь, а в наше время больше никто не спит под звездным небом, да и звезд вообще-то уже не осталось. Астрономов интересуют теперь лишь невидимые созвездия. Ладно, пойдем поговорим.
— Только не сегодня, — отозвался Мишель, — ты станешь говорить мне неприятные вещи, а я их все уже слышал. Или ты полагаешь, что я чего-то не знаю? Сказал бы ты обретшему волю рабу: «Знаете, мой друг, вам грозит голодная смерть!»
— Ты прав, — откликнулся Кэнсоннас, — сегодня — ни слова больше, зато завтра…
— А завтра — воскресенье. Ты же не захочешь испортить мне праздник!
— Ах, вот как! Значит, мы с тобой так и не поговорим?
— Да нет! Что ты! Но в какой-нибудь другой день!
— Послушай, у меня идея! — воскликнул пианист. — А не пойти ли нам завтра навестить твоего дядюшку Югнэна? Я не прочь познакомиться с этим достойным человеком.
— Решено! — воскликнул Мишель.
— Может быть, мы втроем и сумеем найти выход из создавшегося положения?
— Ну что ж, согласен, — ответил Мишель, — и черт меня побери, если мы его не найдем!
— Хе, хе, — ухмыльнулся музыкант, покачивая головой и демонстрируя тем самым некоторое сомнение.
На следующее утро Кэнсоннас нанял газ-кеб и заехал за другом. Мишель уже поджидал его. Спустившись вниз, он вскочил в экипаж, и водитель тут же завел машину. Чудесное изобретение — газ-кеб, не имевший, казалось, даже мотора, стремительно мчался вперед. Подобное средство передвижения Кэнсоннас явно предпочитал городской железной дороге.
Погода стояла прекрасная. Газ-кеб катился по пустынным улицам, проворно огибая углы и без труда преодолевая подъемы, чтобы в следующий миг вновь набрать скорость и лететь по битумной мостовой.
Спустя двадцать минут кеб остановился на улице Кайю. Кэнсоннас расплатился с водителем, и наши герои быстро взобрались на верхний этаж, где жил Югнэн.
Дверь отворилась, Мишель бросился в объятия дядюшки, а затем представил друга.
Господин Югнэн сердечно принял Кэнсоннаса, усадил гостей за стол и предложил им без всяких церемоний разделить с ним скромную трапезу.
— Знаешь ли, дядюшка, — проговорил Мишель, — у меня есть план.
— И какой же, мой мальчик?
— Вместе с вами провести целый день на лоне природы.
— На лоне природы? — воскликнул дядюшка. — Но природы больше не существует!
— Истинная правда! — подтвердил музыкант. — Да откуда ей взяться!
— Похоже, что месье Кэнсоннас разделяет мое мнение!
— Целиком и полностью, месье Югнэн.
— Видишь ли, Мишель, — начал дядюшка, — для меня природа, деревня — это прежде всего чистый воздух, а потом уже деревья, поля, долины и ручейки! Но ведь и в десяти лье от Парижа нечем дышать! Мы всегда «завидовали» воздуху Лондона, и вот, с помощью десяти тысяч заводских труб, химических производств, фабрик искусственного гуано, угольного дыма, ядовитых газов и прочих промышленных миазмов мы сумели получить такой воздух, который вполне сопоставим с британским. На чистый воздух вблизи от города нечего и рассчитывать, а забираться далеко, увы, не позволяют мои больные ноги; так что откажемся от идеи подышать чем-то чистым! Останемся лучше дома и проведем день за трапезой, в уютной обстановке, плотно прикрыв окна.
К пожеланию дядюшки прислушались. Сели за стол и принялись за еду, беседуя о чем придется. Югнэн приглядывался к Кэнсоннасу, и тот, не удержавшись, сказал за десертом:
— Ей-богу, господин Югнэн, как приятно смотреть на ваше доброе лицо, когда повсюду такие мрачные физиономии! Разрешите мне еще раз пожать вашу руку.
— Месье Кэнсоннас, я знаю вас очень давно, мой племянник часто рассказывал о вас! Я также знаю, что вы — наш единомышленник, и я благодарен Мишелю за этот визит. Он молодец, что привел вас!
— О нет, господин Югнэн! Вернее сказать, это я его привел!
— Что же случилось, Мишель, почему тебя привели?
— «Привели» — не то слово, месье Югнэн, — я бы выразился поточнее: «приволокли».
— О! — воскликнул Мишель. — Кэнсоннас, как всегда, преувеличивает!
— И все-таки… — настаивал дядюшка.
— Господин Югнэн, посмотрите-ка на нас внимательно, — продолжал пианист.
— Смотрю, господа…
— А ну, Мишель, повернись, чтоб дядюшка смог обозреть тебя со всех сторон.
— Объясните мне наконец, зачем весь этот цирк?
— Месье Югнэн, как по-вашему, не похожи ли мы на людей, которых только что выставили за дверь?
— Выставили за дверь?
— Вышвырнули, да еще как!
— Вас постигло несчастье?
— Напротив. Нам улыбнулось счастье! — воскликнул Мишель.
— Сущее дитя! — только и вымолвил Кэнсоннас, пожимая плечами. — Мы, месье Югнэн, просто оказались на улице, вернее, на парижской асфальтовой мостовой!
— Не может быть!
— Увы, дядюшка, — вздохнул молодой человек.
— Так что же произошло?
— А вот что, месье Югнэн!
И Кэнсоннас принялся рассказывать о трагическом происшествии. Его манера изложения и толкование событий, его неожиданные замечания и глубокомысленные умозаключения не могли не вызвать невольной улыбки у дядюшки Югнэна.
— А ведь для смеха нет ни малейшего повода, — словно оправдываясь, произнес господин Югнэн.
— И для слез тоже, — отозвался Мишель.
— Что же теперь с вами станет?
— Обо мне не беспокойтесь, — сказал Кэнсоннас, — подумайте о племяннике.
— А главное, — вступил в разговор Мишель, — говорите так, как будто меня здесь нет.
— Мы имеем, — начал Кэнсоннас, — некоего молодого человека, у которого нет ни малейшего шанса стать финансистом, коммерсантом или предпринимателем. Спрашивается: как ему выжить в этом мире?
— Вот уж действительно проблема из проблем, — отозвался дядюшка, — и решить ее вовсе не просто. Сейчас вы назвали, по сути, все профессии, которые ныне в ходу. Очевидно, не остается ничего другого, как стать…
— Собственником… — сказал пианист.
— Вы попали в самую точку!
— Собственником! — расхохотался Мишель.
— Вот именно! Ему, видите ли, смешно! — воскликнул Кэнсоннас. — Какое непозволительное легкомыслие! Как можно так пренебрежительно относиться к профессии, столь же прибыльной, сколь и почетной! Несчастный, ты когда-нибудь задумывался, что значит — быть собственником? Какой ошеломляющий смысл заключен в этом слове! Подумать только, что человек, тебе подобный, из плоти и крови, рожденный женщиной, простой смертной, владеет частью земного шара. И все это принадлежит ему одному, неотделимо от него, как голова от тела… Никто, даже Господь Бог, не может отнять у него этот кусочек земного шара, который передается по наследству! Он вправе распоряжаться этой землей как ему заблагорассудится: пахать, бурить, что угодно строить на ней! И вода, орошающая его владения, и даже воздух над ними — все его! Захочет — сожжет свое дерево и вытопчет свою траву, захочет — выпьет свой ручей! Он может без конца повторять себе: «Вот земля, сотворенная Богом в первый день мироздания, а я — владелец частички ее! Мне, и только мне, принадлежит этот кусочек поверхности полушария вместе с возносящимся над ней на высоту шести тысяч туазов[159] столбом воздуха, которым мы дышим, и земной корой, что расположена под нами и имеет толщину в полторы тысячи лье». Владения собственника простираются до самого центра земли; он ограничен только правами такого же собственника, живущего на противоположной стороне планеты. Так вот, глупыш, раз ты смеешься, значит, ничего не понял и никогда не пытался подсчитать, что человек, владеющий только одним гектаром земли, на самом деле является собственником конуса, объемом двадцать миллиардов кубических метров! И все это принадлежит ему, исключительно ему, целиком и полностью!
Кэнсоннас был великолепен! Его жесты, его интонация, весь его облик могли бы вдохновить любого художника! Нет! Ошибиться было нельзя! Перед нами предстал человек, имевший свое место под солнцем: он был собственником!
— О месье Кэнсоннас! — воскликнул дядюшка Югнэн. — Вы превзошли самого себя! Глядя на вас, хочется быть собственником до конца дней своих!
— Не правда ли, господин Югнэн? А наш малыш смеется!
— Да, смеюсь, — откликнулся молодой человек, — потому что мне никогда не придется владеть ни единым кубометром земли. Разве что случай…
— Что значит случай? — воскликнул пианист. — Ты употребляешь слово, а смысла его не знаешь!
— Что ты хочешь этим сказать?
— Только то, что слово «случай» происходит от арабского и означает «трудный»,[160] и не более того. Следовательно, вся наша жизнь состоит из трудностей, а мы с настойчивостью и умом обязаны их преодолевать!
— Лучше не скажешь, — откликнулся Югнэн. — А ты, Мишель, что думаешь?
— Дядюшка, я не столь честолюбив, и двадцать миллиардов Кэнсоннаса меня вовсе не трогают.
— Но один гектар земли дает от двадцати до двадцати пяти центнеров пшеницы, а из одного центнера можно получить семьдесят пять килограммов хлеба, — пояснил Кэнсоннас. — А если съедать по фунту в день, то его хватит на полгода.
— Ах! — воскликнул Мишель. — Все о еде да о еде! Одна и та же песенка.
— Увы, мой мальчик, песнь о хлебе нередко имеет грустный мотив, — вздохнул музыкант.
— И все же, Мишель, что ты собираешься делать? — поинтересовался дядюшка Югнэн.
— Будь я свободен, — начал молодой человек, — мне бы хотелось воплотить в жизнь четыре непременных условия, из которых, как где-то я вычитал, слагается счастье.
— А что за условия? Можно ли поинтересоваться? — спросил Кэнсоннас.
— Жизнь на свежем воздухе, любовь к женщине, отрешение от честолюбивых замыслов, сотворение прекрасного нового, — перечислил Мишель.
— Ну что ж, — рассмеялся Кэнсоннас, — половину программы молодой человек уже выполнил.
— Как это? — не понял Югнэн.
— Его же выставили на улицу! Вот вам и жизнь на свежем воздухе!
— Да, действительно! — согласился Югнэн.
— Любовь к женщине?..
— Не надо об этом, — пробурчал, смутившись, Мишель.
— Будь по-твоему, — насмешливо отозвался дядюшка.
— Что касается двух оставшихся условий… — продолжал Кэнсоннас, — то с ними сложнее! Нашему юному другу амбиций не занимать, и к почестям он вовсе не равнодушен…
— Но еще сотворение прекрасного нового! — воскликнул Мишель, в порыве энтузиазма вскакивая с места.
— Наш смельчак вполне способен на это, — проговорил Кэнсоннас.
— Бедное дитя, — вздохнул Югнэн.
— Дядюшка…
— Ты еще неопытен, мой друг, и, как сказал Сенека, всю жизнь надо учиться жить. Умоляю тебя, не питай безумных надежд! Жизнь — это прежде всего преодоление препятствий!
— Действительно, — согласился музыкант, — не все так просто под луною. В обыденной жизни, как и в механике, приходится считаться со средой и с трением. Трения бывают с друзьями, с недругами, с соперниками и со всякого рода назойливыми личностями. Среда — это семья, женщины, общество. Хороший инженер обязан все учитывать.
— Месье Кэнсоннас прав, — проговорил Югнэн. — Но давай, Мишель, все же поговорим о тебе. До сих пор ты, кажется, не слишком преуспел в финансах.
— Вот почему и впредь мне хотелось бы жить, следуя собственным вкусам и способностям!
— Способностям!.. — воскликнул пианист. — Посмотри на себя, сейчас ты являешь печальнейшее зрелище поэта, который, умирая с голоду, все еще питает какие-то надежды!
— Ах уж этот чертов Кэнсоннас! — вздохнул молодой человек. — Он готов шутить над чем угодно!
— Какие уж тут шутки! Просто я стараюсь убедить тебя. Разве можно быть поэтом, когда нет больше поэзии? Искусство мертво!
— О, не преувеличивай!
— Мертво, погребено, с эпитафией и могильной урной. Положим, ты художник! Так вот, живописи больше не существует. Нет больше и картин, даже в Лувре. В прошлом столетии их так умело отреставрировали, что краска осыпается с них, как чешуя. От «Святого семейства» Рафаэля осталась только рука Мадонны да глаз святого Иоанна, что, согласитесь, вовсе не густо; от «Брака в Кане Галилейской» остался лишь парящий смычок да виола, повисшая в воздухе, чего явно недостаточно! Тицианы, Корреджо,[161] Джорджоне,[162] Леонардо,[163] Мурильо[164] и Рубенсы словно подхватили кожную болезнь от контакта с их врачевателями и теперь погибают. Пред нашим взором на полотнах, заключенных в золоченые рамы, предстают лишь неуловимые тени, неясные линии, погасшие, размытые, потемневшие краски. Шедевры обращаются в прах, художникам предоставлена та же возможность. Вот уже полвека, как никто из них не выставлялся. Ну и к лучшему!
— К лучшему? — удивился Югнэн.
— Вне всякого сомнения, ибо в прошлом веке реализм достиг таких высот, что стал просто невыносим. Рассказывают даже, будто некий Курбе[165] на одном из последних салонов очень удачно «выставился», стоя лицом к стене и справляя отнюдь не изысканную, но зато гигиеничную жизненную потребность. Достаточно, чтобы спугнуть птиц Зевксиса![166]
— Какой ужас! — воскликнул дядюшка Югнэн.
— А что вы хотите, — продолжал Кэнсоннас, — он ведь овернец![167] Итак, в двадцатом веке нет больше ни живописи, ни живописцев. Ну а скульпторы? Они тоже перевелись. Их не существует с тех пор, как в Лувре, в самом центре двора, поставили статую музы промышленности: здоровенная мегера, присевшая невзначай на цилиндр от машины, держит на коленях виадук; одной рукой она выкачивает пар, другой его нагнетает; на плечах у нее ожерелье из маленьких локомотивчиков, а в шиньоне — громоотвод!
— Боже мой, — вздохнул дядюшка Югнэн, — что ж, придется пойти взглянуть на этот шедевр!
— Он того стоит, — отозвался Кэнсоннас. — Итак, и с ваятелями покончено! А как обстоят дела с музыкантами? Мое мнение на этот счет тебе, Мишель, известно. А может, тебе податься в литературу? Но кто теперь читает романы? Да никто. Даже те, кто их сочиняет, если судить по стилю! Увы! Все это в прошлом, со всем покончено, все кануло в Лету!
— Но остались же профессии, близкие к искусству? — настаивал Мишель.
— О да. Прежде, покуда еще существовала буржуазия, которая верила газетам и занималась политикой, можно было стать журналистом. Но кто сейчас станет заниматься политикой? Например, внешней? Ерунда. Войны прекратились, а дипломатия вышла из моды. Политика внутренняя? Здесь полное затишье. Во Франции не осталось ни единой партии. Орлеанисты[168] занимаются торговлей, а республиканцы — промышленностью. Есть горстка легитимистов, приверженцев неаполитанских Бурбонов; они издают газетенку, чтоб было где повздыхать. Правительство, как удачливый негоциант, обделывает свои делишки и регулярно платит по обязательствам. Поговаривают даже, что в этом году оно собирается выплатить дивиденды! Выборы больше никого не волнуют: отцам депутатам наследуют депутаты-сынки; они спокойно, без шума, словно послушные дети, готовящие дома уроки, творят свои законы! У Можно действительно подумать, что слово «кандидат» происходит от слова «кандид».[169] При таком положении дел к чему нам вообще журналистика? Да ни к чему!
— К великому сожалению, все это чистая правда, — отозвался дядюшка Югнэн. — Журналистика отжила свой век.
— Да! Как узник, бежавший из тюрьмы Мелэн или Фонтевро, — он больше туда не вернется. Сто лет назад журналистикой чрезмерно злоупотребляли, а сейчас мы пожинаем плоды: тогда никто ничего не читал, зато все — писали. В тысяча девятисотом году во Франции насчитывалось до шестидесяти тысяч периодических изданий — политических и не политических, иллюстрированных и не иллюстрированных. Чтобы донести свет просвещения до сельского населения, статьи публиковались на всех диалектах и наречиях — пикардийском, баскском, бретонском, арабском. Да, господа, выходила даже газета на арабском — «На страже Сахары», которую шутники окрестили «Hebdroma-daire» — «Одногорбый верблюд» по явному созвучию со словом «hebdomadaire» — «еженедельник»! Ну и что вы думаете! Весь этот газетный бум вскоре привел к гибели журналистики, и по очень простой причине: пишущих оказалось больше, чем читающих!
— Но тогда существовали еще бульварные газетенки, сотрудничая в которых можно было кое-как существовать, — заметил дядюшка Югнэн.
— Так-то оно так, — согласился Кэнсоннас, — но при всех несравненных достоинствах их постигла участь кобылы Роланда[170] — молодцы, издававшие эти газетки, настолько изощрились в остроумии, что золотоносная жила все-таки иссякла. Даже те, кто еще их читал, перестали что-либо понимать. К тому же эти милые остряки в конце концов просто поубивали друг друга, ибо никогда еще не был столь обильным сбор оплеух и ударов тростью; без железной спины и крепких скул трудно было выстоять. Чрезмерность привела к катастрофе, и бульварные газетки почили в Бозе, точно так же, как несколько раньше их старшие и весьма серьезные собратья.
— А как же критика? Ведь она неплохо кормила своих служителей? — поинтересовался Мишель.
— Конечно, — отозвался Кэнсоннас. — Сколько талантов! Эти люди вполне могли позволить себе роскошь поделиться своим щедрым даром! Выстраивались целые очереди на прием к сильным мира сего, и кое-кто из критиков даже не гнушался устанавливать тариф на свои славословия; им платили, платили до тех пор, пока непредвиденный случай не погубил этих великих жрецов низкопоклонства.
— А что за случай? — поинтересовался Мишель.
— Применение некой статьи Уголовного кодекса, согласно которой любое лицо, задетое в газетной статье, имело право дать опровержение в том же издании и в том же объеме, чем литераторы, историки и философы не преминули воспользоваться, постоянно отвечая на критику. В первое время газеты еще пытались как-то противостоять новому законодательству, что привело к бесчисленным судебным искам. Однако суд не встал на сторону прессы, и тогда газетам для удовлетворения всех претензий пришлось увеличить свой формат. Но тут вмешались еще и всякого рода изобретатели. Ни одна заметка не оставалась без ответа. Злоупотребления приняли такой масштаб, что в конце концов с критикой было покончено раз и навсегда. С ней умерла последняя надежда на выживание журналистики.
— Но что ж теперь делать? — спросил Югнэн.
— Что делать? В этом-то и вопрос. Конечно, можно стать врачом, если тебе не по душе профессии банкира, промышленника или торговца. Да и то, черт подери, сдается мне, что болезни сходят на нет, и если медицинский факультет не научится прививать новые инфекции, то скоро врачи лишатся своего хлеба! О профессии адвоката нечего и говорить! Никого больше не защищают: обе стороны попросту договариваются. Сомнительная сделка предпочтительнее законного суда: меньше затрат и никаких хлопот!
— Но мне кажется, — перебил Кэнсоннаса дядюшка Югнэн, — существуют еще газеты для финансистов!
— Вы правы, — согласился музыкант, — но захочет ли молодой человек в них сотрудничать, составлять финансовые бюллетени, прислуживать Касмодажу или Бутардэну, править злополучные столбцы цифр торговли салом, рапсом или трехпроцентным займом? Захочет ли он, что ни день, быть уличенным в ошибках, авторитетно предрекать события, прекрасно осознавая, что о пророке никто и не вспомнит, если прогноз не оправдается? Но зато в случае успеха он не упустит случая заявить громогласно о собственной проницательности! И наконец, захочет ли он, за особую плату, уничтожать конкурентов к великой пользе какого-нибудь банкира, что, в сущности, менее достойно, чем вытирать пыль в его кабинете! Пойдет ли Мишель на это?
— Нет! Ни за что!
— Итак, остается только одно — поступить на службу и стать государственным служащим. Во Франции их целых десять миллионов. Теперь поразмысли, какие у тебя шансы продвинуться, и занимай очередь!
— Ну что ж, — проговорил Югнэн, — быть может, это разумное решение.
— Разумное, но безнадежное, — откликнулся молодой человек.
— Но все-таки, Мишель.
— Перечисляя профессии, способные прокормить, Кэнсоннас все-таки упустил одну, — вновь вмешался наш герой.
— И какую же? — спросил музыкант.
— Ремесло драматурга.
— Неужели ты хочешь заняться театром?
— А почему бы и нет! Пользуясь твоим неблагозвучным словцом, спрошу: разве театр — не кормушка?
— Послушай, Мишель. Вместо того чтоб навязывать тебе мое мнение о сем предмете, я хочу, чтобы ты сам все испробовал. Я достану рекомендательное письмо генеральному директору драматического склада, и ты сможешь себя испытать!
— И когда же?
— Не позже завтрашнего дня!
— Договорились!
— Договорились.
— Это серьезно? — спросил Югнэн.
— Совершенно серьезно, — ответил Кэнсоннас. — Возможно, он чего-нибудь и добьется. Во всяком случае, что сейчас, что через полгода он сможет подумать о чиновничьей карьере.
— Хорошо, Мишель, посмотрим на тебя в деле. А вы, месье Кэнсоннас? Вы ведь теперь товарищи по несчастью. Позвольте полюбопытствовать о ваших дальнейших планах?
— О месье Югнэн, — отвечал музыкант, — обо мне не беспокойтесь. Мишель знает о моих великих замыслах.
— Да, — откликнулся юноша, — он хочет удивить свой век.
— Удивить век?
— Такова благородная цель моей жизни. Я полагаю, что неплохо знаю свое дело, однако прежде хочу испытать свои силы за границей! Вы же знаете, что именно там делаются имена!
— Ты собираешься уезжать? — спросил молодой человек.
— Да, через несколько месяцев, но я скоро вернусь.
— Удачи вам, — проговорил Югнэн, протягивая руку поднявшемуся с места Кэнсоннасу, — и спасибо за дружеское расположение к Мишелю.
— Если малыш захочет пойти со мной, я тотчас достану ему обещанное письмо, — сказал Кэнсоннас.
— Охотно, — согласился Мишель, — прощайте, дядюшка.
— Прощай, мой мальчик.
— До свидания, месье Югнэн, — сказал пианист.
— До свидания, месье Кэнсоннас, и пусть фортуна вам улыбнется!
— Улыбнется? — повторил музыкант. — Не то слово! Пусть она, глядя на меня, приветственно рассмеется радостным смехом!
Глава XIV
БОЛЬШОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ СКЛАД
В эпоху всеобщей централизации, охватившей все — и духовное и материальное, создание Большого драматического склада стало делом решенным. Нашлись практичные и находчивые люди, получившие в 1903 году разрешение на образование этой важной компании.
Но через двадцать лет она перешла в руки государства и теперь работала под руководством генерального директора, имевшего статус государственного советника.
Полсотни столичных театров получали здесь всякого рода пьесы: одни были написаны уже давно, другие — делались на заказ либо под актера, либо под чей-нибудь замысел.
При этом новом положении вещей цензура скончалась естественной смертью, а ее непременный символ — ножницы ржавели в ящиках столов. Впрочем, от частого употребления они давно затупились, но правительство все же решило не тратиться на точильщика.
Директора парижских и провинциальных театров были государственными служащими, им платили жалованье и пенсию, а по мере выслуги лет продвигали по службе и награждали.
Актеры, хоть и не числились на государственной службе, оплачивались из бюджета. Былые предрассудки по отношению к ним мало-помалу исчезали. Их ремесло стало считаться весьма почтенной профессией. Теперь их приглашали играть в спектаклях, ставившихся в великосветских салонах, где каждому участнику, даже из числа завсегдатаев, отводилась собственная роль. В конце концов их начали принимать за своих. Случалось, что знатные дамы, подавая реплику великой актрисе, произносили следующий текст:
«Вы намного лучше меня, сударыня, целомудрие так и светится на вашем челе. А я — только жалкая куртизанка…»
Раздавались и прочие любезности в подобном духе.
А некий разбогатевший актер «Комеди Франсез» даже приглашал к себе отпрысков богатых семейств, дабы разыгрывать пьесы фривольного содержания.
Все это не могло не возвысить в глазах публики профессию актера.
Создание Большого драматического склада привело к исчезновению шумливого общества драматургов. Служащие компании ежемесячно получали весьма недурное жалованье, а вся выручка от спектаклей шла в карман государства. Таким образом стало осуществляться полное руководство искусством. Если Драматический склад и не создавал шедевров, то, по крайней мере, развлекал нетребовательную публику незатейливыми пьесками. Старых авторов больше не играли. Иногда, в порядке исключения, в «Пале-Руаяль» ставили Мольера, дополненного куплетами и шуточками господ артистов. Что же касается Гюго, Дюма, Понсара,[171] Ожье,[172] Скриба,[173] Сарду,[174] Барьера,[175] Мёриса,[176] Вакри,[177] то их вообще исключили из репертуара. Когда-то они злоупотребили своим талантом, чтобы увлечь за собой век. Но ведь в благоустроенном государстве времени положено идти размеренно, а не нестись вскачь; к тому же в подобной упряжке лошади явно обладали легкими и ногами оленей, что весьма небезопасно.
Отныне во всем царил большой порядок, как и положено в цивилизованном обществе. Служащие драматурги жили неплохо и не слишком утруждали себя. Куда подевалась вся эта богема — поэты, нищие гении, вечно восстававшие против заведенного порядка вещей? Да и можно ли жаловаться на организацию, уничтожавшую человеческую личность, зато предоставлявшую публике ту литературу, которая соответствовала ее потребностям?
Бывало, какой-нибудь бедолага, почувствовав в сердце священный огонь, пытался пробиться, но, увы, все театры были связаны долговременными контрактами с Большим драматическим складом. Тогда отвергнутый сочинитель издавал за свой счет превосходную пьесу, но никто ее не читал, и она становилась добычей крошечных насекомых — паразитов нового типа, должно быть, самых начитанных существ своего времени, если только они поглощали все чтиво, что попадалось им на зуб.
Именно в Большой склад, признанный особым декретом предприятием общественно-полезным, и направился с рекомендательным письмом Мишель Дюфренуа.
Контора Драматического склада, располагавшаяся в бывшем здании казармы, находилась на улице Нёв-Палестро.
Мишеля принял директор.
Это был важный господин, преисполненный собственной значимости, до того серьезный, что на его хмуром лице даже при самых удачных остротах из его водевилей не появлялось ни тени улыбки. Поговаривали, что его и бомбой не проймешь. Подчиненные упрекали его в военном стиле руководства, но ведь ему приходилось командовать столькими людьми! Здесь и комедиографы, и драматурги, и водевилисты, и либреттисты, не говоря уже о двухстах копировщиках и легионах клакеров.
Да, администрация, в зависимости от характера пьесы, поставляла театрам клакеров. Эти господа, весьма дисциплинированные, под руководством ученых специалистов постигали тонкости и нюансы искусства аплодирования.
Мишель передал директору письмо Кэнсоннаса, тот прочел его вслух и проговорил:
— Месье, я хорошо знаком с вашим покровителем, и мне бы доставило удовольствие быть ему полезным. Он пишет мне о ваших литературных способностях.
— Но я не написал еще ничего, — скромно ответил юноша.
— Тем лучше, — проговорил директор. — Для нас это несомненное преимущество.
— Но у меня кое-какие новые идеи.
— А вот это напрасно, нам нет никакого дела до новшеств. Оригинальность тоже ни к чему. Вам придется влиться в огромный коллектив, производящий усредненные сочинения. Отступить от общего правила и сделать для вас исключение я не могу. Вам придется сдать экзамен.
— Экзамен? — удивился Мишель.
— Да. Письменное сочинение.
— Хорошо, месье, я к вашим услугам.
— И вы готовы сдать его сию минуту?
— Когда вам угодно, господин директор.
— Тогда приступайте.
Директор распорядился, и вскоре Мишель уже сидел за столом, где его ждали и бумага, и чернила, и перо. Ему сообщили тему сочинения и оставили одного.
Каково же было его удивление! Он думал, что ему предложат развивать какой-нибудь исторический сюжет, сделать резюме какого-нибудь драматического сочинения или проанализировать некий драматургический шедевр из старого репертуара! Святая простота!
Ему предстояло придумать неожиданную развязку пьесы в заданной ситуации и сочинить стихотворный куплет с игрою слов и неожиданным каламбуром со словом «приблизительно».
Он набрался смелости и работал вовсю.
В результате его сочинение оказалось крайне беспомощным. Он еще не набил себе руку или, как тогда говорили, лапу. Развязка могла быть и позанятнее, куплет для водевиля вышел чересчур лиричным, а каламбур и вовсе не удался!
Тем не менее стараниями покровителя Мишель был зачислен с окладом в восемнадцать тысяч франков. Поскольку наименее неудавшейся частью его работы была признана развязка, его отправили в Управление комедии.
Большой драматический склад славился своей прекрасной организацией.
В его состав входило пять больших управлений:
1. Высокой и жанровой комедии,
2. Собственно водевиля,
3. Исторической и современной драмы,
4. Оперы и комической оперы,
5. Ревю, феерий и официальных торжеств.
Трагедию раз и навсегда упразднили.
Каждое управление имело собственных служащих; даже простое перечисление их занятий поможет составить более или менее полное представление о функционировании этого грандиозного учреждения, где все было предусмотрено, упорядочено и распределено.
За тридцать шесть часов оно могло выдать жанровую комедию или новогоднее ревю.
Мишеля отрядили в бюро первого управления Драматического склада.
Там обосновались талантливые люди. Одни занимались исключительно экспозицией пьес, другие — развязками, третьи — выходами актеров, четвертые — их уходами, некоторые работали в отделе рифм, выдававшем по требованиям пьесы в стихах; другие подвизались в отделе, где пеклись простенькие рифмованные диалоги.
Существовала еще одна специализация служащих, среди которых и оказался Мишель. Эти чиновники, отнюдь не бездарные, перекраивали пьесы прежних эпох, либо попросту переписывая их, либо перевертывая персонажи.
Таким вот образом администрация Драматического склада только что достигла небывалого успеха в театре «Жимназ» с искусно перелицованной пьесой «Полусвет».[178] Баронесса д'Анж стала наивной и неопытной молодой женщиной, которая чуть было не попала в сети Нанжака. Если бы не ее подруга, мадам де Жален, бывшая любовница Нанжака, его замысел удался бы. Сцена «с абрикосами» и картины жизни женатых мужчин, чьих жен никогда не было видно, вызвала бурный восторг публики.
Переделали также и пьесу под названием «Габриель»,[179] поскольку по непонятным причинам правительство решило пощадить адвокатских жен. Жюльен собирается навсегда покинуть семейный очаг и уйти к своей любовнице, но внезапно появляется его супруга Габриель и живописует картину последствий неверности своего мужа: бездомные скитания, скверное вино, влажные простыни. Супруг отказывается от преступного намерения и, побуждаемый высокой моралью, в финале восклицает: «О мать семейства! О, поэтичнейшее создание! Я обожаю тебя!»
Эта пьеса под названием «Жюльен» была даже отмечена премией Академии.
Постигая все премудрости грандиозного учреждения, Мишель все более чувствовал себя ничтожеством, но был обязан отработать жалованье и вскоре получил важное задание.
Ему предложили переделать пьесу Сарду «Наши близкие друзья».[180]
Бедняга трудился до седьмого пота. Он хорошо представлял себе мадам Коссад, ее завистливых, эгоистичных развратниц-подруг и мог бы в крайнем случае заменить доктора Толозана на акушерку. В сцене же изнасилования мадам Морис вполне способна была сорвать сонетку в комнате мадам Коссад. Но как быть с развязкой пьесы? Что придумать? Как Мишель ни старался, он не мог вообразить, как эта пресловутая лиса может убить мадам Коссад!
В конце концов нашему совестливому герою пришлось отказаться от подобного замысла и признать свое поражение.
Директор, явно разочарованный, все же решил дать юноше еще один шанс — попытать свои силы в драме. Может, на этом поприще он чего-нибудь и достигнет!
Через две недели после определения в Большой драматический склад Мишель Дюфренуа уже перешел из Управления комедии в Управление драмы.
Управление драмой занималось большой исторической драмой и драмой современной.
В свою очередь, драма историческая включала два различных подразделения: одно, базирующееся на подлинной, серьезной истории, слово в слово заимствованной из авторитетных источников; другое — вдохновлявшееся источниками сомнительными, фальсифицированными, в точности следуя аксиоме известного драматурга девятнадцатого столетия: «Чтобы сделать историю, ее надо изнасиловать».
И действительно, было сделано множество детей, совершенно не похожих на мать!
Самые главные специалисты исторической драмы изобретали неожиданные ходы для развязки, и особенно для четвертого акта. Им передавали сырой текст, и они усердно его обрабатывали. Служащий, ответственный за центральный монолог, так называемый монолог примадонны, также занимал в администрации немалый пост.
Современная драма состояла из высокой и бытовой. Бывало, что оба жанра сливались воедино, и дирекция косо поглядывала на такой мезальянс, ибо тем самым нарушалась привычная специализация служащих и они могли докатиться до того, что начали бы вкладывать в уста денди выражения простолюдина. А это уже означало явное вмешательство в компетенцию экспертов по жаргону.
Определенные чиновники специализировались на кровавых эпизодах драмы: пытках, убийствах, отравлениях, изнасилованиях. Среди последних особо выделялся один, точно чувствовавший, в какой именно момент следует опустить занавес, ибо малейшее промедление — и актер, а то и актриса рисковали оказаться в весьма затруднительном положении.
Этот служащий, впрочем добрый малый лет пятидесяти, человек неоспоримых достоинств, добропорядочный отец семейства, зарабатывал до двадцати тысяч франков в месяц тем, что вот уже тридцать лет недрогнувшей рукой опускал занавес в сценах изнасилования.
Для начала Мишель Дюфренуа получил задание полностью переделать известную драму «Амазампо, или Открытие хинина», опубликованную в 1827 году.[181]
Работа предстояла не из легких! Следовало сделать совершенно современную пьесу из давно забытого и весьма серьезного сочинения; открытие хинина было явно делом далекого прошлого. Чиновники, на которых возлагалась эта обязанность, пыхтели до седьмого пота, ибо драма пребывала в ужасающем состоянии: оттого что она долго пылилась на полках, эффекты поблекли, сюжетные нити прогнили, а основа рассыпалась на кусочки. Легче написать новую пьесу! Но администрация стояла на своем: правительство решило напомнить публике о важном открытии, ибо Париж периодически посещала эпидемия лихорадки. Значит, пьесу должно было переделать в духе времени.
И талантливым чиновникам удалось совершить сей подвиг! Однако Мишель к этому шедевру не имел ни малейшего отношения. Он не предложил ни одной идеи, не сумел воспользоваться предоставленной ему возможностью, и его никчемность стала очевидной. Приговор был суров: бездарен.
Тут же в дирекцию пошел рапорт, отнюдь не лестный для Мишеля, и после месячного пребывания в Управлении драмы он был понижен до третьего управления.
«Я ни на что не гожусь, — говорил себе молодой человек. — У меня нет ни воображения, ни остроты ума! Но, с другой стороны, что за дикая манера так работать над пьесой!»
Мишель был в отчаянии, он проклинал свое учреждение, вовсе не осознавая, что возникшая в прошлом веке практика соавторства уже содержала в зародыше всю структуру Драматического склада.
Это был коллективизм, доведенный до абсурда!
Итак, падение Мишеля из драмы в водевиль совершилось! В Управлении водевиля собрались самые бесшабашные весельчаки со всех сторон Франции. Ответственный за репризы состязался в остроумии с автором куплетов; отделом скабрезных шуточек и двусмысленных ситуаций руководил приятнейший молодой человек. А отдел каламбуров был просто неподражаем!
Кстати, действовало и центральное бюро по остротам, ведавшее пикантными репликами и прочими забавными несуразностями, удовлетворявшее запросы всех пяти управлений. Дирекция допускала повторное использование остроты лишь через полтора года со дня ее первого произнесения. По указанию администрации въедливо штудировались словари, откуда извлекались всевозможные фразы, галлицизмы, легко обыгрываемые слова с двойным смыслом. В отчете о последней инвентаризации Драматический склад зачислил себе в актив семьдесят пять тысяч каламбуров; из навязших в зубах шуточек четверть оказались совершенно свеженькими и, соответственно, были оценены гораздо дороже.
Благодаря такому умелому ведению дела, наличным резервам и рациональному разделению обязанностей, продукция Управления водевиля была выше всяческих похвал.
Когда стало известно, что Мишеля выставили из двух высших управлений, ему заботливо предоставили самую простую работу. От него не требовалось ни острот, ни новых идей. Ему выдали некую завязку, и надо было просто развить ее.
Речь шла об одноактной пьесе для театра «Пале-Руаяль». Основа ее сюжета была новым словом в театре и содержала массу беспроигрышных эффектов. Подобная ситуация в общих чертах уже была обрисована Л. Стерном в 73-й главе второй книги «Тристрам Шенди» в эпизоде с Футаториусом.[182]
Само заглавие пьесы давало представление об интриге. Оно гласило: «А ну-ка застегни свои панталоны!»
Легко понять, сколь много можно извлечь из пикантного положения героя, забывшего управиться с непременной деталью мужского туалета. К нескрываемому ужасу друга, который должен представить его в великосветском салоне, к смущению хозяйки дома прибавьте умение актера заставить публику вздрогнуть при опасности в любую минуту… и наигранный испуг дам, которые… Несомненно, все предвещало грандиозный успех.[183]
Ну а Мишель, столкнувшись с этим столь оригинальным решением, ужаснулся и разорвал врученный ему шедевр!
— О! — простонал он. — Я ни минуты не останусь в этой ужасной клоаке! Уж лучше умереть с голоду!
Он был прав! Но что ему оставалось? Неужели опускаться все ниже, до Управления классической и комической оперы! Сочинять бессмысленные стишки на потребу современных музыкантов! Он никогда не пошел бы на это!
Неужели все-таки ему придется докатиться до Управления ревю, феерий и официальных торжеств?
Но для этого следовало быть либо механиком, либо оформителем, а вовсе не драматургом, уметь придумать и соорудить новые декорации, и не более! В деле оформительства с помощью физики и механики добивались замечательных успехов. На сцену помещали огромные клумбы, естественные рощи, настоящие деревья, чьи корни надежно скрывались в невидимых ящиках; здесь воздвигались огромные каменные дома. Создавали даже иллюзию океана, заполняя бассейн настоящей морской водой, которую вечером на глазах у зрителей спускали, а на следующий день заливали снова.
Способен ли был Мишель даже вообразить нечто подобное? Мог ли он заставить публику в кассе театра расстаться с избытком монет, наполнявших ее карманы?
Нет! Сто раз нет!
Оставалось только одно — уйти!
Так он и сделал.
Глава XV
НИЩЕТА
Работа в Большом драматическом складе не принесла Мишелю ничего, кроме разочарования и глубокого отвращения. Однако в течение этих пяти мучительно долгих месяцев — с апреля по сентябрь — молодой человек не забывал ни о дядюшке Югнэне, ни о своем преподавателе Ришло.
Сколько чудных вечеров провел он либо у одного, либо у другого! С преподавателем он говорил о библиотекаре, а с библиотекарем — вовсе не о профессоре! Он заводил разговор о его внучке Люси, да еще с каким чувством, в каких восторженных выражениях!
— Даже незрячему видно, что ты влюблен! — сказал однажды Мишелю дядюшка Югнэн.
— Да, дядя, как безумный!
— Ты можешь ее любить как безумец, но жениться изволь как мудрец, когда…
— Когда же? — с трепетом спросил молодой человек.
— Когда ты встанешь на ноги! И постарайся если не для себя, то хотя бы ради нее!
Мишель ничего не ответил, глухая ярость душила его.
— А Люси любит тебя? — спросил однажды дядюшка Югнэн.
— Не знаю, — отозвался молодой человек. — К чему ей меня любить? Я ничем не заслужил ее любви.
В тот вечер, когда был задан этот вопрос, Мишель почувствовал себя самым несчастным человеком на свете.
Однако девушку нисколько не интересовало, есть ли у юноши положение в обществе или нет. Ее это не занимало вовсе. Она мало-помалу привыкала видеть Мишеля у себя в доме, слушать его, когда он приходил, ждать, когда его не было. Молодые люди болтали обо всем и ни о чем. Старики им не препятствовали. Да и зачем мешать влюбленным? Хотя сами влюбленные о любви не говорили, а больше размышляли о будущем. О настоящем Мишель не осмеливался даже подумать.
— В тот день, когда я вас полюблю… — повторял он.
И Люси, улавливая в этом полупризнании некий скрытый смысл, понимала, что не стоит подгонять время.
Зато теперь Мишель Дюфренуа был целиком во власти поэзии! Он знал, что его слушают, понимают, и самозабвенно изливал душу девушке! Возле нее он становился самим собой! Однако он не отважился посвятить ей ни строчки, ибо слишком любил ее! Он не улавливал связи между страстью и рифмой, не понимая, как можно собственные чувства подчинить требованиям стихосложения.
Однако, помимо воли Мишеля, его поэзия отражала самые сокровенные мысли; и когда он читал Люси свои стихи, а она слушала их, то ей казалось, что это она сама их сочинила, настолько созвучны были они ее потаенным чувствам.
Однажды вечером Мишель вдруг торжественно произнес:
— День приближается!
— Какой день? — спросила девушка.
— День, когда я полюблю вас.
— Ах! — вздохнула Люси.
И отныне время от времени он повторял:
— День приближается.
Наконец одним прекрасным августовским вечером Мишель взял Люси за руку и произнес:
— День настал!
— День, когда вы меня полюбите? — прошептала девушка.
— День, когда я вас полюбил, — признался Мишель.
Когда дядюшка Югнэн и господин Ришло заметили, что молодые люди перевернули главную страницу своего романа, они заявили:
— Ну хватит, дети мои! Пора браться за дело! А тебе, Мишель, теперь следует работать за двоих!
Вот и все поздравления по случаю помолвки.
Вполне понятно, что в такой ситуации Мишель предпочел не рассказывать о своих неприятностях. Если вдруг заходила речь о его делах в Большом драматическом складе, он отвечал уклончиво: в общем-то далеко от идеала, надо привыкнуть, но рано или поздно он привыкнет.
Старики большего и не требовали. Люси догадывалась о терзаниях Мишеля и подбадривала его как могла. При этом она сохраняла некую сдержанность, ибо понимала, что здесь она — заинтересованная сторона.
Каково же было отчаяние юноши, какое уныние его охватило, когда он снова оказался во власти случая! Удар был ужасен, жизнь открылась ему в истинном свете, со всеми ее превратностями, разочарованиями и бедами. Более чем когда-либо он чувствовал себя обездоленным, бесполезным, отверженным.
— Зачем я пришел в этот мир? — спрашивал он себя. — Никто меня не звал, а значит, пора уходить!
Мысль о Люси удерживала его.
Молодой человек побежал к Кэнсоннасу. Он застал музыканта, когда тот собирал свой чемодан, такой малюсенький, что даже несессер мог бы взирать на него свысока.
Мишель рассказал о своих злоключениях.
— Меня это не удивляет, — проговорил Кэнсоннас. — Ты не создан для коллективной работы. Ну и что ты теперь собираешься делать?
— Работать в одиночку.
— Ах, так ты, значит, храбрец? — отозвался пианист.
— Там видно будет. Но куда ты собрался, Кэнсоннас?
— Я уезжаю.
— Ты покидаешь Париж?
— Да, и страну вообще. Французские репутации создаются отнюдь не во Франции. Это продукт чужеземный, его только импортируют. Поэтому я и решил уехать.
— Но куда ты едешь?
— В Германию. Удивить всех этих курильщиков трубок и любителей пива. Скоро услышишь обо мне!
— Ты что, уже нашел способ прославиться?
— Да! Но поговорим лучше о тебе! Ты хочешь пробиться сам, это неплохо. А деньги у тебя есть?
— Несколько сот франков.
— Маловато. Во всяком случае, я оставляю тебе мою квартиру, она оплачена на три месяца вперед.
— Но…
— Если ты ею не воспользуешься, деньги будут выброшены на ветер. И вот еще: у меня накоплена тысяча франков, давай поделим ее!
— Ни за что! — запротестовал Мишель.
— Как же ты глуп, мой мальчик! На самом деле я должен был бы отдать тебе все, а предлагаю только половину! Выходит, я тебе должен еще пятьсот франков.
— Кэнсоннас! — со слезами на глазах воскликнул Мишель.
— Ты плачешь? Что ж, правильно делаешь! Такая мизансцена обязательна при расставании! Но будь уверен — я вернусь! А теперь давай обнимемся!
Мишель бросился в объятия Кэнсоннаса; а тот, поклявшись, что не выдаст своего волнения, просто сбежал, дабы переполнявшие его чувства не выплеснулись наружу.
Мишель остался один. Прежде всего он решил скрыть от всех — от дядюшки, от деда Люси — свои нынешние перемены. К чему давать лишний повод для беспокойства!
— Я буду работать, буду писать! — словно заклинание, повторял молодой человек. — Всегда же существуют отверженные, вступающие в схватку с неблагодарным веком! Мы еще посмотрим, кто кого!
На следующий день он перенес свой нехитрый скарб в комнату друга и немедленно взялся за перо.
Он хотел опубликовать книгу своих стихов, пусть никому не нужных, но зато прекрасных. Он работал не покладая рук, грезил наяву, забывая о еде и обо всем на свете, а в сон погружался лишь для того, чтобы лучше мечталось.
Мишель больше ничего не слышал о семействе Бутардэнов; он старался обойти стороной те кварталы, где находились их владения, так как опасался, что они захотят завлечь его обратно. Но, совершенно очевидно, опекун его и не помышлял об этом. Избавившись от такого глупца, он мог только себя поздравить.
Изредка, покидая стены своего пристанища, молодой человек не мог отказать себе в удовольствии нанести визит господину Ришло. Там он вновь погружался в созерцание юной Люси, не переставая черпать вдохновение из этого неистощимого источника поэзии! Как сильно он ее любил! И, надо признаться, ему отвечали взаимностью с такой же пылкостью! Любовь переполняла все его существо. Он просто не мог понять, что для жизни требовалось что-то еще!
Между тем деньги потихоньку таяли, но Мишеля это не слишком заботило.
Где-то в середине октября, в очередной раз заглянув к старому преподавателю, он страшно расстроился: он нашел Люси очень печальной, и ему захотелось узнать причину ее грусти.
В Обществе образовательного кредита начался новый учебный год. Класс риторики, правда, не упразднили, но судьба его висела на волоске. У Ришло остался один-единственный ученик. Но если и тот его покинет, что станет со старым учителем, не имеющим ни гроша за душой? Не сегодня-завтра ученик мог исчезнуть, и тогда профессору риторики грозило бы увольнение.
— Я думаю не о себе, — проговорила Люси, — меня беспокоит мой бедный дедушка!
— Но разве меня не будет рядом?
Однако эти слова были сказаны Мишелем столь неубедительно, что Люси не осмелилась даже взглянуть на него.
Мишель ощутил, что краснеет от охватившего его чувства полного бессилия.
Возвращаясь домой, он без устали повторял себе:
— Я обещал им быть с ними рядом, значит, надо сдержать слово! А ну-ка за работу!
И он снова заперся у себя.
Так прошло немало дней. В разгоряченном мозгу Мишеля рождались чудесные мысли, и под пером поэта дивные образы обретали плоть. Наконец книга была завершена, если только такую книгу вообще можно закончить. Автор назвал поэтический сборник «Упования». Какую же несгибаемую волю надо было иметь, чтобы еще на что-то надеяться!
С этого времени началась великая беготня Мишеля по издательствам. Не стоит живописать сцены, разыгрывавшиеся при каждом новом безнадежном визите… Ни один издатель не захотел даже прочесть его рукопись. Напрасно потратившись на бумагу и чернила, наш герой остался при своих «Упованиях».
Мишель пребывал в полном отчаянии, деньги таяли; мысли о старом преподавателе отнюдь не облегчали его существование. Он попытался заняться физическим трудом, но повсюду людей успешно заменяли машины. Вскоре от денег не осталось и следа. В прежние времена он мог бы отправиться в армию вместо какого-нибудь богатого балбеса и тем заработать на жизнь. Но этот промысел больше не существовал.
Наступил декабрь — месяц всяческих платежей, угрюмый, холодный, мрачный; месяц, когда кончается год, но отнюдь не страдания; месяц, который в жизни каждого человека почти всегда лишний. Самое чудовищное слово французского словаря «нищета» своей грозной тенью омрачило чело Мишеля. Его одежда пожухла и стала осыпаться как листья с деревьев в преддверии зимы, без малейшей надежды на весеннее обновление.
Он стыдился самого себя. Его преследовал запах нищеты. Визиты к дядюшке Югнэну, равно как и к профессору Ришло, становились все более редкими. Чтобы оправдаться, он придумывал разные отговорки: важная работа, неожиданные поездки. Его можно было пожалеть, если бы только чувство жалости в эпоху всеобщего эгоизма не было изгнано с нашей планеты.
Зима 1961/62 года выдалась особенно суровой. Своими продолжительными жесточайшими морозами она превзошла зимы 1789, 1813 и 1829 годов. В Парижа холода грянули 15 ноября и держались вплоть до 28 февраля. Высота снежного покрова достигала семидесяти пяти сантиметров, а толщина льда на прудах и многих реках — семидесяти сантиметров. Две недели подряд термометр опускался до отметки двадцать три градуса ниже нуля. Сена оставалась скованной льдом в течение сорока двух дней, судоходство на ней было полностью остановлено.
Этот чудовищный холод охватил всю Францию и большую часть Европы. Рона, Гаронна, Луара, Рейн покрылись толстой коркой льда, Темза замерзла до самого Грейвсенда, на шесть лье ниже Лондона. Лед в морском порту Остенде был настолько прочен, что по нему проезжали грузовые повозки, а экипажи по его гладкой поверхности столь же легко преодолевали пролив Большой Бельт.
Зима распространила свои владения до самой Италии, оказавшейся буквально заваленной снегом, дошла до Лиссабона, где простояла четыре недели, докатилась до Константинополя, оказавшегося полностью отрезанным от мира.
Такая холодная и длительная зима принесла неисчислимые бедствия: многие умерли от холода; ночью смерть настигала людей прямо на улице: пришлось даже отказаться от часовых. Уличное движение замерло. Поезда больше не ходили, и не только из-за колоссальных снежных заносов на железнодорожных путях. Машинистам грозила опасность просто замерзнуть в своих локомотивах.
Страшный ущерб нанесла стихия сельскому хозяйству. В Провансе погибла большая часть виноградников, каштановых, фиговых, тутовых и оливковых деревьев. Древесные стволы внезапно раскалывались надвое! Оказавшись под настом, погибали даже растущие на скалах низкорослые кустарники и вереск. Весь урожай пшеницы и запасы сена были полностью погублены.
Можно себе представить, как страдали бедняки, хотя государство и приняло необходимейшие меры для облегчения их участи. Наука, несмотря на все свои возможности, не могла ничего противопоставить этому нашествию холода. А ведь когда-то она сумела обуздать громы и молнии, победить расстояние, подчинить своей воле пространство и время, предотвратить наводнения, завладеть небом, поставить на службу человечеству самые сокровенные силы природы, но оказалась бессильной перед грозным, невидимым врагом, имя которому — холод.
Общественная благотворительность внесла свой немалый вклад, но этого оказалось явно недостаточно, и всеобщая нищета дошла до крайности.
Мишель жестоко страдал. Цены на топливо стали столь высоки, что оно ему было недоступно, и его жилище вовсе не отапливалось.
Вскоре молодому человеку пришлось свести до строгого минимума и свое пропитание; он мог себе позволить только все самое дешевое и низкосортное. Несколько недель подряд он питался какой-то невообразимой смесью, именуемой «картофельным творогом». Это протертое месиво из проваренной картошки стоило отнюдь не дешево — восемь солей за фунт.
Вскоре бедняга дошел до того, что стал питаться одним только желудевым хлебом, который пекли из муки, получаемой из высушенных на солнце и растолченных желудей: этот продукт прозвали хлебом недорода.
Но усиление холодов привело к новому повышению цен, и теперь фунт даже такого хлеба за четыре соля был ему не по карману.
В январе, в самый разгар зимы, Мишель перешел на хлеб из угля.
Ученые с особым вниманием, скрупулезно изучили состав каменного угля, который оказался подлинным философским камнем, ибо в нем сокрыты алмазы, свет, тепло, минеральные масла и множество других веществ, различные сочетания которых дают до семисот органических соединений. Уголь в большом количестве содержит также углерод и водород, два элемента, питающих злаки, не говоря уж об эссенциях, придающих вкус и запах самым изысканным плодам.
С помощью извлекаемых из угля водорода и углерода некий доктор Фрэнкленд изготовил особый хлеб, продававшийся по два сантима за фунт.
Признайтесь, что надо быть чересчур привередливым, чтоб умереть с голоду! Наука всеми способами препятствовала этому!
Итак, Мишель выжил! Но какой ценой!
Как бы ни был дешев угольный хлеб, он все-таки чего-то стоил! А когда заработать нет никакой возможности и в кармане один франк, то рано или поздно кончатся и составляющие его сантимы.
В конце концов у Мишеля осталась одна-единственная монета. Некоторое время он разглядывал ее, а потом вдруг зловеще рассмеялся. Холод, словно железный обруч, сдавливал его голову, разум отказывался подчиняться…
«Фунт за два сантима, — говорил он самому себе, — если я буду употреблять в день по фунту, то смогу протянуть на хлебе из угля еще два месяца. Но ведь я ни разу ничего не дарил моей маленькой Люси! Решено! На последнюю монету в двадцать солей я куплю ей мой первый букет цветов!»
И несчастный юноша как безумный выбежал на улицу.
Термометр показывал двадцать градусов ниже нуля.
Глава XVI
ДЕМОН ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Мишель шел по тихим улицам. Снег заглушал шаги редких прохожих. Движение прекратилось. Стояла глубокая ночь.
«Интересно, который теперь час?» — подумал молодой человек.
И как бы в ответ ему часы на башне больницы Сен-Луи пробили шесть.
«Часы только и способны, что отмерять людские страдания», — промелькнуло в его голове.
Движимый навязчивой идеей, Мишель продолжал свой путь. Все его помыслы были устремлены к Люси. Временами, помимо его воли, милый образ куда-то ускользал, и юноша, как ни старался, не мог его удержать. Он даже не замечал, что умирает от голода, — слишком велика была привычка.
В эту морозную ночь небо, как никогда, казалось сверкающим и чистым, взгляд терялся в бесконечности великолепных созвездий, и Мишель, сам того не замечая, не в силах был оторваться от звезд Трех королей,[184] встававших на горизонте посредине великолепного Ориона.
От улицы Гранж-о-Бель до улицы Фурно путь неблизкий. По сути, надо пересечь весь Старый Париж. Мишель пошел самой короткой дорогой, направился на улицу Фобур-дю-Тампль, спустился по ней до пересечения с улицей Шато-д'О, затем прямиком по улице Тюрбиго добрался до Центрального рынка.
Через несколько минут он уже был возле «Пале-Руаяль» и через великолепные ворота, выходившие на улицу Вивьен, проник в галереи.
Огромный сад казался мрачным и безмолвным. Куда ни посмотришь — везде белый ковер первозданной чистоты.
«Как-то не хочется топтать его», — подумал Мишель.
Ему и в голову не приходило, что ходить по снегу просто холодно.
В конце галереи Валу а Мишель заметил ярко освещенный цветочный магазин. Он кинулся туда и оказался в настоящем зимнем саду. Редкие растения, зеленые кустарники, букеты свежих цветов — чего там только не было!
Внешний вид бедняги явно не внушал доверия. Директор магазина никак не мог взять в толк, что делает этот оборванный молодой человек в его роскошном цветнике. Просто какая-то нелепость! Мишель сразу ощутил возникшую неловкость.
— Что вам угодно? — донесся до него резкий голос.
— Цветы, которые я мог бы купить за двадцать солей.
— За двадцать солей? — презрительно воскликнул торговец. — И это в декабре!
— Хотя бы один цветок! — промолвил молодой человек.
«Так уж и быть, подадим ему милостыню», — решил про себя торговец.
И он протянул юноше букетик полуувядших фиалок, не забыв при этом прихватить двадцать солей.
Мишель вышел из магазина. Расставшись с последними деньгами, он почувствовал какое-то необъяснимое, почти злорадное удовлетворение.
— Вот я и остался без единого соля! — произнес вслух Мишель, и его губы улыбались, хотя взгляд по-прежнему оставался суровым. — Ну, ничего! Зато моя маленькая Люси будет довольна! Какой красивый букет!
Он подносил к лицу увядшие цветы и с упоением вдыхал запах, который, увы, давно улетучился.
«Как она обрадуется — фиалки в разгар зимы! Вперед!»
Мишель дошел до набережной, пересек Сену по мосту Руаяль, углубился в квартал Инвалидов и Эколь Милитер (квартал сохранил свое название) и спустя два часа после того, как он покинул свою комнату на улице Гранж-о-Бель, наконец оказался на улице Фурно. Сердце его бешено колотилось. Он не чувствовал ни усталости, ни холода.
«Я уверен — она ждет меня! Я так давно не видел ее!»
Внезапно у него зародилось сомнение, остановившее его.
«Не могу же я появиться во время ужина! — подумал он. — Это было бы неприлично. Им пришлось бы пригласить меня за стол! Кстати, который теперь час?»
«Восемь!» — ответили часы церкви Сен-Никола, строгий контур которой четко вырисовывался на темном небе.
«О, время ужина давно прошло, — размышлял молодой человек, направляясь к дому 49. — Пусть это будет сюрприз!» — решил он и тихонько постучал в дверь.
Ему отворили. Но, когда он уже бросился вверх по лестнице, его остановил консьерж.
— Куда это вы направляетесь? — проговорил он, оглядев молодого человека с ног до головы.
— К господину Ришло.
— Его здесь нет.
— Как это нет?
— Его здесь больше нет, если вам угодно.
— Как, господин Ришло здесь больше не живет?
— Нет! Уехал!
— Уехал?
— Выставлен за дверь!
— За дверь? — вскричал Мишель.
— Он был из тех постояльцев, которые никогда вовремя не платят. У него описали имущество.
— Описали имущество? — повторил молодой человек, дрожа всем телом.
— Описали имущество и выставили вон!
— Куда?
— Понятия не имею, — отозвался государственный чиновник, принадлежавший, учитывая квартал, лишь к девятому классу.
Мишель не помнил, как очутился на улице. Волосы его растрепались, голова кружилась. На него было страшно смотреть.
— Описали имущество, выгнали вон! — повторял на бегу Мишель. — Значит, ему холодно, и он страдает от голода!
Представив на минуту, что дорогие его сердцу люди попали в беду, он вдруг сам остро ощутил жуткий голод и холод, о которых было уже забыл.
«Где же они? На что живут? У старика не было ни гроша за душою! Значит, его выгнали из коллежа! Его единственный ученик, наверное, бросил своего учителя! Если б я только знал этого негодяя!»
— Где же они? Где же они? — твердил он как безумный, приставая к каждому спешащему прохожему.
«Неужели она подумала, что я бросил ее в несчастье?»
При этой мысли колени его подогнулись и он едва не рухнул на слежавшийся снег. Отчаянным усилием воли ему удалось удержаться на ногах, но идти дальше он не мог. Тогда он побежал — бывает, что сильная боль вынуждает человека совершать невозможное.
Мишель бежал без всякой цели, без всякой мысли. Вскоре перед ним возникло здание Образовательного кредита, и он в ужасе бросился прочь.
— О, науки! — стонал он. — О, промышленность!
Мишель повернул обратно. Целый час он блуждал среди приютов и больниц, сосредоточившихся в этом квартале Парижа: приютов Больных Детей, Юных Слепых, Марии-Терезии, Подкидышей, родильного дома, больниц Миди, Ларошфуко, Кошэн, Лурсин. Ему никак не удавалось выбраться с этого острова страдания.
«Не хочу же я оказаться в одном из этих заведений», — говорил он себе, но какая-то неведомая сила словно влекла его туда.
Так наш герой очутился возле стен кладбища Монпарнас.
«Скорее, сюда», — подумал Мишель.
Словно пьяный, он бродил в этом царстве мертвых.
Наконец, сам того не ведая, он вдруг оказался на левобережной части бульвара Севастополь, миновал Сорбонну, где вечно юный, пылкий профессор Флуран[185] все еще читал свои лекции.
Вскоре несчастный страдалец добрался до моста Сен-Мишель. Уродливый фонтан, полностью покрытый толстой коркой льда, стал совершенно невидимым и теперь производил самое выгодное впечатление.
С трудом передвигая ноги, Мишель по набережной Августинцев дотащился до Пон-Нёф[186] и оттуда блуждающим взором стал смотреть на Сену.
— Скверное время для отчаявшихся! — воскликнул он. — Даже утопиться нельзя!
Действительно, река была скована льдом, и экипажи могли спокойно пересекать ее по твердому насту. Днем на реке торговали в бесчисленных лавчонках, а вечерами устраивали фейерверки.
Величественная плотина на Сене постепенно исчезала под грудами навалившего снега; ее сооружение являлось воплощением великой идеи, выдвинутой Араго еще в XIX веке: перекрыв реку, Париж в период низкой воды располагал мощностью в четыре тысячи лошадиных сил. Эта энергия городу ничего не стоила и производилась бесперебойно.
Турбины поднимали на высоту пятьдесят метров десять тысяч квадратных дюймов воды, а каждый дюйм означал двадцать кубометров воды за сутки. Таким образом, парижане платили за воду в сто семьдесят раз меньше, чем раньше; тысяча литров воды им обходилась в три сантима, и каждый мог себе позволить израсходовать пятьдесят литров в день.
Более того, поскольку в системе водоснабжения всегда сохранялось нужное давление, улицы поливались из шлангов, а на случай пожара каждый дом имел достаточное количество воды, подаваемой под очень сильным напором.
Пересекая плотину, Мишель услышал глухой рокот турбин Фурнейрона[187] и Кошлена,[188] не прекращавших свою работу даже под ледяным покровом. Он остановился в нерешительности, но какая-то непонятная сила повлекла его назад, и очень скоро перед ним возникло здание института.[189]
Внезапно Мишелю пришло на ум, что во Французской Академии[190] не осталось ни одного литератора. По примеру Лапрада,[191] обозвавшего в середине XIX века Сент-Бёва «клопом», позже два других академика наградили друг друга именем маленького гениального человечка, описанного Стерном в «Тристраме Шенди» (том I, глава 21, страница 156, издание Леду и Тере, 1818). А поскольку литераторы определенно становились все более невоспитанными, в Академию стали принимать только знатных вельмож.
Вид чудовищного купола Академии, разукрашенного желтыми полосами, привел несчастного Мишеля в полное смятение. Он шел вверх по реке. Над его головой нависало небо, прочерченное электрическими проводами. Перекинутые с одного берега Сены на другой, они напоминали огромную паутину, тянувшуюся до самой Префектуры полиции.
Наш герой пустился бежать по ледяному зеркалу Сены. Луна отбрасывала перед ним резкую тень, причудливо повторявшую все его движения.
Он прошел по набережной Орлож, миновал Дворец Правосудия, перешел обросший ледяными сталактитами мост О-Шанж, оставил справа Торговый суд, мост Нотр-Дам, вышел на мост де-ла-Реформ, казалось, провисший из-за своего слишком длинного пролета, и снова вернулся на набережную острова Сите.
Мишель очутился у входа в морг, открытый днем и ночью для мертвых и живых. Не раздумывая, он вошел внутрь, будто искал там дорогих его сердцу людей. Взглянув на вздувшиеся, зеленоватые, одеревенелые трупы, лежащие на мраморных столах, он заметил в углу некое электрическое устройство, предназначенное для возвращения к жизни утопленников, которые еще подавали хоть какие-нибудь признаки жизни.
— Опять электричество! — воскликнул Мишель и опрометью бросился вон.
Пред ним во всем своем великолепии возвышался Нотр-Дам. До слуха доносились торжественные песнопения. Служба подходила к концу. Ступив из мрака улицы в освещенный храм, Мишель едва не ослеп.
Алтарь сиял электрическими огнями, электрические лучи исходили из дароносицы, приподнятой священнослужителем высоко над толпой.
— Опять это электричество, даже здесь! — прокричал несчастный, выбегая вон.
Однако, несмотря на всю свою поспешность, он успел различить рычащие звуки органа, движимого сжатым воздухом, поставляемым Обществом катакомб.
Мишель терял рассудок. Ему мерещилось, что за ним гонится демон электричества. Он снова вышел на Гревскую набережную и, проблуждав в лабиринте пустынных улиц, оказался на площади Руаяль, где на месте памятника Людовику XV возвышался монумент Виктору Гюго. Перед ним раскинулся новый бульвар Наполеона IV, простиравшийся до площади, в центре которой Людовик XIV устремлялся галопом в сторону Французского банка. Сделав круг, молодой человек пошел по улице Нотр-Дам-де-Виктуар.
На фасаде стоящего на углу площади Биржи дома он заметил мраморную доску с высеченной золотыми буквами надписью:
Памятник истории.На пятом этаже этого домажилв 1859–1862 годахВИКТОРЬЕН САРДУ.
Наконец Мишель оказался перед Биржей, этим храмом нашего времени, святая святых дня сегодняшнего! Электрические часы на здании показывали без четверти двенадцать.
«Ночь остановилась!» — подумал Мишель.
Он поднялся к Бульварам: электрические фонари излучали ослепительно белый свет; на ростральных колоннах сияли прозрачные афиши, по которым бежали огненные буквы рекламных объявлений.
Мишель закрыл глаза и нырнул в толпу, только что вывалившуюся из дверей театров. На площади Оперы его взору предстала раззолоченная толчея элегантных богатых господ — в мехах и кашемировых одеяниях холод им был нипочем! Обогнув длинную вереницу газ-кебов, Мишель выбрался на улицу Лафайет.
Перед ним была прямая как стрела дорога длиною в полтора лье.
— Бежать! Подальше от всех! — сказал он себе.
Несчастный юноша шел, едва волоча ноги, падая и поднимаясь, не чувствуя ничего, словно какая-то сверхъестественная сила поддерживала его и толкала вперед.
Чем дальше удалялся он от людей, тем тише и пустыннее становилось вокруг. Однако вдали можно было различить гигантское зарево электрического света; непонятно откуда доносился чудовищный, ни на что не похожий фантастический треск.
Вопреки всему Мишель продолжал свой путь и вскоре был буквально оглушен ужасающим грохотом, вырывавшимся из огромного зала, где свободно размещались десять тысяч человек. На фронтоне огненными буквами сияла надпись:
Да! Действительно, электрический концерт! А какие инструменты! Двести фортепьяно, соединенных между собой по венгерскому способу[192] с помощью электрического тока, звучали одновременно, повинуясь пальцам одного лишь артиста! Одно-единственное фортепьяно мощностью в две сотни инструментов!
— Бежать, бежать! — прокричал несчастный, преследуемый неотвязным демоном. — Вон из Парижа! Только вдали от него я сумею, быть может, обрести покой!
Ноги не держали его, но, поборов собственное бессилие, он почти ползком добрался до водоема Виллетт, но там окончательно заблудился и, решив, что он находится у ворот Обервилье, пошел по нескончаемой улице Сен-Мор. Через час он был возле здания тюрьмы для малолетних преступников на улице Рокетт.
Тут его поджидало еще одно зловещее зрелище: готовясь к утренней казни, строили эшафот!
Под веселое пение плотников помост вырастал буквально на глазах!
Мишель в ужасе отшатнулся и тут же с размаху налетел на какой-то открытый ящик. Подымаясь, он обнаружил внутри металлического корпуса электрическую батарею.
Тут его осенило: голов больше не рубят, теперь убивают электрическим зарядом! Это больше походит на божественную кару!
Несчастный издал душераздирающий вопль и бросился прочь.
Колокол церкви Святой Маргариты пробил четыре раза.
Глава XVII
ЕТIN PULVEREM REVERTERIS[193]
Где провел наш герой остаток этой страшной ночи? Куда завела его судьба? Заблудился ли он, тщетно пытаясь вырваться из этого проклятого, ненавистного Парижа? Трудно сказать.
По всей вероятности, он кружил по бесчисленным улицам возле кладбища Пер-Лашез, поскольку Остров Мертвых теперь оказался в окружении жилых кварталов. Париж уже простирался на восток вплоть до фортов Обервилье и Роменвиль.
Как бы то ни было, но, когда первые лучи зимнего солнца озарили заснеженный город, Мишель очутился на кладбище.
Он совершенно обессилел, мысли его застыли, из памяти стерся даже образ его милой Люси. Несчастный напоминал блуждающий призрак: здесь, среди могил, он был не посторонним, он чувствовал себя как дома.
Он пошел по главной аллее, потом свернул вправо и по вечно сырым тропинкам дошел до нижнего кладбища.
Все вокруг сверкало первозданной снежной белизной. Отяжелевшие ветки деревьев, склонившиеся над могилами, словно оплакивали умерших, роняя вниз капли тающего на солнце снега. Только кое-где, на вертикально стоящих надгробных камнях, где снег попросту не мог удержаться, можно было прочесть имена покойных.
Вскоре показалось полуразрушенное надгробие Абеляра[194] и Элоизы; три колонны, служившие опорой источенному временем архитраву,[195] еще держались прямо, подобно Грекостасису[196] на римском Форуме.
Взгляд несчастного безразлично скользил по именам на могильных плитах: Керубини,[197] Абенек,[198] Шопен, Массе, Гуно, Рейер.[199] Здесь упокоились те, кто жил музыкой и, возможно, умер ради нее! Однако ничто не привлекло его внимания.
Мишель миновал и надгробие, на котором не было ни дат, ни украшений, ни трогательных надписей, но стояло одно лишь чтимое в веках имя — Ларошфуко.[200]
Затем он очутился в маленьком городке опрятных, как голландские домики, могил, с начищенными до блеска оградами и полированными пемзой ступенями. Его охватило непреодолимое желание войти туда.
«И, главное, остаться, — подумал Мишель, — упокоиться здесь навсегда».
Созерцание кладбищенских памятников, представлявших все архитектурные стили, от греческого, римского, этрусского, византийского до ломбардского и готического, включая эпоху Ренессанса[201] и XX век, невольно рождали мысль о равенстве всех перед смертью, ибо упокоившиеся и под мраморными, и под гранитными плитами, и под простым деревянным крестом равно обратились в прах.
Молодой человек постепенно взбирался выше и выше по похоронному холму. Когда же силы совсем покинули его, он прислонился к мавзолею Беранже и Манюэля.[202] Этот каменный корпус без резьбы и скульптур все еще стоял, подобно пирамиде в Гизе, охраняя вечный покой двух объединившихся в смерти друзей.
В двадцати шагах, поодаль, генерал Фуа,[203] облаченный в мраморную тогу, словно наблюдал за ними и, казалось, продолжал защищать обоих друзей-единомышленников.
Неожиданно в голове несчастного промелькнула мысль отыскать знакомые имена среди тех, чьи могилы уцелели, но ни одно из них ничего не говорило ему. Многие, даже самые громкие имена стерлись от времени, эмблемы исчезли, руки, некогда соединенные, распались, гербовые щиты разрушились, а сами могилы обратились в прах!
Мишель продолжал идти, сбивался с пути, возвращался, цепляясь за железные ограды. На глаза ему попадались то Прадье,[204] чье мраморное изваяние «Меланхолия» рассыпалось в пыль, то истершийся Дезожье[205] в бронзовом медальоне, то памятник Гаспару Монжу,[206] поставленный его учениками, то скрытая вуалью фигура плакальщицы Этекса,[207] все еще припадавшей к могиле Распая.[208]
Поднявшись выше, он миновал величественный мраморный монумент, отличавшийся чистотой стиля, по фризу которого разбегался хоровод полуобнаженных дев, исполняющих свой вечный танец. Мишель прочитал надпись:
Он пошел дальше. Неподалеку виднелось незавершенное надгробие Александра Дюма, того, кто всю свою жизнь собирал деньги на чужие могилы!
Теперь Мишель оказался в богатом квартале, чьи обитатели могли позволить себе роскошь пышных надгробий. Благонравные жены покоились здесь рядом с известными куртизанками, сумевшими скопить денег, чтобы в конце жизни соорудить себе помпезные усыпальницы. Некоторые склепы неуловимо напоминали дома с дурной репутацией.
Далее располагались могилы великих актрис, куда тщеславные поэты возлагали свои исполненные скорбных слез стихи.
Наконец наш герой дотащился до другого края кладбища, где в театральной гробнице спал вечным сном великолепный Деннери.[210] Рядом Барьер покоился под скромным черным крестом. Здесь, словно в уголке Вестминстерского аббатства,[211] назначали друг другу свидания поэты. Здесь Бальзак выглядывал из своего каменного савана в ожидании собственной статуи; здесь Делавинь,[212] Сувестр,[213] Бера,[214] Плувье,[215] Банвиль,[216] Готье, Сен-Виктор и сотни других ушли в небытие, и в памяти стерлись даже их имена.
Немного ниже, со своей изуродованной временем стелы, Альфред де Мюссе взирал на погибающую рядом иву, воспетую им в самых нежных и печальных своих стихах.
Внезапно к несчастному вернулось сознание. Букет фиалок упал на снег. Он поднял его и, обливаясь слезами, положил на могилу забытого всеми поэта.
Мишель поднимался все выше и выше, с каждым новым шагом испытывая все большую тоску по прошлому, пока в просвете между ивами и кипарисами ему не открылся Париж.
Вдали высился Мон-Валерьен, направо — Монмартр, все еще дожидавшийся своего Парфенона,[217] который афиняне, вне всякого сомнения, воздвигли бы на этом акрополе.[218] Слева возвышались Пантеон, Нотр-Дам, Сент-Шапель, Дом инвалидов, а еще дальше — маяк Гренельского порта, вонзавший в небо свою стрелу на высоту пятисот футов.
Внизу расстилался Париж: сотни тысяч домов громоздились друг на друга, а между ними торчали окутанные дымом трубы десяти тысяч заводов.
Прямо под ногами Мишеля раскинулось нижнее кладбище. Сверху скопления его могил легко можно было принять за городки со своими площадями, улицами, домами, вывесками, церквями и соборами — саркофагами самых тщеславных.
Над всей этой величественной панорамой раскачивались воздушные шары-громоотводы, защищавшие Париж от гнева стихий и не дававшие молнии ни единого шанса поразить беззащитные дома.
Мишелю захотелось перерезать тросы, удерживающие эти шары, и предать город во власть огненного потопа.
— О, Париж! — в отчаянии прокричал Мишель, гневно грозя кому-то. — О, Люси! — прошептал он, падая без чувств на снег.
ВЕРНОВСКИЙ ПАРИЖ[219]
Жюль Верн в Париже? Но почему? Да просто потому, что здесь он продолжил свое образование. Нам известно, что в 1846 году будущий писатель успешно закончил Ренскую академию, став бакалавром. Теперь ему надо было сдавать экзамены по юриспруденции в Париже[220].
Любопытные, а таковыми мы себя считаем, могут последовать за ним, чтобы увидеть, как устраивался молодой студент в столице.
Париж в те времена был совсем другим, начались масштабные работы по изменению его облика.
Тетя Шарюэль приютила Жюля у себя. Холм Святого Рока тогда как раз сравнивали, а улица Пирамид, которую начали застраивать в 1846 году, была далека от завершения, но улица Терезы, где в доме под № 2 проживала добрая женщина, была вполне доступна для гостя.
Довольно близко, на улице Ришельё, находилось построенное в 1633 году восхитительное здание, в котором когда-то жил Мазарини. С 1720 года тут хранилось исключительное по важности собрание ценных документов, размещалась Королевская (а позднее Национальная) библиотека.
Жюль, сдавая экзамены за первый, а потом и за последующие курсы на факультете права, забирался на холм Святой Женевьевы, где возвышался Пантеон, бывшая церковь патронессы Парижа. Почти соседствующий с ней факультет права был построен в 1772 году по проекту Суфло.
В этом живописном квартале, в лицее Генриха IV[221], находившегося с другой стороны площади Пантеона, преподавал кузен юного студента Гарсе. Любопытная вещь: в те времена лицей увенчивала башня, которую называли Башней Клови; когда-то она была колокольней старинного аббатства.
Между экзаменами Жюль возвращался в Нант, но довольно скоро стало ясно: вместо того чтобы приезжать в столицу только для сдачи экзаменов, гораздо лучше постоянно учиться в Париже.
Отец Верна снял для него меблированную квартиру, которую Жюль делил с Эдуаром Бонами, еще одним студентом из Нанта. Эта квартира с окнами на площадь Одеона располагалась на четвертом этаже дома № 24 по улице Старинной Комедии, названной по имени театра, который частенько посещал Жюль.
С обеих сторон улицы высились многоэтажные здания, вид из окон был ограничен «презренным шестиэтажным домом».
Конечно, речь идет не о доме № 13, в котором с 1686 года находилось кафе «Прокоп», основанное сицилийцем, носившим именно такое имя. С течением времени это здание стало известно как место более или менее потайных дискуссий, в которых принимали участие и политические деятели, и писатели. Было бы удивительно, если бы оба студента ни разу не заглянули туда - хотя бы из простого любопытства.
Когда Эдуар решил вернуться в Нант, Жюль снял в том же доме квартиру только для себя и был ею очень доволен. Ему по душе пришлось огромное вольтеровское кресло, а также то, что брат Поль, приезжая в Париж, мог расположиться на ночь в довольно просторном кабинете.
Позднее Жюль переселился в гостиницу рядом с церковью Богоматери Лоретской и «очень-очень близко к улице Бурдалу».
Тем временем наш студент получил необходимые дипломы и заявил отцу, что хотел бы принести присягу и записаться в парижскую коллегию адвокатов. Он предусмотрительно добавляет, что в таком случае надо бы устроиться так, как это принято у «парижских стажеров».
Род Бернов ведет свое начало из Провена (департамент Сена и Марна). Когда Жюль туда отправлялся, а это происходило часто в его юности, он живал у тетушек, владевших длинным зданием в начале рю де Маре, на углу этой улочки и улицы Веньерх[222].
Он не остался безразличным к очарованию «этого маленького шедевра природы», как напишет впоследствии Этцелю. Селение, расположенное одновременно и у подножия берегового обрыва, и на его макушке, делилось на Верхнее и Нижнее. Сообразно настроению, можно было пойти либо туда, либо сюда, полюбоваться пятидесятиметровой Башней Цезаря, построенной в средние века и доминирующей над местностью, крепостными стенами двенадцатого столетия, воротами Сен-Жан с подъемным мостом, пятиугольной сторожевой вышкой, башнями, порой имевшими занимательные названия, крытым Десятинным гумном и очень старыми церквями, построенными еще в те времена, когда Провен был столицей шампанских Тибо и тамплиеров.
Возможно, Жюль пытался отыскать, где растут прославленные своей дивной красотой местные розы или где находятся минеральные источники, облегчающие пищеварение.
Три тетушки Верна отличались такой красотой, что их, по городской традиции, прозвали Розами Провена.
Отправимся теперь подышать свежим воздухом в Шартрет, где молодой студент побывал по меньшей мере один раз у своей двоюродной бабушки Шарюэль, которая частенько навещала это местечко в 1847—1848 годах, а может быть, и раньше.
Омываемая Сеной, эта маленькая живописная община находилась в департаменте Сена и Марна на высоте 182 метра над уровнем моря. Она соседствовала с Мелёном и лесом Фонтенбло. Фасады ее старых домов нередко были украшены тут беседками из виноградных лоз — местные виноградники и по сю пору дают доброе красное вино.
Столь спокойное, дарящее отдохновение место очень ценилось парижанами. Они строили там для себя дачные домики или покупали старинные замки в Шартрет.
Именно так поступил Жюль Виктор Беше, банкир, бывший мэром городка с 1860 по 1876 год, женившийся на дочери Розали Шарюэль, Шарлотте Габриеле. Имение его было не чем иным, как замком Дю-Пре, где Генрих IV встречался с Габриелой д’Эстре. Новые хозяева радушно принимали у себя своего молодого родственника Жюля Верна.
Как описать этот почтенный, окруженный рвами памятник? Чтобы попасть в него, следовало пройти по подъемному мостику в центре здания. Южный фасад насчитывал по дюжине окон на каждом из трех этажей; с одной стороны высилась башенка, с другой - строение, похожее на голубятню. Северный фасад смотрелся куда приятнее с тремя выступающими вперед корпусами укреплений. Увы! Мы не сможем туда войти, потому что это прекрасное жилище было продано в 1876 году.
Но вернемся на бульвар Бон-Нувель, к Жюлю, поселившемуся здесь, возможно, по совету своего нантского друга Аристида Иньяра, жившего неподалеку. Жюль снимал квартиру сначала в доме № 11, потом в доме № 18, на шестом этаже, сразу над антресолью, похожей своими «120 ступенями на египетскую пирамиду...». Отсюда он мог обозревать Бульвары.
Устроиться ему помогло семейство Гарсе. Анри одолжил немного денег, Эжени нашла дешевенькие занавески, которые сама подрубила, а также мебель и различные принадлежности: белье, кровать, матрас, стулья, комод, туалетный столик, ночной столик, диван, который мог служить и кушеткой — у него не было спинки, но к стене прислоняли в качестве опоры три подушки! Был и письменный стол, ведь Верн с Иньяром писали!
Но что же делал наш герой в столице? Невозможно ведь, чтобы этот пылкий молодой человек все время замыкался в четырех стенах.
Согласно традиции, он вместе с уроженцами Нанта и других бретонских городов организовал маленький клан, а также клуб «Одиннадцати без женщин», члены которого каждое утро завтракали под веселые шутки. Вместе с многочисленными друзьями в зале дома № 18 по бульвару Монпарнас над табачной лавкой возле магазина «Хозяюшка» он играл в карты и музицировал.
Он был свидетелем исторических событий того времени, бунтов, восстаний, ужасных уличных спектаклей, баррикад и даже говорил: «В нижнем конце моей улочки дома выломаны орудийными выстрелами».
Он присутствовал при пожаре складов в 1855 году. Из трех корпусов один сгорел вместе со всем содержимым. Верн сожалел, что не сгорело все здание целиком.
В тот год он через день брал уроки фехтования, и его здоровье, не отличавшееся особой крепостью, заметно улучшилось. К сожалению, сегодня мы не знаем адреса того фехтовального зала.
Жюль видел, как в Тюильри прошла роскошная процессия по случаю крещения наследного принца, завершившаяся иллюминацией и фейерверком на площади Согласия. Он наблюдал и возвращение в Париж Наполеона III.
Верн отправился в Палату депутатов и вернулся оттуда «ошалевший от радости». Среди прочих ораторов он мог видеть и слышать Виктора Гюго, «который говорил в течение получаса».
Дядя молодого человека де Шатобур любил Париж и был счастлив ввести племянника в салоны, куда был вхож сам. В салонах много говорили о том о сем, иногда слишком подробно о политике, но Жюль многому там научился и встретил интересных людей.
Как-то вечером, в 1856 году, Жюль весьма любезно принял Эмиля Дезоне «и даже ужинал с ним».
Но вскоре наш адвокат пытается сменить квартиру. Почему? Потому что оказался на важном повороте жизни. Ему исполнилось 28 лет, и холостяцкая жизнь начала его тяготить. Но чтобы жениться на Онорине с ее значительным приданым, молодому человеку надо было обязательно найти место, доходную работу, но такую, которая бы не препятствовала литературным занятиям. Последние он явно предпочитал адвокатской кафедре.
Его будущий шурин Фердинан, очень поднаторевший в финансовой сфере, посоветовал ему стать посредником. Достаточно найти людей, которые доверили бы ему покупку и продажу своих ценных бумаг. Сами бумаги не должны проходить через руки посредника, которому надо только несколько часов в день проводить на Бирже, чтобы быть в курсе дел. Жюль выбирает общество «Эггли» (ул. Прованс, 72), куда приходит довольно часто. Несколько раз в год он заглядывает на Биржу, в это красивое здание с многоколонными портиками, построенное в 1808 — 1826 годах. На площади многочисленные фиакры ожидали выхода банкиров.
Он узнал, что такое «корзина», как следить за максимумами и минимумами ставок, что означают специфические жесты биржевиков. Жюль, его старые и новые друзья имели привычку собираться с правой стороны биржевой колоннады.
Деньги для взноса в «Эггли» ему подарил отец. И - как мы знаем - уже был подписан брачный контракт[223].
Попытаемся теперь посмотреть, как же совершалось бракосочетание. Семейство Девьян, включая Онорину, согласно на брак. Свадьба происходила в Париже 10 января 1857 года. Пышной церемонии не было, пригласили очень немногих, только близких друзей да свидетелей.
Само собой разумеется, в данном случае нам надо быть скромными, не следует спешить к мэрии Третьего округа (нынешнего Второго), на площади Птит-Пер, идущей от улицы Птит-Шан к площади Биржи. Церемония прошла быстро; назвали гражданское состояние жениха, его родителей, его адрес и, получив его согласие, дали расписаться в присутствии свидетелей.
Отправимся теперь к церкви, расположенной на новой улице Сент-Сесиль на месте старой консерватории. Под покровительством императрицы Евгении она была сначала церковью Св. Евгении и только потом сменила патрона, став церковью Св. Евгения. Открыта для богослужения церковь была 27 сентября 1855 года, и можно считать, что этот брак скреплялся здесь одним из первых, если вообще не самым первым.
Большого интереса церковь не представляет, но надо сказать, что построена она была очень быстро, меньше чем за два года.
Мы останемся здесь, чтобы узнать, кроме сведений, уже полученных в мэрии, что оглашения о браке сделаны соответствующим образом, и здесь и в Амьене, что жених и невеста дали свои устные согласия и получили брачное благословение. Акт подписан первым викарием и новобрачными, потом — свидетелями и родственниками. Наконец, эти тринадцать участников собрались в маленьком дешевом ресторанчике «У Бонфуа», как предлагал Жюль. После десерта папа Пьер прочел стихи в честь Жюля и новой своей дочки, а потом расстались; одни направились к отелю на улице Ришелье, № 46, и Верны и, без сомнения, Девьяны. А молодые, не захотели ли они увидеть ночной Париж? Кто знает!
Возможно, впрочем, они просто поднялись на шестой этаж дома под № 18 на бульваре Пуасоньер, потому что ни у Жюля, ни у помогавшей ему Эжени не было никакой другой квартиры. По условиям найма Жюль должен был оставаться в этом помещении до середины апреля или заплатить неустойку, последнее он и подумывал сделать, хотя оставаться еще на три месяца было экономнее.
В конце апреля 1857 года произошел большой переезд: Онорина добавила свою мебель к вещам Жюля, и семья поселилась на улице Сен-Мартен, в квартале Тампль, недалеко от Консерватории искусств и ремесел.
Потом мы найдем их на бульваре Монмартр, в доме № 54 по проезду Панорамы.
Их сын Мишель увидел свет в доме родителей на бульваре Мажанта, дом № 153, в ночь с 3 на 4 августа 1861 года.
В 1862 году все трое жили на улице Сонье, в доме № 18. В то же самое время они снимали дом № 39 по улице Лафонтена в Отёе, в предместье, впоследствии присоединенном к Парижу. В этом еще деревенском поселке дышалось лучше, а на прогулках можно было любоваться виноградниками.
Вместе с Онориной Жюль навещал Леларжей, живших на бульваре Рош-шуар, в доме № 50.
Можно предположить, что он посещал также дом своего брата, когда тот квартировал на улице Сен-Флорентен, № 211.
Среди выдающихся людей, которых встречал Жюль, был Жак Араго, которого Верн посещал на улице Мазагран, в доме № 14. Жюль сам помогал великому путешественнику-слепцу прогуливаться по Парижу. Беседуя, они обсуждали новые идеи и даже, возможно, какой-нибудь совместный проект.
Жюль водил по городу еще и своего кузена Илера, совершенно не знавшего Парижа. Гуляя с ним, он делал все возможное, чтобы доставить родственнику удовольствие: показывал ему Ванд омскую колонну, Триумфальную арку, Пантеон, Нотр-Дам и остров Сите, а также различные музеи. Он угостил кузена королевским обедом в «Пале-Руаяль», чем привел последнего в восхищение. Илера он оставил только перед Большим садом дворца.
Проявив любезность, Жюль бегал по магазинам с дядей Огюстом Верном, когда тому, например, хотелось купить каминные комплекты!
Приехав в Париж с многочисленными написанными в Нанте вещами, рассказами, комедиями и прочим, Жюль очень хотел их опубликовать. Он нашел спасителя — Питр-Шевалье (Питр — бретонский вариант имени Пьер), тогдашний директор «Мюзе де фамий», принял к публикации его первый текст, а за ним — много других. Молодой Жюль часто приезжал к издателю в Марли-Ле-Руа и порой оставался на несколько дней в доме на Абрёвуарской дороге, охраняемом огромным старым дубом.
Позднее бретонец поселится в Париже, на улице Экюри-д ’Артуа, в обширных апартаментах — его друзья будут собираться здесь для постановок небольших салонных комедий; весьма вероятно, что в этих собраниях участвовал и Жюль Верн. Очень быстро, с помощью подруги своей матери и дяди Шатобура, Жюль познакомился с А. Дюма-отцом, который жил в Париже с 1848 по 1850 год на улице Рише, № 43, а с 1854 по 1861 год — в маленьком особняке на рю-д’Амстердам под № 77. Столь же быстро он сошелся с Дюма-сыном, бывшим всего на четыре года старше Жюля и жившим в Париже на ул. Ваграм, № 120. Дюма-сын останется человеком, которому Жюль, по его позднему признанию, «будет больше всего обязан».
Очень скоро Жюль смог присутствовать на театральных представлениях в ложе самого Дюма-отца в Историческом театре, основанном великим писателем и построенном на его деньги.
Театральное здание имело богато украшенный фасад и как бы рассказывало об умеющем хорошенько потратить деньги писателе; колонны, балконы, кариатиды и другие скульптуры в изобилии украшали его. А возле самого театра находилось артистическое кафе.
Александр-младший и Жюль совместно работали тогда над пьесой, прибегая к помощи своего более удачливого друга Шарля Мезоннёва, жившего тогда в Париже в доме № 58 на Шоссе-д’Антен.
В Пор-Марли, возле Сен-Жермен-ан-Ле, собирались они для подготовки пьесы к постановке в Историческом театре. Важная премьера для Жюля! Ожидая ее, спорили в садах Монте-Крисго, отдыхали в Мавританском салоне, восхищались окруженным водой замком Иф, а Дюма-отец в это время готовил великолепные обеды.
Не все, однако, было таким розовым. При подобном изобилии безумств Исторический театр прогорел. Два года спустя братья Севесг возродили его, но назвали Лирическим театром.
Жюль принял предложение стать там секретарем — работа достаточно ответственная, тем более что жалованья ему не платили, но зато интересная, потому что он — в обмен на деньги — мог ставить в театре свои вещи, написанные в соавторстве то с Мишелем Карре, то с друтом-музыкантом Иньяром.
В июне 1854 года Жюль Севест, директор Лирического театра, скоропостижно — за сутки — умирает от холеры, и Жюль Верн, очень тронутый горем семьи, соглашается отвести к покойному в мёдонский морг сестру Севеста.
Сам он не чувствует себя больше связанным какими-либо обязательствами и оставляет Лирический театр. С выбором Жюль не ошибся, потому что театр этот был разрушен в 1863 году при работах по реконструкции, проходивших под руководством барона Османа.
Велика беда! Пьесы Жюля и его друзей ставят в других театрах. Однако в нашем путешествии туда трудно войти; мы увидим только пышные фасады, богато украшенные неизбежными колоннами и пилонами, скульптурами, кариатидами, масками. Но ничто нам не помешает упомянуть об этих храмах Мельпомены, зная, что почти всегда Жюль присутствовал на репетициях спектаклей и что во многих театрах не играли больше одного представления.
В 1861 году он захаживал в импозантный четырехэтажный «Водевиль»; в 1858-м — в «Буф-Паризьен» с тысячей или более мест, авансценой, креслами оркестра, ложами бенуара и прочими ярусами; в 1873-м — в «Клюни»; на следующий год — в простой и красивый театр «Порт Сен-Мартен», в 1877-м — в «Варьете», в 1880-м — в «Шатле», в 1883-м — в «Гэте» и в 1887-м — в «Амбигю».
В 1880 году пьеса по «Мишелю Строгову», одноименному роману Жюля, была написана им, как и несколько предыдущих пьес, в соавторстве с Д’Эннери. Это было пятиактное произведение; премьера состоялась 17 ноября. Жюль приехал в Париж на переговоры с Д’Эннери, а скорее — для того, чтобы присутствовать на репетициях, в том числе на последней, в сценических костюмах. Он послал коротенькую записку своему соавтору, в которой называет себя несчастнейшим из людей, почти слепым! Верн забыл свой лорнет в футляре на столе в кабинете Д’Эннери! Он добавляет трогательную челобитную: «Вы, кто так способствовали возвращению зрения Строгову в обстоятельствах поистине чудесных, верните, ради Бога, мое, отослав вышеназванный лорнет в театр “Шатле”, где у нас назначена на завтра в три часа встреча».
Пополудни, конечно! Что и было сделано, несомненно. Письмо Верна написано 14 ноября, премьеру должны были играть семнадцатого! Она состоялась. Директором «Шатле» в то время был один из старых друзей Жюля по биржевой колоннаде Феликс Дюкенель, принимавший когда-то автора в Мё-доне, в своем маленьком коттедже на авеню Жакмино.
Особняк господина Д’Эннери был расположен на авеню Булонского леса под № 30 и был украшен балконами со стороны боковой улицы Св. Марка. На первом этаже по фасаду, кроме входа, располагались четыре оконные ниши, на втором - шесть, на третьем - три большие и одна маленькая. К этому последнему этажу, видимо, примыкало другое трехэтажное здание. Как и следовало ожидать, интерьер особняка был напичкан дорогой обстановкой и произведениями искусства.
Вернемся к Жюлю и его верному другу Феликсу Турнашону по прозвищу Надар. В 1863 году этот фотограф открыл студию в доме № 35 по бульвару Капуцинов, и Жюль частенько заглядывал туда, потому что в этом же здании помещалась канцелярия общества, привлекавшего его как человека, интересующегося проблемами аэронавтики и воздушных шаров. Эта ассоциация, основанная в том же 1863 году Надаром и Габриелем де Лаланделом, носила длинное название: «Общество содействия воздушному сообщению с помощью аппаратов тяжелее воздуха». Молодой Жюль стал финансовым инспектором в этом обществе.
Через некоторое время Надар, желавший «подняться в воздушное пространство», построил огромный воздушный шар, названный им «Гигантом».
В 1863 году перед огромной толпой зрителей он взлетел на Марсовом поле, отправившись в направлении Ганновера. Жюль, разумеется, присутствовавший при начале этого полета, написал о нем репортаж под названием «По поводу “Гиганта”», появившийся в декабрьской книжке «Мюзе де фамий».
В конце 1862 года Жюль, не питая особых надежд на благоприятный ответ, предложил свою рукопись одному из самых известных издателей, весьма требовательному, конечно, но печатавшему произведения самых крупных писателей, да еще в таких красивых переплетах! Им был господин де Сталь, хотя его звали Этцель, великий Пьер Жюль Этцель.
Рукопись, которую ему предложил Жюль Верн, называлась «Воздушное путешествие».
Прочтя ее, издатель потребовал внести кое-какие изменения, и в октябре 1862 года подписал с Верном первый контракт; так в январе 1863 года появился роман «Пять недель на воздушном шаре», имевший очень большой успех.
После государственного переворота Наполеона III Этцель бежал в Брюссель, а своим парижским домом на улице Мира и книжной лавкой на улице Ришелье в доме под № 76 оставил заправлять жену и бухгалтера; вернувшись, он снова стал там хозяином. Лавка находилась совсем недалеко от кафе «Кардинал», где собирались литераторы и художники.
Потом он переехал в очаровательную квартиру в доме № 18 на углу улиц Жакоба и Бонапарта, которая сообщалась переходом с книжной лавкой. Специально устроенные слуховые трубки позволяли хозяину слышать наверху разговоры, происходящие в лавке.
Весь дом был буквально пропитан запахом типографской краски, который достигал лестничной клетки, а потом поднимался вдоль красивой лестницы XVIII века из кованого железа, которую Этцель очень любил.
В саду, между двух деревьев, помещался бак с водой, предназначенной птицам. А на стене красовались солнечные часы, когда-то принадлежавшие аббатству Сен-Жермен-де-Пре.
В хорошую погоду сад был постоянно заполнен друзьями, сотрудниками и клиентами.
Издатель питал также добрые чувства к кафе «Карон», расположенному на углу улиц Святых Отцов и Университетской, и имел привычку часто бывать там. Обычно он там обедал, появляясь около половины двенадцатого и направляясь к своему постоянному столику! Сюда он часто приглашал друзей, таких как отец и сын Дюма, Надар, Жюль Верн, а также всех, кто хотел бы потолковать с ним.
Утверждают, что подобного рода собрания устраивались и в кафе «Флора» в Сен-Жермен-де-Пре.
В 1865 году мы встретились бы с Жюлем в доме № 3 по улице Кристин, в штаб-квартире Географического обществах[224], членом которого он захотел стать. Президентом общества был в то время маркиз Шасалу-Лоба, а центральную комиссию возглавлял господин Арман де Катрфаж де Брео. К заявлению молодого человека отнеслись благосклонно, и он под № 710 был внесен в список этого престижного общества.
В 1873 году центральная комиссия Географического общества предложила Верну прочесть лекцию, и 4 апреля Жюль приехал в Париж, но — так как шли работы по завершению прокладки бульвара Сен-Жермен — появился он не на улице Кристин, а в здании напротив, на площади Сен-Жермен-де-Пре, в помещении Общества содействия национальной промышленности, в зале которого ему и аплодировали члены Географического общества. Текст лекции, озаглавленной «Меридианы и календарь», появился в бюллетене общества за второй квартал 1873 года.
Когда ставшему амьенцем Верну надо было встретиться с Этцелем, он находил пристанище на улице Севр в доме № 2, а потом на перекрестке Красного Креста недалеко от улицы Жакоб.
Иногда он предпочитал гостиницу, возможно «Отелыде-Нант» на площади Карусель, где останавливались и его родители, когда бывали в Париже.
Но больше всего Жюль Верн любил «Отель-дю-Лувр». В устной традиции сохранился рассказ о том, как он вприпрыжку выбегал оттуда, захватив на ходу у консьержа письма, взбирался на империал[225] омнибуса[226] и отправлялся на улицу Жакоб, где до вечера проводил время в старинной «Новой книжной лавке» на углу улицы Граммон.
Гораздо позже, став уже дедушкой, Жюль достаточно понервничал на перроне вокзала Монсури. Он страшно боялся опоздать на поезд и подталкивал сопровождавшую его семью в вагон состава, отправлявшегося в Аркёй. Но, разумеется, у него не было времени восхищаться великолепным виадуком. Он ездил туда, чтобы не пропустить церемонии первого причастия в местном коллеже, в которой принимали участие два из трех его внуков.
В 1897 году, став жертвой судебного процесса, писатель был вынужден приехать из Амьена в Париж, чтобы защищать свои права во Дворце Правосудия. Он остановился на несколько дней у сына, жившего тогда в доме № 181 на бульваре Перейр.
У Этцеля был еще и деревенский дом, прелестная небольшая вилла, которую ему хотелось расширить. Постарев, он жил там все дольше, а в Париже появлялся только по субботам. Чтобы встретиться со стариком, необходимо было отправиться в это уютное, увитое плющом гнездышко. Оно располагалось в Бельвю под Дуэ и насчитывало в 1842 году всего 7 обитателей.
Туда легко было попасть по Севрской дороге. Возможно, поторопившись, мы бы смогли посетить знаменитую фарфоровую мануфактуру.
Жюль был знаком и с Версалем. Однажды он с друзьями отправился в этот милый городок, и тогда его кузен, Морис Аллот, должно быть, предоставил ему свои версальские апартаменты.
Добрые отношения, которые связывали Жюля с Дюма-сыном, побуждали, без сомнения, последнего приглашать друга в Нёйи, где на Гранд-авеню, на окраине Саблевиля, у младшего Дюма был небольшой особняк, окруженный деревьями и садом. В те времена все отправлялись по праздникам в живописное, цветущее Нёйи.
Совершив это небольшое верновское путешествие, мы можем сказать, что за двадцать лет, проведенных в городе, который «порой сжигает провинциалов» (Ж. Верн), писатель не питал привязанности к одному месту и особенно обожал Бульвары.
Сесиль КОМПЕР
Путешествие
в Англию и Шотландию
задом наперед
Глава I
КАК БЫЛО ЗАДУМАНО ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО АНГЛИИ И ШОТЛАНДИИ
В своих «Фантазиях разумного насмешника» Шарль Нодье дал следующий совет грядущим поколениям: «Если кто-то во Франции до сих пор не совершил путешествия в Шотландию, я бы посоветовал ему посетить Верхнее Франш-Конте[227], дабы восполнить этот пробел. Пусть небо там и не такое туманное и проплывающие, капризных очертаний облака не выглядят так живописно и причудливо, как во мглистом царстве Фингала[228], но за этим исключением внешнее сходство обеих стран кажется почти полным».
Жака Лаваре озадачили слова заботливого советчика: вначале они вызвали в нем крайнее недоумение; живейшим его желанием было увидеть родину Вальтера Скотта, услышать грубоватые отголоски кельтских диалектов, вдохнуть целительный туман старой Каледонии[229], словом, впитать всеми чувствами своими поэзию этой зачарованной страны. И вот на тебе: разумный человек, добросовестный писатель, действительный член Академии прямо говорит: не утруждайте себя понапрасну! Лон-ле-Сонье[230] заменит вам все красоты Эдинбурга, а горные массивы Юрa ни в чем не уступят окутанным дымкой вершинам Бен-Ломонда![231]
Затем недоумение сменилось размышлениями. Жак оценил по достоинству шутливую сторону совета Шарля Нодье; он понял, что действительно съездить в Шотландию намного легче, чем во Франш-Конте; ибо, совершенно очевидно, нужен весьма важный повод, мощный побудительный мотив, чтобы отправиться в Везуль[232], в то время как вполне достаточно хорошего настроения, желания начать новую жизнь (о, прекрасная мысль, посещающая нас каждым утром при пробуждении!), наконец, достаточно фантазии, чудесной фантазии, чтобы мысленно унестись далеко за пределы Клайда[233] и Туида[234].
И Жак улыбнулся, закрывая остроумное сочинение. Поскольку многочисленные заботы не позволяли ему побывать во Франш-Конте, он решил отправиться в Шотландию. Так состоялось это путешествие, которое, впрочем, чуть было не сорвалось.
В июле 185… года самый близкий друг Жака — Жонатан Савурнон, композитор с весьма тонким вкусом и изысканными манерами, вдруг озадачил его:
— Дорогой Жак, некая английская компания предоставляет в мое распоряжение один из своих пароходов, перевозящих грузы из Сен-Назера[235] в Ливерпуль и обратно. Могу взять с собой одного пассажира, не хотел бы составить компанию?
Жак едва не задохнулся от восторга. Ответ замер у него на губах.
— А из Ливерпуля мы отправимся в Шотландию, — продолжал Жонатан.
— В Шотландию! — воскликнул Жак, к которому вернулся дар речи. — В Шотландию! А когда мы едем? Я успею докурить сигару?
— Спокойно, спокойно! — отвечал Жонатан. Его более уравновешенный характер контрастировал с бившим через край темпераментом друга. — Мы ведь еще не развели пары.
— Ну а все-таки, когда же едем?
— Через месяц, примерно между тридцатым июля и вторым августа.
Жак едва не задушил в объятиях приятеля, который принял это как человек, вполне привыкший к артиллерийским залпам оркестра.
— А теперь, дружище Жонатан, не скажешь ли, откуда на нас свалилось такое счастье?
— Все очень просто.
— Ну конечно! Просто, как все гениальное.
— Мой брат состоит в деловых отношениях с этой компанией, — сказал Жонатан. — Он регулярно фрахтует суда для перевозки товаров в Англию. Раньше эти пароходы, специально оборудованные, брали на борт также и пассажиров. Но теперь предназначаются исключительно для торговых перевозок — и мы окажемся единственными путешественниками на борту.
— Единственными! — подпрыгнул от радости Жак. — Нас станут принимать за принцев, странствующих инкогнито[236], под вымышленными именами, как это принято в кругу коронованных особ! Я возьму титул графа Северного, как Павел Первый[237], а ты, Жонатан, станешь господином Корби, подобно Луи-Филиппу![238]
— Как тебе будет угодно, — улыбнулся музыкант.
— А как называются эти пароходы? — Казалось, Жак уже видел себя на борту.
— Их у компании три: «Бивер», «Гамбург» и «Сент-Эльмонт».
— Ах, какие названия! Какие замечательные названия! А суда эти с винтом? Если да, мне больше нечего просить у неба!
— Понятия не имею, да и какая разница?
— Какая разница?! Не понимаешь?
— Совершенно искренне говорю: не понимаю.
— Ну нет, друг мой, я тебе ничего не скажу! До таких вещей надо доходить самостоятельно.
Вот так началось это памятное путешествие в Шотландию. Энтузиазм Жака легко понять, потому что раньше ему никогда не доводилось выезжать из Парижа, этой противной дыры. С того самого дня все существование Жака наполнилось именем, ласкающим слух: Шотландия. Впрочем, он не терял ни минуты. Английского языка молодой человек не знал и принял все меры предосторожности, чтобы, не дай бог, случайно не выучить, — желая сражаться парой слов с одной мыслью, как сказал Бальзак. Зато Жак перечитал на французском все книги Вальтера Скотта, которые у него были; Антикварий[239] провел его по домам лоулендских семей;[240] конь Роб Роя[241] увлек в стан мятежных горцев, и голос герцога Аргайла[242], доносившийся из эдинбургской темницы, заставлял сжиматься сердце парижанина. Очень насыщенным получился этот месяц июль, но часы тянулись для Жака как дни, а минуты — как часы. По счастью, его друг Чарлз Диккенс[243] доверил своего благодарного читателя заботам честного малого Никклби[244] и добрейшего мистера Пиквика[245], близкого родственника философа Шенди[246]. Они посвятили Жака в тайное тайных существования различных каст английского общества. И если уж быть совсем откровенными, скажем, что господин Луи Эно[247] и господин Франсис Вей[248] опубликовали свои труды об Англии единственно из желания сделать приятное Жаку. Таким образом, как мы видим, у молодого человека были отличные советчики. Чтение увлекательных описаний повергало его в эйфорию, и он подумывал уж, не сказаться ли членом Географического общества. Нужно ли уточнять, что карту Шотландии в атласе Мальтбруна[249] понадобилось заменить — она светилась как кружево, вся пронизанная лихорадочными уколами его циркуля.
Глава II
А ПАРОХОДА ВСЕ НЕТ
Прибытие одного из пароходов в Сен-Назер было намечено на 25 июля. Жак все тщательно рассчитал: он мысленно отвел достойному судну неделю на выгрузку товаров и погрузку новых, — стало быть, отплытие должно состояться не позднее 1 августа. Жонатан Савурнон, у которого в душе все пело, вел регулярную переписку с господином Донтом[250], директором ливерпульской компании, используя для этого свое скромное знание английского языка. Вскоре он сообщил Жаку, что в их распоряжение предоставлен «Гамбург» — судно из Данди под командованием капитана Спиди[251]. Корабль только что покинул Ливерпуль и взял курс на Францию.
Торжественная минута приближалась. Жак потерял покой и сон; наконец наступило долгожданное 25 июля. Но, увы! «Гамбург» задерживался! Жаку не сиделось на месте; вообразив, что английская компания нарушила все свои обязательства, он заявлял уже, что ее следует объявить банкротом! Нетерпеливый юноша уговорил Жонатана немедленно отправиться в Нант и Сен-Назер обозревать французское побережье.
Жонатан выехал из Парижа 27 июля, а Жак, в ожидании вызова, поспешил закончить последние формальности.
Прежде всего, нужно было получить заграничный паспорт; Жаку пришлось искать двух свидетелей, готовых поручиться за его моральные качества перед комиссаром полиции. Тогда-то он и завязал знакомство с кондитером, что на улице Вивьен, и булочником из пассажа[252] Панорамы. В тот период между этими уважаемыми гильдиями разгорелась страшная ссора по поводу эклеров и саварэнов[253], изготовлением которых булочники наносили ущерб кондитерам. И как только соперники сошлись лицом к лицу, то принялись осыпать друг друга бранью на особом, присущем только месильщикам теста жаргоне. Жаку пришлось вмешаться, пригрозив вызовом полицейских, которых, по причине своей англомании, он именовал полисменами. Наконец оба свидетеля благополучно прибыли к шерифу… то бишь комиссару полиции, где предостойнейшие коммерсанты и поручились за моральные качества Жака, никогда ничего не укравшего из их лавок. Жак получил разрешение внести десять франков в государственную казну, приобретя тем самым право путешествовать вне Франции; потом отправился в префектуру Сены[254] к лорд-мэру[255] и мужественно востребовал паспорт для поездки на Британские острова. Особые приметы путешественника были занесены в книгу старым, почти ослепшим служащим, которого прогресс цивилизации заменит когда-нибудь фотографом. Жак вручил паспорт некоему любезному господину, и тот за два франка пообещал достать визы и необходимые разрешительные документы в соответствующих канцеляриях; он оказался настолько добр, что собственноручно передал в руки Жаку столь важные бумаги, выправленные по всей форме.
Молодой англоман с трепетным волнением облобызал паспорт; ничто более не удерживало его. В субботу утром он получил письмо от старины Жонатана: «Гамбург» еще не появился на горизонте, но мог прибыть в ближайшие часы.
Жак отбросил последние сомнения; ему не терпелось уехать из Парижа с его насыщенной аммиачными парами атмосферой, с его зеленеющими весенней листвой скверами, с его девственно чистым парком, только что высаженным вокруг площади Биржи, где беспрестанно сновали верные Джафары всемогущего Гарун-аль-Ротшильда[256].
Жак застегнул чемодан, битком набитый всевозможными совершенно не нужными в дороге вещами, натянул на зонтик клеенчатый чехол, закинул за плечо дорожный плед с изображением желтого тигра на красном фоне, надел картуз, верный спутник заядлого туриста, и вскочил в стоявший неподалеку фиакр[257].
В полном соответствии с основными законами механики фиакр доставил Жака к Орлеанской железной дороге. Взяв билет и зарегистрировав багаж, предусмотрительный путешественник разместился в головном вагоне поезда, чтобы хоть этим сократить расстояние и как можно раньше прибыть в пункт назначения. Зазвонил колокол; паровоз засвистел, издал некое подобие ржания и тронулся с места — под аккомпанемент хриплой шарманки, наигрывавшей на Понт-Остерлиц мелодию «Miserere» из «Трубадура»[258].
Глава III
ДРУЗЬЯ ПОСЕЩАЮТ НАНТ
Жак отбыл накануне в 8 часов вечера, а уже на следующее утро он, едва лишь сойдя с поезда в Нанте, быстрым шагом направлялся к Жонатану Савурнону; разбудить последнего удалось только через пару часов.
— Ты спишь! — вскричал он. — Ты все спишь! А «Гамбург» еще не прибыл.
— Друг мой, — произнес Жонатан, — собери все свое мужество.
Парижанин вздрогнул.
— Что такое? Говори же!
— «Гамбург» не придет в Сен-Назер.
— Это еще что за новости?
— Вот письмо господина Донта. — И Жонатан протянул бумагу, казавшуюся сейчас похоронкой.
— Полно, ты в этом уверен? Правильно ли ты разобрал этот несчастный английский?
— Слушай, Жак, «Гамбург», выйдя из Ливерпуля, должен завернуть в Глазго, чтобы пополнить груз; вот уже разница в несколько дней…
— Но потом-то он вернется?..
— Безусловно: к четвертому или пятому августа он, вероятно, уже будет в…
— …Сен-Назере?
— Нет! В Бордо.
Жак вздохнул:
— Ну что ж! Поехали в Бордо! Пароходы отходят отсюда в Бордо два раза в неделю. Нельзя терять ни минуты!
— Спешка ни к чему, — сказал Жонатан.
— А если прозеваем «Гамбург»? Учти, он нас ждать не станет! Да и не пытайся меня переубедить, это бесполезно. В путь! Море прекрасно!
Жонатан поморщился — величие моря всегда его немного пугало, но, в конце концов, поскольку до Шотландии посуху не добраться, пришлось смириться с перспективой подготовительного броска из Нанта в Бордо.
Судно отплывало лишь во вторник, с вечерним отливом. Друзья пошли за билетами в порт, куда вела набережная с весьма поэтическим названием: Ров[259]. В кассе сообщили, что через три дня два парохода: колесный «Граф д’Эрлон» и винтовой «Графиня де Фрешвиль» — отбывают в Бордо.
Жак, естественно, предпочел «Графиню», но, узнав, что «Граф» поднимает якорь часом раньше, переменил решение. Ему заметили, что у «Графини» выше скорость, но Жак стоял на своем.
— Для меня не так важно доплыть скорее, — пояснил он, — важно просто уплыть!
Жонатану, склонявшемуся в пользу «Графини», пришлось уступить.
Воскресенье, понедельник и дневные часы вторника тянулись бесконечно долго; друзья пытались убить время, бесцельно бродя по городу; но время в Нанте тягуче, и справиться с ним нелегко. Тем не менее жизнь порта, прибытие с каждым приливом бригов, шхун, «бугров»[260] и «сардинщиц»[261] вызывали приступы восторга у Жака и тошноты у его друга. Первого тянуло к верфям, с которых сходили в изрядном количестве прекрасные модели клиперов[262]. Жонатану понадобилось все его красноречие, чтобы уговорить друга отправиться на поиски какого-нибудь памятника прошлого — или современности. Зaмок герцогов Бретонских, часовня королевы Анны[263], в которой она обвенчалась с Людовиком XII, произвели на Жонатана сильное впечатление; он отдал должное мудрости и рачительности городских властей Нанта, восстановивших почтенные руины: верхняя галерея часовни была целиком отделана заново красивым белым камнем.
— Мне кажется, — сказал Жонатан, — что эти масоны[264] нашли довольно смелое решение…
— Хотя твоя мысль не совсем точно выражена, — ответил Жак, — но слово «масоны» очень кстати. Что ж, продолжим археологическое турне!
Жак и Жонатан добрались до собора, который местные реставраторы пощадили. Правительство вело восстановительные работы вот уже лет двенадцать — подобная медлительность объяснялась нехваткой средств. В принципе памятник не представляет особой ценности; однако неф[265] его, очень красивый, отличается удивительной высотой: ребристые опоры несут на своих тонких гранях переплетающиеся вверху узоры сводов. Опоры, выполненные с особой смелостью, и окна южного фасада являют собой великолепный образец пламенеющей готики XIV века, которая предшествовала искусству эпохи Возрождения. Заслуживает внимания и высоченный портал[266] — замечательная страница, с великолепием исписанная иероглифами средневековья, не уступающими по художественной ценности аистам и ибисам Древнего Египта.
Друзья провели в соборе несколько часов и нисколько об этом не жалели.
Оценив памятники средних веков, они решили взглянуть и на творения современных архитекторов, что оказалось нелегко; театр и биржа были уже в преклонных летах, а Жонатану хотелось составить суждение о нынешних вкусах главного города Нижней Луары. И его желание было полностью удовлетворено.
В конце длинной улицы он заметал здание с массивным фасадом.
— Что это может быть?
— Это… — изрек Жак, — это памятник!
— Какой именно?
— Театр! Впрочем, не удивлюсь, если он окажется биржей, при условии, конечно, что это не вокзал.
— Весьма сомнительно.
— Ну и дурни же мы! Да ведь это просто-напросто Дворец Правосудия![267]
— С чего ты взял?
— С того, что тут так написано золотыми буквами!
Действительно, архитектор — безусловно ловкий человек — обозначил свое творение, уподобившись художнику Орбанга, который, нарисовав петуха, надписывал сверху: сие есть петух. Впрочем, Дворец Правосудия мало чем отличался от других современных строений. Жонатан и не стал бы его разглядывать, не будь особого предназначения лестницы, которая шла от фасада к залу ожидания. По замыслу зодчего по ней должна подниматься — нет, не публика, а полдюжина колонн; задаешься вопросом: куда колонны маршируют? Ну конечно же в суд присяжных — и они действительно заслуживают того, страдалицы! Однако, взобравшись на верх лестницы, они не могут проникнуть в зал, поскольку несут на себе арку моста, а под ней — и статую Правосудия, фигурой напоминающую даму на средних месяцах беременности!
Все это парижанам удалось узреть за три дня; они добросовестно исполнили намеченное, и вот наконец наступил вечер вторника.
Глава IV
ПЕРВЫЕ МИНУТЫ НА БОРТУ
На набережной Рва толпился народ; над обоими судами уже вились клубы дыма. «Графа» и «Графиню» сотрясала дрожь — от форштевня[268] до ахтерштевня[269]. Часы на бирже пробили шесть.
Жак и Жонатан находились уже на борту; они разыскали место, где им предстояло провести ночь. Жак не мог сдержать чувств; он бегал взад и вперед, временами нервно смеясь, потом садился, сноса вскакивал — и так десятки раз, он перегибался через релинги[270] и с волнением вглядывался в водяные струи, затем мчался взглянуть на паровую машину, котел которой мощно клокотал. Он приходил в восхищение при виде могучих цилиндров, пока еще неподвижных поршней, потом возвращался на корму, вставал за штурвал и уверенно клал на руль руку. Его распирало желание перекинуться хоть парой слов с капитаном «Графа д’Эрлон», однако тот торопился закончить погрузку, что удалось (заметим ради справедливости) лишь в восемь часов вечера.
Жонатан был более сдержан, воспринимая происходящее несколько иначе; он полагал, что провести на корабле целые сутки — не большое удовольствие.
— А вдобавок, — повторял он, — считаю, нет большей глупости, чем ехать в Шотландию через Бордо! Это же абсурд!
— Ну почему же? — парировал Жак. — Все дороги ведут в Рим! Эта пословица наверняка родилась в Пьемонте.
Наконец все уже были на борту, капитан дал сигнал; колеса «Графа» завертелись, и корабль, развернувшись, подхваченный течением, быстро покинул порт, избегая столкновений с многочисленными судами.
У Жака вырвался вздох — вздох удовлетворенного человека.
— Ну наконец-то! — воскликнул он.
Добрая дюжина лье отделяет Нант от Сен-Назера, расположенного в устье Луары. Плывя по течению, это расстояние легко можно покрыть за несколько часов. Но во время отлива на реке появляются мелководные участки уже неподалеку от города, проход между ними узок и извилист. Отплыви «Граф д’Эрлон» с началом отлива — об угрозе сесть на мель не могло бы быть и речи; но он задержался, и по виду капитана легко было догадаться о его сомнениях благополучно миновать банку[271] близ Эндрe.
— Как только пройдем ее, — говорил он, — я гарантирую полный порядок.
Жак взирал на него с восхищением. «Вот настоящий морской волк», — думал он.
— Итак, когда же мы прибудем в Бордо?
— Завтра вечером!
Корабль хотя и не отличался быстроходностью, но благодаря течению продвигался резво. На выходе из нантского порта Луара становится величественно широкой. В этом месте она образует восемь или девять рукавов, желтоватые струи которых рассекаются опорами мостов, растянувшихся на доброе лье. Слева мирно раскинулись остров и деревня Трантмульт, жителей которой отличает особая внешность, а также приверженность древним обычаям; в частности, говорят, браки они заключают только между своими. Справа в вечерней дымке высоко возносилась стреловидная колокольня Шантеней. Наши друзья едва смогли различить расплывчатые контуры прибрежных холмов; так же они проскочили мимо Рош-Мориса и Верхнего Эндра. Затем глухой шум, черная туча, нимало не похожая на обычные облака, огненные сполохи, вырывавшиеся из высоких заводских труб, и воздух, насыщенный запахами битума и угля, — все это возвестило о приближении к Эндре и Нижнему Эндру.
Эндре, где когда-то отливали пушки, впоследствии было переоборудовано в государственный завод по изготовлению паровых машин. Пригорок, возвышающийся в этом месте на левом берегу реки, довольно высок, и с него открывается вид на близлежащие деревенские просторы. Но Жак мало думал в тот момент о суше. Приближалась опасная песчаная коса; капитан, расположившись на мостике, перекинутом между двумя кожухами, внимательно следил за продвижением судна. Машина замедлила ход, из открытых клапанов со свистом вырывался пар. Жак испытывал такое волнение, как если б находился перед рифами Ваникоро[272]. Внезапно послышался довольно сильный скрежет. Киль «Графа» чиркнул по песку, и колеса с удвоенной энергией понесли его прочь от опасного мелководья.
— Мы спасены! — вскричал Жак.
— Да уж, — отвечал капитан, — но еще получасом позже нам бы не пройти! А теперь мы вне опасности.
— Слышишь, Жонатан, мы вне опасности!
— В таком случае пошли забираться в постель, — отвечал Жонатан, — причем заметь, что слово «забираться» я употребил в прямом смысле: сейчас нам предстоит протискиваться, как в ящик комода.
— Так в этом-то и состоит вся прелесть, Жонатан!
Друзья спустились в салон, где уже расположились несколько пассажиров. Вдоль стен салона стояли красные кушетки; кое-где виднелись широкие ниши, в которые нужно было вползти, чтобы заснуть под скрип деревянных панелей и похрустывание обшивки.
Час спустя резкий толчок вышиб наших приятелей из ниш, и Жонатан вдруг оказался сидящим на голове старого моряка, растянувшегося на нижней кушетке. Впрочем, сей достойный сын Амфитриты[273] не пробудился и даже не пошевелился.
— Что случилось? — вскричал Жонатан, вскакивая с нового, довольно неудобного сиденья.
— Пароход задел дно, — выдохнул Жак.
— Мы сели на мель! — раздались голоса снаружи.
— Проклятье! — изрек капитан, выбегая из каюты. — Это уже на всю ночь! Сняться сможем лишь с приливом.
— Замечательно! — обронил Жонатан. — Полсуток опоздания.
Жак выскочил на палубу; «Граф» основательно застрял в песке и накренился на левый борт — этот сугубо технический термин согрел Жаку сердце, в глубине души не ощущавшему ни малейшего неудовольствия от того, что случилось.
Капитан, радуясь, что удачно проскочил Эндре, совсем забыл про песчаную косу у Пелльрена. На таком мелководье нечего было и думать о том, чтобы попытаться сняться с мели до утреннего прилива. Поэтому капитан дал приказ несколько притушить топку, и все оказалось окутанным клубами пара. В ночной мгле едва угадывались берега. Жак задержался было на палубе, тщась разглядеть что-либо во мраке, но тут же поспешил вслед за спутником, который уже забрался на ложе. Старый моряк, которого он старательно обогнул, продолжал крепко спать.
Глава V
МОРСКАЯ БОЛЕЗНЬ ЖОНАТАНА
В августе солнце встает рано, но Жак пробудился еще раньше. В четыре часа он поднялся на палубу, волоча за собой бедного композитора, который таращил глаза, не испытывая никакого восторга от необходимости вскакивать в такую рань. По просьбе Жака им принесли две чашки кофе, увы, сомнительного качества.
— Чудесно, — заметил Жак, в то время как спутник его морщился при каждом глотке. — Наилучший кофе, без сомнения, — это смесь мокко[274], бурбона[275] и рио-нуньеса, но не стану хулить и этот, наверняка полученный из многолетнего растения, имеющего корень веретенообразной формы, семейства цикориевых.
— Ты всегда выкрутишься со своими научными терминами! — отвечал Жонатан.
— Ну это уже кое-что! Впрочем, я не привередлив, и во время путешествия все мне кажется прекрасным!
Часам к шести вода стала заметно прибывать, и через некоторое время «Граф д’Эрлон» оказался на плаву; теперь уже не страшны были никакие мели. На хорошей скорости он устремился вниз по Луаре и вскоре миновал Пембёф, главный город крупного округа, а затем и Донж, небольшую живописную деревушку, старая церковь которой так хорошо смотрится на берегу широкой реки. Вдали показался Сен-Назер в глубине рейда, и вот уже пассажиры приветствовали этот юный порт, которому жители Нанта родом из Руана мрачно пророчат удивительно беспокойную судьбу Гавра. Целый лес мачт вздымался над грудами земли и строительных материалов, окружавшими закрытую гавань. На западе небо пересекала горизонтальная линия воды — там начиналось море.
Жак, не удержавшись, захлопал в ладоши и перечислил все его мифологические синонимы. Погода стояла отличная, и не будь постоянных, вызывающих подташнивание, пологих волн мертвой зыби[50 - Мертвая зыбь — длинные и пологие волны, распространяющиеся в море при полном безветрии; образуются либо в результате выхода ветровых волн в область отсутствия ветра, либо из ветровых волн после прекращения ветра.], Жонатан чувствовал бы себя превосходно. Вскоре колокол пригласил пассажиров к завтраку, и все спустились в салон.
Трапеза оказалась такой, какой она бывает обычно на борту парохода; вкусные блюда из довольно свежих продуктов понравились, кажется, всем. Что касается Жака, он прямо-таки набросился на еду, мигом проглотив ее. Он даже заказал изрядное количество поджаренных сардинок, которых капитан предложил продегустировать парижским гурманам.
— Эти сардины выловлены прямо тут, за бортом, и вы таких нигде больше не найдете!
— Замечательно, — подхватил Жак, — можно сказать, слюнки текут, если вам это доставит удовольствие!
Покончив с завтраком, наши друзья вновь поднялись на палубу, где старый моряк в это время приступил к повествованию о своих походах.
Дул попутный ветер; капитан приказал поднять паруса, назвав их поэтично фоком[276] и бизанью[277], что привело Жака в восторг. Несколько пассажиров оставались в этот момент внизу, в салоне; когда приборы убрали, они затеяли партию в безик[278], страшную игру, заметно способствовавшую снижению интеллектуального уровня населения. Впрочем, люди эти, казалось, принадлежали к светскому обществу, и временами до верхней палубы долетали образчики изящной словесности типа:
— Восемьдесят пашей, сорок лакеев, шестьдесят мерзавок!
Все это приводило Жака в ярость, так как мешало ему наслаждаться встречей с Атлантикой.
Остались за горизонтом опасные подводные камни, рассеянные при устье Луары. Исчезли под водой скалистые гребни рифов, называемых «Плотниками»; остров Нуармутье утопал в лучах солнца; установленный на палубе тент защищал пассажиров от жары. Жак, изображая бывалого мореплавателя, презирающего такие меры предосторожности, во что бы то ни стало решил загореть и растянулся в баркасе, подвешенном к борту. Склонившись над пенящимися волнами, ощущая на лице соленую влагу и не испытывая ни малейшего признака морской болезни, он был всецело поглощен тем, что видел, слышал и думал; впрочем, ему не верилось в эту болезнь, что является верным способом избежать ее.
А вот Жонатан, далеко не ощущавший подобного восторга, чувствовал себя неважно; пищеварение его было затруднено; композитор не был моряком ни душой, ни телом. Он судорожно цеплялся за снасти, лицо его покрывала бледность, странный спазм сжимал виски. Парижанин мысленно возносил страстные молитвы Матери Божьей Утоли моя тошноты. Вдруг он ринулся к корме, наклонился над бортом, и кипящий след от корабля унес тайну его страданий.
Жак громко расхохотался, и у бедняги Жонатана даже не хватило сил рассердиться.
— Вообще-то, — сказал он срывающимся голосом, и глаза его увлажнились, — вообще-то мне это на пользу! Это очищает!
Часам к двум справа на горизонте показался остров Дьё. Капитан шел между ним и сушей и даже взял поближе к нему в надежде, что местные рыбаки продадут омаров. Одна или две лодки под красными парусами отошли от берега, но сближаться с кораблем не стали, к великому огорчению повара, — вчерашнее сидение на мели истощило запасы продовольствия, и тот опасался, что до Бордо не хватит продуктов.
— Не важно, — заявил неунывающий капитан, — завтра мы наверняка бросим якорь в Гаронне!
Жак отнесся с искренним восхищением к подобной дальновидности моряка, способного предвидеть момент окончания столь длительного плавания. Когда корабль проходил мимо юго-восточной оконечности острова Дьё, ветер донес до ушей Жака жалобную мелодию; он бросился к другу, оторвав его от мрачных размышлений.
— Жонатан, сюда! Послушай только! Бриз наполнен музыкой сфер! Иди же! Мы подслушаем с тобой одну из этих наивных песен, что рождаются среди морей!
Жонатан не смог устоять перед лирическим настроем; он уловил, как ветер доносил чудную мелодию Атлантики, и готовился было занести в свой путевой блокнот ее едва различимые узоры. Тут он прислушался тщательнее: деревенская виелла[279] играла «Il balen del suo sorriso»[280] из «Трубадура».
— Как странно и даже обидно, — произнес Жак, — а что ты думаешь по этому поводу?
— Думаю, что это раза в два усугубит морскую болезнь.
И Жонатан вернулся на свой наблюдательный пост.
Когда шли мимо Сабль-д’Олонн, зазвонил колокол к обеду; пара мест, однако, осталась незанятой, в том числе место Жонатана. Корабельный кок всегда в какой-то мере рассчитывает на подобные неявки, и не будем пенять ему за это. Вечером ветер посвежел; повернув к югу, капитан приказал свернуть паруса, и на корабле, плывшем теперь скорее по воле волн, началась отвратительная бортовая и килевая качка. Жонатан, не в силах оставаться в каюте, где чувствовал себя еще хуже, закутался в дорожный плед и как истинный философ улегся прямо на палубе; что до Жака, тот с сигарой в зубах прогуливался, широко расставляя ноги, дабы не потерять равновесия, как настоящий морской волк. А на плывущий пароход опустилась пелена ночи.
Глава VI
В ШОТЛАНДИЮ — ОКОЛЬНЫМ ПУТЕМ
Вскоре все стихло. На палубе остались лишь четверо: вахтенный, рулевой, старый моряк и наш друг Жак.
Двое последних разговорились: беседа с морским волком показалась парижанину поучительной, во всяком случае, очень интересной. Он обратил внимание Жака на маяки островов Ре и Олерон, освещавшие берег на два или три лье при ветре. Жак не мог оторвать глаз от огней, то неподвижных, то вращавшихся; усиленные линзами из флинтгласа[281] лучи скользили далеко по волнам.
К полуночи Жака потянуло ко сну и он отправился спать, но с восходом солнца был опять на ногах и отсалютовал, вместе с Жонатаном, Кордуанской башне[282], открывающей вход в Жиронду, устье которой достигает ширины морского пролива. Пассажиры приободрились, качка заметно ослабла.
— Для реки, текущей по Бордо, — говорил Жак, — она, на мой взгляд, слишком спокойна.
В восемь утра к «Графу д’Эрлон» подплыл баркас с лоцманами. Один из них поднялся на борт, а его товарищи отправились встречать другие суда.
Лоцман оказался маленьким подвижным человеком, не лишенным изящества, энергично жестикулирующим, постоянно что-то объясняющим; чисто южный темперамент бил в нем ключом. Он очень понравился Жонатану, настроение которого улучшалось. Бордоский акцент лоцмана благотворно подействовал на парижанина. Опирался ли вновь прибывший на поручни или же склонялся над планширем[283], — поза его была полна очарования и говорила о незаурядной пластичности. Быстрые междометия слетали с губ гасконца, а белые зубы обнажались в обворожительной улыбке.
Поднявшись на борт, лоцман сразу же взял на себя управление судном, и капитан оказался вроде как не у дел. Но между ними завязался серьезный диалог, позволявший сделать весьма неутешительный прогноз.
— Вода давно уже уходит, — говорил гасконец.
— Ну уж! — возражал капитан. — У нас еще есть время.
— Не скажите.
— Надо только прибавить ходу.
— К сожалению, мы идем против ветра.
— Ну-ну! Вот увидите, проскочим, уж не беспокойтесь.
«Что это мы проскочим, а скорее всего не проскочим?» — спрашивал себя Жонатан и в конце концов поделился тревожными предчувствиями с Жаком.
— Послушай, — заявил тот, — капитан же сказал, что через несколько часов мы будем в Бордо! Будь он гасконцем, я б ему не поверил. Но он бретонец, и на него можно положиться.
Часом позже бедняга Жонатан от толчка кубарем покатился по палубе, а «Граф д’Эрлон», увязнув в илистом дне Жиронды, замер недвижимо, как Земля до Галилея.
— Это часов на шесть, — заметил лоцман.
— Тьфу ты, пропасть! — отреагировал капитан.
— Ну как, проскочили, а, дружище Жак?
— Пошли лучше завтракать!
Ни один пассажир не пропустил утренней трапезы; от морского воздуха у всех разыгрался волчий аппетит. К тому же принятие пищи позволяло скоротать время. Кок и капитан, изменившись в лице, переглянулись. Со времени отплытия из Нанта прошло полтора суток, а путешествие было рассчитано на сутки. Учитывая обстоятельства, проблематичный завтрак грозил начисто перечеркнуть перспективу обеда.
— Как ты думаешь, Бордо действительно существует? — обратился к другу Жонатан с грустной улыбкой.
— Не знаю, существует ли Бордо, но готов поклясться, что бордосцы и бордоские вина существуют. Пошли же завтракать!
Судовой кок, очевидно, не был обделен находчивостью и воображением. Он ухитрился добавить во все блюда, сдобренные каким-то соусом с неведомыми приправами, нечто совсем непонятное. К счастью, в его распоряжении имелось достаточно вина, которым он подкрасил мутноватую воду, прогревшуюся в трюме. Короче, пассажиры откушали с аппетитом, не задумываясь о предстоявшем обеде. Некоторые тут же поднялись на палубу, а кое-кто вновь засел за нескончаемый безик.
Жиронда в этиминуты являла собой любопытную картину: правый берег просматривался с трудом, но на левом взор путешественников радовал обширный полуостров, омываемый с разных сторон рекой и океаном. Солнечные лучи в этих местах дают жизнь чудесным сортам медокского винограда.
В три часа начался прилив, огонь в топке быстро развели, и вскоре колеса пришли в движение — пароход снялся с мели. Коротыш лоцман вернулся на свой наблюдательный пост рядом с рулевым, помогая тому лавировать среди изгибов фарватера. Немного спустя показалась крепость Блай, знаменитая свершившимся там актом большого политического значения — родами, которые вывели июльское правительство из затруднительного положения[284]. Сама крепость кажется довольно небольшой, соседний пляж — сухим, неприветливым, безжизненным, начисто лишенным тени. Без сомнения, сокровища, даруемые небом, достаются другому берегу, где пышно произрастает лоза «Шато-Марго» и «Шато-Лаффит». Потом взору открылся Пойак — главный пункт отгрузки медокских вин. Мол, довольно далеко выступающий в реку, позволяет приставать крупным судам. По мере приближения к городу Жиронда сужается. Течение (кстати, более мощное, чем в Луаре, где оно подавлялось приливом) теперь, к счастью, приходило на помощь пыхтевшей паровой машине, которая временами совсем выбивалась из сил.
— Да, легкие у нее неважные, — заметил Жак, — боюсь, как бы ей не остаться без угля…
— Не говори так, — взмолился Жонатан, — этого еще недоставало! И вообще, подумать только: путешествие в Шотландию начинается с захода в Бордо!
Наконец наступило время обеда. Пассажиры ринулись в салон с недобрым предчувствием — все расселись, развернули салфетки, протянули тарелки капитану, сидевшему во главе стола, — и получили на первое какую-то мерзко пахнущую жидкость; если это и можно было назвать супом, так только потому, что подали его в начале обеда; в конце же это нечто пошло бы за помои. В тот грустнопамятный день закончил свое бренное существование судовой кот; мясо его приготовили с небывалым количеством специй. Злопамятное животное, однако, отыгралось за свою преждевременную смерть на желудке бедняги Жонатана, которому, наверное, достались когти. Но в чем капитан «Графа д’Эрлона» превзошел самого себя, так это в краткой речи перед десертом.
— Господа, — заявил он, угощая голодных пассажиров последними сардинками, — я не могу завершить наш краткий рейс, не предложив вам отведать руайанов, выловленных прямо в Жиронде.
— Каких еще руайанов?! — возопили в один голос пассажиры. — Да это же обыкновенные сардины!
— Господа, вы заблуждаетесь! Это самые настоящие и, добавлю, преотличнейшие руайаны.
Все почли за благо скорее проглотить рыбешек, не тратя времени на дискуссии. Но Жак весьма логично заключил, что в Бордо сардины называются руайанами, а руайаны в Нанте — сардинами. Капитан же предстал в его глазах гасконцем, плывущим против течения по Гаронне!
Глава VII
СТОЯНКА В БОРДО
На горизонте появился длинный шлейф дыма. Он тянулся от парохода, который быстро догонял «Графа д’Эрлона» и приближался буквально на глазах. Высокая скорость достигалась за счет мощной, ровной работы винта; паруса были заботливо привязаны к реям; общее впечатление красоты и стремительности казалось ни с чем не сравнимым.
— Прелестное судно! — восхитился Жак. — Идет куда лучше нас! Хотел бы я знать его название, чтобы занести в дорожный дневник.
Такая счастливая возможность ему вскоре представилась; наведя лорнет на левый борт красавца корабля, Жак отчетливо разглядел: «Графиня Фрешвиль».
— «Графиня»! — воскликнул он.
Да, это действительно была она — отплыв из Нанта на полсуток позже «Графа», судно имело все шансы финишировать в Бордо на полсуток раньше.
— Решительно, «Графиня» ловчее, — начал было Жонатан, — какая резвушка! Не зря я хотел довериться именно ей!
Невинная шутка эта была, однако, пресечена царапанием когтей проглоченного за обедом кота.
Между тем глазам путешественников предстал один из прекраснейших видов Жиронды. Приближался Бек д’Амбес, где Дордонь и Гаронна сливаются, образуя Жиронду.
Красавцы деревья с пышными кронами раскиданы тут по всем берегам. Обе реки мирно уживаются на первой стадии совместной жизни; у Бек д’Амбеса их еще озаряет сияние медового месяца, лишь ниже по течению, у самого океана, между ними, как у пожилой супружеской четы, вспыхивают ссоры и вздымаются их рассерженные волны.
Сгущались сумерки. Пассажиры, с нетерпением ожидавшие прибытия, столпились на носу корабля. Взгляды их устремлялись к излучинам реки, и с каждым новым изгибом всеобщее недовольство росло.
— Это просто невозможно! Какая глупость! Так нам не добраться и к ночи! Вот уже двое суток, как мы сидим взаперти на этой проклятой посудине!
Одни взывали к капитану, другие расспрашивали помощника, третьи требовали лоцмана, а тот посматривал на всех и насмешливо щурился.
Прошло еще два часа, два часа смертельной скуки. «Граф д’Эрлон» боролся с ветром и волнами. Наконец по правому борту замелькали какие-то огоньки; на левом берегу показались дымящиеся заводские трубы. В вечерней мгле вырисовывались силуэты судов, стоящих на якоре. «Граф» огибал скалистый берег, подножие высокого холма, вдоль которого ехал свистящий парижский поезд. Вдруг послышался грохот падающей цепи, и корабль внезапно остановился. Из котла вырывался пар, по устало замершим лопастям колес покатились последние капли воды. «Граф д’Эрлон» стал на якорь.
— Наконец-то! — воскликнул Жак.
— Приплыть-то приплыли, но где же Бордо? — раздались голоса.
— Мы находимся в Лормоне, — спокойно объявил капитан, — в одном лье от Бордо. К причалу подойдем завтра утром.
С ворчанием и проклятьями пассажиры направились к ненавистным койкам.
Поскольку, однако, всему когда-либо приходит конец — даже рейсу «Нант — Бордо», — на следующее утро корабль действительно причалил к берегу, прямо напротив таможни, и наши путники, доверив чемоданы самому голосистому носильщику, направились в портовую гостиницу «Нант».
Провести на борту «Графа д’Эрлона» двое с половиной суток, чтобы оказаться в пятистах километрах к югу от Парижа!
— Хорошенькое начало для путешествия на север! — заметил Жонатан.
Нетрудно догадаться, какая забота глодала Жака все время, что плыли от Лормона, — он пожирал глазами бесчисленные суда, бросившие якорь посреди реки: среди них должен быть «Гамбург»! Если только, конечно, тот уже не ушел за это время, будь оно трижды проклято! Какой чудовищной несправедливостью было бы увидеть его летящим на всех парах к Ливерпулю, пока «Граф д’Эрлон» боролся с течением Жиронды!
Как только багаж принесли в гостиницу, Жак поспешил вернуться в порт, увлекая за собой верного спутника. На все их расспросы о судах, прибывших и отплывших в последние сутки, таможенник, очень любезный служащий, дал им исчерпывающий ответ: «Гамбург» не проходил ни по графе «Прибытие», ни по графе «Отплытие».
— Не хватало только одного! — Голос Жака дрожал.
— Это чего же, скажи на милость?
— Чтобы «Гамбург» отправился на погрузку в Сен-Назер вместо Бордо!
— О, это было бы ужасно! Но мы-то знаем, что делать: для начала пойдем к одному моему бордоскому приятелю, честнейшему малому, затем навестим представителя господина Донта, он обрисует положение.
После столь разумных слов не оставалось ничего, кроме как осуществить сказанное.
Итак, осведомившись о дороге, Жак Лаваре и Жонатан Савурнон, взявшись за руки, отправились к улице Корнак.
Глава VIII
НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ
О БОРДОСКИХ ВИНАХ
Утро в пятницу выдалось чудесное. Приятель Жонатана еще спал — его свалила жестокая мигрень после того, как накануне он день-деньской проторчал в порту, ожидая прибытия «Графа д’Эрлона». Тем не менее молодой человек поднялся — и Жонатан представил Жака Эдмону Р., торговцу; нужно ли уточнять, каким видом торговли тот занимался? В Бордо все: адвокаты, нотариусы, брокеры, рантье[285], судебные исполнители, портье и журналисты — решительно все продают вино. У каждого есть небольшой погребок, достаточно полно представляющий бордоское виноделие, и каждый как бы нечаянно отдается этому приятнейшему торговому ремеслу.
Эдмон Р. был истинным сыном Гаронны: черные локоны вились на его крупной голове, лицо говорило об уме. Бордосец отличался находчивостью, предприимчивостью, мужеством, умел все делать и выразить любую мысль; для полноты картины добавим, что он был левшой.
Гостеприимный хозяин принял наших друзей с большими почестями, заявив, что считает своей приятной обязанностью показать им город, но прежде не мешало бы позавтракать. Наконец-то путники очутились перед накрытым должным образом столом и отведали настоящих руайанов!
Эдмон Р. подал знак виночерпию, и на столе появились изящные бутылки с узким горлышком, вместилища чудодейственной жидкости.
Не следует думать, что вино в Бордо пьют как воду: речь идет скорее об очень серьезном ритуале. В частности, Эдмон Р. оказался вынужден остановить Жака в ту самую секунду, когда тот намеревался сделать глоток. Ибо в бокале налито было «Кло д’Этурнель» пятнадцатилетней выдержки, а оно требует почтительного обращения. Сначала Эдмон разлил вино в большие фужеры, наполнив их на четверть. Затем, подавая пример гостям, поднял свой на уровень глаз и погрузил взгляд в рубиновое сияние. «Кло д’Этурнель», заявил хозяин, достаточно крепкое, отличается особым цветом, имеет специфическую консистенцию, аромат и изумительный букет. Тут Эдмон опустил бокал, слегка вращая справа налево, затем, уже быстрее, слева направо, приник к нему носом, которым природа щедро его наделила, и в течение нескольких минут наслаждался пленительными тончайшими ароматами, порожденными предыдущим искусным вращением. Погрузившись в безмолвный экстаз, закрыв глаза, он пригубил наконец сладостный и благодатный напиток, которому годы выдержки придали особую прелесть. Вот так пьют вино в Бордо: к церемонии относятся с благоговением, и позор тому, кто попытается ею пренебречь.
Жак нашел этот обряд очень увлекательным, но не лишенным, впрочем, недостатка: время трапезы затягивалось, а надлежало прежде всего осведомиться о «Гамбурге». И когда Эдмон Р. вызвался показать гостям город, парижанин выразил желание повидаться вначале с представителем господина Донта и отложил знакомство с красотами Бордо. Он даже не взглянул на площадь Кэнконс, заполненную в тот день павильонами какой-то выставки, а поспешил встретиться с нужным для дела человеком.
Тот заявил, что вскоре господин Донт прибудет в Бордо собственной персоной; «Гамбург» же отплыл из Глазго, и его ожидали здесь со дня на день. Жак, несколько разочарованный, позволил Эдмону Р. вести себя куда угодно.
Эдмон не питал никаких иллюзий в отношении родного города: достаточно было высказать полное восхищение его улицами, площадями, памятниками, портом, рекой и окрестностями — а большего и не требовалось.
Жонатан как представитель парижской богемы стремился изучить женскую часть бордоского населения. Трое молодых людей отправились на рынок, где полно было кокетливых гризеток в косынках из Мадраса, придававших особую живую прелесть их смышленым личикам. Почти все они — брюнетки с ослепительно белыми зубами. Девушек отличала непринужденная грациозность и остроумие. На рынке царил страшный шум, крики, всеобщее возбуждение, люди перебрасывались шутками, причем довольно смелыми. Какое богатство речи! Сразу видно, что глотки эти хорошенько прополоскала вода Гаронны.
Бордо — крупный город, с широкими улицами во вновь отстроенных кварталах. Городской театр поистине монументален. Перед его колоннадой раскинулась красивая площадь. Жаль только, что знаменитый архитектор Луи не развернул фасад здания в сторону порта.
Молодые парижане изнывали от тридцатиградусной жары, и Жак, невзирая на все красноречие Эдмона, не проявлял особого восхищения красотами города. Лишь одна любопытная деталь вызвала его улыбку: им повстречались ослики, одетые в холщовые или хлопчатобумажные штанишки; ослики в своем странном одеянии важно шествовали по улицам.
— Не хватает разве что фрака, — пошутил Жак, — чтобы сойти за ученых.
— Штанишки наверняка служат им защитой от назойливых мух, — вступился Жонатан.
— Что ты говоришь! А я-то думал, что это парадная одежда.
Пожав с благодарностью руку Эдмону Р., парижские гости вернулись в гостиницу, где для них был оставлен номер. Поднявшись к себе, они были потрясены великолепным видом из окна. Справа Гаронну пересекал красивый мост, немного выше по течению стоял другой — в лесах, с железнодорожными путями, долженствовавший связать Орлеанский вокзал с Южным. На противоположном берегу, прямо перед портом, в квартале Бастиды шли улицы с живописными строениями, а чуть поодаль виднелись загородные домики. Между набережными по обоим берегам реки — сновали сотни барок с пологами и брезентовыми навесами на корме. Слева излучина Гаронны огибала Бакалан, а на горизонте виднелись холмы Лормона. Бесчисленное множество судов всевозможных типов, одни красивее других: торговые баржи, американские клиперы, английские пароходы — сгрудилось посреди реки; их удерживал один общий якорь, и во время приливов и отливов суда поворачивались в одну и ту же сторону, что помогало избегать столкновения.
Глава IX
ЭКСКУРСИЯ В ЛАГУНУ АРКАШОН
На следующее утро Жак и Жонатан поспешили к набережной, где принялись вновь расспрашивать любезного таможенника. Увы, ничего нового тот сообщить не мог. Предстояло определить распорядок свободного дня. Эдмон Р. предложил речную прогулку по Гаронне. На том и порешили. Молодые люди сели в лодку напротив гостиницы «Нант», рядом с огромным подъемным краном.
Лодка направилась к Бордоскому мосту. Эдмон Р., чисто южный темперамент и разговорчивость которого были поистине неудержимы, служил проводником, к вящему удовольствию своих парижских гостей.
— Вы, наверное, полагаете, — начал он, — что этот мост самый обычный?
— Разумеется.
— Так вот, друзья мои, знайте же: он одновременно и казарма.
— Казарма?!
— Да-да, причем преотличнейшая казарма! Под настилом спокойно можно разместить шесть тысяч человек.
— Как?! Шесть тысяч человек? — поразился Жак.
— По меньшей мере шесть тысяч, — подтвердил Эдмон.
— Только не подавай виду, что сомневаешься, — вмешался Жонатан, — а то он сейчас скажет: двадцать тысяч.
— Ну, если это шесть тысяч гасконцев, тогда дело другое!
Отдав дань восхищения смелому конструкторскому решению арок моста, гости направились к Бак алану, откуда вернулись по длинной набережной к зданию Биржи, не отличавшемуся, кстати, особой привлекательностью. Эдмон не поленился показать парижанам древний собор, который не найти в перечне археологических достопримечательностей города — и, заметим, совершенно справедливо. Затем прогулка привела молодых парижан к башне Святого Михаила, где хранятся необычные скульптуры, изображающие реально существовавших людей. В частности, гости обратили внимание на статую портового грузчика, легендарного силача, который однажды взвалил на плечи вес, превышавший три тысячи фунтов[286].
— Ого! Три тысячи фунтов! — Жак по-прежнему был недоверчив. — Так сколько же весит у вас килограмм, в Гаскони?
— Вы напрасно сомневаетесь, — парировал Эдмон. — Говорю же: три тысячи фунтов, если не все четыре!
— Так-так.
— Не дразни его, — взмолился Жонатан, — а то сейчас услышишь: пять тысяч фунтов!
Эдмон пожал плечами; как истый южанин, он находил такие подвиги явлением вполне естественным.
Завершился этот день в театре: молодые люди слушали «Гугенотов»[287] в исполнении провинциальной труппы.
Воскресенье, которое пришлось на восьмое августа (отметил с болью в сердце Жонатан), не принесло никаких известий о мифическом судне. Эдмон Р., оказавшийся в затруднительном положении из-за необходимости развлекать весьма и весьма удрученных гостей, решил организовать экскурсию на берег моря в Аркашон. Жонатан воспротивился: ему казалось нелепым продолжать подготовку к путешествию в Шотландию, забирая все больше и больше к югу. Но пришлось подчиниться воле большинства. В понедельник утром трое молодых людей сели в поезд южного направления — и через несколько часов прибыли в пункт назначения.
Лагуна Аркашон действительно заслуживает внимания. Высокие песчаные дюны, поросшие вечнозелеными соснами, тянутся длинными и правильными рядами. Воздух напоен животворным и целебным ароматом смолы. Некогда дикий, сейчас этот уголок постепенно становится цивилизованным, и господин Кост, приступивший здесь к разведению устриц, способствует тем самым увеличению местного населения.
С девятого по двенадцатое августа наши туристы объехали все окрестности на маленьких тамошних лошадках. Один день был целиком отведен купанию в теплой воде, фосфоресцировавшей к ночи. Завтракали на маяке, стоящем у входа в Бискайский залив. Это была самая южная точка, которую суждено оказалось посетить Жаку и Жонатану.
В четверг телеграмма, посланная на имя Эдмона Р. одним из его служащих, известила о прибытии «Гамбурга».
— Надо ехать! — заявил Жак. — Едем!
— Но…
— Никаких «но»! Я не намерен ждать, пока «Гамбург» ускользнет у нас из-под носа!
— Послушай, Жак, ведь предстоит разгрузить судно и нагрузить новые товары! На это уйдет не меньше трех-четырех дней.
— Ну конечно! С бордоскими-то грузчиками и с паровыми кранами! Оставайтесь, коли хотите, а я сейчас же еду.
Жонатан, как всегда, уступил желанию друга и увлек за собой Эдмона, который просто не верил в самое существование «Гамбурга».
В пятницу, тринадцатого августа, путешественники вернулись поездом в Бордо, и к полудню Жак уже примчался в порт. Проискавши нужное судно, он такового не обнаружил! Парижанин допросил уже знакомого таможенника, и тот подтвердил, что «Гамбург» действительно прибыл, но не смог указать место его стоянки. Жаку пришлось вернуться к друзьям, ожидавшим его к завтраку на театральной площади. Уверенный, что дело в шляпе, он не скрывал распиравшей его радости.
Завтрак отличался в равной мере и весельем и обилием: Эдмон предложил выпить «Люрсаллюса», о котором он говорил не иначе как снимая шляпу.
— Знаете ли вы, сколько стоит это вино?
— Понятия не имеем.
— Так я вам скажу, хоть и не принято называть цёны, что бочка «Люрсаллюса» стоит двадцать пять тысяч франков.
— Вот это да! — вырвалось у Жонатана.
— Ну уж конечно, — скептически заметил Жак.
— Пожалуй, я даже ошибаюсь в сторону уменьшения!
— Никогда не поверю.
— Да не дразни же его, — снова вмешался Жонатан, — или он сейчас заявит: сорок тысяч!
Часа через два неразлучная троица, приятно откушав, решительно направилась в порт на поиски «Гамбурга».
Глаза X
ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ОТПЛЫТИЮ
«Гамбург» пришвартовался под самыми окнами гостиницы «Нант». Это было винтовое судно мощностью в девяносто лошадиных сил и водоизмещением приблизительно в пятьсот тонн. Оно несло мачтовое оснащение шхуны[288], и мачты, наклоненные к корме, придавали кораблю кокетливый вид. Каюты и пассажирский салон в рубке носовой части находились далеко от машинного отделения, перенесенного по английскому обычаю ближе к корме. Система удобно расположенных мостиков и трапов позволяла обойти весь «Гамбург», не поднимаясь на палубу, обычно заваленную грузами. На одном из мостиков, в центре судна, было установлено колесо штурвала. Таким образом, ничто не мешало обзору штурвального, который видел весь путь до горизонта.
Жак с первого взгляда схватил все эти подробности. Сопровождаемый друзьями, он устремился на палубу.
Жонатан, припоминая необходимые английские слова, спросил капитана, который не замедлил явиться. В этом здоровом шотландце, с честным, открытым и добрым лицом, угадывался хороший моряк и верный товарищ. Красноватые тона его добродушной каледонской физиономии от загара казались более насыщенными. На него приятно было смотреть. Капитан встретил будущих пассажиров в высшей степени приветливо и препроводил их в большой салон. Waiter, то есть корабельный стюард, выложил на стол огромный честерский сыр, футом в ширину, высотою в два. Между огромными пустыми бокалами и высокой бутылкой виски поместился широкий кофейник с кипятком. И, невзирая на недавний завтрак, гостям капитана Спиди пришлось отведать устрашающего по своим размерам сыра и еще более пугающего виски. Под действием этого крепкого напитка, совершенно, впрочем, бесцветного, пьянящая сила которого усугублялась добавлением кипятка, Жак почувствовал себя по-настоящему больным, но сохранил всю свою веселость. Капитан, отличавшийся истинно шотландским гостеприимством, не переставал наполнять бокалы.
Жонатан завел с этим достойнейшим человеком разговор о Шотландии, об Эдинбурге, о Данди, и с языка молодого француза постоянно слетали слова: «малышка», «милашка», а его лицо озаряла широкая торжествующая улыбка. Естественно, Жак не понимал ни слова, но находил капитана Спиди чрезвычайно остроумным.
Жонатан осведомился об отплытии судна и получил заверения, что через три или четыре дня все будет готово.
Между тем Эдмону Р., воодушевленному честером и виски, пришла потрясающая мысль: он пригласил капитана в тот же день на ужин. Приглашение было незамедлительно принято, и в условленный час гости собрались перед роскошно сервированным столом. Как Жаку, Эдмону и Жонатану удалось не только вынести вид всех обильных яств, расставленных перед ними, но и уничтожить их, — остается загадкой, ключ к которой будет найден не скоро. Отметим только добровольную помощь со стороны шотландца, одинаково энергично работавшего как вилкой, так и челюстями.
Беседа становилась все оживленней, с любезным изяществом Эдмон нес несусветные глупости. Капитан в них ровным счетом ничего не понимал, но смеялся так, что от смеха его дребезжали тарелки. И то сказать: бордосец вздумал перепить шотландца! Ну не глупо ли? Тщетно выставлялись бордоские, бургундские, шампанские вина, тщетно шли в дело дорогой коньяк и вишневая водка — Спиди проглотил все не моргнув глазом: Клайд перелился через берега Гаронны! Оргия закончилась в полночь; парижане, поддерживаемые крепкими руками капитана, вернулись к себе в гостиницу, и по дороге Жак не переставая обращался к шотландцу на английском, которого так и не выучил, а капитан отвечал на французском, которого вообще не знал.
На следующий день пришлось устроить передышку, и никто и не помышлял подниматься с постели. В воскресенье окрестности Лормона внезапно огласились пушечными выстрелами и эхом — пятнадцатого августа торжественно отмечался национальный праздник[289]. Его должен был увенчать пышный фейерверк, но — это часто случается в Бордо — с фейерверком поторопились и как-то нечаянно устроили несколькими днями раньше. В силу этого обстоятельства публичные торжества ограничились сорока двумя пушечными залпами, которые произвели выстроенные в парадном порядке солдаты.
Часы меж тем бежали, а погрузочные работы продвигались на борту «Гамбурга» как-то вяло. Ватерлиния ничуть не изменилась: полностью разгруженное судно жалко бултыхалось на самой поверхности воды. Так прошли понедельник, вторник, и лишь в среду на борт поступили мешки с зерном, составлявшие груз. Люки открыли, и трюм начал заполняться. Жак подружился со старшим грузчиком, наблюдавшим за прибытием товара и служившим одновременно переводчиком. Через этого грузчика Жак засыпал капитана тысячью вопросов, и все они касались предполагаемого дня отплытия. В конце концов шотландец остановился на пятнице. Итак, необходимо было без проволочек перебраться на борт корабля и приготовиться к отходу. Но Жонатан закапризничал; его одолевали кое-какие сомнения, и для них были определенные основания. К тому же на композитора навалился какой-то сплин:[290] он уже поговаривал о том, чтобы вообще отказаться от сумасбродного, окольным путем, путешествия в Шотландию, и намекал, что не худо было бы завернуть еще южнее, к Пиренеям. По этому поводу разгорелась бурная дискуссия, подогревавшаяся сарказмом Эдмона, который не переставал подтрунивать над старой Каледонией и «Гамбургом», — а до чего может дойти бордоская фантазия, мы уже знаем. Однако Жак бешено сопротивлялся, и первоначальный проект был утвержден. Правда, от Жака потребовалась некоторая уступка: он вынужден был согласиться поехать с друзьями в экскурсию к мосту Кюбзак. Поездка состоялась в четверг при великолепной погоде. Но еще чуть-чуть, и дело кончилось бы плохо: путешественники едва не увязли в болотах, окружавших Дордонь. В отличие от Эмпедокла, они добрались до берега, пожертвовав сандалиями, куда как более счастливые и менее знаменитые, чем этот философ из Агригента[291].
Наступила пятница, а погрузка все еще не была закончена. Капитан окончательно назначил отплытие на воскресенье. Композитор едва не повредился умом. Жак со злостью скрипел зубами. Эдмон отреагировал совершенно неуместной пантомимой. В течение двух последующих дней Жаку не сиделось на месте, и в субботу вечером он потребовал, чтобы спутник его заночевал на борту «Гамбурга», хотя судно должно было сняться с якоря лишь в десять часов утра. По распоряжению Жака служащий гостиницы перенес чемоданы на борт, и Эдмон пообещал прийти пораньше пожать на прощание руку друзьям.
Глава XI
НАКОНЕЦ В ПУТЬ, В ШОТЛАНДИЮ!
Большой салон «Гамбурга», обставленный с истинно английским комфортом, предлагал пассажирам все возможные удобства: вдоль стен — широкие диваны, на дверях — элегантные занавески, в глубине, перед панно, изящный столик с книгами, а висящие рядом часы и барометр — позволяли одновременно справляться о времени и погоде.
Две двери по сторонам от книжного шкафа вели в каюты, в каждой из которых имелось по четыре попарно расположенных друг над другом койки, а у противоположной стенки — широкая удобная банкетка; сквозь иллюминаторы над ней глазу открывались морские просторы; в углу, напротив, в небольшом умывальнике с надписями «Up»[292] и «Shut»[293] над кранами всегда имелась вода.
Жаку и Жонатану койки напомнили выдвижные ящики комода, снабженные матрацами, слишком короткими полотняными простынями и слишком узкими, на английский манер, подушками. Новые пассажиры выбрали нижние койки. Со смехом они втиснулись в свои ящики, залезли под одеяла, и Жак заснул на третьем томе мемуаров Сен-Симона.
На следующее утро, когда друзья проснулись, пароходные топки гудели, и «Гамбург» завершал свой первый маневр в порту Бордо под командой неприятного ворчливого лоцмана, не знавшего ни слова по-английски, что сильно осложняло его взаимоотношения с капитаном Спиди.
Корабль спустился вниз по Гаронне, но отплытие еще не было окончательным: в Бакалане предстояла догрузка. Матросы задраили люки трюма, заполненного зерном, и прикрыли их для большей надежности непромокаемым брезентом; оставалось разместить на палубе изрядное количество деревянных балок и досок для шахтных крепей, доставленных на двух баржах, пришвартованных вдоль бортов к «Гамбургу». Капитан, надеясь успеть воспользоваться вечерним приливом, торопил погрузку как мог, однако работа продвигалась медленно, так как обилие дерева надо было разместить по возможности компактно и прочно закрепить цепями на случай морской качки.
В это время на судно прибыл Эдмон и, видя, что в их распоряжении имеется по меньшей мере несколько часов, предложил друзьям отправиться позавтракать в Лормон, одним лье ниже Бакалана. Он пригласил также и капитана, но тот предпочел не покидать судна, желая лично доследить за погрузкой и поторопить с отплытием. После твердого обещания друзей вернуться до начала прилива шлюпка с «Гамбурга» доставила их на правый берег Гаронны.
Жак безумно боялся опоздать и в течение всего завтрака, накрытого в живописной цветочной беседке на берегу Гаронны, пребывал в довольно скверном расположении духа. В два часа все трое вскочили в лодку, под парусом поднялись вверх по течению и после жесточайшего спора между Жаком и Эдмоном о том, как надо крепить парус, спора, едва не стоившего морской болезни Жонатану, вернулись на борт. Но, увы! Топки оказались погашенными, погрузка незавершенной, и отправление откладывалось до следующего утра.
Это уже противоречило всякому здравому смыслу, и, если бы багаж Жонатана не был уже на борту, он немедленно отказался бы от поездки. Жак же, напротив, поклялся, что не оставит больше палубу. И все же Эдмону удалось уговорить друзей поехать обедать, на сей раз достаточно далеко, где они и задержались до девяти вечера. После трогательных прощаний и рукопожатий Эдмон, смеясь, выразил надежду еще увидеться, прежде чем начнется это поистине немыслимое путешествие, на чем приятели и расстались.
Ночь выдалась очень темной. Жак и Жонатан спустились до набережной напротив Кинконс и, опасаясь, что в Бакалане переправиться не смогут, наняли лодку, вместо того чтобы идти дальше берегом. Лодочник не без труда согласился их везти против поднимающегося прилива и, лишь соблазнившись высокой платой, три с половиной франка за переправу, кликнул себе в помощники двенадцатилетнего сына, решив попытаться добраться до корабля. Лодка взяла курс прямо на Бастиду. В этом месте приливное течение образует водовороты, которые могли бы облегчить спуск по реке. Переход был тяжелым. Из-за довольно сильного течения шлюпка почти не двигалась с места. За час не одолели и половины пути. Жак снял куртку, взял весло у мальчика и изо всех сил начал грести.
Путешественники поравнялись с Бакаланом, но и на этом их испытания не кончились: надо было еще отыскать «Гамбург». Как опознать его ночью среди других кораблей? Жак хорошо запомнил местоположение, но не принял во внимание непроглядную темень. В течение часа лодка наудачу переплывала от одного судна к другому, и выбившийся из сил лодочник уже настаивал на том, чтобы вернуться.
— Только этого еще не хватало, — проворчал Жонатан. — Вот увидите, мы не найдем «Гамбург», и он уплывет без нас.
Жак даже подскочил.
— Подумать только, что ради этой «милой» прогулки мы проторчали в Бордо семнадцать дней!
Жак молчал. Сжав зубы, он широко раскрытыми глазами до боли всматривался в черноту. В этот момент шлюпка проходила между берегом и пришвартованной в нескольких туазах шхуной. Неожиданно канат, натянутый между бортом и берегом и оказавшийся как раз на уровне шеи привставшего на скамье Жонатана, опрокинул его. Вскрикнув, композитор упал навзничь на дно лодки.
— Прекрасно! — процедил Жак сквозь зубы. Ото всех приключений он был в ярости. Но именно в этот момент ему почудился легкий отблеск на позолоченном форштевне какого-то судна. Темная масса, встававшая у него перед глазами, напоминала вытянутые очертания «Гамбурга». Жак велел взять курс прямо на нее и вскоре убедился в правильности своего решения. Наконец-то, после двух часов блужданий, сопровождаемый верным спутником, он смог вскарабкаться на борт и лечь в постель, убаюкиваемый проблесками надежды, которая никогда его не покидала.
На другой день увлекаемый отливом «Гамбург» быстро скользил по волнам к устью Жиронды.
Гордо выпрямившись, Жак стоял на палубе и провожал глазами убегающие назад берега реки. Молодой человек пренебрежительно помахал мысу Амбес, Пойаку и Блаю. Даже Жонатан улыбался вдыхая свежий утренний воздух.
— В путь, в Шотландию! — воскликнул первый.
— В путь! — эхом откликнулся другой.
В этот день не произошло ничего примечательного, если не считать того, что композитору пришлось служить переводчиком капитану и лоцману, чтобы корректировать движения «Гамбурга» в порту Бордо. Музыкант с трудом справлялся с этой задачей, с него градом струился пот от нечеловеческих усилий исторгнуть из себя столь мало ему привычный английский.
В устье реки к судну подошла большая шлюпка. До океана было рукой подать, и для ворчливого лоцмана служба закончилась. Теперь он уступал место своему собрату, который должен был вывести корабль в открытые просторы. Первый лоцман на лодке отправился к берегу; шлюпка следовала за пароходом, привязанная сзади. Небольшая задержка у стоящего на якоре на выходе из залива сторожевого корабля для выполнения формальностей — и, оставив позади Кордуанскую башню, «Гамбург» вспенил форштевнем океанские волны.
Глава XII
НОЧЬ В ОТКРЫТОМ ОКЕАНЕ
Капитан Спиди по-прежнему не был командиром на борту своего корабля. Второй лоцман, как и его предшественник, не знал ни слова по-английски, что казалось нелепым и невероятным, так как в порт Бордо заходит множество английских судов.
Впрочем, с того момента, как этот человек ступил на борт корабля, он думал только о том, чтобы побыстрее его покинуть. Приближалась ночь, а возвращаться назад в темноте не хотелось. «Гамбург» быстро скользил между красных буев, отмечавших вход в Жиронду. Лишь миновав последний, лоцман мог передать командование капитану и вернуться на шлюпке на берег. Через какое-то время француз подозвал капитана и, не отнимая от глаз подзорной трубы, знаками дал понять, что вдали показался последний буй. Капитан навел трубу на указанную точку.
— No![294] — произнес он лаконично.
— Как нет?! — воскликнул лоцман, продолжая указывать на невидимую точку на горизонте. — Как нет?! Вы, наверное, меня не понимаете?!
Капитан мерил шагами палубу, не обращая никакого внимания на происходящее вокруг.
— Месье, — обратился лоцман к Жонатану, — будьте так любезны, объясните же ему, что мне больше нечего здесь делать! Вот последний буй в пределах видимости, в нескольких кабельтовых[295] по ветру!
— Но я не вижу его! — воскликнул Жонатан.
— Я тоже, — поддержал его Жак, забравшийся на первые выбленки[296] вант[297] фок-мачты. — Я абсолютно ничего не вижу!
— Странно, — удивился лоцман.
Буй оставался невидимым для всех, кроме самого лоцмана, с упорством и апломбом южанина утверждавшего, что ясно видит знак. Француз снова и снова пытался убедить в этом капитана, но тот оставался непреклонен. Лоцман ругался сквозь зубы, обзывал капитана собакой, Джоном Буллем[298] и шотландским кротом, но ничего не мог добиться. После целого часа пререканий злополучный буй наконец показался. С лоцманом рассчитались, тот спрыгнул в свою шлюпку, канат отцепили, и капитан Спиди, оставшись полноправным хозяином на борту, повернул в открытый океан, намереваясь обогнуть полуостров Бретань.
Океан был изумительно красив. «Гамбург» легко скользил без толчков и почти без качки. Его фок, бизань и марсель[299], наполненные восточным ветром, придавали судну остойчивости на волнах. Жонатан чувствовал себя прекрасно, а Жак был так счастлив, как это только возможно. К десяти часам вечера парижане спустились в каюту и заснули в своих «ящиках от комода».
Дважды в течение ночи Жак покидал свое ложе и поднимался на палубу, чтобы полюбоваться восхитительной картиной ясной ночи в океане. Чувствительный к такого рода впечатлениям, юноша жадно ловил малейшие детали. Капитан и его помощник, крепкий парень из Ливерпуля, по очереди несли вахту, и палуба вздрагивала под их решительными шагами. Время от времени они подходили к рулевому, бросали взгляд на компас, освещенный маленькой лампочкой, чтобы удостовериться в правильности курса, затем, засунув руки в карманы, с трубкой в зубах продолжали мерить шагами палубу, не обращая никакого внимания ни на свист ветра в снастях, ни на клочья пены, летевшие им в лицо. Несколько матросов сгрудились в тени на носу и на корме судна. Одни облокотились о борт, другие пристроились на свернутых в бухты канатах, и над всем этим царила неясная, смутная тишина, нарушаемая только стонами паровой машины и хлопаньем парусов.
Восход солнца поразил Жака своим великолепием, и в памяти его всплыли описания Шатобриана.
— Теперь надо бы поприветствовать капитана.
— Я сделаю это за нас двоих, — предложил Жонатан.
— Нет! Говори за себя! Я запомнил несколько обиходных слов. Достаточно, чтобы сделать это самому.
— Как угодно, — не стал настаивать Жонатан и завязал беседу с помощником капитана. Композитор узнал, что корабль находится на траверсе[300] берегов Бретани на широте Бель-Иля.
Жак тем временем направился к капитану.
— Good mourning![301] — произнес он и потряс ему руку совсем поморскому. — Good mourning, капитан!
Капитан поднял голову и что-то буркнул. Ответ Жак перевел как «Неплохо, а вы?». Окрыленный успехом, он приблизился к помощнику капитана и повторил маленькую церемонию.
— Good mourning, master![302]
Помощник капитана прислушался и странно на него посмотрел.
— Ну, как я управился! — радовался Жак. — Положительно, у меня большие способности к английскому языку. А теперь необходимо подкрепиться.
За пять шиллингов в день капитан предлагал своим пассажирам следующий режим питания: утром, в 8 часов, чай и жареный хлеб с маслом; в 10 часов — завтрак с мясным блюдом; в 3 часа — обед, состоящий из супа, мяса и пирогов, и, наконец, в 7 часов вечера — ужин с честерским сыром.
Парижане прекрасно освоились с предложенным распорядком. Мясо, в основном говядина и свинина, было превосходным и зажарено так, как это умеют делать только в Англии, изысканные ломтики прибывшего прямо из Йорка окорока ласкали глаз и восхищали желудок, варенные без соли сушеные овощи подавались в натуральном виде и с успехом заменяли хлеб, не шедший ни в какое сравнение с ирландским картофелем.
Из напитков подавалась только чистая вода. Англичане почти не пьют за едой; американцы, более цивилизованные, не пьют совсем. Во всяком случае, капитан Спиди и его помощник полностью придерживались традиции. Тем не менее они не отказались разделить со своими пассажирами несколько добрых бутылок бордоского, которыми молодые люди были обязаны дружбе Эдмона Р. За обедом на столе неизменно появлялась огромная миска, до краев заполненная аппетитным супом, в котором среди лопнувших ячменных зерен в обилии плавали овощи и огромные куски мяса. Неизменный пирог скрывал в своих дышащих жаром под золотистой корочкой недрах сладкие, сочные сливы. За десертом стол прогибался под тяжестью внушительного честера. Этот сыр со временем темнеет и приобретает все более выраженный аромат.
Все это изысканное великолепие подавалось стюардом на больших фаянсовых блюдах, закрытых высокими колпаками из английского металла, с эмблемой «Гамбурга» из Данди. Беседа за столом ни на миг не прекращалась и заметно оживлялась, когда подавали джин и виски.
Жак упорно пытался изъясняться по-английски и нередко допускал оплошности, заставлявшие до слез смеяться славного капитана и его помощника. Жонатан, как мог, разъяснял приятелю причину этой веселости. В тех случаях, когда Жак по счастливой случайности попадал на верное слово, чтобы объяснить свою мысль, он не мог избежать забавных недоразумений, связанных с неправильным произношением.
Так, например, за обедом он спросил хлеба:
— Give me some bread, — и произнес при этом «брайд».
Спиди расхохотался.
— Ты знаешь, что ты только что попросил? — спросил Жонатан.
— Хлеба, конечно.
— Ничего подобного — какую-нибудь невесту.
— Но разве bread означает…
— Да, когда его произносят «брайд».
— Вот в чем сложность! — воскликнул Жак. — По своей сути все языки похожи. Различается только произношение!
Глава XIII
ЖАК ЛАВАРЕ ИСПЫТЫВАЕТ НЕКОТОРЫЕ
ЗАТРУДНЕНИЯ С ПРОИЗНОШЕНИЕМ
Днем по приказу капитана на баке раскладывали подушки, и гости «Гамбурга» предавались dolce farniente[303], проводя время в приятной беседе и за хорошей сигарой. Они следили глазами за тенями облаков на волнах или отмечали на бортовых картах путь корабля. Во вторник вечером, находясь на траверсе острова Уэсан, судно неожиданно оказалось в самой гуще огромной стаи морских свиней. Эти животные семейства дельфинов, необычайно грациозные, вопреки своему названию, двигались с поразительной быстротой. Они обгоняли «Гамбург», кружили вокруг него, обдавая брызгами от ударов мощных хвостов. Любопытное зрелище продолжалось более часа. Затем спустилась ночь. Ветер заметно посвежел, и капитан приказал взять риф[304] на марселе. Сказывалось сильное течение из Ла-Манша. Жонатан переносил качку со стойкостью закаленного штормами морского волка.
Ночью волнение усилилось. Судно скрипело и стонало под натиском ветра и волн. Жонатан уже давно спал, когда около двух часов ночи Жак разбудил его.
— Мы путешествуем ради впечатлений. Поэтому вставай и идем за ними. — С этими словами он заставил композитора подняться на палубу.
Небо было затянуто тяжелыми черными тучами; в кромешной тьме с трудом различались нос и корма судна; верхушки мачт терялись в тумане; паруса хлопали на реях. Свет от нактоуза[305], обычно видимый только рулевому, сейчас бил прямо в медную обшивку штурвала, и этот сверкающий круг в полной темноте — зрелище фантастическое. Казалось, какая-то сверхъестественная сила ведет корабль, управляя им с помощью светящегося колеса с огненными спицами и ободом.
— Какое великолепное зрелище! — восхищался Жак.
— Великолепное, — согласился Жонатан и спокойно вернулся в постель.
Утром наши путешественники были разбужены топотом ног на палубе. Судно мыли. Специальные насосы, приводившиеся в движение паровой машиной, выбрасывали мощные струи воды во всех направлениях. Вскоре палуба засверкала чистотой.
«Гамбург» был прекрасно оснащен технически. Помимо специальных приспособлений для уборки он был снабжен дополнительной машиной, управляющей подвижным краном, закрепленным на верхней палубе. Погрузка и разгрузка судна осуществлялась силой пара с типичной для англичан быстротой и точностью.
Когда капитан поднялся на мостик, Жак приветствовал его своим «Good mourning», заставившим англичанина вздрогнуть.
«Странно, — подумал юноша, — ему, кажется, не нравится, когда с ним здороваются. У англичан бывают порой странные причуды. Но, в конце концов…»
Вид английских берегов отвлек его от размышлений. Высокие дикие скалы Лендс-Энда возвышались прямо по курсу корабля, и берег был настолько близок, что можно было различить малейшие детали рельефа. Там начинался древний Корнуолл, суровая, бесплодная земля, окутанная густыми туманами и открытая частым бурям и штормам. На одиноком острове виднелся довольно грубо сделанный маяк; океан, более спокойный в этом месте, приходил тихо умирать к его подножию; небо приняло серый оттенок, столь характерный для влажной атмосферы туманной Англии. Вскоре острова Силли остались с подветренной стороны, и судно взяло курс на север, чтобы войти в пролив Святого Георга.
После уборки и обычных утренних работ экипажу нечего было делать. Но надо сказать, что забота о чистоте, столь рьяно проявлявшаяся по отношению к кораблю, никак не сказывалась на внешнем облике самих матросов, которых не смогли бы отмыть никакие помпы. Никогда еще такое перепачканное, чумазое, просмоленное племя не топтало доски торгового судна. Эти люди, кстати сказать, совсем не шумные, исчезали на большую часть дня в кубрике[306] на корме и мало интересовались двумя французами на борту. В часы трапезы, взяв чайники всевозможных форм, но непременно грязные и мятые, матросы шли за кипятком для чая, традиционного английского напитка, помогающего им переварить сухой хлеб, натертый сырым луком, — их основную пищу. Питались члены команды за свой счет, и скудость и недостаточность питания были следствием их собственной бережливости.
К вечеру вход в Бристольский залив остался справа по борту, и путешественники снова потеряли землю из виду. Они уже полностью освоились с жизнью на борту, которая с каждым днем все больше им нравилась. Жонатан часто беседовал с капитаном и его помощником, практикуясь в английском языке. Молодой человек с трудом понимал ответы моряков, говоривших на смеси жаргона и диалектов. Шотландский язык представляет собой смешение элементов английского, англосаксонского и эрса, или гэльского языка, являющегося не чем иным, как нижнебретонским наречием. Для композитора беседы были тяжелой работой, доводившей его до мигреней.
Ночь со среды на четверг прошла как обычно. Миновав южную оконечность Уэльса на широте графства Пембрук, «Гамбург» вошел в тусклые, тяжелые воды пролива Святого Георга.
— Good mourning, капитан, — приветствовал Жак шотландца, протягивая ему руку.
— Good mourning, — с раздосадованным видом отвечал капитан.
— Вы поистине на редкость назойливы, сэр.
— В чем дело? — смутился Жак и повернулся к от души смеявшемуся Жонатану. — Что с вами, в конце концов? Один пожимает плечами, когда я его приветствую, а другой хохочет до слез.
— Мой добрый друг, какую чертовщину ты сказал капитану, что он ответил тебе: вы крайне неприятны?
— То, что я каждое утро ему говорю: Good mourning.
— Morning, а не mourning, — воскликнул Жонатан. — Good mourning означает «приятного траура». Это как если бы ты сказал нашему милому капитану: когда мы будем иметь удовольствие пойти на ваши похороны?
— Не может быть!
— Именно так!
— Тогда все понятно! Good morning, капитан.
Глаза XIV
ЖАК И ЖОНАТАН ВЫСАЖИВАЮТСЯ В ЛИВЕРПУЛЕ
К пяти часам утра в четверг «Гамбург» вышел из пролива Святого Георга на широте острова Англси и взял курс на восток к Ливерпулю. Капитан рассчитывал прийти туда во второй половине дня.
В шесть часов к кораблю подошло небольшое судно, прелестное, как прогулочная яхта. Это был баркас, оснащенный как тендер[307] и принадлежащий компании ливерпульских лоцманов. От него отделилась шлюпка, и лоцман поднялся на борт.
Жак и Жонатан были поражены: свежевыбритый господин в черном костюме, перчатках, шелковой шляпе и с белоснежным галстуком — таким предстал лоцман из Ливерпуля. Его безупречного вкуса туалет удовлетворил бы самого требовательного денди[308]. И это в открытом море в предрассветные часы! Вновь прибывший выглядел молодо, и его лицо с правильными чертами излучало спокойствие и истинно британское здоровье. Он принял командование судном, подошел к компасу, указал нужный курс и предоставил себя в распоряжение капитана, который пригласил его к завтраку через несколько часов.
— Вот вам первый образец английских нравов, друг Жонатан.
— Можно подумать, что этот господин, куда более изысканный, чем мы с вами, член парламента.
— Особенно если он напьется за десертом!
Но лоцман оставался безукоризненно трезв, опустошая последние бутылки бордоского.
Поднявшись на палубу, Жак увидел идущий навстречу колесный пароход. На его кожухах красовался герб Сицилии из позолоченной меди.
Сверхбыстрое судно осуществляло сообщение между Ливерпулем и островом Мэн. На море сновало множество однотипных буксиров, похожих друг на друга, как близнецы, все с высокой трубой и флагштоком на носу. Они встречали торговые суда, приходящие в Ливерпуль со всех концов света.
Сторожевой корабль королевского флота занимался замерами глубины в фарватерах на входе в Мерси. Эта широкая, глубокая река и есть ливерпульский порт. Зрелище производит сильное впечатление: слева по берегу с английской четкостью высятся огромные сооружения; множество огней освещает эту часть берега; справа — коса Бёркенхед с фортом, чьи пушки могут смести огнем весь рейд.
Ливерпульский порт протянулся между берегом реки и косой в устье Мерси при впадении ее в Ирландское море и поднимался вверх по реке еще добрые семь-восемь миль.
«Гамбург» шел уже вдоль гранитных стен морских доков, на которых большими черными буквами были написаны названия этих гигантских сооружений, не имеющих себе равных во всем мире. Дойдя до башни Виктории, охранявшей главный вход, корабль бросил якорь на самой середине Мерси — отлив не позволил ему войти в доки.
У Жака и Жонатана глаза разбегались от тысячи деталей развернувшейся перед ними панорамы. Было уже два часа пополудни, и так как высадиться на берег до прихода таможенников было нельзя, то приятели решили пообедать на борту. Они спустились в салон и в последний раз сели за стол в компании капитана Спиди, его помощника и чиновника таможни, весьма любезного человека, причем ничто в его внешности не говорило о его занятии. Он пообещал не задерживать путешественников и не рыться слишком усердно в их багаже. Во время десерта Жак поднял тост за здоровье бравого шотландца и за его корабль. После рукопожатий и долгих изъявлений благодарности Жак и Жонатан прыгнули в лодку, которая уже давно их дожидалась и куда уже спустили их чемоданы, и с щемящим сердцем навсегда покинули «Гамбург».
Их лодка направилась к высеченной в каменной стене дока лестнице. Отлив, достигший к тому времени своей самой низкой отметки, обнажил скользкие, покрытые илом ступени. Подниматься было трудно, путешественники особенно опасались за чемоданы, которые носильщик, скользя, нес на плечах. Наконец добрались до набережной, и Жонатан попытался объяснить провожатому, что им нужен экипаж. За доками у противоположного входа стоял кеб[309]. Севшие в него парижане вручили носильщику сколько-то монет, совершенно не представляя, какую сумму дали, и велели отвезти их в гостиницу возле Эдинбургского железнодорожною вокзала. Кебмен[310] остановился на площади Сент-Джордж-Холл возле «Королевской гостиницы».
Теперь предстояло рассчитаться с извозчиком, а это была нелегкая задача, если учесть, что молодые путешественники не имели ни малейшего понятия о ценах за проезд. Жонатан как казначей совсем потерялся среди всех этих серебряных и медных монет — крон[311], полукрон, двушиллинговых[312], шестипенсовиков, четырехпенсовых, трехпенсовых и пенни[313] — чьи полустертые надписи ни на лицевой, ни на оборотной стороне практически невозможно было прочесть. Серебряные и медные деньги в Англии ценятся ниже французских монет. Одну из самых ходовых монет, шестипенсовик, можно рассматривать как эквивалент монеты в 50 сантимов[314], а шиллинг, стоящий 1 франк[315] 25 сантимов, тратится как монета в один франк. Эта пропорция сохраняется на всех уровнях, и двадцатипятифранковый соверен[316] идет как французский луидор[317].
Наконец Жонатан заплатил полкроны, то есть немногим более трех франков. За десятиминутную поездку плата была высокой.
Обосновавшись в номере «Королевской гостиницы», друзья повели следующий разговор.
— Вот мы наконец и в Англии, — порадовался Жак.
— В Англии, да! Но не в Шотландии, а ведь цель нашего путешествия именно она.
— Какого черта! Дай немного прийти в себя.
— Мы придем в себя, когда сможем, а сейчас нельзя терять ни минуты. Вот уже двадцать четыре дня, как мы покинули Нант; в Париж нужно вернуться в первых числах сентября; посуди сам, что остается всего ничего на то, чтобы добраться до Эдинбурга, взглянуть, хотя бы мельком, на горы и озера, вернуться в Лондон и пересечь пролив! Это же абсурд! Вот чем обернулось опоздание «Гамбурга»!
— Не говори о нем, Жонатан! Корабль отличный, ходит хорошо.
— Когда он ходит, согласен, но должен заметить, что не слишком быстро пускается в путь. Но, ладно, упреки в сторону, прикинем, чем займемся в ближайшие часы.
— Давай.
— Будем действовать по порядку. Во-первых, надо бросить на почте письма, написанные на борту корабля; во-вторых, узнать расписание поездов до Эдинбурга; в-третьих, засвидетельствовать почтение мистеру Кеннеди, эсквайру[318], от имени моего брата и, наконец, в-четвертых, осмотреть Ливерпуль за вечер, ночь и завтрашнее утро.
— Программа отличная. Вперед!
— И куда мы направляемся?
— Понятия не имею, и это то, что составляет всю прелесть нашего путешествия. Никогда не уйдешь так далеко, как когда ты не знаешь, куда идешь, как говорил один оратор в Конвенте[319].
— Если мы вернемся вовремя — возражений нет. Итак, в путь!
Глава XV
БЛЕСК И НИЩЕТА ЛИВЕРПУЛЯ
Прежде всего друзья отправились на вокзал Каледонской железной дороги, находившийся на той же площади, что и гостиница. Они наметили отъезд на следующий день, на два часа пополудни. Получить необходимые им сведения оказалось сложно, ибо железнодорожные служащие в Англии редкость. Зато все платформы заполнены толпами приезжающих, отъезжающих и просто праздношатающейся публики, циркулирующей самым хаотическим образом. Жонатану пришлось призвать на помощь все свое воображение и смекалку, чтобы расшифровать не отличающееся ясностью объявление.
Отправка писем также вызвала некоторые затруднения. Жонатан не знал, как будет по-английски почтовая марка. В конце концов удалось у аптекаря купить марки, именуемые postage’s stamps. Избавившись от этой заботы, друзья отправились к мистеру Джо Кеннеди, проживавшему на Кастемхаус-стрит[320].
Этот уважаемый негоциант очень любезно принял молодых французов в темной конторе, где газовую лампу приходилось зажигать уже в четыре часа вечера. Высокие кирпичные дома желтого, отдающего в черный, цвета, с покрытыми копотью окнами и небольшие подвижные краны препятствовали доступу света, создавая искусственные сумерки. Мистер Кеннеди был типичным представителем породы английских арматоров[321], с крупной головой и цветущим, чтобы не сказать пламенеющим, цветом лица. Он важно предложил путешественникам свои услуги и пригласил их отужинать этим же вечером на своего рода пикнике. Молодые люди с радостью согласились. Им не терпелось поближе познакомиться с английскими нравами и обычаями. Встречу назначили на девять часов вечера в таверне «Булль энд маут»[322], местонахождение которой мистер Кеннеди подробнейшим образом объяснил.
У Жака и Жонатана оставалось еще несколько часов свободного времени, и, чтобы как-то его заполнить, друзья отправились в портовые кварталы. Путь туда пролегал по грязным узким улочкам, где нищета Англии выставляла напоказ свое кричащее уродство. Почти все женщины носили на голове нечто, бывшее когда-то цветущей шляпкой на светлой головке богатой леди, затем потихоньку увядшее на пучке волос горничной или розничной торговки и теперь гниющее в прямом смысле этого слова на головах самых несчастных созданий в мире; выцветшие ленты, цветы, род которых не смогла бы определить даже ботаника искусственной флоры, чудом держались, склеившись от липкой влажности, которую образует в Англии смесь тумана и угольной пыли. Несчастные, одетые в едва прикрывающие тело лохмотья, шлепали босыми ногами по черной скользкой грязи. По шаркающей походке, согбенным фигурам, по лицам с печатью горя и нищеты можно было безошибочно опознать печальное население фабричных городов. В многочисленных цехах, где английская полиция в отличие от французской не проводит должным образом проверок, работа часто превышает человеческие возможности. Цена труда ничтожна. Сколько женщин, запертых в смрадных помещениях, работают по пятнадцать часов в сутки без платьев, без юбок, даже без рубашек, завернувшись в рваную простыню! Немало и таких, которые провели подобным образом годы, не выходя, не имея возможности выйти!
На улицах, где рабочие влачили жалкое существование, копошилось множество детей. Нельзя было шага ступить, чтобы не наткнуться на дюжину полуголых, кричащих, копающихся в грязи фигурок. Жак не переставал изумляться тому, что все они говорили по-английски. Как это ни было глупо, но он никак не мог к этому привыкнуть.
Каждый в этом сообществе, казалось, пользовался большой свободой. Полисмены не вмешивались в дела людей, за исключением случаев, когда те сами просили об этом. Складывалось впечатление, что здесь происходило меньше ссор, чем в подобных районах во Франции, и, во всяком случае, было меньше шума. Свобода действий вырождалась уже во вседозволенность, и самые эксцентричные поступки совершались в открытую. Английское целомудрие и не думало восставать.
— Целомудрие на словах, — отметил Жак.
Эта часть города, примыкающая к порту, отличалась большой активностью. На каждом углу попадались ларьки с пивом и спиртными напитками. Пили прямо за стойкой. Эль и портвейн поглощались из больших стаканов. Первый напиток показался Жаку превосходным; второй француз счел более пригодным для грузчиков, которые раньше одни только его и пили[323], откуда и пошло его название. Что же касается джина, бренди, виски, тодди — некой разновидности грога, — мятного джулепа — сиропа с виски, коктейля — пряной смеси, вызывавшей слезы на глазах у пьющего, то в дальнейшем он о них даже и слышать не хотел.
Ливерпуль, вначале показавшийся путешественникам обычным городом, со стороны порта выглядел циклопическим. Доки представляли собой сооружения, достойные работы Геракла[324]. Двойные, а иногда и тройные, они протянулись не на одно лье. Невозможно было понять, как из одного попадали в другой; даже нить Ариадны[325] не смогла бы вывести путника из этого водного лабиринта. Корабли там теснились так, что воды не было видно; глазу представало бесконечное множество судов всех форм и национальностей: гигантские американские клиперы с надстройками на палубе, способными вместить целый мир; массивные голландские галиоты[326], всегда свежие и нарядные; тонкие, изящные пароходы с длинными украшенными бушпритами[327], протянувшимися над набережными; трехмачтовики с тоннажем, способным вызвать зависть первоклассных фрегатов;[328] все эти суда, готовые к скорому отплытию, носили очаровательные поэтические имена, инкрустированные золотом и заимствованные из сказочных стран Индии и Малезии[329], знойных берегов Африки, американских заливов, проливов, рек и островов Океании; флаги и вымпелы всех наций земного шара развевались в тумане, взрывая яркими красками серую монотонность; на причалах громоздились горы тюков, из которых порой просыпался кофе, сахар или хлопок, высились штабеля красного и кампешевого[330] дерева. Всевозможные колониальные дары наполняли воздух экзотическими ароматами. Толпы рабочих, в большинстве своем в черных шапках и широких, стянутых на талии фартуках, сновали между ними. Вагоны, скользящие по рельсам, опутавшим причудливой сетью весь порт, какие-то машины, предназначенные для самых разнообразных работ, козловые подъемные краны и обычные — целая механическая популяция, непрерывно работающая, поднимала тюки, мешки, ящики, набитые товарами. Среди этого муравейника шипение выпускаемого пара, лязг блоков и лебедок, скрежет цепей, стук конопатчиков, болтающихся на канатах у бортов кораблей, свист ветра в лесу мачт и вдали — глухой рокот поднимающегося прилива — вот что слышно и видно в портовых бассейнах, вместивших в себя целое море, вот жизнь, движение, шум, одним словом, вот общий вид доков Ливерпуля!
Глава XVI
ЗНАКОМСТВО С АНГЛИЙСКИМИ НРАВАМИ
После долгой прогулки, во время которой Жак и Жонатан получили общее представление об этом замечательном комплексе, не задерживая внимания на отдельных деталях, друзья оказались на широкой плавучей набережной, покоящейся на металлических плотах-понтонах. Эта подвижная платформа, поднимающаяся и опускающаяся с приливом, делает простой и удобной посадку пассажиров на суденышки, курсирующие между Ливерпулем и Беркенхедом. Для переправы через Мерси используют несколько небольших паровых суденышек, снабженных двумя рулями — впереди и сзади. Рулевой закрепляет один из них таким образом, что тот может служить форштевнем, в результате отпадает необходимость каждый раз разворачивать судно, что экономит драгоценное время. Эти катера обычно переполнены пассажирами и, хотя переправа длится от силы десять минут, обязательно имеют буссоль[331] на борту, так как из-за густых туманов противоположный берег часто бывает не виден.
Жак тут же устремился к одному из пароходиков, увлекая за собой своего спутника, и за весьма умеренную цену, один пенни, они переправились в Беркенхед. На палубе толпилась довольно пестрая публика. Между первым и вторым классом не делалось никаких различий; торговцы рыбой, рабочие, негоцианты сидели рядом на скамьях, совершенно не обращая внимания друг на друга. Любое подчеркивание различий задевает британское чувство равенства. Жонатан оказался рядом с бедной девушкой, возвращавшейся с пустой корзиной в Беркенхед после рабочего дня. Было тяжело смотреть на ее усталое миловидное личико. Опустив голову на грудь и скрестив босые ноги, безучастная ко всему, сидела она на скамье, всей своей позой выражая глубокую безысходность. Парижанин заговорил с соседкой. Выяснилось, что ее мать умерла во время пятых родов, а отец бросил несчастных детей на произвол судьбы. Будучи старшей, девушка взяла на себя заботу о сестрах и братьях. Ей удавалось не прокормить их, а скорее отсрочить голодную смерть. Она рассказывала свою историю, не проронив ни слезинки, ибо слезы уже давно иссякли. Что может быть печальней этой столь обычной для рабочих Ливерпуля драмы? Жонатан дал юной торговке несколько монет, и бедняжка была поражена тем, что посторонний человек проникся к ней участием. Доехав до дебаркадера Беркенхеда, девушка, ни разу не обернувшись, быстро скрылась из виду. Какая участь ждет ее? Несчастная, если она посвятит себя выполнению долга, постыдная, если она послушается советов своей красоты, столь для нее опасной.
Жак и Жонатан снова оказались на набережной, и так как до часа, назначенного Джо Кеннеди, оставалось совсем немного, друзья отправились к указанной таверне в таком густом тумане, что сквозь него с трудом пробивался свет газовых фонарей. Кстати надо заметить, что, когда к вечеру магазины и лавочки закрываются, улицы погружаются в полную темноту.
Гости мистера Кеннеди были встречены с удивившей их холодной вежливостью. Мало знакомые с английскими привычками, французы насторожились. Общество состояло из дюжины молодцов, которые, казалось, совершали некий священный ритуал, собравшись вместе поужинать. Мистер Кеннеди представил молодых иностранцев одному из своих друзей, сэру Джону Синклеру, по полному церемониалу, так хорошо описанному Купером[332]. Казалось, вы слышите капитана Трака из «Американского пакетбота».
— Господин Синклер, это господин Лаваре; господин Лаваре — сэр Джон Синклер. Господин Синклер — господин Савурнон! Господин Савурнон — сэр Джон Синклер.
После подобного представления знакомство состоялось.
Ужин проходил в виде пикника. Но в Англии любое собрание или скопление людей должно происходить с выборами президента и даже вице-президента. Следовательно, надо было соблюсти традицию. Выбор пал на Джона Синклера. Достойный джентльмен холодно поклонился и занял почетное место. Вице-президентом стал плотный, крепкий малый с красным лицом и широкими плечами мясника. Он сел напротив сэра Синклера. Парижане сели вместе.
— Сколько церемоний, для того чтобы съесть простой ростбиф и ветчину с яйцами, — заметил Жак.
— Пока не вижу здесь ничего интересного. На нас не обращают никакого внимания. Приступим к еде и будем наблюдать.
Ужин состоял из обязательного в Англии куска мяса, вырезанного из боков гигантского девонширского быка, и великолепной йоркской ветчины. Сотрапезники молча поглощали огромные куски, ничем их не запивая и с трудом находя время, чтобы перевести дух. Ели левой рукой, подцепляя вилкой особым образом скомбинированные ломти мяса и окорока, покрытые толстым слоем горчицы. Салфетки отсутствовали, и каждый при необходимости использовал скатерть. В продымленной зале царила полная тишина. Одетые в черное официанты обслуживали бесшумно, изредка шепотом подавая отдельные реплики.
Так прошло более половины ужина. Жак надеялся, что ликеры, подаваемые на десерт, немного развяжут языки и растормошат эти механизмы по пережевыванию мяса, но непредвиденное обстоятельство придало празднику другой оборот.
Вице-президенту вздумалось подняться из-за стола, чтобы выйти. Сэр Джон Синклер с царственной важностью спросил причину сего поступка. Вице-президент, мистер Бриндсли ничего не ответил и направился к двери.
— Мистер Бриндсли, — властным голосом остановил его президент, — вы не можете выйти, не спросив на то моего позволения!
— Почему? — возразил тот.
— Потому, что я председательствую на этом собрании, и, следовательно, любая подобная просьба должна быть обращена ко мне.
— Да будь я проклят, если сделаю это! — возмутился вице-президент.
— Вы упорствуете в том, чтобы выйти, несмотря на мой запрет?
— Я упорствую в том, чтобы выйти, и выхожу!
Сотрапезники спокойно ожидали исхода стычки.
— Внимание! — оживился Жак. — Мы присутствуем при демонстрации английских нравов!
В тот момент, когда мистер Бриндсли открывал дверь, сэр Джон Синклер произнес спокойным голосом:
— Мистер Бриндсли, не будет ли вам угодно снять сюртук?
— Очень даже угодно, — ответил тот. — Речь идет о боксе, не так ли?
— Вы прекрасно меня поняли.
Тут же стол был отодвинут, и высвободилось достаточное пространство для поединка. Официанты, привычные к такого рода церемониям, тщательно заперли двери. Секунданты вышли поближе к бойцам, а те, в свою очередь, стали приближаться друг к другу, выставив один кулак для атаки и поставив другой в позицию защиты.
— Дьявол, — прошептал Жонатан, — дело принимает дурной оборот!
— Да нет, это их манера оживлять ужин!
Раздалось несколько сильных ударов. Те, которые были парированы рукой, звучали сухо, другие же разукрасили физиономии бойцов. Зрители обсуждали схватку и уже заключали пари об исходе поединка. На эту тему завязались оживленные дискуссии, слышались крики: «Ура, ура! Гип! Гип!» — и группки, вначале мирные и спокойные, начали приходить в возбуждение, носящее зловещие симптомы. В этот момент мистер Кеннеди подошел к французским путешественникам:
— Поостерегитесь, свалка обещает стать всеобщей, тогда и вам придется поработать кулаками.
— Благодарю покорно, — ответил Жонатан. — С меня хватит. Не имею ни малейшего желания потерять глаз.
— Однако, Жонатан, чтобы лучше вникнуть в английские нравы…
— Ты как знаешь, Жак, а я лучше ретируюсь.
— Но мой добрый Жонатан, мы — французы. На чужбине каждый француз представляет Францию; мы не можем бежать… Кроме того, дверь заперта!
— У меня идея, Жак! Действуй, как я, и мы выпутаемся.
Потасовка действительно становилась массовой. У президента, если говорить на английском боксерском жаргоне, «сопило» было сильно повреждено, а у вице-президента несколько зубов сломано в «ловушке для картошки». Шум нарастал. Сам почтенный Джо Кеннеди получил хороший удар в глаз, и «кларет» тек отовсюду, когда вдруг погас свет. Это Жак и Жонатан ловко повернули газовые краны и скрылись под прикрытием темноты, хотя и успели получить пару добрых тумаков, давших им точное представление о мощи британского кулака.
Глава XVII
НОЧНОЙ КОНЦЕРТ
— А теперь, — сказал Жонатан, когда они очутились наконец на улице, — в гостиницу!
— И быстро, поскольку я не уверен, что почтенные господа поймут нашу шутку. В обществе не принято портить всей компании удовольствие от приятного вечера.
— Ну, что касается встречи с нашими любезными сотрапезниками, мой дорогой Жак, так это маловероятно — мы уезжаем завтра.
— Но как же добрейший мистер Кеннеди? Мы должны по меньшей мере нанести ему визит «пищеварения»!
— Дружище, визит «пищеварения» наносится тогда, когда можно спокойно заняться означенным пищеварением, а это не тот случай! Так что вернемся в гостиницу, и прощайте, мистер Кеннеди, мистер Бриндсли и сэр Джон Синклер! Лично мне не терпится очутиться в Шотландии. Мелодия, музыкальное вдохновение покинули здешние края, и я смогу найти их не раньше, чем мы окажемся в королевстве Фингала.
Не успел Жонатан закончить фразу, как послышались звуки каватины из «Трубадура» «Quel suon, quelle preci solenni»[333]. Несчастный оборванец усердно дул в медный, покрытый толстым слоем зелени корнет-а-пистон, играя злополучный отрывок на углу площади Сент-Джордж-Холл.
— Есть отчего повеситься, — заметил Жак. — Так дуть в эту углекислую медь!
— А главное, в таком воздухе! — дополнил Жонатан.
И туристы, преследуемые варварской музыкой, вошли в «Королевскую гостиницу». Это было истинным наслаждением — лечь наконец на настоящие кровати, с широким белым пологом на четырех колоннах, как в средние века, хотя поначалу хлопковые, сшитые в форме мешка простыни и вызвали у них довольно неприятные ощущения. В Англии кровати занимают бoльшую часть комнаты; оставшегося пространства едва хватает, чтобы можно было повернуться, и порой приходится открывать окно, чтобы вдеть руки в рукава рубашки. Туалеты там высокие и просторные, с фаянсовыми аксессуарами гигантских размеров; в гостинице обязательно имеются специальные низкие столики, предназначенные для дорожных сундуков. Такого типа гостиницам не чужд некоторый комфорт, не вяжущийся с простыми хлопковыми занавесками и заштопанными коврами. А та, в которой остановились молодые путешественники, была, видимо, довольно респектабельной, если судить по ценам в прейскуранте — пять шиллингов за ночь.
Усталые путешественники мгновенно уснули. Однако вскоре их сон был прерван криками, точнее, воплями с улицы. Пять или шесть молодых еще женщин бранились и дрались прямо под их окнами. Впрочем, никто на это не обращал внимания; ни один постовой и не думал вмешиваться; наверное, дамы оспаривали друг у друга какого-нибудь запоздалого прохожего. Самая молодая из них, весталка[334] не по своей воле, если верить ее словам, сделала довольно курьезное замечание. Но латынь со всеми своими вольностями не в силах передать его здесь, и даже греческий недостаточно смел для этого.
Бурная сцена продолжалась довольно долго. Жак, проклиная все женское племя, сумел-таки вернуться в царство Морфея[335], но тут его сон вновь был прерван чудовищными звуками трубы. Пытаться заснуть было свыше его сил. Жак встал, открыл окно, высунулся наружу и увидел прилично одетого господина в фиакре, играющего на тромбоне. Длинная кулиса инструмента торчала из окна фиакра. Английский меломан таким образом забавлялся, объезжая в одиночестве площадь Сент-Джордж-Холл, и, надо отдать должное его мощным легким, услаждал слух обитателей всего квартала «Ricordatti»[336] из «Трубадура». Причем каждый раз как по мере продвижения фиакра раструб его инструмента поворачивался к «Королевской гостинице», этот кошмарный «Ricordatti» разражался жуткими нотами.
— Ну почему все время «Трубадур»? — простонал Жонатан.
— Это истинно английская музыка, в полсотни лошадиных сил.
Усталость наконец взяла свое, а на рассвете путешественники были уже на ногах, готовые осматривать другие районы города. Прежде всего туристы заглянули в Сент-Джордж-Холл, где смогли полюбоваться гигантским органом в 90 труб с мехами, приводящимися в движение паром; затем они направили свои стопы к двум красивым соборам — Святого Петра и Святого Павла, чьи стены, казалось, были покрыты толстым слоем копоти; но эти темные тона, хотя и скрывают некоторые детали отделки, хорошо сочетаются с тяжеловесной прямоугольной саксонской архитектурой; молодые люди прошли перед колледжем в готическом стиле, пересекли внутренний двор биржи, украшенный большой бронзовой группой, и миновали таможню, монументальное здание, выходящее в порт. Так они дошли до доков Нью-Принсес, откуда начинается канал Лидс — Ливерпуль. Затем им захотелось еще раз увидеть гигантские сооружения порта, и друзья поднялись на империал омнибуса, огибающего внешнюю стену доков. Во встречном омнибусе Жак и Жонатан заметили достойного капитана Спиди, сидящего, как и они, на скамье империала, и обменялись с моряком приветствиями. К полудню приятели прошли перистиль[337] «Королевской гостиницы».
Там их ждал хороший завтрак из холодного мяса, пива, чая и гренок, подававшихся под именем тостов на серебряном блюде, и голодные путешественники отдали ему должное. Расплатившись за гостиницу, они в сопровождении носильщика, несшего чемоданы, отправились на вокзал Каледонской железной дороги.
На английских вокзалах практически отсутствуют залы ожидания; часы отправления поездов точно расписаны; цена зависит от скорости. Кассы по продаже билетов открываются задолго до отправления, так что каждый может выбрать себе место и расположиться в купе, когда ему вздумается. Жак, желая показать, что он полностью освоился в Англии, подошел к кассе и довольно уверенно произнес по-английски:
— Два билета второго класса до Эдинбурга, пожалуйста.
Он вложил в эту фразу все свои познания в английском языке и с гордостью получил два билета второго класса. Что до цены, то молодой француз предоставил обсуждение этого вопроса, явно превышающего его возможности, другу. Поскольку никто не предлагал сдавать багаж, путешественники поместили его тут же в купе и стали нетерпеливо ожидать отъезда. Долгожданный момент наступил через час. Паровоз издал куда более благозвучный свисток, чем это делают его французские собратья, и состав въехал в тоннель длиной 500 метров.
Глава XVIII
О ПРЕВОСХОДСТВЕ АНГЛИЙСКИХ
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Выйдя из тоннеля, поезд ускорил ход. Английские железные дороги превосходят французские по скорости; движение вагонов мягче, что связано как с качеством рессор и большой площадью их опорной поверхности, так и с упругостью рельс. Зато англичане практически не следят за этим видом транспорта. Вы не увидите здесь привычных для Франции путевых обходчиков на каждом километре, хотя составы следуют друг за другом почти непрерывно. И сколько же в результате несчастных случаев, которыми, впрочем, мало занимаются, не говоря о тех, которыми не занимаются вовсе! Судебный чиновник приходит, чтобы констатировать факт гибели жертвы от несчастного случая, и этим все сказано: напряженность деловой жизни, необходимость налаживания коммерческих связей, служебная необходимость — все это является в глазах общества серьезным оправданием этих, пусть и непреднамеренных, убийств. Следует, однако, отметить, что несчастные случаи вовсе не связаны с неизбежным риском: за кажущейся беспечностью служащих и машинистов скрывается поразительная интуиция при эксплуатации огромного хозяйства. Англичане вместе с американцами — первые механики мира; они не отступают ни перед какими препятствиями, и идея приходит к ним в голову одновременно с изобретением механизма, способного ее осуществить на практике; одним словом, в области механики для них нет невозможного. Отсюда становится понятным, как во время Крымской войны могла быть основана серьезная, с солидным капиталом компания для взятия Севастополя. Согласно договору, город должен быть покорен в указанные сроки, в противном случае требовалось уплатить миллионы неустойки за каждый просроченный день. Указанная компания обязалась создать необходимые машины и, безусловно, смогла бы добиться более быстрого результата и с меньшим кровопролитием. Но если война становится акцией анонима, то кому же достанется слава?
— Вопрос очень серьезный, — поверял приятелю свои соображения Жак.
Вскоре поезд миновал Уиган и Престон, известные по очаровательной комической опере про Адама, называющейся его именем. Дорога пролегала по зеленым равнинам Ланкашира. Пастбища и фермы Англии имеют особую зелень и свежесть; при взгляде на них возникает физическое ощущение цвета. Это графство, омываемое многочисленными реками, согреваемое термальными источниками, богато самой разнообразной продукцией; коммерция и промышленность здесь очень развиты, и сельские жители просто излучают довольство и счастье в своих очаровательных коттеджах.
Состав ненадолго остановился на вокзале Ланкастера, менее индустриального, чем его гигантские соседи Ливерпуль и Манчестер, города, так сильно пострадавшего во времена войн Двух Роз[338]. Исторические города типа Ланкастера, игравшие видную роль в средние века, остались позади с развитием центров мануфактуры; пятнадцать тысяч жителей древней цитадели не могут соперничать с двумястами тысячами Ливерпуля, который еще в начале восемнадцатого века был провинциальным городком с семью тысячами душ населения.
После Ланкастера — Пенрит, за Пенритом — Карлайл и затем, наконец, — граница Шотландии. На каждой остановке Жак выходил подышать воздухом, осмотреться и прочитать название станции, но это последнее ему редко удавалось. Английские вокзалы спланированы неудачно; они загромождены огромными досками объявлений, на которых тысячи надписей и сообщений, написанных белыми буквами по синему фону, громоздятся друг на друга. Жак терялся среди путаницы бесчисленных названий и терминов и подобно обезьяне Пирея[339] принимал в конце концов какое-либо указание за название места. Так случилось с ним в Карлайле. Поднявшись в вагон, он сообщил Жонатану:
— Мы в Ladies’ Rooms[340].
— Дурак, — ответил друг, указав на его промах.
Обескураженный Жак встал у двери и сосредоточил все свое внимание на убегающем в даль ландшафте. Он знал, что граница Шотландии уже близко, и всматривался в даль, надеясь отыскать взглядом хоть одну гору. Увидеть гору! Какое это должно быть зрелище для человека, который в жизни не видел ничего выше Монмартра! Спустя несколько мгновений, на этот раз без ошибок, молодой человек прочитал название станции — Гретна-Грин — первого шотландского города!
Сладостное имя, заставлявшее биться сильнее столько сердец! Очаровательное название, где столько романов закрыли последнюю страницу, чтобы уступить место истории! Не только кузнец, как это обычно считалось, но также местный трактирщик и рыбак имели надлежащие права, чтобы сочетать браком по шотландским обычаям, и от простого кокни до Карла-Фердинанда Бурбона, брата короля Сицилии, — ведь перед любовью все равны — сколько супружеских пар соединилось перед этими импровизированными магистратами! До сих пор ими тайно заключаются браки, несмотря на правительственный запрет 1846 года. Поезд на всех парах пролетел мимо Гретна-Грин, оставив город позади, как мимолетное воспоминание о временах любви.
Путешественники вдыхали наконец воздух Каледонии!
Вдруг Жак, высунувшись из окошка, вскричал в сильнейшем волнении:
— Дружище! Вот она!
— Что именно?
— Первая гора в моей жизни!
— В самом деле? Ты дашь мне ее подержать немного? Я тебе ее верну, честное слово!
— Смейся сколько хочешь, но посмотри, видишь этот размытый силуэт на горизонте? Это настоящая гора, и ее вершина теряется в облаках!
Жак был абсолютно прав. Появились первые отроги горной цепи Скиддоу, и верхушка одинокой горы сливалась с дымкой. Рельсы начали петлять по изгибам рельефа, и вид за окном полностью изменился. Вдруг резко, без переходов характер пейзажа стал диким и суровым. Долина превратилась в глубокое ущелье, и поезд на всей скорости помчался по головокружительному откосу, прицепившись к склону древних скал. В этом беге было что-то фантастическое, и на каждом повороте, казалось, состав готов был низринуться в пропасть, на дне которой во мраке ревели воды горного потока. Острые камни, печальный вереск на бесплодной почве, полное одиночество вместо яркой зелени и оживления английской равнины; это была страна Фергюса и Мак-Грегора[341].
Жак и Жонатан не могли оторваться от окна; но через час первое видение Хайлэндс[342] исчезло, чтобы смениться долинами Лоулэндс. Ночь спустилась быстро, и, откинувшись на сиденья, друзья в молчании переживали новые, столь сильные впечатления.
К одиннадцати часам поезд остановился в Карстэрс, на развилке дороги. Отсюда одна ветвь пути направляется в Глазго, а другая — в Эдинбург. Путешественники, убаюканные усталостью и темнотой, в полночь пробудились под шум проливного дождя в столице Шотландии.
Глава XIX
ПРИБЫТИЕ В ЭДИНБУРГ
На вокзале молодые люди взяли экипаж и отправились в рекомендованную им ранее гостиницу Ламбре на Принс-стрит по широким, но плохо освещенным улицам с крутыми подъемами и спусками. Принс-стрит предстала перед ними небольшими домами по левой стороне, по правой же — решеткой большого сада и теряющимися во мраке высокими громадами.
В отеле путешественники были встречены хозяином заведения месье Ламбре. Им указали две отдельные комнаты, попасть в которые можно было по самой необычной лестнице; впрочем, это характерно для Англии, и ничего не стоит запутаться на этих хитроумных сооружениях.
Довольно жалкие комнаты напоминали провинциальные гостиницы, какие можно еще встретить в Амьене или Блуа.
Оставив вещи в комнате, а ключ в двери, как это было заведено, Жак, сопровождаемый Жонатаном, спустился в красивый салон, где уже был накрыт ужин: холодный ростбиф, ветчина и две пинты[343] превосходного шотландского эля, пенящегося в серебряных кружках с гербом города.
Жак жадно поглощал яства; в последний раз он завтракал в Ливерпуле. Жонатан ел умереннее и, закончив быстрее, погрузился в размышления перед огромной картой Шотландии, висевшей в зале на стене. К часу пополуночи друзья поднялись в комнаты. Перед тем как лечь, Жак не мог удержаться от искушения открыть окно. В кромешной тьме дождь обрушивал потоки воды на город. Глаз не мог различить абсолютно ничего, если не считать обширного пустого пространства со множеством светящихся точек вдали на большой высоте. Молодой человек, как ни старался, не мог дать этому явлению объяснения и так и заснул.
С первыми лучами солнца Жак вскочил с постели и, несмотря на то, что его приятель уже стучался к нему, бросился к балкону. Перед его взором во всем своем великолепии простиралась широкая Принс-стрит. Справа, у подножия большого холма, раскинулись чудесные сады, а на вершине того же холма высился Эдинбургский замок; прямо перед ним, над зданием железнодорожного вокзала, огромные дома тянули к небу свои десять этажей, изрешеченных окнами. Перед изумленным юношей предстал весь старый город, примостившийся на склонах высокого холма, плавно поднимавшегося слева; вдали на горизонте виднелась вершина горы. Жак указал на нее:
— Туда наша первая экскурсия.
— Отнюдь, — возразил Жонатан. — Начнем с того, что обойдем цитадель, по дороге где-нибудь позавтракаем и только тогда сможем позволить себе это достаточно нелегкое восхождение.
День обещал быть хорошим, и, приняв этот план, двое друзей вышли на улицу.
Принс-стрит расположена в узкой долине, пролегающей между старым и новым городом. С левой стороны к ней примыкают вокзал и решетка городского парка с чудесными лужайками. Посреди одной из них, примерно на половине улицы, стопятидесятифутовое сооружение с башенками, колоколенками и острым шпилем развернуло все великолепие пламенеющей готики. Это памятник сэру Вальтеру Скотту. Великий писатель задумчиво сидит на нижней площадке памятника под замком стрельчатого свода. Этот мраморный памятник пользуется большой известностью. Лицо романиста тонкое и умное; фигура самого писателя окружена героями его романов; в четырех нишах в нижней части памятника можно видеть, а правильнее сказать, любоваться «Девой Озера», принцем Чарлзом из «Уэверли», Мег Меррилиз и «Последним менестрелем»[344].
Принс-стрит тянется вдоль решетки сада, носящего то же имя, и ряда невысоких домов по противоположной стороне, почти всех предлагавших приют путешественникам и носящих имена: «Королевская гостиница», «Гиббс-Роял-отель», «Каледонская гостиница», «Кэмпбелс-Норт-Бритиш-отель»; среди садов возвышаются Королевский институт в греческом стиле и Национальная галерея в этрусском стиле[345]. Все эти здания, имеющие большую или меньшую ценность с точки зрения архитектуры, отличаются тем, как, впрочем, и все памятники Англии и Шотландии, что их строительство полностью закончено, все они ухожены и содержатся в идеальном порядке. Нигде не увидишь карнизов, либо недоделанных, либо уже выщербленных, лесов, этих уродливых сооружений, успевающих порой сгнить до завершения постройки.
Друзья дошли до собора Святого Джона в конце Принс-стрит и, свернув налево по Лотиан-роуд, двинулись вдоль вокзала Каледонской железной дороги; они намеревались обогнуть скалу с прилепившимся к ее вершине, подобно орлиному гнезду, Эдинбургским замком. В прежние времена этот холм и составлял собственно город, именуемый в народе Старой коптильней, «Auld Reeky». От замка на вершине к дворцу Холируд[346] у подножия ведет прямой спуск. Это Хай-стрит и предместье Кэнонгейт[347]. Холм соединяется высокими мостами с двумя другими, на севере которых раскинулся новый город, а на юге — предместья. Рельеф Эдинбурга самой природой предназначен для устройства видовых площадок и возведения монументов. И город, удостоившийся титула Северных Афин, не испытывает недостатка ни в том, ни в другом. Гордый своим университетом, колледжами, школами философии, поэтами и ораторами, Эдинбург не только своим обликом, но еще более своей культурой заслужил это название.
Пересекая Грасс-Маркет[348], Жак обратил внимание своего спутника на круто возвышающиеся дикие, старые скалы из зеленого базальта, увенчанные, как короной, замком. Когда-то площадь служила местом казней, на нее Вальтер Скотт перенес действие одного из самых драматических эпизодов романа «Эдинбургская темница»: здесь повесили капитана Портеуса. Жонатан был удивлен начитанностью и осведомленностью друга, который до отъезда целиком отдавал себя книгам. Здесь, на этой площади «работал» lockman, палач, справедливо так прозванный за то, что имел право взять немного муки из каждого мешка на городском рынке. Рядом с площадью в узком переулке разыгрались кровавые драмы Бёрка-душителя.
Друзья вышли на Хай-стрит возле собора и дворца Парламента, однако не стали задерживать внимание на указанных зданиях. Собор Сент-Джайлс показался им слишком тяжелым образчиком саксонской готики;[349] Парламент-хаус, весьма незначительный в плане архитектуры, расположен на углу площади, в центре которой стоит неудачная конная статуя Карла Второго[350].
Читая «Эдинбургскую темницу», Жак проникся своего рода археологической любовью к старой тюрьме Толбут, где так страдала несчастная Эффи Динс! Он с особой тщательностью изучил эту часть романа и надеялся блеснуть познаниями. Согласно расчетам молодого поклонника Вальтера Скотта, туристы уже должны были подойти к этому мрачному памятнику старины, и юноша жадно искал его глазами, но не мог нигде обнаружить. В отчаянии он поделился своим горем с Жонатаном.
— Давай спросим, — предложил тот.
— У кого?
— В книжной лавке; войдем в этот магазин.
— Хорошо, но если и здесь ничего не знают, то больше мы нигде не получим ответа. На том самом месте, где мы стоим, находился вход в погреб старой миссис Мак-Люхар; здесь она беседовала с милейшим антикварием, бранившимся в ожидании дилижанса на Куинсферри, так называемой «Хоузской кареты»! Мне так и кажется, что я вижу лорда Монкбарнса, семенящего по Боу или Кэнонгейт в поисках древностей и редких книг, «этих маленьких эльзевиров»[351], как он их сам называл и которые он с триумфом приносил домой!
Во время этой тирады Жонатан вошел в книжную лавку, но вскоре появился вновь, к сожалению, так ничего и не узнав. Достойный книготорговец даже не слышал о романе с названием «Эдинбургская темница».
— Это уж слишком! — возмутился Жак.
— Тем не менее это так.
— Он тебя не понял.
— Прекрасно понял.
Впоследствии Жак узнал, чем объяснялось происшедшее недоразумение. Роман, о котором идет речь, никогда не публиковался в Англии под этим названием. Он был назван по имени, которое носила в те времена древняя тюрьма, — «Сердце Мидлотиана». Мидлотиан, или Срединные земли, — название графства, столицей которого является Эдинбург. Тюрьмы уже больше не существует. Ее снесли в 1817 году, и тогда же благодаря любезности своего старого друга Роберта Джонстона, эсквайра, а в то время главы городской гильдии[352], Вальтер Скотт получил разрешение забрать камни и огромные засовы от ворот мрачной твердыни, которыми украсил вход на хозяйственный двор своего имения Эбботсфорд[353].
Глава XX
ГОРОД КОНТРАСТОВ
— Теперь для полноты ощущений, — заметил Жак, спускаясь по Хай-стрит, — мне хотелось бы найти таверну с гербом Уоллеса[354] — тремя журавлями или кольчугой Саутуорка[355] на вывеске, — местный колорит ничуть не повредит нашему завтраку.
— Не возражаю, но прежде всего давай позавтракаем, с гербом или без него.
В Эдинбурге трудно отыскать место, помимо гостиниц, где можно поесть. В городе нет ресторанов, как в Париже, а редкие таверны не имеют вывесок. Запасшись терпением, друзья разыскали в конце концов нечто типа кафе перед Трон-Черч, где за умеренную плату насладились холодным мясом и шотландским элем. Жонатан хотел заказать яйца, но не смог объясниться с хозяином — в его словаре не нашлось слова «всмятку».
После сытного завтрака Жак вернулся к высказанной утром идее, и Жонатану пришлось последовать за ним к горе, которую они созерцали из окна гостиницы. Парижане спустились к замку Холируд по Хай-стрит, оживленной улице, подробно описанной Вальтером Скоттом в романе «Аббат»[356], оставили позади Бридж-стрит, соединяющую гигантским мостом три холма, на которых раскинулся Эдинбург. В конце улицы виднелся университет, построенный на месте дома, который Босуэл[357] взорвал с трупом Дарнлея[358]. Надо сказать, что в Эдинбурге нельзя и шагу ступить, чтобы не натолкнуться на живое напоминание о Марии Стюарт[359], не оказаться среди таинственных руин романов великого шотландского писателя. Продолжением Хай-стрит является улица Незербау[360]. Здесь сохранился дом великого реформатора шотландской церкви Джона Нокса, единственного человека, устоявшего перед чарующей улыбкой шотландской королевы. Возможно, что именно поэтому он спокойно скончался в своей постели 24 ноября 1572 года. Незербау сменяется старинной улицей Кэнонгейт, служившей когда-то границей города.
Этот пригород, ведущий к королевскому дворцу, являет собой царство нищеты: голые дети, женщины и девушки, босые, в лохмотьях — они бродят, встречаются друг с другом и расходятся, снуют по улицам, скользят жалкими и голодными тенями вдоль высоких домов. И тем не менее среди этих бедняков, в смрадном воздухе, располагающем к эпидемиям, на грубой, грязной мостовой, в глубине отвратительных, темных, сырых улочек, известных под именем Клоуз[361], ведущих в мерзкие притоны и спускающихся к двум смежным оврагам, среди всего этого убожества чувствуется грозное дыхание поэзии старой Шотландии. Здесь Уэверли вошел в город, прибыв впервые в Эдинбург, здесь портной сшил ему знаменитый боевой наряд из тартана[362], которым так восхищалась вдова Флокхарт. Здесь на маленькой площади горцы стреляли из ружей после победы Претендента[363], и Флора Мак-Ивор[364] чуть было не попала под пули охваченных восторгом людей. Улица Кэнонгейт ни с чем не сравнима; ее вид sui generis[365] неповторим; хибары, лавочки с вывесками, поскрипывающими на железных цепях, широкие навесы, часы тюремного замка, посреди улицы выставляющие на обозрение свой роковой циферблат, сохранившиеся до сих пор столы старых харчевен для разделки туш — все это придает кварталу своеобразный колорит, который лишь кисть Делакруа[366] способна передать. На Кэнонгейт, как, впрочем, и в других районах города, женщин намного больше, чем мужчин, — оттого, что мужская прислуга — редкость в Эдинбурге. Служанки, горничные в старых шляпках своих хозяек, бегущие по их поручениям, в обилии встречаются на улице.
Приближаясь к Холируду, улица немного расширяется и проходит мимо больницы и церкви Кэнонгейт с примыкающим к ней кладбищем. Церковь являет собой готическое здание, без признаков какого-либо определенного архитектурного стиля. Наконец улица выходит на площадь, в глубине которой возвышается дворец древних властителей Шотландии.
Здесь толпится народ, чтобы полюбоваться новой достопримечательностью города — очаровательным фонтаном, в котором, казалось, отразилось все великолепие возрожденной готики, следовательно, он не отличался чистотой стиля, но все детали были так тонко проработаны, с таким терпением отделаны, дышали такой свежестью, что смотреть на весь ансамбль было одно удовольствие. Казалось, тропический цветок вырос и распустился летней ночью.
Жак с Жонатаном направились к Холируду. У ворот дворца стояли часовые, одетые в старинные шотландские костюмы: юбки из зеленой материи, клетчатые пледы, у бедра — сумки из козьего меха, свисавшие чуть ли не до земли. Из-за недостатка времени туристы ограничились тем, что полюбовались четырьмя мощными башнями с зубцами, придающими дворцу вид средневекового замка. За исключением полуразрушенной старой часовни за дворцом, воздевающей к небу стрельчатые готические арки, невозможно отличить новые постройки от реставрированных. Несмотря на мрачные события прошлого, преступления, совершившиеся здесь, ужасную память о трагической любви Марии Стюарт и бедного Риччо[367], эта старинная резиденция не выглядит угрюмо и зловеще. Наоборот, ее можно принять за небольшой загородный дворец, сохранивший по прихоти владельца свой первозданный феодальный облик. Надо было быть свергнутым королем, как Карл X[368], чтобы не наслаждаться там полным покоем без сожаления о прошлом и забот о будущем.
— Холируд, Холируд! — воскликнул Жак, декламируя строку Виктора Гюго[369]. — А теперь на приступ горы!
— Она довольно отвесна. Может, поищем менее крутую тропу?
— Никогда! Поднимаемся прямо вверх! Вперед!
С этими словами Жак устремился в Королевский парк, простиравшийся справа от дворца, где в это время кавалерийский полк проводил учения. Сверкающее на солнце оружие, яркие красные мундиры замечательно вписывались в окружающий пейзаж. Несколько деревьев затеняли берега небольшого озера, скорее даже пруда, омывающего подножие холма.
Жак невольно вспомнил сцены из «Уэверли», разыгравшиеся на этом самом месте; здесь собиралась армия принца Карла Эдуарда с колышущимися тартанами, трепещущими плюмажами, полощущимися стягами, на которых читались боевые девизы кланов: Клэнроналдов, Мак-Фарленов, Туллибардинов, Гордонов, — сзывавшие их под знамена[370]. В центре вздымалось знамя принца с девизом: «Tandem triumfans»[371], получившим подтверждение вскоре в битве при Престонпансе.
Справа с равными интервалами раздавались звуки выстрелов, эхом отдававшиеся от склонов гор, — стрелковая рота упражнялась в стрельбе из карабинов. Постепенно, по мере подъема, взглядам путешественников открывались все новые перспективы, но Жак поклялся ни на что не смотреть, пока не доберется до вожделенной вершины.
Через некоторое время друзья миновали Виктория-драйв — прекрасную окружную дорогу, удобную для экипажей и удостоившуюся нескольких строк в романе Вальтера Скотта, причем великий романист тешил себя надеждой, что эти строки и явились причиной восстановления дороги. Вальтер Скотт создал чарующую картину тропок, вьющихся у подножия Солсберийских утесов. Это высокое скальное полукружие образует подножие Артурова Седла[372], горы, на которую карабкался Жак. Высота ее составляла около тысячи футов, чему молодой француз никак не хотел поверить, считая, что она не больше трехсот. Не привыкший к подобным картинам, он не раз впадал в заблуждение такого рода. Наконец, значительно обогнав запыхавшегося Жонатана, Жак, обливаясь потом, с бешено бьющимся сердцем и с прерывающимся дыханием, достиг вершины Артурова Седла. На мгновение он закрыл глаза, потом обернулся к городу и осмотрелся.
Никогда еще более величественное зрелище не представало перед более восторженным и ошеломленным взором. Одинокая вершина Артурова Седла владычествовала над окрестностями, внизу, у подножия, расстилалась панорама Эдинбурга: чистые, прямые кварталы нового города, скопление домов и причудливая сетка улиц Старой коптильни; надо всем этим возвышались замок на базальтовой скале и Колтон-Хилл с руинами современного греческого памятника; от столицы лучами расходились прекрасные, обсаженные деревьями дороги; на севере залив Ферт-оф-Форт, морской рукав, глубоко врезался в берег, где виднелся Лейтский порт; выше, на заднем плане, глазам открывалось живописное побережье Файфского графства, а на востоке — беспредельная гладь моря, синяя и спокойная. Эти Северные Афины соединялись с морем, по словам Шарля Нодье, прямой дорогой, словно Пирейская[373]. Далеко на западе вырисовывался пик Бен-Ломонд, а справа расстилались прекрасные пляжи Ньюхейвена и Портобелло с купальнями. Перо не в силах описать величия дивного зрелища. Жак замер в немом восторге перед открывшейся панорамой. Жонатан разделял молчаливое восхищение приятеля. Друзья долго стояли неподвижно, вдыхая доносившиеся запахи моря.
— Надо спускаться, — сказал наконец Жак. — Надо скорее спускаться, а то еще немного — и нам захочется остаться здесь навсегда. Невозможно оторваться от чарующего зрелища. Пойдем, Жонатан.
Они взошли на Артурово Седло по самому крутому подъему. Более пологая тропа вилась по противоположному склону. Молодые шотландки, свежие и румяные, поднимались по ней, смеясь и восклицая:
— О, мои ноги! Мои бедные ноги! My poor legs!
Жонатан, гордый тем, что понял шутку, послал девушкам самую обворожительную улыбку, на какую только был способен. Во время спуска ему пришла счастливая мысль искупаться в Портобелло, и через полчаса приятели были на берегу моря.
Портобелло — это всего несколько домов на очень красивом пляже. Откуда взялось итальянское название среди суровых гэльских имен? Жонатан не мог объяснить этого иначе как присутствием при дворе Марии певца Риччо и его компаньонов. Там, на золотом песке, протекала «купальная» жизнь, известная по английским гравюрам. Многие семьи проводили на пляже самые теплые часы дня; дети под присмотром бонн[374] и гувернанток играли, а их матери и очаровательные молодые мисс плескались в воде. Мужчины купались в десятке метров от женщин. Передвижные кабинки доставляли их за линию прибоя.
— Вот оно, английское целомудрие! Во Франции пляжи не разделены, — восхитился Жак.
— Жаль, очень жаль, но, что поделать, подчинимся местным нравам, — откликнулся Жонатан.
И каждый вошел в свою кабинку на колесиках.
— Жонатан, — позвал Жак через несколько минут, — попроси у хозяина заведения купальные костюмы.
— Дьявол! Это трудно! Я не знаю слова.
— Объяснись жестами!
Жонатан позвал служителя, но, как ни старался, ничего не смог от того добиться и сообщил другу неутешительные результаты переговоров.
— Хороши же мы будем! Как же ты не смог?!
— Видимо, это настоящий нижнебретонец[375].
— Но все-таки не можем же мы…
Фраза застыла у него на губах; в приоткрытую дверку кабинки он заметил великолепного купальщика, чистокровного англичанина, грациозно и неспешно выходящего из воды в костюме Адама[376].
— Жонатан, посмотри же…
Жонатан был поражен. Остальные купальщики выходили на пляж столь же мало одетые, как и первый, нимало не заботясь о мисс и миссис на берегу! Друзья больше не размышляли. Они побежали к воде и, не оборачиваясь, бросились в волны.
— Вот оно, английское целомудрие! — рассмеялся Жонатан, отбрасывая со лба мокрые волосы.
— И безусловно, обратное будет выглядеть шокирующим.
Температура воды показалась молодым купальщикам, несколько дней назад нырявшим в бухте Аркашон, не слишком высокой, и после некоторых, вполне естественных сомнений, прежде чем вернуться в кабинку в этом первозданном наряде, они вышли из воды, пятясь задом, рискуя своим видом и поспешным бегством вызвать взрывы веселья молодых барышень.
Глава XXI
АНГЛИЯ: ЛЕДИ НА ПРОГУЛКЕ
Освежившись купаньем, друзья отправились в таверну, точнее «грот», где с удовольствием выпили по кружке превосходного эля. В это время подошел омнибус, совершавший регулярные рейсы между Портобелло и Эдинбургом. Друзья поднялись на империал, с трудом втиснувшись в заполнявшую его толпу: дети, старики, женщины, собаки — кого только не было в этом тряском ковчеге! Нельзя было найти ни одного закутка, не занятого пассажиром, и кучер, важный и серьезный, в черном костюме и шляпе, лишь чудом умещался на козлах, теснимый сзади пассажирами. Омнибус обогнул Колтон-Хилл и въехал на Риджент-роуд, миновав новую городскую тюрьму — хаотичное нагромождение маленьких саксонских построек, разбросанных по склону небольшого холма, окруженных зубчатыми стенами с часовыми на каменных вышках, толстыми решетками на окнах и бесчисленными бойницами. Казалось, глазам предстает средневековый город в миниатюре, содержащийся в исключительной чистоте, натертый и отполированный до блеска.
Омнибус остановился перед театром, об архитектуре которого лучше умолчать, и почти напротив здания архива, украшенного нелепым куполом.
Оттуда друзья вернулись в отель Ламбре, чтобы посмотреть план Эдинбурга. Брат Жонатана был женат на племяннице респектабельного шотландца, проживавшего с семьей в Эдинбурге. Парижский меломан, о чьем приезде, впрочем, было сообщено заранее, рассчитывал на радушный прием, а будучи принят этим почтенным семейством, надеялся поближе познакомиться с нравами и обычаями Шотландии. Поделившись своими соображениями с Жаком, он предложил отправиться вместе. Тот с готовностью согласился.
Мистер Б. проживал на окраине города, на Инверлайт-роу. Чтобы попасть туда, надо пересечь новые кварталы столицы и пройти по современным улицам, нарекающимся площадями, террасами, шоссе, дорогами, проспектами и, наконец, улицами исключительно с одной целью — сбить с толку туриста.
Жак засыпал друга вопросами о мистере Б. Помешанный на Вальтере Скотте, он спрашивал, как к нему надо обращаться: «ваша честь» или «ваше сиятельство», и ожидал увидеть эсквайра в национальном шотландском костюме.
Пройдя по улице Сент-Эндрю, парижане вышли к площади, посреди которой стоял памятник Мельвилю[377] — колонна с каннелюрами[378] и фигурой наверху, напоминающая колонну Траяна[379] в Риме. Кстати, почти все архитектурные памятники Эдинбурга являют собой копии, часто уменьшенные и, как правило, неудачные, известных памятников древности. На площадь перед сквером выходило фасадом здание Королевского банка, который не следует путать ни с Шотландским банком, ни с банком Английской компании, расположенном в особняке с коринфскими колоннами[380] несколькими метрами дальше, ни с Коммерческим банком — постройкой, в которой греческий и римский стили оспаривают друг у друга право на орнамент, ни, наконец, со всеми прочими банками, заполонившими города Англии.
Сент-Джордж-стрит проходит параллельно Принс-стрит от площади Сент-Эндрю до церкви Святого Георга. Эта улица просто великолепна в обрамлении особняков страховых компаний, библиотек, музеев и церквей, не без основания претендующих на звание архитектурных памятников. В это время с остроконечной колокольни церкви Сент-Эндрю раздался радостный благовест. Жонатан пометил в записной книжке серию звуков, идущих по нисходящим квинтам: до, фа, си, ми, ля, ре, соль, до. Эта последовательность создавала своеобразный, поразивший слух музыканта звуковой эффект. Прохожие, безусловно, не обращали на него никакого внимания. Они важно шли с видом занятых деловых людей. Эта часть населения резко отличалась от жителей Кэнонгейт: женщины в безвкусных туалетах кричащих цветов вышагивали на длинных негнущихся ногах по-британски широко и самоуверенно; слишком низкая талия платьев удлиняла и без того плоскую верхнюю половину фигуры; на каждой была неизменная шляпа с широкими полями. Поглядев на одну из этих угловатых миссис, Жак обратился к Жонатану:
— Тебе никогда не приходила в голову дурацкая мысль, что карта Англии и Шотландии очень напоминает английскую леди на прогулке? Шлейф платья в складку и с оборками тянется до Атлантического океана; приспущенную талию охватывает пояс графств, стягивающий остров между Ирландским и Северным морями; леди несколько изогнулась, откинув назад голову с угловатыми чертами лица, на котором Ферт-оф-Форт изобразил огромный рот; наконец, ее голову украшает круглая шляпа, из-под которой выбиваются локоны — многочисленные острова! Посмотри — и при желании увидишь эту картину.
Так за разговором двое парижан достигли отвратительной статуи Георга IV[381] и по Ганновер-стрит вышли к продолговатой формы площади — Саду Королевы. В целом эта часть города исключительно хорошо смотрится. Проложенные под прямыми углами улицы, широкие и чистые, почти безлюдны; вдоль них выстроились невысокие аккуратные дома с фасадом на три окна, состоящие, как правило, из подвала для кухни и двух этажей над цокольным. Каждый коттедж занимает одна семья. Чтобы войти в такой дом, нужно пройти по небольшому мостику под греческим портиком. Жак забавлялся, читая таблички с указанием профессии владельца дома: хирург, врач, стряпчий… Надписи, которые он не мог понять, также вызывали у него приступы веселья. Лишь одна, часто повторяющаяся, казалась ему устрашающей и угрожающей, и он с изумлением перечитывал подозрительное слово: upholsterer!
— Это всего-навсего обойщик, — пояснил приятелю Жонатан.
— А по какому праву, скажи на милость, обойщик может так называться?
Глава XXII
ОЧАРОВАНИЕ МИСС АМЕЛИИ
Двигаясь все время в направлении Лейта, парижане дошли наконец до Инверлайт-роу и, преодолев еще с полмили, оказались перед домом мистера Б. Перед крыльцом они увидели небольшой двор, окруженный решеткой. Вилла была очаровательна — чистая, кокетливая, с широкими окнами, дающими неограниченный доступ свету и воздуху.
Жонатан позвонил. Дверь открыла служанка. Парижанин на своем лучшем английском спросил мистера Б., и его в сопровождении Жака провели по натертой до блеска лестнице, покрытой ковровой дорожкой, в салон на первом этаже.
Здесь гости увидели двух женщин с рукодельем на коленях.
Это были миссис Б. и мисс Амелия, ее дочь, очаровательная молодая особа, чья живость, предупредительность и грация приятно контрастировали с обычной британской холодностью. Парижане представились сами. Их ждали, и благодаря мисс Амелии знакомство быстро состоялось. Сама миссис Б. не говорила по-французски, но ее дочь, жившая какое-то время в Нанте и Париже, прекрасно изъяснялась на этом языке, хотя и с легким шотландским акцентом. Жак, в восторге от того, что может наконец вести свободную беседу, был сама любезность и не отходил ни на шаг от мисс Амелии.
По указанию хозяйки в гостиную принесли поднос с двумя бокалами и двумя бутылками, портвейном и шерри (английское название хереса). Эти два типа вина составляют, очевидно, основу английских погребов, ибо щедро предлагаются всегда и везде. Молодые люди выпили бодрящего напитка с несколькими печеньями и попросили о чести быть представленными мистеру Б.
— Отца сейчас нет дома, — ответила мисс Амелия, — но если вы окажете нам удовольствие отобедать с нами, то увидите его.
Жак извинился за себя и за своего спутника. Он не хотел злоупотреблять гостеприимством, даже будучи в Шотландии.
— Это не злоупотребление, — возразила любезная мисс, — обед будет без всяких церемоний. Но мистер Савурнон композитор, а я настоящая меломанка. Можно провести вечер органной и фортепьянной музыки.
— Ну что ж, если вам угодно, мадемуазель, завтра — воскресенье, и, если это устраивает мистера и миссис Б…
— Это совершенно исключено! — воскликнула девушка. — Завтра вы непременно обедаете у нас, но мы не сможем музицировать, чтобы не нарушить традиций. Это непреложное правило и для католиков, и для протестантов.
Молодые французы сдались перед столь убедительными аргументами.
— Сейчас, — продолжала девушка, — я возьму шляпку и шаль и до обеда покажу вам местные достопримечательности.
В сопровождении матери она вышла из салона.
— До чего очаровательная шотландка! — сошлись во мнении приятели.
Салон представлял собой большую светлую комнату, интерьером отвечающую всем требованиям английского комфорта. Широкие окна, как и везде в Англии, открывались сверху вниз при помощи пружины и противовеса, напоминая старинные окна с фрамугой, но были гораздо более легкими. Это устройство без створок позволяет устанавливать жалюзи изнутри. Стекла с тонким железным переплетом не препятствуют свету свободно проникать в комнату. Высокий камин из черного мрамора, широкий, но почти не выступавший из стены, с очагом, приспособленным для каменного угля, служил для отопления в холодный сезон. На каминной полке между двумя бронзовыми канделябрами с тройными рожками стояли простые небольшие часы. По скрытому проводу к канделябрам подавался газ, которым освещались все углы салона, он поступал и к люстре под потолком. Это было удобно и давало много света. Кресла различных форм и обивок приглашали уставших гостей расслабиться в самых удобных позах. Здесь не было и намека на французские моды и привычки: минимум роскоши при максимуме удобств. Рояль фирмы Бродвуд и маленький орган дополняли ансамбль и придавали салону особый колорит и гармонию.
Как это часто бывает в Шотландии, католичество и протестантство поделили мировоззрения и религиозные убеждения членов гостеприимной семьи: мистер Б. был ревностным протестантом, тогда как его жена и дочь исповедовали католическую веру. Своей терпимостью, общительностью и поэтичностью эта последняя смягчала пуританскую суровость. Кальвинисты Шотландии, последователи Джона Нокса[382], зашли очень далеко в строгости религиозной практики и даже отделились от англиканской церкви, которая, принимая догмы Кальвина[383], все же сохранила епископов и некоторую церковную иерархию, в то время как пресвитерианцы Шотландии провозгласили полное равенство духовенства. Служители этой церкви освобождены от литургий, служб и отправления церковных обрядов, их единственная миссия — толковать Библию верующим. Жак решил внимательно понаблюдать за отношениями двух объединившихся в одной семье религий.
Мисс Амелия вернулась через несколько минут одна и с непринужденностью, свойственной молодым англичанкам, пригласила гостей на новую экскурсию.
— Господа, — обратилась она к ним, — я поведу вас в ботанический сад. Это совсем недалеко, на Инверлайт-роу. Сегодня суббота, оранжереи еще открыты, и вы увидите там прелюбопытные растения.
Жак предложил руку мисс Б., и они вскоре подошли ко входу в ботанический сад — маленькой дверце без всяких украшений. Сад производил впечатление аккуратно содержащейся частной собственности, посетители одинаково свободно гуляли по великолепным, как и повсюду в Англии, газонам и по посыпанным песком аллеям. Мисс Амелия направилась к оранжереям — большой стеклянной ротонде с экзотическими представителями флоры всех климатических поясов. Вершина ротонды увенчана железной галереей, откуда открывалась великолепная панорама города.
Очаровательная прогулка продолжалась около часа при несмолкаемых взаимных расспросах Жака о Шотландии и мисс Амелии — о Франции. Наконец они вновь очутились на Инверлайт-роу, и мисс Б. совершенно естественно, как в обычный парк, повела своих новых знакомых на другую сторону улицы на эдинбургское кладбище.
Впрочем, кладбище представляло собой восхитительный сад с зелеными лужайками и живой изгородью вдоль аллей. Могилы под тенистым сводом деревьев навевали мысли о покое и вызывали желание уснуть когда-нибудь вечным сном в этом райском уголке. Картина смерти не обличена здесь в форму мрачных мавзолеев, усеченных колонн, как во Франции. Усыпальницы имеют вид небольших коттеджей, где, казалось, протекает спокойная, размеренная жизнь. Необычное зрелище поразило Жака, и он понял, почему так просто и естественно мисс Амелия повела их в этот чарующий парк.
Глава XXIII
СЕМЕЙНЫЙ ОБЕД
По возвращении гости застали в салоне мистера Б. и преподобного мистера С. Хозяин принял парижан с любезной степенностью и заговорил с ними на их родном языке, произнося слова размеренно и неспешно. Он производил впечатление обаятельнейшего в целом мире человека. Жак понапрасну искал на нем шотландские плед[384] и килт[385]. Почтенный господин был одет в обычный черный костюм.
Преподобный мистер С., католический священник, был, видимо, завсегдатаем дома. Его спокойное, доброе лицо, глубокий выразительный взгляд, сдержанные и скромные манеры выдавали типичного представителя английских пасторов. Какой разительный контраст с пресвитерианскими священниками, полукупцами-полудуховными лицами, занимающимися одновременно коммерческими делами и спасением душ, самым возмутительным примером которых является деятельность английских миссионеров в колониях!
Мистер С. много путешествовал по Европе, бывал проездом в Риме, Вене, Париже, имел широкий круг знакомств, прекрасно, абсолютно без акцента, говорил по-французски. Сейчас он возглавлял небольшой приход в графстве Файф.
Подали обед, и все спустились в столовую на первом этаже. Здесь Жак был поражен суровостью и импозантностью помещения. Ему показалось, что он попал в один из огромных средневековых залов, где домочадцы, возглавляемые патриархом, собирались для общей трапезы. Царила почти церковная тишина; темные тона обивки стен и мебели усиливали впечатление.
Жонатана поместили между господином Б. и преподобным мистером С., Жака — справа от хозяина, рядом с мисс Амелией. Перед едой каждый стоя прочитал про себя молитву.
На первое был подан крепкий бульон с большим количеством мелконарезанного мяса, и мисс Амелия пояснила гостям, что это шотландский хочпоч. Молодые люди отдали должное этому вполне достойному внимания блюду.
— Мы, господа, привыкли придерживаться шотландских обычаев, — сказал мистер Б.
— Мы очень вам за это признательны, — ответил Жонатан. — Мой друг тате часто мысленно представлял себя среди героев Вальтера Скотта, что сейчас чувствует себя сотрапезником Фергюса Мак-Ивора Вих Иан Вора.
— Господин Жак сожалеет только об одном, — добавила мисс Амелия, — что мы не в костюмах хайландцев.
— Господа увидят все, что хотят, если проедут со мной в глубь страны, на север, — заметил преподобный мистер С. — В сельской местности вокруг озер, в долинах и горах жизнь еще носит многие черты прошлого, там можно встретить и шотландские костюмы, и шотландскую гордость.
— Вы, конечно, собираетесь взглянуть также и на Хайланд, горную страну? — спросил мистер Б.
— Нам нужен ваш совет. Не хотелось бы покидать Шотландию, не изучив ее как следует, — ответил Жак.
— А как вы находите нашу страну? — поинтересовалась мисс Амелия. — Отвечайте откровенно, как у нас принято.
— Страна восхитительна, она одна из самых интересных, какие только можно увидеть. Можно с уверенностью сказать, что ничто здесь не делается, не говорится, не думается и не воспринимается, как во Франции. Отсюда и то удивление, которое постоянно испытываешь при каждом слове, движении и взгляде. Суждения наши поверхностны, и тем не менее мы очарованы; что касается меня, то я ни разу не почувствовал, чтобы действительность в чем-либо уступала моим мечтам о старой каледонской земле.
— Я полностью разделяю мнение моего друга, — поддержал Жонатан, — и уверен, что наши впечатления будут еще ярче и богаче, если мы сможем совершить экскурсию в горы.
— Вы абсолютно правы, — согласился преподобный мистер С., — и нет ничего проще; доставьте мне удовольствие и навестите меня в замке моего брата в О. в Файфском графстве. Это будет отправной точкой поистине увлекательной поездки. У вас будет возможность удостовериться в существовании трех типов любви, которые ничто не сможет вырвать из сердца шотландца: любви к родине, выражающейся в пламенном патриотизме, любви к своему клану, к которому он испытывает безграничную преданность, и любви к семье, выражающейся в глубоком почитании родственников и предков до девятого колена. Это наследие средних веков и феодальной эпохи, и у меня не хватает решимости осуждать их. Так вы приедете, господа?
— Соглашайтесь, соглашайтесь же, — живо поддержала мисс Амелия. — Вы увидите самый чудесный из шотландских замков в очаровательном парке и будете приняты там со всем возможным радушием и гостеприимством.
— Охотно верим, мисс Амелия, — ответил Жак.
— Сожалею, — продолжал мистер С., — что мой брат с супругой сейчас в отъезде и не смогут сами принять вас в замке, но я постараюсь их заменить.
— Весьма вам признательны, но сколь продолжительна будет эта экскурсия? Мы очень ограничены во времени.
— О, у вас будет больше времени чем требуется, будьте спокойны. Достаточно подняться на пароходе вверх по течению по Форту, и вы высадитесь в часе ходьбы от О.
— Оттуда, — подхватил мистер Б., — нет ничего проще, чем пересечь Шотландию от Стерлинга до Глазго, и вы вернетесь в Эдинбург через озера Ломонд и Кетрин и через горы.
— Решено, — заключила мисс Амелия, — ни один турист не упустит такой возможности. Экскурсия будет великолепной, — за два дня увидеть столько чудесных мест! Я составлю маршрут, и вы не потеряете ни одного часа и не оставите незамеченным ни одного вида.
— Согласны! — воскликнули парижане. — Когда едем?
— В понедельник утром, — ответил мистер Б. — Не забудьте, что завтра — воскресенье, вы обедаете у нас. С утра я в вашем распоряжении, покажу вам Эдинбург, а к обеду вместе вернемся сюда. Кроме того, мы сами уезжаем в понедельник днем, так что не сможем вас встретить, когда вы вернетесь с озер.
Жак и Жонатан горячо поблагодарили хозяина, во всем положившись на него.
Глава XXIV
О ШОТЛАНДСКОЙ КУХНЕ
Обед протекал в интересной оживленной беседе, во время которой Жонатан блистал своим английским. Огромные куски мяса, гигантские ростбифы, подавались на стол под серебряными колпаками. Овощи, сваренные целиком без приправ в несоленой воде, смешивались на тарелках с ломтиками мяса и ветчины. Жонатану досталась великолепная португальская луковица размером в кулак, и он, сдерживая гримасу, после упорной борьбы, вышел, хотя и с трудом, победителем из схватки с ней, не уронив ни чести, ни достоинства. Grouses, разновидность куропаток с приятным свежим вкусом мяса, отдающего диким вереском, подавались на вторую смену блюд. Шотландцы даже не пригубливали, а только нюхали время от времени бокал хереса или портвейна. Но как только хозяин заметил, что парижские желудки плохо приноравливаются к подобному режиму, он велел подать несколько пинт очень приятного пива, известного как столовое. На десерт был подан неизменный торт, а в конце трапезы — странный напиток. Парижане, как могли, подражали хозяевам. Они положили на дно большого стакана, специально для этого предназначенного, несколько ложек тамариндового желе и залили его кипятком, добавив немного рома. Эту смесь размешивали особой длинной ложкой и наливали в маленький стаканчик, из которого и пили. Стаканчик приходилось многократно наполнять и опустошать, и Жак уже начал сомневаться в стойкости своей головы. Наконец обед был закончен, и, поблагодарив хозяев, гости вернулись в салон.
Преподобный мистер С. почти сразу откланялся, так как возвращался в О. тем же вечером. Он напомнил молодым людям о данном ими обещании, поблагодарил мисс Амелию, вызвавшуюся объяснить дорогу, и сказал, что будет ждать Жака и Жонатана в одиннадцать часов в понедельник на молу мыса Крэмби.
Несмотря на плотный обед, через два часа нужно было, как здесь принято, снова садиться за стол для вечернего чая. Чтобы заполнить это время, мисс Амелия предложила еще одну прогулку. Приятели согласились, хотя и без того день был переполнен впечатлениями. Мистер и миссис Б., мисс Амелия и их гости направились вверх по Инверлайт-роу и дошли до Ньюхейвена, маленького рыбацкого поселка в миле от Лейта. Всего несколько домов, составляющие поселение, выглядят довольно убого. Отлив обнажил черноватую, усеянную камнями полосу у берега. Эстакада, род причала, укрепленного цепями, уходила довольно далеко в море. Несколько лодок, оставшихся на отмели, лежали, накренившись набок. Слева, примерно в миле, красивый каменный пирс Грэнтон служил причалом кораблям, курсирующим по Ферт-оф-Форту.
— Здесь, господа, вы сядете на пароход, когда поедете в О., — указал на пирс мистер Б. — Отсюда же отправляются суда, совершающие регулярные рейсы между Эдинбургом и Лондоном.
— Хорошо, в понедельник утром, перед тем как отплыть по Форту, мы справимся о расписании пакетботов на Лондон. Возможно, мы вернемся морем, — сказал Жак.
— Это еще не решено, — возразил Жонатан. — Если можно, лучше избежать этого плаванья. Впрочем, мы подумаем.
В полдевятого все снова собрались за накрытым столом. Чаепитие в Англии — не просто возможность собраться за столом, а целый ритуал. Напиток здесь поглощается в огромных количествах, а экспорт чая превышает двенадцать миллионов килограммов. Церемония заваривания чая выполняется с величайшей тщательностью, и мисс Амелия с очаровательной грацией управилась с этим ответственным делом. Когда заварка достаточно настоялась и достигла надлежащей крепости, мисс Амелия наполнила маленькие чашечки, добавив в каждую немного молока и капельку сливок. Никогда еще Жак и Жонатан не пробовали ничего вкуснее, да еще поданного с такой предупредительностью и любезностью. К несравненному напитку подавались особые, испеченные по этому случаю булочки, лучше которых, безусловно, никто, даже сам русский император, не ел.
Стемнело. Гости и хозяева вернулись в салон, и Жонатан вознаградил дивными мелодиями гостеприимство этой чудесной семьи. Он пел, играл на фортепьяно, и даже Жак подыграл ему удачно взятыми басами на органе. Мисс Амелия, очень любившая музыку, вся отдалась очарованию, наслаждаясь вдохновением, с которым истинные художники исполняют свои произведения. Она напела Жонатану несколько незамысловатых народных мотивов горного края, и композитор тут же исполнил их на фортепьяно, импровизируя просто, но очень колоритно.
— Шотландские мелодии, — обратился он к девушке, — хотя и немного монотонные, полны, однако, выразительности и тонкой эмоциональной окраски. Построенные обычно на одних и тех же тактах, они довольно легко аранжируются для фортепьяно. Только их надо играть на черных клавишах. Это чистая случайность, однако эффект очень своеобразен.
Затем, присовокупив к теории практический пример, он сымпровизировал несколько очаровательных напевов в шотландском духе. Мисс Амелия была в восторге. После композиций зазвучала мелодия, исполняемая парижанами в четыре руки, и вакханалии Орфея вспугнули робкое эхо виллы. На этом инструмент смолк, чтобы отдохнуть за воскресенье и почтить день Господень благочестивой тишиной. Друзья распрощались с любезными хозяевами, договорившись о встрече с мистером Б. на следующий день в час пополудни у памятника Питту[386] на Джордж-стрит.
Глава XXV
ЖАК И ЖОНАТАН ОСМАТРИВАЮТ ЭДИНБУРГ
После предельно насыщенного дня усталые Жак и Жонатан с трудом доплелись до гостиницы Ламбре по пустынным, плохо освещенным улицам спящего города. Тысяча впечатлений теснилась у них в голове, и измотанные путешественники мгновенно уснули.
Однако на следующее утро, едва проснувшись, молодые люди наспех оделись и снова двинулись обозревать достопримечательности города. Прежде всего они направились к Колтон-Хилл, чьи необычные памятники еще накануне с вершины Артурова Седла поразили их воображение.
В воскресенье улицы в Шотландии выглядят печальней и безлюдней, чем обычно, и все без исключения магазины закрыты согласно нормам пуританской морали. Лишь несколько прохожих осмеливаются кощунственно попирать пустынные мостовые. Всякая мысль, всякое действие кажутся погребенными в торжественной скуке протестантизма, сухого безжизненного ветра, чье дыхание иссушает ум и сердце. Эдинбургские воскресенья производят тоскливое впечатление.
Колтон-Хилл представляет собой невысокий холм с округлой вершиной. Местные городские власти установили на нем несколько памятников. По традиции, все постройки выполнены в подражание сооружениям античности. Так, на первых ступенях лестницы монумент Дюга-Стюарту[387] воспроизводит фонарь Демосфена;[388] выше — Обсерватория, построенная по образцу Храма Ветров в Афинах[389]. На самой макушке высоко вздымается обелиск в честь Нельсона[390], служащий также маяком для кораблей, ходящих по Форту. Эта жалкого вида башня ранит глаз своим неуклюжим профилем. Рядом виднеются двенадцать коринфских колонн от портика незавершенного храма — национального памятника Шотландии. В момент патриотического подъема после битвы Ватерлоо[391] единогласно было принято решение увековечить память о ней в камне. Вскоре выделенные средства иссякли, и в результате возникли современные руины. По замыслу постройке надлежало стать точной копией Афинского Парфенона[392], шедевра античной архитектуры. Впрочем, недостроенный портик неплохо смотрится на холме. Вообще надо отметить, что все эти сооружения, скверные по исполнению, ужасные в деталях, не имеющие ни стиля, ни изящества форм, взятые каждое в отдельности, неплохо смотрятся в ансамбле и хорошо гармонируют с окрестным пейзажем. И лучше быть подражанием чему-либо, чем ни на что не походить, как многие памятники во Франции.
С террасы Колтон-Хилла открывается красивый вид, и элегантное городское общество приходит туда развеять свою скуку, если только праздник или воскресенье не заставляет переваривать ее дома, как это и случилось в это воскресное утро. Так что молодые французы в полной тишине и одиночестве любовались со смотровой площадки видом Северного моря и окрестных берегов.
— Где будем завтракать? — спросил вскоре Жак.
— Как всегда, в маленькой таверне на Хай-стрит.
— Согласен на таверну, идем вниз.
Друзья прошли мимо Высшей школы, колоссального греко-египетского храма, всем своим видом говорящего, что он только что прибыл из Афин с посвящением от Тесея;[393] миновали тюрьму, по Северному мосту над овощным рынком и Дженерал-Рейлвей-стейшн добрались наконец до вожделенной таверны. Но там их ждало разочарование. Наглухо запертая дверь не сулила никаких надежд. Тщетно туристы стучали — никакого ответа. В поисках другого кафе они попытались выяснить, где можно позавтракать, но потерпели полную неудачу. По воскресеньям в Эдинбурге не едят, как, впрочем, и во всей Шотландии; все повара и торговцы сидят на службе или на проповеди. Парижане не знали этой особенности пуританского края и, изнемогая от голода, вернулись в отель Ламбре.
— Это уж слишком! — возмутился Жак. — У них что, по воскресеньям, кроме души, ничего не остается?
Наконец в гостинице они смогли как следует подкрепиться. Пожалуй, даже сверх меры: после двух пинт доброго шотландского эля, к которому молодые люди отнеслись чересчур доверчиво, Жак почувствовал себя неважно и вынужден был прилечь. Проспав с час, он встал с сильной головной болью. В таком состоянии Жонатан потащил друга на свидание с мистером Б., назначенное на час у статуи Питта.
Главной целью этого похода был осмотр Эдинбургского замка и садов Принс-стрит. Когда-то овраг, столь чудесным образом преобразованный в парк, был озером и закрывал доступ к крепости. Озеро частично засыпали землей. По свежим зеленым газонам, возникшим на месте оврага и озера, свободно разгуливают посетители. Мистер Б. и его гости, немного отдохнув на скамейке в дивном саду, вернулись в верхний город по мосту Уэверли. Этот мост переброшен через продолжение той же балки с расположенной внизу Дженерал-Рейлвей-стейшн, куда отовсюду сходятся железнодорожные линии, такие как Эдинбург — Глазго и Северная Британская дорога. Мост ведет к Шотландскому банку и переходит в Лоун-маркет, продолжение Хай-стрит и Кэнонгейт, примыкающую непосредственно к замку. В этом месте колокольня Виктория-Холл вздымает ввысь готический шпиль, а через несколько шагов мистер Б. указал молодым людям на дом поэта Аллана Рамсея[394], бывшего в начале своей карьеры подмастерьем парикмахера, а затем получившего прозвище Шотландского Феокрита[395]. Шотландский Жасмин[396] жил в восемнадцатом веке. Дома в этой части города, именуемой по замку Касл-Хилл, принадлежали раньше местной знати и служили не только жилищем, но и крепостью. Перед замком имеется обширная эспланада с бронзовой фигурой герцога Йоркского в парадном наряде кавалера ордена Подвязки[397].
Эдинбургский замок расположен на высоте 150 метров над уровнем моря. Жак с его ложными представлениями о высотах с трудом мог в это поверить, однако сдался перед заверениями их любезного чичероне[398]. Последний, водя французов по внутренним дворикам крепости, рассказывал им ее историю. В древние времена, времена королей-поэтов, замок звался Девичьим — Castrum puellarum. Вместе с Дамбартоном, Стерлингом и Блэкнессом он составлял четверку замков, постоянно укреплявшихся с момента объединения двух королевств. Сейчас террасы бастионов — излюбленное место прогулок жителей Старого города, и открывающийся оттуда вид на море и окрестные горы просто великолепен. В королевском бастионе мистер Б. обратил внимание туристов на гигантскую пушку XV века. Ее ствол сделан из массивных железных брусьев, подогнанных друг к другу и скрепленных толстыми железными же кольцами. Она напоминала толстую винную бочку, только вместо деревянных досок были железные. Пушка взорвалась во время какого-то всенародного гулянья, и до сих пор на поверхности жерла зияет открытая рана. Экскурсанты были слишком утомлены, чтобы пройти и во внутренние покои замка, так что были лишены удовольствия видеть драгоценности шотландской короны. С одной из террас мистер Б. показал друзьям окна знаменитой комнаты, в которой Мария Стюарт разрешилась от бремени Яковом VI, ставшим впоследствии Яковом I Английским. Тень этой бедной королевы и поныне живет среди старых стен, и волнение охватывает душу при мысли о той, которая была прекраснейшей и любимейшей женщиной своего века.
— Кстати, — заметил Жак, — она была наполовину француженка, и каждый француз обязан почтить память очаровательной племянницы герцогов Гизов[399].
Глава XXVI
ЕЩЕ ОДИН УРОК ПРОИЗНОШЕНИЯ
— А теперь, господа, — сказал мистер Б., — нужно вернуться в Инверлайт-роу, где нас уже ждет обед.
— Охотно, — согласился Жак, — но я попросил бы вас взять экипаж, а то я просто падаю от усталости.
— Нет ничего проще. Это можно сделать на стоянке на Принс-стрит, к счастью, дорога туда идет все время под гору.
Через несколько минут сады остались позади и друзья ехали в экипаже к жилищу мистера Б. Обед отличала та же предупредительность, что и накануне. На этот раз специально по случаю гостей подавался хэггис — национальное шотландское блюдо, разновидность пудинга из мяса и ячменной муки. Гости воздали ему должное. После сложного десерта, занявшего немало времени, мисс Амелия приступила к составлению программы экскурсии на озера. Сама она не так давно совершила это увлекательное путешествие и благодаря хорошей памяти удивительно ловко спланировала все часы отправлений и способы передвижения.
Прежде всего путешественники должны были отправиться в О. по Форту, оттуда по железной дороге через Стерлинг проехать в Глазго, а затем вернуться в Эдинбург через озера Ломонд и Кетрин. Эта великолепная прогулка занимает всего два дня. Мисс Амелия собственноручно составила молодым людям маршрутный лист мелким удлиненным почерком, и это, пожалуй, единственная изысканная вещь, какую смогли изобрести англичане. Жак попросил у девушки сей драгоценный документ и, чтобы блеснуть своими познаниями, произнес, чуть не вывернув от усердия челюсть:
— Miss, give me, if you please, one document for reading! — произнося при этом «райдинг».
— То, что вы просите, — невозможно, — удивилась мисс Амелия, — ведь вы поедете морем.
— Но, простите, мисс, какое отношение…
— Ведь вы не можете при этом ехать верхом!
Жонатан, несмотря на все усилия, не смог сдержаться и от души рассмеялся.
— Мисс, это еще одна шутка, которую сыграло с Жаком его замечательное произношение.
— Надо же! Что же я спросил у мадемуазель?
— Ты попросил у нее бумагу, чтобы ехать верхом!
Мисс Амелия разделила веселость Жонатана, а бедный Жак, снова попав впросак, поклялся, что никогда больше этот ужасный язык не осквернит его губ.
К десяти часам французы распрощались с гостеприимным семейством; они должны были еще раз увидеться на следующее утро по дороге на пирс в Грэнтоне. Туристы хотели оставить в доме мистера Б. чемоданы, которые не собирались брать с собой на озера, и заодно были приглашены хлебосольными шотландцами на утренний чай.
На другой день погода, до сих пор превосходная, начала портиться; ветер сменился на западный, и на горизонте стали собираться тяжелые свинцовые тучи.
— Дьявол, — подосадовал Жонатан, — будет дождь.
— Ну и что? Мы увидим озера и горы под новым ракурсом, дружище! Не будем жаловаться. А сейчас в путь!
Они вызвали экипаж; Жонатан расплатился по счету гостиницы Ламбре, где цены за комнаты, как и везде в Англии, невероятно высокие — по пять шиллингов за ночь. В половине восьмого туристы были уже в доме мистера Б. и в последний раз пили чай с шотландцами.
В девять часов экипаж доставил французов на причал Грэнтон. Начинался дождь. Поднялся ветер, и Жак чуть было не потерял шляпу, если бы не юный босоногий джентльмен в лохмотьях, остановивший ее на краю пропасти. Молодой человек отблагодарил мальчугана за услугу, дав ему пенни, и тот принял монету по-английски холодно и с достоинством.
Первой заботой Жака было дойти до пакетботов, совершавших регулярные рейсы между Эдинбургом и Лондоном, чтобы уладить вопрос возвращения. Он увидел великолепные пароходы, обустроенные с таким тщанием и аккуратностью, которые англичане вкладывают во все, что касается моря. С помощью Жонатана Жак выяснил, что переезд занимает по меньшей мере сорок часов и стоит 20 шиллингов за каюту первого класса. Ближайший пароход отходил в следующую среду в дневной отлив.
— Цена нам подходит, но он плывет слишком долго, и потом — неопределенность со временем…
Жонатан говорил это, глядя на довольно высокие уже волны в открытом море.
— Мы решим позднее, в дороге, — заторопил друга Жак. — Слышишь, звонит колокол фортского парохода? Скорей идем на посадку.
Пароход «Принц Уэльский» был пришвартован к пирсу. В эту минуту труба судна извергала клубы черного дыма, котел глухо шумел. На борту царило оживление; на звук колокола спешили запоздавшие пассажиры. «Принц Уэльский» обслуживает крупные города и поселки по берегу Форта; пассажиров всегда много, они пристраиваются, где найдут место, и там и остаются до конца плавания. На палубе толпились торговцы, крестьяне, фермеры, протестантские священники — этих последних можно было узнать по коротким панталонам и длинным черным рединготам[400], а также по строгости манер и свежести лиц, выделявших их среди прочих пассажиров. Один из пасторов, молодой человек лет тридцати, с довольно миловидным лицом, стоял в изящной позе, опершись на трость. Казалось, он сошел со страниц «Векфилдского священника»[401].
Хотя шел проливной дождь, никто не думал укрываться в салоне парохода. Шотландцы и англичане, в большинстве своем созданные для такой погоды, не обращают на нее никакого внимания. Кроме того, они умеют путешествовать, не обременяя себя излишним багажом, от непогоды прикрываются дорожными плащами и подбадривают себя джином или виски из фляги, с которой никогда не расстаются. После такого согревающего глотка дождь и ветер им нипочем. Сами англичане зовут это «одеваться изнутри».
Раздался последний удар колокола; друзья спустились на палубу по шатким мосткам, от которых у Жонатана закружилась голова; отдали концы, и «Принц Уэльский» вскоре вышел из бухты, защищенной молом от волн Северного моря.
Глава XXVII
ШОТЛАНДИЯ — СТРАНА ДОЖДЕЙ
Ферт-оф-Форт, название столь часто звучащее в Эдинбурге, дано заливу, который врезается в сушу между берегами Файфского графства на севере и побережьем графств Линлитгоу, Эдинбургского и Хаддингтонского — на юге[402]. Он образует устье Форта, небольшой, но глубоководной реки, которая, стекая с западных склонов Бен-Ломонда, впадает в море в Кинкардине, возле Аллоа. Расстояние от пристани Грэнтон до конца залива, именуемого Ферт, пароход проходит за три часа.
Берега залива причудливо изрезаны, и приходится лавировать, чтобы причалить к небольшому дебаркадеру, а иногда и просто к отмели. Города, поселки, коттеджи живописно разбросаны по лесистым плодородным землям вокруг залива. Но сейчас путешественники с трудом различали чудесный пейзаж, перечеркнутый косыми линиями дождя. Они, как могли, укрывались от непогоды под выступающим навесом рубки или под широким мостиком, перекинутым между двумя кожухами. В довершение всего и в курении нельзя было найти утешения — это разрешалось только в носовой части корабля.
С некоторых пор с западного края залива раздавались глухие раскаты. Жак тщетно пытался угадать, что это такое. Звуки стали отчетливей, когда «Принц Уэльский» оставил позади городок Эбердоур и остров Колм. Вскоре, обогнув укрепленный островок Гарви вблизи королевской крепости Куинсферри, в том самом месте, где Форт уже всего, пассажиры увидели двухпалубное судно. Это был линейный корабль английского военного флота, проводивший ученья и стрелявший из орудий нижней батареи.
— Он же попадет в нас! — заволновался Жонатан.
— Тебе так кажется, потому что ты плохо оценил его позицию, — успокоил друга Жак. — Посмотри лучше!
Действительно, стрельба велась очень странно. Ядро по касательной входило в воду и, срикошетив, появлялось вновь на значительном расстоянии, отмечая свою траекторию снопами брызг. Жонатан, по правде говоря, имел все основания для беспокойства. Несколько дней спустя в аналогичной ситуации ядро угодило в самую корму именно «Принца Уэльского», на котором они сейчас плыли. Никто не пострадал, хотя это было бы так по-английски!
Вскоре «Принц Уэльский» обошел справа замок Росайт, древнее гнездо той ветви Стюартов, с которой была в родстве мать Кромвеля[403]. Любопытное совпадение, наводящее на размышления.
— Даже под проливным дождем, — как заметил Жак, которого в исторических местах всегда обуревал демон истории.
Замок Блэкнесс-Касл, до сих пор укрепленный согласно одной из статей договора об унии[404], и маленький порт Чарлстон, откуда вывозится известь из гигантских карьеров лорда Элджина, остались позади на левом берегу, и колокол «Принца Уэльского» возвестил остановку у пристани Крэмби-Пойнт.
Погода была отвратительная. Резкие порывы ветра разбивали струи дождя в водяную пыль. Кружа ее словно смерч, то и дело налетал ревущий шквал. В довершение всего судно не смогло подойти к дебаркадеру. Парижанам пришлось спуститься в утлую шлюпку на самой середине Форта, имеющего в этом месте две или три мили в ширину.
Жак попытался отыскать глазами оконечность мыса Крэмби-Пойнт и приметил смутный силуэт одиноко стоящей под широким зонтом фигуры.
«Принц Уэльский» продолжил путь, предоставив шлюпку самой себе. Перевозчик поставил маленький парус, чтобы добраться до Крэмби-Пойнт, и после долгих безуспешных маневров лодка достигла-таки мола. Чтобы взобраться на причал, пришлось карабкаться по вертикально уходившей в воду лестнице со ступенями, облепленными оставшимся после прилива фукусом и другими водорослями. Наконец, чуть было не свернув себе двадцать раз шею, промокшие насквозь, путники оказались рядом с преподобным мистером С., протягивавшим им руку сквозь потоки дождя.
— Добро пожаловать, господа, — обратился он к ним на безупречном французском языке, — и соблаговолите извинить за эту ужасную погоду!
— Путешественники вроде нас не обращают внимания на такие мелочи, — ответил Жак.
— Дождь усиливается, — продолжил мистер С. — Давайте войдем в харчевню на краю мола.
Жак и Жонатан последовали за пастором, вошедшим в уединенное строение. Здесь их встретили радушно и приветливо. Небольшой огонек в камине вскоре заполыхал ярким пламенем, и трое путников исчезли в густых клубах пара, поднимавшегося от мокрой одежды. Через несколько минут непогода, казалось, немного поутихла и мистер С. решительно двинулся в направлении О.
Пройдя около мили по дикому каменистому берегу Форта, плоскому и извилистому, путники свернули на дорогу, уходившую в глубь края под большими, мокрыми от дождя деревьями. Ни о какой беседе в этих условиях не могло быть и речи. Преподобный мистер С. шел впереди, следом за ним Жак, замыкал шествие Жонатан. Извилистая тропа змеилась по холмистой местности, в недрах которой залегали самые богатые в Шотландии месторождения каменного угля. Здешние тропы покоряются только маленьким местным лошадкам. С обеих сторон там и тут виднелись одинокие фермы, окруженные обширными пастбищами. Многочисленные стада мирно щипали траву под непрекращающимся дождем. Жак обратил внимание на безрогих коров и мелких овец с шелковистой шерстью, похожих на игрушечных барашков. Пастухов, следивших за несметными стадами, нигде не было видно. По всей вероятности, они укрывались от дождя под каким-нибудь выступом скалы; но вокруг стад бродили колли — собаки характерной для этой местности породы, прекрасные сторожа. Они собирали отбившихся животных.
Преподобный С. поведал гостям об удивительном плодородии земель, по которым они шли, все более удаляясь от Форта. В южных графствах, некогда щетинившихся елями и дубами, культуры пшеницы, ячменя и ржи возделываются очень успешно хотя в целом из-за слишком влажного климата шотландская почва по плодородию сильно уступает почвам Англии. Этот край ничем не напоминал сельскую местность Франции. В расположении полей, густых изгородей, групп деревьев, в самой атмосфере скорее угадывались, чем виделись и поддавались анализу, еле ощутимые различия, придававшие тем не менее общей картине особый характер. Жак испытывал то внутреннее ощущение нового, ради которого путешественники отправляются за пределы родной страны. После полутора часов ходьбы пастор сообщил, что О. близок. Парижане, сами того не замечая, уже шли по парку, думая, что все еще идут по полям. За окаймлявшими опушку дубами показалась посыпанная песком аллея, и под усилившиеся порывы ветра и дождя путники вошли через боковую дверь в жилище пастора, не сумев даже разглядеть дом снаружи.
Глава XXVIII
ПО СЛЕДАМ ВАЛЬТЕРА СКОТТА
Камердинер, а скорее что-то вроде управляющего, одетый с ног до головы в черное, встретил гостей в великолепной прихожей, уставленной ларями и очень красивыми креслами.
— Возьмите у этих господ плащи и приготовьте им что-нибудь сухое переодеться, — распорядился мистер С. — Но прежде всего выпьем в гостиной чего-нибудь согревающего.
Говоря так, он проследовал в сопровождении парижан в обширную залу. Свет в нее падал через огромные окна. Здесь были собраны образцы современной роскоши. Три рюмки были наполнены превосходной водкой, которую преподобный проглотил одним глотком. Жонатан из вежливости счел должным последовать его примеру, но чуть было не задохнулся от крепкого напитка и отделался ужасным приступом кашля.
— Теперь, господа, — продолжал мистер С., — вас проводят в ваши комнаты, где вы сможете переодеться в сухую одежду.
Жак и Жонатан по величественной лестнице поднялись на второй этаж в свои комнаты. Элегантная обивка стен, особый аромат, утонченность обстановки и изящество всего находившегося здесь указывали на то, что она предназначалась для дамы. На широких туалетных столиках, расположенных в полукруглом выступе башни, было все необходимое, чтобы удовлетворить любой женский каприз.
На кровати была разложена одежда, достаточно было протянуть руку, чтобы достать чулки, тапочки, брюки. Пастор предоставил в их распоряжение свой гардероб, и друзья не могли удержаться от смеха, натягивая слишком широкие короткие черные панталоны на широком поясе.
В этом довольно причудливом, но удобном, а главное, создающем чувство комфорта облачении гости спустились в цокольный этаж.
Великолепный салон, примыкающий с одной стороны к рабочему кабинету, а с другой — к оранжерее с редкими экзотическими цветами, образовывал вместе с двумя указанными помещениями просторную галерею. Трудно представить себе то обилие света, которого англичане добиваются, расширяя окна за пределы фасада, что дает возможность свободно охватить взглядом всю панораму. Это особенность характерна для всех построек Англии, где постоянные туманы заставляют изыскивать всевозможные способы получать больше света. Здесь, в галерее, парижане чувствовали себя как на открытом воздухе. Дождь прекратился, и отдельные солнечные лучи пронизывали самые высокие облака.
В большом, создающем уют камине весело потрескивали дрова; перед одним из окон стояло открытое пианино; разнообразных форм кресла красного, розового и палисандрового дерева прекрасно сочетались с декоративным фарфором и дорогими картинами. Великолепные полотна итальянской школы, привезенные из Рима самим мистером С., и несколько шедевров фламандской школы[405] составляли ценную коллекцию. Жак и Жонатан были поражены, встретив подобную роскошь в провинции, вдали от городов.
Судя по внутренним помещениям, замок был выполнен в готическом стиле, столь популярном среди саксов. Впрочем, изнутри он выглядел очень современно. Свободный полет фантазии архитектора, особенно если он англичанин, все подчиняет требованиям комфорта. Действительно, он сделает дверь там, где это будет удобней всего, он прорубит окно в месте, откуда открывается самый красивый вид, он расположит салоны и спальни самым удобным образом, он поднимет потолок залы и сделает его ниже в рабочем кабинете, очаровательный укромный уголок будет устроен рядом в высокой просторной галерее. Как результат всего этого — фасад, замечательный своей неправильностью. Пренебрегая строгими архитектурными линиями ради импровизации, обладающей собственными законами, английские зодчие создают очаровательные произведения, неповторимые в своей индивидуальности. Эти небольшие готические замки, столь многочисленные в Шотландии, как нельзя лучше подходят для климата страны и очень удобны для жизни их обитателей.
Обед соответствовал королевской роскоши обстановки. Преподобный потчевал гостей радушно, с любезной предупредительностью. Согласно обычаю, из уважения к гостям он предложил им самим разрезать стоящие перед ними блюда. Жак довольно неловко справился с задачей, искромсав курицу, плавающую в особом соусе, зато Жонатан блестяще разделил апельсиновое желе, трепещущее в фарфоровой вазе. В винах — хересе, портвейне, кларете[406] самых изысканных сортов — не было недостатка, равно как и в зельтерской воде[407], подававшейся в маленьких, похожих на детские, бутылочках, выстроившихся перед тарелкой каждого из сотрапезников. Нет смысла повторять, что основное блюдо составляла говядина в окружении вареных овощей.
В течение этого гомерического обеда, живо напомнившего Жаку ужин Уэверли у Фёргюса, мистер С. знакомил своих гостей с обычаями страны, которую они уже видели, которую им еще предстояло увидеть.
— Вы окажетесь, господа, словно в романе Вальтера Скотта и сами убедитесь, с какой скрупулезностью он описал эти исторические места, как тонко передал атмосферу этой земли. Вы почувствуете, что гений писателя превосходит все возможное и край этот достоин его.
— Но встретим ли мы еще знаменитых хайландцев? — спросил Жонатан. — Остались ли следы старых могущественных кланов?
— Вне всякого сомнения, — заверил почтенный священник, — если кланы и не существуют в политическом смысле, они, безусловно, сохранились с точки зрения истории. Определенные кланы, по традиции, главенствуют, и Мак-Грегоры, Мак-Дугласы, Сазерленды, Мак-Дональды, Кэмпбелы по-прежнему сохранили феодальное господство над краем. Их вассалы, равные им по закону, признают себя подданными и данниками, и каждый клан различается цветами и тартаном.
— К несчастью, из-за нехватки времени мы не сможем подробно ознакомиться с этим любопытнейшим явлением, — посетовал Жак, — придется ограничиться общим взглядом на эту еще живую среди озер и гор графств Стерлинг и Аргайл историю.
— Не сомневаюсь, что с таким вожатым, как Вальтер Скотт, господин Жак, можно весьма серьезно все изучить и понять, так как романист уже познакомил вас со всеми красотами средневековья. Вы уже видели старую Кэнонгейт его романов, так точно им описанную. В горах и на озерах он будет верным вашим гидом.
Жак расспросил священника о религиозных устоях Шотландии и узнал, что в крае, как и в Англии, постепенно распространялся католицизм, несмотря на определенные ограничения закона. Католические священники с неустанным рвением, неизменной учтивостью и святой благодатью рано или поздно возьмут верх над сухостью и строгостью протестантских священнослужителей. Все сказанное в большей мере относится к Шотландии, нежели Англии.
К концу обеда дворецкий доложил преподобному мистеру С., что его просят навестить больного. Несмотря на непогоду и дальний путь, священник немедленно все оставил и, извинившись и попрощавшись с гостями, доверил их заботам хранителя замка, поручив тому показать молодым людям парк. Последнее рукопожатие — и он удалился.
— Самоотречение и преданность — вот его девиз, — произнес Жак, вставая из-за стола.
Глава XXIX
В ПОЕЗДЕ НА ГЛАЗГО
Часовой у Оклея, в коротких бархатных полосатых штанах, в кожаных гетрах и шотландской шапочке, имел гордый вид. Ему явно не хватало перекинутого через плечо пледа и кинжала у пояса. Должно быть, это был потомок верных ленников, преданных господину душой и телом. Он предоставил себя в полное распоряжение парижан. Жонатан с трудом понимал его полугэльский-полусаксонский язык. Тем не менее композитор сумел разобрать, что сын этого славного человека принимал участие в Крымской войне[408] и сражался бок о бок с французами. Шотландец был этим очень горд. Вначале смотритель провел молодых людей по замку, не упустив во время экскурсии ни одной детали. Туристы осмотрели все: строгую и спокойную библиотеку и кабинет естествознания с огромным, набитым соломой чучелом тигра в центре. Жонатан, шедший первым, никак не ожидал встретиться нос к носу с подобным зверем. От неожиданности француз вскрикнул. Суровый шотландец потешался над этим происшествием, как, наверное, никогда в Шотландии.
Над площадкой одной из башен вытянул длинную трубу мощный телескоп, затянутый в кожаный чехол. Оптический прибор мог вращаться на подставке так, что его можно было нацелить на любую точку небосклона. С этой высоты взгляд охватывал огромные пространства, переходя с диких и суровых крепостей на возделанные поля. За замком, на расстоянии примерно двух миль спокойно дымили трубы угольной шахты. Этот рудник принадлежал мистеру С. и наряду с изрядной добычей каменного угля поставлял газ для освещения замка и парка. Аллеи последнего были украшены пилястрами с изящными газовыми фонарями на них. В Англии, как и в Шотландии, не найдется ни одной мало-мальски приличной фермы, которая не освещалась бы благодаря разработке угольных месторождений. В этой такой щедрой земле достаточно просверлить дыру, и тут же забьет неиссякаемый источник тепла и света.
Внешний фасад замка с широкой зеленой лужайкой перед ним очаровывал причудливой неправильностью очертаний, множеством различных форм надстроек, фонарей, коньков крыш и готических башенок. Все это имело чрезвычайно ухоженный вид и содержалось в образцовом порядке. На память приходили новенькие, свежевыкрашенные игрушечные домики, только что извлеченные из коробки. Каприз, согласно которому замок поместили в это место, казалось, столь же легко может перенести его в один прекрасный день в любое другое и там поставить по прихоти владельца.
— Мой милый друг, — обратился Жак к Жонатану, — хотел бы ты поселиться в этой подобной жемчужине прелестной долине? Как чудесно было бы здесь работать! Какой спокойной и приятной была бы жизнь! Как доступно здесь истинное счастье!
— Для такого закоренелого парижанина, как ты, презирающего деревню, подобные рассуждения довольно непоследовательны.
— Я презираю деревню в окрестностях Парижа, потому что это по большому счету тот же город, только с меньшим количеством деревьев, поскольку их вывозят оттуда, чтобы посадить на бульварах. Но здесь! Взгляни на эту природу, на густые леса, вдохни ветер, благоухающий диким вереском и всеми ароматами гор! Он принес свежесть горных потоков из глубоких долин. Вслушайся в жалобную песнь волынок и скажи, походит ли это на прилизанную, причесанную и гладко выбритую природу департамента Сена! Все запахи там слишком цивилизованны, и в чахоточной атмосфере не может родиться здоровый ветер высоких земель. Если счастье когда-либо улыбнется мне, я куплю в этих краях какой-нибудь свеженький коттедж и буду жить здесь как настоящий горец.
— Пустые фантазии, — ответил Жонатан. — Тебе придется поискать пристанище в другом месте. Иностранцы не имеют права обладать ни малейшим клочком земли Старой Англии.
— Как это несправедливо!
Обойдя замок со всех сторон и измерив шагами все длинные, посыпанные песком аллеи парка, смотритель направился к оранжереям, примыкающим к «lodges»[409], где разместились конюшни. В прекрасно расположенных и хорошо оснащенных оранжереях выращивались самые красивые плоды в мире. Виноградные лозы гнулись под тяжестью налитых, золотистых, казалось, прозрачных гроздей. Это была природная лаборатория, в которой самые ранние фрукты созревали на радость обитателям замка.
Покинув хрустальный дворец, услужливый вожатый предложил молодым людям сходить на шахту и посмотреть на добычу угля, но время было позднее, и решено было вернуться в-замок. Жак и Жонатан сняли хозяйские одежды, перемежая смех и шутки со словами благодарности, и облачились в свои, уже совершенно сухие костюмы. Дворецкий провел гостей в столовую и предложил им виски «на посошок», по-шотландски «doch and dorroch». Друзья из вежливости согласились, а затем направились к станции Оклей, откуда проходящий поезд из Данфермлина должен был доставить их через Стерлинг в Глазго. Они долго благодарили своего приветливого гида за заботу, проявленную скорее с французским, нежели британским радушием. Наконец они покинули пределы чудесного поместья возле самой железнодорожной станции.
Спустя некоторое время поезд въезжал в Стерлинг, где туристам предстояло сделать пересадку. В Стерлинге они ничего не увидели. Миновав вокзал по крытому мосту, под которым пыхтели и фыркали паровозы, они вышли на другую платформу. Жонатан взял билеты второго класса по цене три шиллинга и три пенса каждый и, из-за некомпетентности и невнимательности служащих, с трудом отыскал нужный поезд. Вместе с Жаком они вошли в купе, уже набитое до отказа английскими дамами, не выказавшими ни малейшего восторга по поводу мужского соседства. А когда Жонатан обмолвился, что едет в Глазго, почтенные пожилые миссис радостно поторопились ему сообщить, что он ошибся поездом. Действительно, этот состав возвращался в Оклей. Друзья спешно выбрались из вагона в тот самый момент, когда уже раздавался свисток локомотива на Глазго, и бросились в купе с чисто французской импульсивностью.
После Стерлинга железнодорожный путь удаляется от Форта, отделяющего Нижнюю Шотландию от Горной, так что залив даже называют «уздой горцев». Вальтер Скотт в романе «Роб Рой» пишет, что у Форта вид скорее английской, чем шотландской, реки. Жак, к величайшему своему сожалению, не смог удостовериться в справедливости данного замечания. Поезд увозил его на юг, и, внутренне сопротивляясь этому, он испытывал чувство сожаления, ибо все помыслы его постоянно обращались к северу. Но Жонатан утешил его, сообщив, что экскурсия на озера позволит подняться высоко в горы.
В нескольких милях от Стерлинга железная дорога проходит вблизи поселка Баннокберн, где Роберт Брюс разгромил короля Англии Эдуарда II. Далее путь лежит вдоль судоходного канала Форта. Множество плоскодонных судов бороздят его воды, и в сумерках мачты сливаются с деревьями на берегу. Вечерело, когда показался Каслкери, где еще видны остатки знаменитой римской стены, воздвигнутой Агриколой[410] для защиты от независимых каледонцев Севера. Покорители мира принуждены были остановиться перед гордым, отважным народом, стонущим под владычеством англичан. Наконец поезд вошел в длинный тоннель и остановился в самом центре Глазго.
Глава XXX
ЗАПАХ ЧЕСТЕРА
Выйдя из здания вокзала, путешественники оказались на очень красивой площади с зеленым сквером, украшенным колоннами со статуями. Однако опустившиеся сумерки не позволили французам что-либо рассмотреть. Пришлось ограничиться тем, что Жонатан с трудом разобрал в темноте название площади, где они находились: Сент-Джордж-сквер. Прямо перед собой они увидели «Комрис-Роял-отель». Здесь молодые люди были встречены очень милыми, предупредительными девушками. Жак, посягая на права друга, пробормотал несколько слов, имевших самые честные и искренние намерения быть английскими; молодые мисс проявили максимум снисходительности и не без усилий смогли понять, что приезжим требовалась комната с двумя кроватями. Гости были препровождены в номер на первом этаже.
После длительных омовений новые постояльцы вошли в салон и сели за большой стол, изъявив желание поужинать. В ожидании ужина Жак с интересом рассматривал развешанные по стенам картины с видами Эдинбурга. Ему доставляло удовольствие вновь представлять себя на этих улицах, им исхоженных, и гордо повторять про себя:
«Я тоже был там!»
Весь во власти этого занятия он переходил от одной картины к другой, как вдруг был выведен из состояния мечтательности странным, если не сказать тошнотворным, запахом, достигшим его ноздрей.
— Что бы это могло быть, друг Жонатан?
— Не имею ни малейшего понятия, но это «что-то» весьма неприятно. Можно подумать, что ты на борту парохода в сильную качку, когда морская болезнь…
Любезный музыкант рассуждал со знанием дела. Говоря так, он достиг угла зала и указал Жаку на полку стойки:
— Вот источник зла!
— Что же это?
— Кем-то оставленный здесь огромный честер.
Когда появился официант, друзьям удалось, хотя и с трудом, убедить его вынести из зала этот кошмарный продукт.
Поглотив достаточное количество холодной баранины, Йоркского окорока и чая, друзья ринулись навстречу неизведанному — посмотреть на вечерний Глазго. Довольно красивые площади, черные дома, темные, как пустые магазины, и унылые, как заводы; во всем облике ночного города ощущалось сходство с Ливерпулем, проистекающее от малопоэтических нюансов индустриального центра. Это бросалось в глаза в первую очередь.
— Это не Шотландия, — грустно заметил Жак, — и завтра мы проснемся под грохот молотов, вдыхая заводской дым.
Случай, это капризное божество, покровительствующее бродягам и путешественникам, привел парижан на берег Клайда, к мосту Глазго. Множество торговых судов, парусных и пароходов, стояли на якоре возле моста, последнего перед слиянием реки с северным каналом. Глядя отсюда на город, друзья заметили на небе яркое красное зарево. Тщетно пытались они понять причину происходящего. Колоссальную часть неба занимала пылающая дуга, непрерывно пронзаемая молниями и озаряемая вспышками. Жонатан считал это заревом от большого пожара, Жак склонялся к индустриальному объяснению феномена. Он полагал, что наблюдается отсвет каких-то высоких печей в разгаре топки. И тот и другой ошибались. Лишь позже друзья узнали, что присутствовали при интереснейшем природном явлении — знаменитом северном сиянии 30 августа 1859 года. Парижане вернулись в «Комрис-Роял-отель» по широким пустынным улицам. На домах одной из них Жаку посчастливилось разобрать название — Аргайл-стрит, другая называлась Бьюкенен-стрит. Туристы несколько подустали после дня дождя, ветра и солнца, а кроме того, хотели пораньше встать, чтобы перед поездкой на озера успеть осмотреть крупный индустриальный центр Шотландии.
Широкие кровати, ширина которых подчеркивалась узостью простынь, ожидали их в просторной спальне с крашеными балками потолка. Комната была несколько мрачновата, и Жонатан не удержался от сравнения себя и друга с детьми Эдуарда. Ему припомнилась картина Поля Делароша[411], а композитор не без содроганья думал о тени свирепого лорда Тиррела. Но поскольку наши герои были не настолько царственными особами, чтобы быть умерщвленными во сне, а среди их предков не имелось ни малейшего Ричарда III, они благополучно проспали ночь и проснулись с рассветом, как самые обычные путешественники. Расплатившись по счету, парижане покинули «Комрис-Роял-отель».
На улицах уже царило шумное оживление, что весьма удивило Жонатана. Но его изумление прошло, когда Жак сообщил ему, что с начала века население города возросло с 75 тысяч до 350 тысяч жителей. Теперь, при дневном свете, они увидели, что их ночные впечатления подтвердились — Глазго был точной копией Ливерпуля по характеру и атмосфере. Множество общественных зданий, претендующих на монументальность, почерневшие от туманов и угольной пыли, представляли собой довольно грустное зрелище. В центре Джордж-сквер стояли памятники Вальтеру Скотту и Джеймсу Уатту[412]. Двое великих людей были увековечены рядом, причем подписи на памятниках отсутствовали, так что романиста можно было принять за изобретателя паровой машины, а инженера — за автора «Пертской красавицы»[413]. В довершение всего внешне они были очень похожи.
Начало дня было пасмурным и серым. С неба сыпался обычный для Англии мелкий дождь, который скорее пачкает, чем мочит. Тем не менее, поскольку наши друзья приехали смотреть достопримечательности, Жак направился к довольно известному собору по Сент-Джордж-стрит.
— Всегда и везде одни и те же имена и одни и те же улицы, — заметил он.
В этот утренний час крестьяне и фермеры из окрестных мест везли на городские рынки горы фруктов и овощей, погоняя лошадей «whig a more, whig а тоге», что значит: «пошли быстрее». Либеральная партия Англии позаимствовала это восклицание погонщиков в качестве лозунга. Что же касается тори, или монархистов, то название их партии происходит от «tory me», что в точности соответствует девизу французских воров: «Жизнь или кошелек».
Когда на пути достойных представителей крестьянства Западной Шотландии, шествующих по улицам Глазго, встречался черный городской ручей, они, нимало не смущаясь, снимали ботинки, храбро шлепая по липкой, вонючей грязи.
— Конечно, чтобы перейти ручей, туфли ни к чему, — рассуждал Жонатан, — но я предпочитаю не менять привычек.
Кафедральный собор Глазго посвящен святому Мунго, в нем нашли отражение разные эпохи готической архитектуры. Высоко в небо вознес он тяжелую колокольню. Это единственный религиозный памятник Шотландии, который пощадили фанатики реформы, и с этой точки зрения представляет несомненный интерес. Жак, к своему величайшему сожалению, не смог увидеть его внутреннее убранство. Дверь была заперта, и сколько молодые люди ни стучали, никто не откликнулся. Протестантская вера, похоже, не следует принципу: «Стучите, и отворят вам». Туристам пришлось удовлетвориться осмотром некрополя, расположенного на соседнем холме, и вызвать в памяти великолепные описания великого романиста. Ибо именно сюда направились лорд Осбалдистон и старый Эндрю Ферсервис по прибытии в Глазго, куда скрылся Роб Рой. Вот прибежище скорби, где на могилах Вальтеру Скотту виделись слова пророка: «Стенания, сожаления и несчастья!»
Глава XXXI
СОСИСКИ И ЗОНТИКИ
Закончив созерцание одинокого, печального, навевающего меланхолию места, туристы отправились на поиски экипажа, поскольку хотели как можно больше успеть осмотреть за оставшееся до экскурсии время. Широкая карета, обитая утрехтским бархатом, вскоре предоставила им уютный приют. Жонатан дал понять кучеру, что вначале они хотят проехать в порт, затем прокатиться и осмотреть улицы и парки города. Кучер подчинился желанию пассажиров, и лошади затрусили к порту Глазго.
В торговой части города туристы увидели действительно очень красивые улицы: банки, общественные здания, музеи, приюты, убежища, больницы, Биржа, библиотека, клубы, залы для собраний и другие постройки встречаются здесь во множестве. Здания изобилуют массивными, часто неудачно расположенными колоннами. Пристрастие англичан к этим архитектурным элементам может сравниться только с их любовью к лошадям, а пожалуй, даже превосходит последнее. Нередко обе страсти объединяются, и случается увидеть бронзовых коней на каменных колоннах, что не добавляет монументальности памятнику. Порт Глазго отличается большой коммерческой активностью. Огромные пакгаузы протянулись вдоль набережных Клайда и хранят горы и горы товаров. Но после Ливерпуля Глазго уже не ошеломлял, и фиакр, нигде не останавливаясь, быстро проследовал дальше.
Куда же теперь смышленый кучер повез своих седоков? В какие районы города направил он их пытливые изыскания? Этого они никогда не смогли узнать. Они вспоминали потом красивые кольца аллей, случайный парк на верхушке холма с великолепными, почти совсем новыми сооружениями, какие-то памятники, здания, изгибы незнакомых улиц… Когда впоследствии Жак изучал план Глазго, пытаясь понять, где же они были, он так и не смог узнать этот парк и отнес его к тем пленительным, волшебным уголкам страны сновидений, в которую в юности уносит нас по ночам воображение.
Как бы там ни было, два часа спустя путешественники оказались снова на Сент-Джордж-сквер. Жонатан щедро заплатил любезному автомедону[414] и справился, не найдется ли поблизости кафе, чтобы позавтракать. Искомое находилось неподалеку от Биржи. Завтрак был ничем не примечательным, если не считать того, что холодная лососина была подана под уксусом и без капли масла. После пиршества и до самого отправления французы фланировали по окружающим вокзал улицам, и Жак читал все вывески, делясь с другом довольно своеобразными идеями:
— У англичан все-таки великолепные названия, с полнокровными звучными слогами, приятными на слух и на вид. Я нахожу, что они превосходят наши французские имена.
— Тебе так кажется, потому что ты — иностранец, — возразил другу Жонатан, — но для самих англичан эффект абсолютно другой. А кстати, ты хотел бы зваться, например, мистер Тэйлор, мистер Бекон или мистер Фокс?
— Конечно, нет ничего достойнее!
— А это между тем, как если бы ты звался господин Портной, господин Сало или господин Лис. Вполне вероятно, что обычное простонародное французское имя придется по вкусу в Англии и что имя господин Уложилошадь покажется очень благозвучным.
— Все это сбивает меня с толку.
— То же можно сказать про любой язык. Послушай, как хорошо звучат испанское Акуадо, итальянское Буонкомпаньи, Циммерманны и Шнайдеры немцев и так до Ротшильда, чье настоящее имя — Майер, а для немцев он всего-навсего господин барон Красного щита!
— Что я могу возразить? — сдался Жак. — Твоя эрудиция меня приводит в замешательство.
Так, беседуя о том о сем, путешественники очутились перед колбасной лавкой, где работала необычная машина, движимая паром. Это был удивительный механизм. На одном его конце ставили живого поросенка, а на другом тот появлялся в виде очень аппетитных сосисок.
— Какой народ! Какое гениальное применение пара в гастрономии! — воскликнул пораженный Жак. — И еще удивляются, что подобная нация становится владычицей мира! Вот увидишь, в один прекрасный день будет изобретена машина в пятьсот лошадиных сил, способная цивилизовать дикарей Океании!
— Это будет, безусловно, не хуже английских миссионеров. Одно другого стоит, — скептически заметил менее восторженный Жонатан.
— После такого зрелища нам уже не остается ничего другого как уехать; хочу покинуть Глазго, унося в душе это потрясающее впечатление.
Сказано — сделано, и друзья тут же отправились на станцию железной дороги Глазго — Эдинбург. Оттуда они поехали поездом, идущим через Дамбартон и Баллох к южной оконечности озера Ломонд.
Жонатан за одиннадцать пенсов взял билеты третьего класса, и французы вошли в купе, в котором ухоженный домашний скот чувствовал бы себя неуютно. Там не было не только дверей, но и стекол, так что ввиду усиливавшегося дождя путешественникам пришлось укрыться под раскрытыми зонтами.
— Надо заметить, — произнес Жонатан, — что в Англии столь мало привыкли к солнечному свету, что зонты для англичан не что иное, как приспособление для получения тени — «umbrella»![415]
Глава XXXII
НА БОРТУ «ПРИНЦА АЛЬБЕРТА»
Между торговой столицей Шотландии и южной оконечностью озера Ломонд не более двадцати миль. Железная дорога проходит через Дамбартон, королевский город и столицу графства. Удачно расположенный на месте слияния Клайда и Ливена, все еще укрепленный согласно договору об унии, замок живописно венчает обе вершины огромного базальтового утеса. Отсюда, из Дамбартона, уезжала Мария Стюарт, чтобы стать королевой Франции[416]. И еще одно историческое обстоятельство делало это место знаменательным в глазах французов. Здесь в 1815 году английское правительство намеревалось заточить Наполеона: Дамбартон или Святая Елена — и здесь и там мрачная скала, предназначенная британской ненавистью доверившемуся врагу.
Вскоре поезд остановился в Баллохе, возле деревянной эстакады, спускавшейся к самому берегу озера Лох-Ломонд.
— Вот оно, первое озеро в моей жизни! — воскликнул Жак.
— И первая гора, — поддержал его Жонатан, — ибо то, что ты видел до сих пор, были игрушечные несерьезные горы — горы для парижан, карманные горы.
Туристы поспешили со станции, спустились к озеру и заняли места на борту пассажирского парового судна «Принц Альберт», взяв билеты до Инверснайда, на северной оконечности озера, и заплатив за них два шиллинга и шесть пенни за каждый.
— Дороговато за пробег в какие-то тридцать миль, зато какое плаванье! Дружище Жонатан, подумать только, ведь мы в стране Мак-Грегора![417]
Озеро Ломонд предстало перед туристами вначале группой мелких живописнейших островков самых разнообразных форм и очертаний, рассыпавшихся по водной глади. «Принц Альберт» огибал обрывистые берега, пробираясь в проливах между ними, и перед путниками открывались то плодородные равнины, то дикие ущелья, ощетинившиеся вековыми утесами, то пустынные долины. Тысячи видов сменяли друг друга. У каждого из этих островов есть своя легенда, и история этой страны читалась в каждой детали ее пейзажа. Озеро, вероятно, достигает в этой части четырех-пяти миль в ширину. Своими очертаниями и характером оно напомнило Жаку Онтарио — озеро тысяч островов, так замечательно описанных соперником Вальтера Скотта[418]. Казалось, природа призвала на помощь все свое воображение, создавая острова озера Ломонд: одни — каменистые, дикие, без признака зелени — вздымали ввысь острые пики скал рядом с округлыми зелеными спинами других; березы и лиственницы последних как будто протестовали своими пышными кронами против пожелтевшего, иссохшего вереска первых; а воды озера с равным спокойствием омывали подножие тех и других. Вскоре показалась Балма — врата в горную страну Хайленд. Неподалеку Жак заметил несколько могил, в которых были погребены представители древнего клана Мак-Грегор.
С приближением к маленькому порту Ласс берега озера, еще довольно широкого, стали обнаруживать явную тенденцию к сближению. Двое друзей, несмотря на сильный дождь, упорно оставались на палубе, не упуская из открывавшихся им картин ни одной детали. Жак вглядывался в туман, высматривая вершину Бен-Ломонда. Он чувствовал, как проникается духом сильной, дикой поэзии края, и среди обрывистых берегов и черных спокойных вод озера погружался в атмосферу любимых книг. Легендарные герои Шотландии населяли в его воображении прекрасную страну гор.
Покинув поселок Ласс, «Принц Альберт» взял курс прямо на Бен-Ломонд, расположенный на противоположном берегу. Наконец Жак заметил гору, подножие которой омывалось водами озера, а вершина терялась в облаках. Вначале юноша не хотел верить, что высота Бен-Ломонда превышает тысячу метров. Он все еще не привык к перспективе и ожидал от такой цифры совсем другого эффекта. Однако вскоре макушка Бен-Ломонда освободилась от висевшего на ней облака, и гора предстала во всем своем великолепии.
— Как прекрасно! — воскликнул Жак, схватив друга за руку. — Какое дикое величие! Посмотри на это гигантское подножие! С вершины, наверное, открывается вид на всю Южную Шотландию!
— Как досадно, что у нас так мало времени, — откликнулся Жонатан, — мы всю жизнь будем сожалеть, что не смогли подняться на Бен-Ломонд!
— Подумать только, что вся эта красота принадлежит герцогу Монтрозу![419] Его светлость владеет целой горой, как парижский буржуа — клумбой в своем цветнике! Но, посмотри, Жонатан, посмотри же!
«Принц Альберт» приближался к Бен-Ломонду, и озеро постепенно сужалось. Бен-Ломонд — последний пик в одной из цепей Грампианских гор, среди которых пролегли длинные пустынные лощины, именуемые гленами. Бен, глен и ден — слова кельтского происхождения. Здесь, у восточного берега озера, у самого подножия горы обычне жил клан Мак-Грегор. В ясные ночи окрестности освещает своим таинственным светом бледная луна, называемая в старых легендах «фонарем Мак-Фарлена»[420]. Эти места были свидетелями подвигов легендарных героев. Невдалеке отсюда пустынные ущелья не раз обагрялись кровью в стычках между якобитами и ганноверцами. Местное эхо до сих пор повторяет бессмертные имена Роб Роя и Мак-Грегора Кэмпбелла![421]
«Принц Альберт» подошел к селению Тарбет на противоположном берегу озера, где высадил пассажиров, направляющихся в Инверери. Отсюда Бен-Ломонд открывался взгляду во всем своем великолепии — от зеленого подножия до голой вершины. Его огромные склоны изрезаны потоками, сверкающими на такой высоте, словно ленты расплавленного серебра. Этот эффект, производимый водопадами, низвергающимися из невидимой трещины в неведомые пропасти, произвел на друзей довольно сильное впечатление.
По мере того как «Принц Альберт» огибал гору, ландшафт менялся. Склоны становились все более обрывистыми, берега озера — скалистыми и голыми. Лишь изредка попадались деревья, в том числе ивы, чьи гибкие прутья в старину использовали как виселицу для людей низкого сословия, чтобы сэкономить на пеньке.
— Вальтер Скотт называет Лох-Ломонд самым прекрасным из озер, а Бен-Ломонд — королем гор, — заметил Жак. — Он прав, и я полностью разделяю его поэтическое восхищение этим краем.
Глава XXXIII
ПАССАЖИРЫ ИМПЕРИАЛА
Наконец показалась пристань Инверснайд, на которой друзья высадились на берег. Совсем рядом с причалом в озеро с большой высоты низвергался поток, разбухший от недавних дождей. Он казался нереальным, скорее декорацией, возведенной каким-нибудь деятельным предпринимателем для развлечения туристов. В клубах водяной пыли над его струями повис зыбкий мостик. Жак увлек туда приятеля: он хотел посмотреть на пенящийся каскад с узкой ненадежной переправы. Через несколько минут друзья оказались напротив водопада. Над ним стояло облако пара и мелких водяных брызг, а под ногами они слышали рев бушевавшей водяной стихии. С этой высоты взгляд охватывал большую часть озера, на поверхности которого «Принц Альберт» казался лишь точкой.
Однако время поджимало; экипажи, обеспечивающие сообщение между озерами Ломонд и Кетрин, уже ждали. Лошади были запряжены, и следовало немедленно отправляться в гостиницу Инверс-найд.
Там Жак, больше из желания пополнить свои впечатления, чем из жажды, захотел освежиться стаканом «асквибо» — шотландской разновидностью виски. Привлекало название, так поэтически звучавшее в самом сердце Хайленда, но сам напиток не стоил своего гэльского имени. Это было всего-навсего виски с сильным горьким привкусом барды. Парижанин скорчил гримасу, расхваливая прелести национального хайлендского питья.
Регулярное сообщение между озерами было организовано маркизом Бредалбейном, чьи предки некогда снабжали водой и дровами изгнанника Роб Роя. Экипажи отличались всеми удобствами, какими славятся изделия английских каретников. Нижняя площадка дилижанса с гербом семьи Бредалбейн на дверцах осталась свободной; несмотря на непрекращающийся дождь, все пассажиры расположились на империале и устроились так, чтобы не пропустить ни один из открывающихся в дороге видов. Даже англичанки, не обращая ни малейшего внимания на непогоду, завернувшись в длинные шали, тартаны из кашемира, старые, местами потертые, забрались по лестнице на крышу. Кучер, в ливрее с красными отворотами, собрал в левой руке вожжи великолепной четверки, и экипаж стал медленно взбираться вверх по склону вдоль русла извилистого потока.
Дорога была очень крутая. По мере подъема форма окружающих вершин словно менялась. Жак видел, как постепенно на другом берегу озера гордо вырастала вся горная цепь и над ней — вершины Аррохара, господствующие над долиной Инверюглеса. Слева возвышался Бен-Ломонд, неожиданно открывший крутые обрывы своего северного склона. Вся местность была пронизана духом старой Шотландии. Это были места, некогда называвшиеся страной Роб Роя, горный пустынный край между озерами Ломонд и Кетрин. Долина сообщалась узкими ущельями с гленом Аберфойла. Там, на берегах маленького озера Ард, разыгралась драма шотландского романа. Там высились зловещего вида утесы из известняка с каменистыми вкраплениями, словно цемент затвердевшего под действием климата и времени. Меж разрушенных овечьих загонов виднелись жалкие хижины, похожие на звериные логовища, называющиеся «bourrochs»; трудно было понять, чьи это жилища — людей или диких зверей. Белоголовые ребятишки провожали экипаж изумленными взглядами. Жак обращал внимание Жонатана на все эти любопытные детали, рассказывая попутно историю загадочных долин, по которым пролегал их путь. Здесь добродетельный олдермен Николь Джарви, достойный сын своего отца — декана, был схвачен людьми графа Ленокса под командованием герцога Монтроза. Вот на этом самом месте он повис, зацепившись штанами, которые, к счастью, были сшиты из добротного шотландского сукна, а не из легкого французского камлота![422] Неподалеку от истоков Форта, питаемого ручьями Бен-Ломонда, еще можно найти брод, которым переправился Роб Рой, ускользнув от солдат герцога Монтроза. По этой стране, замечательной во многих отношениях, нельзя ступить ни шагу, не столкнувшись с историями прошлого, вдохновившими Вальтера Скотта, когда он перелагал в великолепные строфы боевую песнь клана Мак-Грегор.
Взобравшись на крутой берег потока, экипаж спустился затем в лежащую ниже безводную, безлесную долину, покрытую жестким, тощим вереском. В нескольких местах виднелись сложенные пирамидой груды камней.
— Это «керны», — пояснил Жак другу, — в старину каждый прохожий должен был принести сюда камень, чтобы почтить память героев, спящих под этими надгробиями. Ведь старинная гэльская поговорка гласила: «Горе тому, кто пройдет мимо керна, не положив на него камня вечного спасения!» Если бы сыновья сохранили веру и поэзию отцов, то эти каменные груды превратились бы уже в холмы. Какая страна! Все в этих краях способствует развитию врожденной поэтичности! Это характерно для всех горных стран. Чудеса природы возбуждают воображение, и если бы греки жили среди равнин, они никогда не создали бы античной мифологии!
Вскоре дорога углубилась в узкую долину, замечательно подходящую для проделок домашних духов Шотландии, домовых, «brownies» великой Мег Меррилиз. Английские туристы на все смотрели холодно и безразлично, не выказывая каких-либо признаков восхищения или удивления. Никакие чувства не отражались на их бесстрастных лицах. Они совершали экскурсию как некую обязанность, потому что она входила в программу путешествия.
«Какая жалость, что мы не одни, — подумал Жак. — Только в уединении можно почувствовать поэзию этих долин и гор!»
Маленькое озерцо Артлет осталось на правом берегу, и экипаж по крутой извилистой дороге подъехал к озеру Кетрин, к постоялому двору Стронахлахар. «Принцу Уэльскому» понадобилось два с половиной часа, чтобы проплыть тридцать километров озера Ломонд, экипажу потребовался целый час, чтобы преодолеть пять миль, отделяющие Инверснайд от озера Кетрин. Дав чаевые кучеру маркиза Бредалбейна, настойчиво их требовавшему, двое друзей спустились с империала на землю.
Глава XXXIV
ОТ ОЗЕРА КЕТРИН ДО СТЕРЛИНГА
В нескольких метрах от постоялого двора на волнах покачивался небольшой пароходик, курсировавший по озеру. Разумеется, он носил гордое имя «Роб Рой». Пассажиры «Принца Альберта» заняли теперь места на борту этого судна, смешавшись с толпой туристов, прибывших из Аберфойла. Среди них двое путников вызвали зависть Жонатана: рюкзаки у них за спиной и длинные палки в руках указывали на то, что они прошли через горы пешком. За кормой «Роб Роя» заработал винт; паровая машина, без холодильника, периодично, как паровоз, выпускала пар; пароход дал гудок и отчалил.
Берега озера Кетрин, не превышающего в длину десяти миль, в начале маршрута — дикие и безлесые. Ближайшие холмы не лишены величия и поэзии. Вальтер Скотт выбрал это озеро с тихими, спокойными водами в качестве сцены для изображения основных событий «Девы Озера». Порой так и кажется, что по поверхности воды скользит легкая тень прекрасной Елены Дуглас.
Жак пребывал во власти чудесных грез, когда звуки волынки оторвали его от мечтательного созерцания. Какой-то шотландец в национальном костюме хайлендера пробовал на корме свой инструмент.
— Кошмар! — пришел в отчаяние Жонатан. — Сейчас он сыграет нам что-нибудь из «Трубадура».
— Ну, это будет кощунством, — откликнулся Жак.
Однако на сей раз парижане счастливо избегли «трубадурной» эпидемии и отделались легким испугом. Деревенский музыкант заиграл простую грустную мелодию, нежную и бесхитростную, как все песни, в которых запечатлелась душа страны и которые, как казалось, не имели конкретного автора. Они были рождены дыханием ветров, шепотом озер, шелестом листьев. Жонатан приблизился к музыканту и в путевом блокноте записал по цифровой системе, указывающей относительную, а не абсолютную высоту тона, следующую мелодию:
Затем композитор внимательно рассмотрел народный инструмент. Он обратил внимание, что шотландская волынка имеет три бурдонные трубки, различающиеся размером, из коих большая настроена на звук соль, вторая звучит в терцию[423], а самая маленькая — в октаву[424] с первой. Что до мелодической трубки, имеющей вид свирели, то в ней просверлено восемь отверстий, и она дает гамму соль мажор с фа-бекаром[425]. Музыкант отметил все эти детали с возможными сочетаниями звуков, предполагая, что когда-нибудь сможет ими воспользоваться.
Западные берега озера Кетрин, не столь крутые, более обжитые и зеленые, вырисовывались в обрамлении двух высоких гор — Бен-Ана и Бен-Венью. Тенистые тропинки петляют по берегам, углубляясь в густой подлесок. Вид этой долины резко отличался от всего, что туристы видели до сих пор. Парижане достигли самой северной точки маршрута.
«Роб Рой» высадил пассажиров в маленькой уютной бухте, с мшистыми дорогами и веселыми, плодородными берегами. Экипажи из Калландера ждали, уже запряженные и готовые к отправлению. Пришлось немного пробежаться, чтобы успеть занять место, и вскоре наши туристы устроились на верхней скамье, рядом с кучером. Жак напоследок обернулся и бросил прощальный взгляд на чудесные долины, чье величественное очарование не способно создать самое богатое воображение.
От озера Кетрин до Калландера восемь-девять миль. Дорога очень неровная, и лошади на всем протяжении пути могут идти только шагом. Примерно в полутора милях от озера возвышается отель «Троссакс», нечто вроде современного замка, имеющего, однако, весьма жалкий вид. На террасе перед гостиницей иностранные дамы демонстрировали пышные кринолины, любуясь миниатюрным озерцом Лох-Ахрей, расположенным в очаровательной, абсолютно правильной формы долине.
Во время дальнейшего пути кучер, человек, безусловно, незаурядной эрудиции, исполнял обязанности чичероне. Громким голосом он перечислял названия руин, гор, долин, кланов, через чьи земли или мимо которых пролегал путь. Он прекрасно говорил на чистом шотландском наречии, и Жонатан с трудом улавливал лишь обрывки его интересных комментариев. Тем не менее музыканту удалось понять, что долина Гленфилас простирается дальше на север и что заросли чахлого кустарника тянутся вплоть до тенистых берегов озера Венахар. Столь подробные пояснения вполне заслуживали щедрых чаевых, востребованных ученым возничим по прибытии. Вскоре дорога описала полукруг, и глазам путников открылись новые перспективы. По каменному мосту туристы пересекли поток с темными водами, бурлящими на черных камнях, и очутились на Длинной улице Калландера.
Недавно построенная железная дорога соединяет это местечко со Стерлингом. Парижане могли отправиться прямо в Эдинбург, но они предпочли заночевать в Стерлинге, с тем чтобы следующим утром осмотреть этот замечательный город.
Жак, мучимый жаждой, увлек Жонатана в таверну, где друзья освежились пинтой обычного, однако превосходного пива, называемого «два пенни».
Поезд должен был отправиться с минуты на минуту; наши туристы уселись в купе второго класса и уже через час были на вокзале Стерлинга.
Прежде всего друзья хотели поужинать, что было вполне естественным желанием, ибо, кроме раннего, весьма скромного завтрака в Глазго, за весь день продолжительного путешествия у них не было во рту ни крошки. Прибыв в Стерлинг в восемь часов вечера, французы уже испытывали настоящее чувство голода. Жак отправился на поиски гостиницы. «Золотой Лев», казалось, отвечал всем его требованиям, и спустя некоторое время туристы в компании других путешественников уже сидели за столом, уставленным блюдами с ветчиной, говядиной и чайными приборами. Жака привел в восторг один почтенный англичанин, который, отужинав и покончив с десертом, велел принести еще яйцо всмятку, которое с удовольствием поглотил в заключение трапезы. Француз не удержался от искушения последовать его примеру и с тех пор был убежден, что свежее яйцо — единственный достойный способ завершить ужин.
После чая хорошенькая смешливая девушка проводила наших друзей в смежные комнаты на верхнем этаже. Усталость и сытный ужин быстро сморили путешественников, те заснули под балдахином с длинным белым полотняным пологом.
Глава XXXV
НА ЧТО ПОХОЖ ХАЙЛЕНДЕР
На следующее утро само солнце взяло на себя труд заглянуть к парижанам, чтобы разбудить их. И приятели не устояли перед приглашением мягких, теплых лучей. Прежде всего они обсудили план возвращения из Эдинбурга в Лондон. Мечты Жака сесть на пароход в Грентон-пирс встретили серьезные и обоснованные возражения со стороны Жонатана. Во-первых, уже не оставалось времени попасть в Грентон-пирс до отплытия ближайшего парохода, во-вторых, путешествие грозило затянуться, в то время как, сев на поезд в восемь часов вечера, можно было оказаться в Лондоне уже на следующий день. Было решено возвращаться по железной дороге.
Королевская крепость Стерлинг высится в глубине залива Форт. Город расположен на холмистой местности. Улица, проходящая мимо «Золотого Льва», круто поднимается вверх и устремляется к вершине холма, украшенного памятниками, чье назначение Жак не мог уловить, — то ли это было кладбище, то ли парк для гулянья. Впрочем, в Шотландии разница между тем и другим невелика. С этого возвышенья хорошо виден укрепленный замок Стерлинга. Там когда-то короновалась Мария Стюарт. Крепость имела честь быть осажденной Кромвелем и генералом Монком. У старого замка гордый вид, он похож на старого, бывалого солдата, твердо стоящего на ногах. Туристам пришлось преодолеть довольно крутой склон, чтобы добраться до потерны. На часах у дверей замка стояли горцы в парадной форме — точной копии старинного национального костюма, только без таджа, маленького кожаного щита со стальным острием в центре. На головах у часовых были маленькие шотландские шапочки, украшенные пером на серебряной пряжке. Короткий, ярко-красный камзол позволяет видеть бесчисленные складки килта — разновидности клетчатой зеленой юбки, спускающейся до колен. Ноги при этом остаются совершенно голыми, и отсюда произошла поговорка: «С горца штанов не снимешь». Голени горцев обтянуты клетчатыми гольфами и перевязаны лентами, которые Роб Рой мог, не нагибаясь, завязать своими длинными руками. Плед, или плащ из тартана, пристегнутый на металлической пряжке-паук, спускается от плеча к поясу. Завершает костюм philibey — сумка из козьего меха, украшенная кистями. Прикрепленная к поясу, она свисает спереди килта. Карман сумки, способный вместить все состояние горца, называется спорен, как узнал Жонатан от часового замка. Кинжал, или дирк, засунут за пояс. Офицеры этих великолепных полков носят длинный клеймор — палаш своих предков.
С эспланады замка видны равнины Нижней Шотландии. На северо-западе Жак разглядел Бен-Ломонд и Бен-Леди, смутно вырисовывавшиеся на горизонте. Юноша послал им последний привет. Небо соизволило наконец очиститься, и вершины гор отчетливо проступили сквозь утренний туман. На востоке плавно катил свои воды Форт. Сверху был виден старинный, XII века, мост при въезде в город. В назначенное время, бегло осмотрев город, воспетый Вальтером Скоттом в «Уэверли», и ознакомившись с общим видом и планировкой Стерлинга, французы снова были на вокзале.
Там их ожидал приятный сюрприз. Они увидели роту горцев при полном параде и вооружении. Ожидалось прибытие ее всемилостивейшего величества из Эдинбурга, где накануне по этому поводу был праздничный салют. Шотландские солдаты были великолепны! Их лица, весьма характерные, имели более воинственное выражение, чем лица англичан. Офицер, командующий взводом, блистал в огненно-алой форме; его левая рука лежала на сверкающей рукояти палаша. Ни горнисты, ни барабанщики, ни флейтисты не отмеряли шаг роты, зато волынщик на блестящей вычищенной волынке наигрывал веселые пиброки[426].
Вскоре раздался свисток к отправлению, и поезд, увозящий друзей из Стерлинга, на всех парах помчался к Эдинбургу. Жак глядел во все глаза, надеясь не пропустить королевский поезд. Но все, что он увидел: это немного шума в стремительном вихре, пронесшемся навстречу.
Шотландская Центральная железная дорога позволяет преодолеть весь путь за час с четвертью, несмотря на небольшое отклонение в сторону, чтобы попасть в Полмонтский разъезд.
Оттуда, миновав Линлитгоу, маленький городок на берегу озера, в котором родилась Мария Стюарт, и развалины Нидаерского замка, где несчастная королева отдыхала после бегства из Лох-Ливена, промчавшись по виадуку из тридцати шести арок через Алмонд и оставив позади Пентлендские холмы, поезд на всех парах влетел в Эдинбургский тоннель и остановился на Дженерал-Рейлвей-стейшн возле памятника Вальтеру Скотту.
— Прежде всего надо позавтракать, — предложил Жак, — затем идем за чемоданами. Поскольку мистер Б. с семьей уехал, надо убедиться, что мы можем попасть в дом.
Где же позавтракать, как не в ставшей уже привычной забегаловке на Хай-стрит. Подававшееся там холодное мясо было вполне приличным, хлеб — неважным, как и во всей Англии, а пиво весело пенилось в металлических пинтовых кружках. После завтрака друзья решили добраться до Инверлайт-роу другой дорогой. Они хотели посмотреть Лейтс — эдинбургский порт на реке, носящий то же имя, — практически отдельный город, который, совсем как столица, разделен на старую и новую части. Французы отправились туда, свернув по Лейтс-уок в конце Принс-стрит, и дошли до бухты, способной вместить изрядное количество кораблей. На гафеле[427] бизань-мачты одного из судов молодые люди с радостью заметили трехцветный развевающийся на ветру вымпел. Жак поднял глаза и увидел такое же пламя, полыхающее выше на верхушке мачты.
— Это французский корабль, более того, военный корабль!
В самом деле, сторожевое судно, предназначенное для охраны рыбачьих шхун, было пришвартовано к набережной. Местные зеваки внимательно и со знанием дела, что является отличительной чертой этой породы человечества, наблюдали за маневрами моряков, проводивших учения на палубе. Жак не удержался и поднялся на борт, чтобы пожать руку соотечественникам. Впечатлительный юноша упорно продолжал считать, что находится за тридевять земель от родного края, где-нибудь в Индии или Китае, и вел себя соответствующим образом. Он спросил командующего судном; того на борту не оказалось, зато помощник капитана любезно принял двух соотечественников в кают-компании, и между двумя бокалами сотерна, в клубах табачного дыма французских сигар они говорили о Париже и Эдинбурге. Женщин тоже не забыли, и после обсуждения со всех сторон парижанки, как всегда, были провозглашены королевами мира.
После приятной часовой беседы и осмотра корабля Жак и Жонатан закончили прогулку по городу. Они побывали на том месте, где высадилась Мария Стюарт, когда после смерти Франциска Второго[428] покинула Францию, которую ей уже не суждено было никогда больше увидеть. Всегда и везде эта очаровательная королева, которой, конечно, многое будет прощено!
Глава XXXVI
ЛОНДОНСКИЙ ПОЕЗД
С дамбы порта, уходящей на целую милю в море, залив Форта открывается в новом, неожиданном, но своеобразном интересном ракурсе. Дорога идет вдоль пирса до Ньюхейвена, болтливость рыбачек которого вошла в поговорку. Там начинается улица, по которой Жак и Жонатан когда-то прогуливались в обществе мисс Амелии и ее родителей. Это уважаемое семейство покинуло коттедж на Инверлайт-роу, оставив на попечение слуг чемоданы, сложенные в вестибюле. Жонатан, боявшийся, что не сможет забрать багаж из запертого дома, успокоился. Он договорился, что зайдет за вещами к вечеру, перед тем как ехать на вокзал. Теперь, когда план дальнейших действий был ясен, друзьям оставалось узнать на вокзале расписание поездов на Лондон. Так что туристы вернулись на Дженерал-Рейлвей-стейшн, куда приходили поезда Северной Британской железной дороги. С огромным трудом им удалось выяснить, что поезд отправлялся в восемь часов вечера. Наскоро пообедав на Хай-стрит, где Жаку непременно хотелось попробовать mock-turtle (суп из черепахи), в котором почтенная представительница панцирного царства была заменена головой теленка, плавающей в щедро сдобренном специями бульоне, молодые люди распрощались с очаровавшими их местами, которые им предстояло покинуть через несколько часов.
С тяжелым сердцем друзья спустились по старой Кэнонгейт, попрощались с дворцом Холируд, прошли по Северному мосту, купили у хорошенькой торговки несколько вещиц из тартана: брошь, кошелек, подушечку для булавок и саше для марок, различавшихся по цветам известных кланов, таких как Мак-Грегор, Мак-Дональд, Мак-Лин, Стюарт и Колкхэм, и вернулись на стоянку экипажей на Принс-стрит. Час спустя путешественники уже подъезжали с багажом к вокзалу, и взволнованный Жак бросал последние взгляды на Эдинбургский замок.
На вокзале Северной Британской железной дороги приятелей сразу же подхватил водоворот огромной толпы. Кассы, осаждаемые в прямом смысле этого слова, не могли удовлетворить всех желающих получить билеты. В зале стоял невнятный гул, перекрываемый время от времени какими-то отдельными выкриками. Жонатану стоило неимоверных усилий пробиться к окошку кассы. Он спросил два билета на Лондон и заплатил за них, так никогда и не осознав истинную величину стоимости.
Предполагая взять чемоданы с собой в купе, как прежде в Ливерпуле, он, бросив взгляд в угол, куда их положил носильщик, ничего там не обнаружил.
— Жак, что ты сделал с багажом? Ты что, не следил за ним, пока я брал билеты?
Жак не знал, что ответить. Пока его взгляд блуждал под темными сводами, он видел краем глаза, как чемоданы исчезли в каком-то отверстии, в черной бездне, о глубине которой ничего нельзя было сказать.
— Похоже, что здесь положено сдавать багаж. Не волнуйся.
Но на просьбу выдать багажную квитанцию, видимо, очень нескромную, служащие ответили категорическим, чтобы не сказать негодующим, отказом.
— Если мы когда-нибудь увидим наши чемоданы, — мрачно произнес Жонатан, — значит, нам повезло. И зачем я положил паспорт на дно своего?
Однако времени на пустые рассуждения не оставалось. Толпа заполняла каменную лестницу, ведущую на перрон. Казалось, пенистый поток нес великое множество разнообразных голов.
— Это каскад Инверснайд, только еще более шумный, чем водопады в горах, дружище Жонатан, но в сторону шутки — ведь мы лишь две капли в этом потоке.
Наконец после долгих усилий друзья, сильно помятые в толпе, пробились к длинному составу. Почти все купе были уже переполнены. Жак побежал в одну сторону, Жонатан — в другую. Тщетно они заглядывали во все двери, нигде не находя свободных мест. Вагоны были уже набиты до отказа, и поезд вот-вот должен был тронуться. Досаду туристов усиливала невозможность забрать свои чемоданы. И вот в тот самый момент, когда паровоз пронзительно засвистел, Жак приметил два свободных места в вагоне третьего класса. Он бросился туда, не обращая внимания на негодование пассажиров. Жонатан не отставал ни на шаг. Пришлось даже объясниться на языке кулаков, понятном во всех частях света, чтобы пробиться к вожделенной свободной скамье. Но вот состав тронулся, увозя эту огромную толпу в столицу Англии.
Чудовищный, шумный, бесконечный поезд был, увы, туристским. Он возвращал в Лондон толпу английских зевак. Жак с ужасом думал о предстоящей перспективе: провести пятнадцать часов в подобном обществе. Кошмар!
Весь вагон представлял собой один отсек, сорок человек были втиснуты, как сельди в бочку. Деревянные скамьи со спинками, по мягкости сравнимыми с дубом, были испытанием для усталых членов, высокие узкие окна не позволяли воздуху свободно циркулировать согласно требованиям элементарной гигиены. Но эти недостатки были ничто по сравнению со сборищем шумных кокни, достойных сыновей Джона Булля, грузных, беззастенчивых субъектов. Толстые мужчины с огромными животами, какие можно найти только в Англии, с массивными бычьими головами, раскрасневшимися одутловатыми лицами, с претенциозно сардоническим выражением и грубой веселостью, черпаемой в потоках виски и джина; крупные нескладные женщины с угловатыми фигурами, в одеждах, таких же тусклых и бесцветных, как они сами; дети всех возрастов, от грудного до разумного, кричащие, плачущие, ноющие, — таков состав общества туристского поезда в Англии. Здесь были целые семьи, состоящие из ворчливых супругов, молодых мисс с голубыми, наивными, как у кукол, глазами и наследников семейства с признаками явной умственной недостаточности. Все это ело, спало, кричало, нисколько не заботясь о соседях, с апломбом и бесцеремонностью людей, везде чувствующих себя как дома. Это был Ноев ковчег[429] с полным собранием всех разновидностей двуногих, но гора Арарат была еще так далеко!
— Если это и есть лорды хлопка и князья торговли, — заметил Жак, — мне не с чем поздравить Старую Англию. Если выпало несчастье очутиться в такой компании, лучшее, что можно сделать, — это попытаться уснуть. Давай спать.
Глава XXXVII
В УГОЛЬНОМ КОРОЛЕВСТВЕ
Трудно уснуть, когда тело не имеет другой точки опоры, кроме жесткой скамьи, и если вздрагиваешь оттого, что твоя голова коснется вызывающего омерзение плеча. Все же Жак сумел, отрешившись от всего окружающего, задремать, пристроив голову на шляпной коробке. Время от времени он просыпался — затекала спина или ноги. Он отталкивал соседа, наваливавшегося всей чудовищной массой, и снова засыпал. Жак ощущал, как состав, не делая ни одной остановки на всем пути следования от Эдинбурга до Лондона, с бешеной скоростью уносит его в ночь. Железная дорога вышла к побережью и пересекла шотландскую границу в городе Берик-он-Туид. Поезд ехал по территории графства Нортумберленд. В Ньюкасле Жонатан, который так и не заснул, в приоткрытое окно смог увидеть краешек этой равнины, выглядящей довольно жутко в темной ночи. Глазам предстало царство каменного угля, пылавшего в буквальном смысле слова. Огненные султаны развевались на высоких заводских трубах. Это — «деревья» Нортумберленда, грязной, черной равнины, образующие в совокупности огромный мрачный «лес», освещающий окрестности темно-красными всполохами. Непрерывный гул исходит от изрытой шахтами земли. В недрах угольных бассейнов непрерывно, днем и ночью, идет подземная работа, и латеральные шахты расходятся во всех направлениях на мили и мили, проникая даже под морское дно и бросая вызов бессильным волнам. Порт Ньюкасл, город угля, способен обеспечить топливом весь мир, используя свои торговые суда водоизмещением двести тонн.
Поезд продолжал свой стремительный бег, и вскоре огненная земля скрылась во мраке. Ночные часы пролетели, так и не утихомирив и не усыпив несносных англичан.
Жак спал. Он уже довольно удобно устроился, когда, проезжая через Йорк, сосед толкнул его в бок:
— Город Йорк.
Жак пришел в неистовый гнев. В бешенстве он осыпал докучливого толстяка самой отборной французской бранью, исчерпав в конце концов весь свой словарный запас. А сосед невозмутимо, с блаженной улыбкой, слушал обрушившуюся на него ругань. Никогда еще Жак так не жалел, что не знает английского. Он даже обратился за помощью к Жонатану, чтобы тот перевел британцу слово в слово сказанное, но музыкант категорически воспротивился. Все происходящее он теперь воспринимал с невозмутимостью истинного философа и беспокоился только о паспорте, закрытом в исчезнувшем чемодане.
Через несколько часов солнце встало над графством Лестершир. Остатки античных памятников, какие-то древние руины, полусаксонские-полуроманские, созерцали в окно путешественники, пока состав пересекал плодородную, покрытую обширными зелеными пастбищами равнину. Повсюду их взгляд натыкался на лежащих в утренней росе огромных быков — славу и утеху английских желудков. Здешние края восхитительны; коттеджи становятся все многочисленней, и длинные вереницы одинаковых домиков вытягиваются вдоль дорог, содержащихся в образцовом порядке. Легкая туманная дымка окутывает однообразную равнину, придавая ей своеобразие и очарование.
С наступлением дня шум в вагоне усилился. Съестные припасы, благоухающие на весь вагон, были извлечены из укромных уголков. Походные фляги открылись, и амбре молодой водки и старой свинины распространилось в духоте вагона. Жаку запахи съестного причиняли немалые страдания, потому что ему очень хотелось есть и пить без какой-либо перспективы в ближайшем будущем удовлетворить столь естественные потребности организма. Он попытался было открыть одно из окон, но, встретив решительные возражения соседей, отказался от своего намерения. Англичане путешествовали в термостате[430] и прекрасно себя чувствовали.
Странствие, и так затянувшееся, в такой обстановке показалось бесконечным. Оно было бы совсем непереносимо, если бы не тысячи семейных сцен, детали нравов, привлекавших внимание наблюдателей. После шумной бессонной ночи лица пассажиров предстали во всем многообразии их выражений. Некоторые ездили в Эдинбург для собственного удовольствия, но большинство эмигрировали, или скорее иммигрировали, пользуясь дешевизной проезда, со всей своей нищей семьей и всем состоянием, умещавшимся в свертках, завязанных платками или дырявыми тартанами. Еще несколько несчастных для большого города!
Наконец местность мало-помалу начала меняться. Тропинки превратились в улицы, деревни — в кварталы. Сгустившаяся атмосфера наполнилась темным туманом. Все чаще стали мелькать заводские трубы, щедро изрыгающие в грязное небо клубы дыма и копоти. Теперь железнодорожное полотно то пересекало улицы, то погружалось в сумрачные тоннели. Наконец поезд стал. Жонатан кинулся на перрон выяснить судьбу багажа, во что бы то ни стало стремясь вернуть свой чемодан. Ворох узлов и свертков, гора саквояжей и баулов предстала его взору. Все было перемешано, раздавлено, перевернуто. В полном противоречии с законом тяготения большие пакеты громоздились на маленьких, тяжелые предметы — на картонных ящиках и коробках. В Англии не существует какого-либо порядка, регламентирующего выдачу багажа. Каждый может брать все, что захочет. После непродолжительных поисков Жонатану удалось из завалов багажа извлечь свое весьма помятое и деформированное имущество, без лишних слов вместе с Жаком он вскочил в кеб (эти экипажи в большом количестве стояли прямо на вокзале), и спустя несколько мгновений друзья пересекали Нью-роуд, покинув вокзал Северной железной дороги. За пятнадцать часов они совершили путешествие в триста девяносто пять миль.
Глава XXXVIII
ПРИБЫТИЕ В ЛОНДОН
По совету семьи Б. французы отправились к Лондонскому мосту. В «Лондон-Бридж энд Фэмели-отель» они оказывались рядом с Брайтонским вокзалом, откуда и должны были уезжать во Францию. Друзей поместили в большую темную комнату, с двумя широкими кроватями с белыми занавесками. В номер можно было попасть по одной из немыслимых, но столь обычных для Англии лестниц. За утренним туалетом Жак разглагольствовал:
— Путеводитель Ришара[431] да и многие другие проявили массу изобретательности, составляя оптимальные маршруты по Лондону, позволяющие осмотреть столицу за предельно короткое время. Самые дерзкие предлагают варианты: английская столица за пять дней. В нашем распоряжении только сорок восемь часов. Ну что же, осмотрим Лондон за два дня.
— Не будем терять времени и справимся прежде всего на почте о письмах, которые могли прийти на наше имя.
У Жака был план города. После его тщательного изучения экскурсия началась.
На Лондонском мосту, который друзьям надлежало пересечь, в этот час царило необычайное оживление. В четыре ряда двигались транспортные средства всевозможных видов, форм и назначений. Омнибусы, кебы, купе[432], фиакры, телеги для перевозки бочек, подводы, двухколесные тележки, двуколки запрудили проезжую часть. Лошади в блестящих сбруях были великолепны. Тротуары заполнили толпы пешеходов, спешащих, озабоченных, молчаливых, и все попытки перейти с одной стороны улицы на другую практически были обречены на провал. И так продолжается в течение многих часов. Лондонский мост — последний из вереницы подобных сооружений, переброшенных через Темзу до ее устья. Большие корабли останавливаются перед ним, и выше по реке ходят только юркие пароходики да шаланды. Вполне естественно, что мост, соединяющий Сити с южной частью города, заполнен невероятной толпой. Жак с изумлением наблюдал за потоком экипажей — незначительной частью всего транспортного парка города, насчитывающего три тысячи омнибусов и четыре тысячи кебов. Справа воды совсем не было видно из-за скопления пароходов под флагами самой разной принадлежности. Слева река кишела маленькими паровыми судами, осуществлявшими перевозки по Темзе. На первый взгляд их было сорок или пятьдесят, шныряющих по широкому руслу, однако не сталкивающихся и не мешающих друг другу. Они торопились к пристани, и спешащие пассажиры не дожидались, пока перекинут мостки с палубы на причал, а перелезали через борт судна, еще достаточно далеко находившегося от понтона, и всей толпой сыпались на берег, как клоуны через барьер в цирке.
Лондонский мост, перекинувший через Темзу пять гранитных пролетов, выходит на Кинг-Уильям-стрит. Эта улица идет мимо памятника огню — высокой колонны с каннелюрами и урной с пламенем наверху, итало-витрувианского дорического ордера, как утверждают сами англичане. Колонна установлена на том самом месте, где был остановлен большой пожар 1666 года, превративший в пепел большую часть города. Жак читал яркое описание этой катастрофы в «Уайтфайнерз» — романе неизвестного автора. Впоследствии выяснилось, однако, что главным назначением памятника стало предоставление англичанам возможности вместе со своим сплином бросаться с капители[433] вниз головой на мостовую. А поскольку это занятие стало слишком модным, балюстраду окружили металлической сеткой, позволяющей видеть окрестности, но не дающей возможности упасть. С тех пор на памятник никто не поднимается. Об одном лондонце, всеми уважаемом негоцианте[434], рассказывают, что, когда фортуна повернулась к нему спиной и дела его пошли совсем неважно, он поднялся на платформу с самыми серьезными намерениями в тот самый день, когда по воле судьбы вершину колонны заключали в клетку. Не имея возможности свести счеты с жизнью так, как было задумано, сей достойный муж вернулся к себе в контору и еще раз попытал счастья в биржевых спекуляциях. Став мультимиллионером, он теперь считает, что сетка прекрасно смотрится на вершине памятника.
Вереница длинных улиц ведет от Уильям-стрит к почтамту, находящемуся в самом центре Сити. У лавочек здесь вид магазинов, а у лавочников — почтенных коммерсантов; оживление на улицах поражает. Совсем не видно гуляющих и праздношатающихся, вокруг одни только деловые люди, каждый из которых выглядит способным основать коммандитное товарищество[435] с миллионным уставным капиталом для разработок неизвестно чего. Здесь нет ни молодых, ни сформировавшихся зрелых, ни пожилых людей — одни только негоцианты, хлопковые лорды, шерстяные герцоги, сахарные маркизы, свечные графы, одним словом, принцы торговли. Сити-набобы[436] незаметно, скрытно проникают в свои маленькие таинственные конторы, в скромные офисы, вершат дела и судьбы текущего дня и возвращаются в роскошные особняки Риджент-стрит или Бельграв-сквер. Надо заметить, что эти миллионеры самым естественным образом соприкасаются с nihil-ионерами[437] среди хаоса шумных улиц Сити. Нищета здесь столь же откровенна, как и богатство, и если богач не подает бедняку, то только потому, что последний не может сдать сдачи с миллионной купюры, лежащей в кармане у первого.
Главный почтамт выстроен в виде греческого храма с портиком из дорических колонн[438]. Время отложило на гранях антаблемента[439] и скульптурах фронтона[440] черный слой копоти. Не задерживая внимания на деталях здания, Жонатан подошел к окошку почты с надписью «до востребования» и получил на свой запрос отрицательный ответ. Теперь нужно было побыстрее позавтракать. Жак приметил скромную таверну, вошел туда вместе со своим спутником и уселся в плохо освещенной комнате между двух отдельных кабинетов — закутков, отделанных темным красным деревом. Импозантный официант в черном костюме предложил свои услуги, и двое друзей проглотили из одной тарелки микроскопическую часть из двухсот пятидесяти тысяч быков и семнадцати тысяч баранов, поглощающихся огромной столицей ежегодно. Они также выпили две пинты из тех сорока трех миллионов галлонов пива, что с трудом утоляют жажду горожан.
В течение этого времени за соседними столиками несколько раз менялись посетители, торопливо завтракая статьей из «Таймс» или «Морнинг кроникл» и чуть подслащенными несколькими каплями чая, подаваемыми в крошечных чашечках.
«Если это все, с чем они ждут обеда, — подумал Жак, — то мне их искренне жаль».
После куда более серьезной, чем у англичан, трапезы путешественники встали из-за стола и направились к собору Святого Павла, чей купол возвышался над окрестными домами.
Глава XXXIX
СЕНТ-ПОЛ И ТЕМЗА
Собор Святого Павла — это не совсем точная копия собора Святого Петра в Риме, монумент скорее внушительный, чем красивый. Здание было построено вместо великолепного готического собора Иниго Джонса[441], погибшего в пламени пожара 1666 года. Внешний вид памятника отличает сложный коринфский стиль. Многочисленные колонны устремляются ввысь, поддерживая свод купола. Сочетание черного от дымной копоти цвета с обилием белых теней (ибо здесь белый цвет создает тень), образовавшихся на выступах, подверженных порывам северного ветра, производит странное впечатление: как будто снег симметрично лег на горельефы[442] антаблемента, на лепку колонн, на выступы капителей в форме акантовых листьев. Две маленькие башенки, изящные, несмотря на массивность, обрамляют портик с двух сторон. На одной установлены часы, на другой — набатный колокол. Обе увенчаны малохудожественными позолоченными сосновыми шишками. Снаружи здание достигает тридцати семи метров в высоту, но эту цифру подавляет мощь всего монумента. Элегантная галерея, покоящаяся на колоннах барабана, венчает антаблемент и поддерживает купол, заканчивающийся башенкой, также окруженный круглой галереей. Позолоченный шар и крест взлетают над ней еще на тридцать семь метров.
Жак внимательно изучил все пропорции собора, отказываясь в них верить. Поэтому, несмотря на нехватку времени, усталость и скептицизм спутника, он решил подняться на купол так высоко, как только сможет. Собор Святого Павла, подобно многим другим церквам Англии, был окружен небольшим кладбищем, на котором еще совсем недавно хоронили усопших. Но вот уже несколько лет, как были организованы финансовые компании по созданию кладбищ в Лондоне: одна из них, «Кенсил-грин-семитри-компани», произвела ряд великолепных операций, и ее акции, безусловно, будут высоко котироваться на Лондонской бирже.
Жак и Жонатан вошли внутрь собора. Они были поражены его холодным светом и грандиозной пустотой. Никакой росписи, лишь несколько несерьезных памятников да малоценных статуй великих людей. Жак мельком бросил взгляд на это внутреннее кладбище и подошел к дверце, скрывающей лестницу, ведущую наверх. Попросив разрешения подняться в верхнюю башенку, он получил его за один шиллинг и шесть пенсов. После бесконечного вращения вокруг столба по винтовой лестнице с деревянными ступенями двое восходителей достигли внутренней галереи у основания барабана. Ее называют галереей шепота, и маленький человечек, состарившийся на этой достойной службе, прошел в самый конец галереи, чтобы там вздохнуть. Его вздох достиг ушей изумленных туристов, подобно шуму урагана. Вскоре в окне показался свет, и друзья вышли на галерею антаблемента.
Вид, открывающийся сверху, простирался бы на многие километры, если бы вечные туманы не скрывали горизонт. В обычный день можно проследить течение Темзы от доков до Вестминстерского дворца, причем башни последнего скорее угадываются, чем просматриваются в туманной дымке. У подножия Святого Павла взгляду предстает очаровательный ансамбль зданий, пронизанный бесчисленными шпилями трех сотен церквей. Создается впечатление, что все пространство, насколько хватает глаз, как гигантская шахматная доска уставлено пешками. Собор Святого Павла на этой доске — король, а башня Парламента — королева.
Жак, полюбовавшись несколько мгновений окрестностями, освещенными английским солнцем, чей свет льется на город, словно через матовое стекло, вновь увлек Жонатана на узкую спираль лестницы. Друзья добрались до галереи башенки. Там, оставив шляпы у «высших», как их назвал композитор, служащих, они устремились по еще одной лестнице или, скорее, ее подобию к самому шару. Здесь пришлось уже поработать и руками и ногами, цепляясь за выбоины и неровности бронзы. Музыкант отстал, а его отважный спутник добрался до внутренней полости шара, имеющего два метра в диаметре, в которой с трудом могли поместиться восемь человек.
Оседлав железную перекладину, являющуюся осью шара, он повел следующую речь, обращаясь к подошедшему Жонатану:
— Друг мой, я думаю, что настал момент сейчас или никогда сообщить тебе габариты некоторых знаменитых памятников, согласно Стендалю[443]. Святой Петр в Риме достигает в высоту четырехсот одиннадцати футов, Страсбургский собор — четырехсот двадцати шести, большая пирамида — четырехсот тридцати восьми, шпиль Дома инвалидов в Париже — трехсот двадцати четырех, а шар, в котором я сижу, как на насесте, в данный момент на триста девятнадцать футов возвышается над лондонской мостовой. Ну, теперь можем спускаться.
Обратный путь был довольно легок, и вскоре друзья уже были на берегу Темзы у Лондонского моста. Каменные лестницы привели туристов к причалу пароходиков. И набережные и причалы были заполнены группками полуголых детей, просящих милостыню, продающих спички или химический трут. Приятели, заплатив пенни, заняли места в одном из быстроходных катеров, курсирующих от Лондонского моста до Вестминстерского. Суда эти быстро заполняются пассажирами, и поразительна оперативность, с которой запускаются их мощные вибрирующие машины. «Ситизн», что в переводе означает «Горожанин», отчалил от берега, встретив «Сан», или «Солнце», спускающееся по реке. Хозяин корабля, стоя на кожухе, подает открытой или сжатой в кулак рукой все команды, которые передаются механику звонким, пронзительным голосом ребенка. Раздалось «Полный вперед!», и пароход двинулся вверх но течению.
У Темзы нет набережных, что придает ей странный вид. Большие магазины, заводы, газгольдеры[444], фабрики, пакгаузы[445] выстроились вдоль берегов, и воды реки подступают прямо к подвалам, где и осуществляется погрузка или разгрузка товаров. Многие из складов украшены высокими башенками, на которых большими буквами всех форм указано назначение здания. На правом берегу преобладают заводы. «Ситизн», приспустив на треть складную трубу, прошел под гигантскими чугунными арками Саутуорк-бридж и Блэкфрайерз-бридж, проследовал вдоль свежих и опрятных садов Темпла[446] с саксонскими памятниками, мимо большого дворца Сомерсет-хаус[447], где расположены Департаменты почтовых марок, королевской печати и другие. С реки туристы смогли любоваться красивыми линиями венецианской архитектуры дворца. Отсюда он смотрелся очень импозантно и монументально. Время и влажность изъели арки внутренних сводов и наложили на них отпечаток искусственной древности. Мост Ватерлоо[448], чей правый настил покоится на девяти изумительных арках, развернул великолепные линии протяженностью в двести футов. Мост одет корнуэльским гранитом и производит впечатление нерушимого творения. Еще выше очень элегантный подвесной мост смело пересекает Темзу, паря над водой. Наконец, на излучине реки показался старый Вестминстерский мост, половина которого в ходе реставрации была изготовлена из металла. В дальнейшем, после ремонта, мост обещал быть великолепным. «Ситизн» прибыл в конечный пункт. Пароход остановился, и туристы устремились на набережную, чтобы полюбоваться фасадом нового дворца Парламента[449].
Глава XL
ПАРЛАМЕНТ, ВЕСТМИНСТЕР, УАЙТХОЛЛ,
ТРАФАЛЬГАРСКВЕР
— Сколько чудесных элементов! — воскликнул Жак, разглядывая искрящийся стиль парламентского дворца. — Взгляни только, какая расточительная щедрость на украшения, какое множество гербов, увенчанных коронами, какое обилие резных орнаментов, какие кружева на фризах[450], архитравах[451], карнизах! Какое цветение флоры Ренессанса! Можно подумать, на огромное здание наброшена вуалетка из английских кружев. Это стиль саксонских миллионеров!
Новый дворец Парламента, открытие которого состоялось лишь в 1847 году, действительно являет собой фантастическое зрелище. Множество башен и башенок возвышаются над крышей: на одной из них, с острым верхом — огромные часы. Четыре гигантских циферблата, обращенные на четыре стороны света, видны из всех кварталов города. Другая башня — Виктория-Тауэр, такая же высокая, как купол Святого Павла, поражает толщиной и мощью. При этом она снизу доверху украшена тончайшей ювелирной резьбой и покрыта гербами и геральдическим[452] надписями с девизами, и все это необычайной красоты. Фасад дворца, выходящий на площадь, имеет неправильную форму. Отдельные части постройки здесь и там выступают вперед, разворачивая пламенеющие богатства готических[453] окон. С реки вид архитектурной линии длиной в 1000 футов в высшей степени величествен. Возможно, излишество деталей и украшений несколько снижают художественную ценность великолепного дворца, но смотреть на него равнодушно невозможно. Взгляд и воображение поражены этой тропической растительностью, пышно расцветшей под туманным небом Англии. Трудно оторваться от изумительного зрелища. Многие критики осуждали нагромождение скульптуры и резьбы, но и сами не могли сохранять бесстрастность при виде такого великолепия. Это, если угодно, роскошный ковчежец или монументальная рака средневековья, это феерический сон, запечатленный в камнях, каждый из которых — бесценное произведение искусства, созданное самым индустриальным народом в мире. С чудесами Ренессанса резко контрастирует Вестминстерское аббатство, обдавая зрителей холодом. Церковь жуткого темного цвета построена по образцу поздней эпохи готики и внутри представляет собой обширное кладбище со множеством надгробий, отличающихся полным отсутствием стиля, вкуса, и аллегорическими фигурами, вызывающими улыбку. Можно лишь пожимать плечами, глядя на все восхваляющие барельефы, которые за золото может воздвигнуть в Вестминстерском аббатстве любое частное лицо. Это не святые первых времен христианства, почитаемые в протестантских храмах, но просто добрые малые, которых богатство привело к бессмертию. Наиболее интересная часть некрополя — уголок поэтов, где среди статуй и бюстов Мильтона[454], Аддисона[455], Драйдена[456], Грея[457], Голдсмита[458], Батлера[459], Спенсера[460], Гаррика[461] возвышается памятник Шекспиру. Лицо великого человека красиво и вдохновенно. В часовнях, окружающих хоры, находятся гробницы знаменитых мужей и королей и королев Англии. Там покоятся двое детей Эдуарда[462], Мария Стюарт и Елизавета[463] объединились в примиряющем сне. Близость этих двух могил заставляет биться сердце даже самого бесстрастного посетителя. Красивейшая из капелл построена Генрихом VII[464]. Чудо скульптуры, с которым ничто не может сравниться, — драгоценное украшение, созданное гением Бенвенуто Челлини[465]. Это высшая степень совершенства, доступная Ренессансу.
Покидая мир архитектурных чудес и абсурдностей, посетители вынуждены были отбиваться от толпы нищих, продающих описания и изображения различных памятников. Туристы с трудом от них отделались, но Жак не удержался и дал несколько пенсов несчастным подметальщикам, очищающим дорогу перед идущими господами. Нищенство в Англии очень изобретательно. Это и профессия, и своего рода коммерция.
Спустившись по улице Парламента, можно оказаться перед Уайтхоллом, дворцом с мрачным прошлым, полностью перестроенным со времени казни Карла I. Это здание, украшенное ионическими колоннами, не относится к разряду высших архитектурных ценностей, скорее оно занимает среднее положение.
— Не будем отвлекаться на обсуждение знаменитого окна, под которым был воздвигнут эшафот для несчастного короля. У нас нет времени, да это и не так уж интересно.
— Я только что собирался попросить тебя об этом же, — отозвался Жонатан, который, казалось, уже был утомлен навязанной ему экскурсией. — Где мы?
— На Черинг-Кросс, где раньше происходили коронации королей Англии. А вот Трафальгарская площадь. На моем плане здесь указана Национальная галерея[466]. Думаю, это музей. Скверная постройка — большего я не могу сказать из вежливости. А теперь, дорогой Жонатан, взгляни на эту дорическую колонну со статуей Нельсона на капители[467]. Обрати внимание, что великий моряк как бы разделен на две части пересекающим его громоотводом. Вот она, английская справедливость. Адмиралу ставят памятник за победы при Абукире и Трафальгаре и в то же время сажают его на кол за частные преступления. Ну что же, оставим площадь, столь же гористую, сколь малопримечательную, и отправимся к парку Сент-Джеймс. Мои глаза должны отдохнуть на какой-нибудь зелени. Заглянем мимоходом на Пэлл-Мэлл и его клубы.
Английские клубы — это настоящие дворцы, и ни в одной стране мира не найти им подобных, возведенных с таким вкусом и тщанием. В Лондоне их множество, и расположенные на Пэлл-Мэлл Юнайтед-Сервис-клуб, Консерватив-клуб-хаус, Этенеум-клуб просто великолепны. Стоит ли удивляться такому скоплению памятников в одном городе? Девяносто одна корпорация, такие как галантерейщики, суконщики, торговцы рыбой, ювелиры, скорняки, кабатчики и другие, имеет свой собственный Дом. К этим предназначенным для собраний зданиям, и без того очень монументальным, присоединяются и благотворительные дома для неимущих, принадлежащих к тому же кругу. Кроме того, насчитывается по меньшей мере сорок ученых обществ всевозможных наименований, и каждое со своим собственным помещением, с колоннами и антаблементом. Клубы столь же многочисленны, сколь и общества. Все выставляется напоказ, удобно устраивается, дает пищу воображению английских архитекторов и приумножает английские памятники.
— Давай, — предложил Жак, — посмотрим место, где проходят парады конных гвардейцев. Туда ведет лестница площади Ватерлоо. Обрати внимание, Жонатан, на колонну герцога Йоркского. Ты можешь подняться на нее за шесть пенсов, а если бы тебе не было полных трех лет, так и вовсе бесплатно.
— Но на кой черт мне понадобилось бы лезть туда в два с половиной года?
— Понятия не имею. Таково правило. Это напоминает мне объявление в нантском омнибусе: «Дети до трех лет, путешествующие одни, имеют право бесплатного проезда, при условии, что они сидят на коленях у взрослых». Вот что можно прочитать в департаменте Нижняя Луара.
Глава XLI
БУКИНГЕМСКИЙ ДВОРЕЦ, ГАЙД-ПАРК,
ПИКАДИЛЛИ, СТРЭНД
Площадь перед дворцом Конной гвардии — место для развода и парадов кавалерийских гвардейских полков. Каждое утро там можно услышать музыку, обычно звучащую в парижских кабачках. Но сейчас было уже поздно, маневры закончились, и Жонатану не удалось насладиться вариациями какой-нибудь темы из «Трубадура» в английском духе.
Парк Сент-Джеймс предлагает гуляющим солнечные лужайки и красивые тенистые уголки. Его пересекает небольшой ручей, протекая под тяжелым подвесным мостом. В одном конце парка расположен Букингемский дворец[468], резиденция королевы Виктории, в другом — дворец Сент-Джеймс. Последний, представляющий мало интереса для историка и археолога, служит для церемоний, приемов и придворных праздников. Здание очень красиво, особенно та часть его, которая выходит в закрытые сады. Однако снаружи туристам трудно судить о красоте орнаментов. Парк Сент-Джеймс переходит в Грин-парк, и лужайки сменяются лугами, а газоны — пастбищами. Множество барашков, гуляющих здесь и мирно щиплющих городскую траву, придают окрестностям буколический вид. Лондонские мясники арендуют здешние земли для выпаса своих огромных стад.
Как правило, за всеми этими парками, раскинувшимися в самом центре огромного индустриального города, создающими ощущение свежести, умиротворения, ухаживают весьма посредственно. Напротив, каждый волен свободно гулять по газонам, ничем и никак не огороженным.
В конце Сент-Джеймса виден монументальный вход в Гайд-парк, перед ним — Триумфальная арка.
— Жонатан, посмотри хорошенько на конную статую на площадке арки. По безвкусице и уродству она превосходит все, что только можно вообразить. Я бы сказал, что она перешла все границы хорошего тона. Лошадь под всадником явно пьяна, ей немалого труда стоит нести на спине герцога Веллингтонского[469], владельца вон того особняка. Престарелый герой имел возможность любоваться собой из окон столовой, и он поистине незаурядная личность, если это зрелище не портило ему аппетит. Но так как английский кумир должен был видеть себя и из спальни, лондонские дамы установили со стороны Гайд-парка изображение полководца в виде гигантского Ахилла. Зачем надо было выбирать этого крикуна и баламута древности, храбрость которого не может быть поставлена ему в заслугу, не знаю. Причем Веллингтон — совсем голый, и от этой наготы в дрожь бросает. Кроме того, статуи, бюсты и портреты герцога наводнили Британские острова. Положительно, англичане здесь явно злоупотребляют, так же как в свое время они злоупотребляли Ватерлоо!
Гайд-парк — огромный зеленый массив с широкими аллеями, бесконечными газонами, гигантскими деревьями, большой рекой и великолепным каменным мостом. Это своего рода клуб лондонского света. Сюда стекается великое множество карет, и это при том, что респектабельные экипажи этот район не посещают. Зачастую на козлах здесь сидят члены клуба «Четверка в руках», мнящие себя первыми кучерами в мире. В разгар сезона, когда из-за летней жары вся провинциальная аристократия устремляется в город, толпы буржуа, совершающих конные и пешие прогулки, представляют собой весьма любопытное зрелище. Целые семейства — отец, мать, юные девушки и молодые люди — гарцуют на дорогих лошадях; старые лорды приезжают сюда выгуливать свою ежедневную скуку, перед тем как перенести ее в верхнюю палату, где она благополучно усыпляет сих почтенных государственных мужей. Судебный исполнитель будит досточтимых пэров[470] в момент голосования. В Гайд-парке можно встретить очаровательных англичанок, кстати, женщин тут больше, чем мужчин. Впрочем, это характерно для Британских островов, и в ближайшем будущем Англия столкнется с серьезной проблемой.
Последнее замечание Жонатана очень понравилось Жаку.
— Таким образом, — сделал вывод молодой человек, — старые девы не редкость среди островитянок, и при желании совсем не проблема жениться на богатой наследнице, уставшей от одиночества. Необходимо только обращать внимание на гербы на дверцах карет. Например, ромб — своего рода вывеска зрелой девицы.
— Я слишком устал, — ответил композитор, — и потом, у нас нет времени. Давай лучше присядем.
— Ну уж нет! Пошли, пошли! Сейчас возьмем кеб на выходе из Гайд-парка и отправимся обедать в нашу маленькую таверну.
Ехать туда было далеко, но, как друзья ни высматривали, они так и не увидели на всем пути ни одного заведения, где можно было бы поесть. Несколько раз, правда, им попались boarding house и eating house — меблированные комнаты со столом и харчевни, у них у всех был такой унылый, если не сказать безжизненный, однако, вид, а двери были так плотно закрыты, что и речи не могло быть, чтобы переступить порог.
Кеб, управляемый очень импозантным кучером, по виду — настоящим пэром Англии, поехал по Пикадилли — широкой улице с разномастными домами, зачастую низкими и темными, но тем не менее свидетельствующими о богатстве и роскоши. Каждая семья занимает отдельный коттедж с большим балконом, с прорезями в полу. Это может создавать некоторые неудобства при современной моде на кринолины, но англичанки из соседних окон и, надо сказать, даже англичане с улицы не обращают на это никакого внимания. Подобная система устройства коттеджей и частных жилищ объясняет, почему Лондон насчитывает двенадцать тысяч улиц и двести тысяч домов, и г-н Гораций Сэй был прав, когда сказал: «Лондон не город, это провинция, застроенная домами».
В красивых кварталах Пикадилли, Риджент-стрит, Хай-маркет царит оживление, хотя и меньшее, чем в Сити. Жонатан с интересом созерцал особенности английской жизни, проезжая по Пикадилли и торговым кварталам Стрэнда: почтальон, одетый в красное, довольствуется двумя сухими ударами молотком в маленькие двери домов; джентльмены комильфо оповещают о своем приходе пятью медленными ударами, а элегантные дамы, наносящие визит, объявляют о своем прибытии семью быстрыми ударами. Таким образом, каждый заранее знает, какого рода посетитель стучится и какова цель его прихода. Жак был поражен обилием сапожников и модных торговцев, наводнивших столицу. Их было по меньшей мере несколько тысяч. Что до торговцев сигарами, обладающих полной свободой коммерции, то им нет числа, но их товар ничего не стоит. Курильщиков завлекают броскими надписями и заманчивыми вывесками, которым, однако, ни в коем случае не следует доверять.
Миновав Трафальгар-сквер, кеб проехал перед особняком герцога Нортумберлендского, старым саксонским зданием с неординарным видом. В одном из салонов дома в рамке на стене висит знаменитая банкнота в пятьсот тысяч франков, которую герцог выдает за шедевр.
Стрэнд представляет собой широкую торговую магистраль, соединяющую кварталы Парламента и Сити. Движение на ней крайне оживленно. Стены, дома, даже тротуары пестрят афишами и рекламами всех видов. Прогуливаются «живые тумбы» — люди, носящие на себе плакаты в виде конусов или пирамид, исписанные объявлениями, возбуждая любопытство и покупательный азарт публики. В Англии свирепствует самая настоящая эпидемия рекламной лихорадки.
Глава XLII
ЖАК И ЖОНАТАН ПОСЕЩАЮТ ТЕАТР
Стремительно мчащийся кеб, направляемый ловкими руками кучера, ловко лавировал среди толчеи ярко окрашенных, странных форм экипажей. Туристы проехали перед дорическим фасадом Сомерсет-хауса и прибыли в Темпль-бар — единственный уцелевший фрагмент древней границы города — ворота в форме триумфальной арки, всегда открытые и закрывающиеся только перед одним человеком в целом свете — ее всемилостивейшим величеством королевой Англии, когда она намеревается направиться в этот квартал Лондона. Чтобы пройти в ворота, она должна получить специальное разрешение лорд-мэра. Если же королева захочет украсить свой наряд брильянтами английской короны, хранящимися в Тауэре, ее величество должна дать лорд-мэру расписку, ибо эти драгоценности принадлежат английскому народу, в том числе и этому нищему, бредущему по мостовой с мутным взглядом и пустым желудком, и мертвецки пьяному матросу, что ломится в двери пивной.
— В былые времена, — продолжал рассказывать приятелю Жак, — на воротах Темпль-бар выставлялись головы казненных. Я слышал, что сейчас во время всенародных праздников этот памятник украшают головами из картона, прекрасно имитирующими настоящие и кровоточащими, как ростбифы, столь милые сердцу Джона Булля.
— Охотно верю. Он на все способен. Но посмотри, Жак, какое стечение народа! Мы на Людгейт-стрит, и уже показался купол Святого Павла. А сколько детей! Можно подумать, что мы в Ливерпуле.
— А это во всей Англии так, Жонатан, и теперь мне понятно, почему английские писатели жизнеописания своих героев всегда начинают с самого раннего возраста: перед их глазами постоянно снует детвора.
Церкви в этой части города очень многочисленны. У французов было слишком мало времени, чтобы их посетить. Но, кстати сказать, двери соборов, похоже, всегда на запоре. Табличка на решетке сообщает имя священника, его адрес, а также род коммерции, которой он занимается, в окружении семейства — миловидных детей и супруги.
По Флит-стрит и Олд-Бейли — улицам, названия которых с трудом можно было разобрать на табличках, что, впрочем, характерно для столицы, друзья доехали до Ньюгейтской тюрьмы — сравнительно недавней мрачного вида постройки. Английские архитекторы в совершенстве владеют мастерством придавать постройкам подобный колорит. Туристы проследовали до банка и Биржи. Эти два здания построены в греческом или римском стиле и ничем особенно не примечательны. Английский банк, похоже, охраняет себя сам, во всяком случае, там не видно когорты солдат и инвалидов, как в Париже. Нью-Роял-иксчейндж[471] напоминает церковь. В самом деле, разве он не является первым в мире храмом в царстве индустрии спекуляций?
— У англичан, — заметил Жак, — любопытная манера различать два типа биржевых игроков: bear и bull — медведь и бык. Покупающий, смелый и дерзкий, доверяющий, производящий и созидающий — это бык. Пессимист же, тот, кто неизменно считает, что все потеряно, одним словом продающий, — это неуклюжий, печальный медведь, медведь, которого покупатель часто заставляет плясать под свою дуду. Я нахожу это прозвище очень метким.
Проигнорировав новую конную статую Веллингтона и потратив несколько секунд, показавшихся друзьям вечностью, на созерцание шести коринфских колонн господина лорд-мэра, парижане вернулись в маленькую таверну, где важный официант вскоре подал им обед, для французских желудков не слишком обильный. На вечер Жак запланировал театральную программу. Молодой человек предложил приятелю посмотреть «Макбет» в Театре Принцессы на Оксфорд-стрит. Не теряя ни минуты, друзья вскочили в омнибус, не без труда определив среди тысячи названий на дверце станцию назначения. Наконец, в половине восьмого французы уже выходили из экипажа перед театром. Жонатан взял два билета в партер, по два шиллинга каждый, и-получил на входе в зал следующую программу.
Дункан (король Шотландии) — м-р Гарден
Малькольм — м-р Ж.-Г. Шоре
Дональбаин — мисс Вудвард
Полководцы Дункана
Макбет — м-р Джеймс Андерсон
Банко — м-р Фернандес
Макдуф — м-р Базиль Поттер
Ленокс — м-р Р. Катиарт
Ментис — м-р Ричардсон
Ангус — м-р Эндрьюс
Кэтнес — м-р Вильсон
Флиенс (сын Банко) — мисс Денвил
Сивард (граф Нортумберлендский) — м-р Гастингс
Сейтон (приближенный Макбета) — м-р Пауло
Врач — м-р Гаркурт
Привратник — м-р Даусон
Офицеры — м-р Дж. Коллет, м-р Даги и др.
Призраки — м-р Джонстон, мисс В. Адамс, мисс Денвил
Леди Макбет — мисс Элсворти
Придворная дама (из свиты леди Макбет) — мисс Леклерк
Геката — м-р Бартлемен
Ведьмы — м-р Франк Матьюс, м-р Ф.-Г. Хигти, м-р X. Сакер
Поющие ведьмы — мисс Ребекка Исаак
Ахилл Тальма Дюфар — м-р А. Гаррис
Досточтимая Берти Фицдауф — м-р Т.-Г. Хигги
Гиацинт Парнассус — м-р Р. Катиарт
Теофилус Вамп — м-р Коллет
Мисс Арабелла Фицджеймс — мисс Роза Леклер
Эмилия Антуанетта Роза — мисс Мария Гаррис
Бельэтаж — 5 ш. Ложи — 4 ш. Задние ряды партера — 2 ш. Балкон — 1 ш. Передние ряды партера — 6 ш. Частные ложи — 1 ф. 2 ш. 6 п.; 2 ф. 2 ш. и 1 ф. 11 ш. Двери открыты с половины седьмого, представление начинается в 7 час.
Аккредитованные агенты по продаже билетов в ложи и партер:
Мистисейл. Роял Лайбрери, Гукхам, Олд-Бонд-стрит; Сенд, Сент-Джеймс-стрит; Лидер энд Кок, Чепэлл, Сабб, Нью-Бонд-стрит; Эбберс, Олд-Бонд-стрит; Крамер энд Бик энд Хаммонд, Риджент-стрит; Картер, 12, Риджент-стрит; Кейт, Боулес и К?, Чипсайд
Кассы открыты ежедневно с 11.00 до 16.45.
Зал Театра Принцессы был невелик, но изысканно и красиво оформлен, авансцена сделана с безупречным вкусом. Жак оказался сидящим в окружении дам в вечерних туалетах, с цветами в волосах и с типично английским, очень смелым декольте. Когда парижане вошли в зал, свободных мест было очень много, но после девяти часов публики должно было заметно прибавиться, так как цена на билет снижается вдвое. В Англии с ее полной свободой на все каждый волен основать театр, открыть новый городской маршрут омнибусов, организовать бал или кафешантан, издавать газеты на свой вкус. В этом последнем англичане весьма преуспели: в стране выпускается семьсот восемьдесят одна ежедневная газета и четыреста восемьдесят литературных и иллюстрированных журналов. Из этой беспредельной свободы проистекает тот факт, что директор театра в своих действиях никому не подотчетен и по своему усмотрению может менять стиль и направление репертуара своего театра, так же как и цены на билеты. Он — сам себе судья во всем.
Глава XLIII
НЕЗАБЫВАЕМАЯ ЛЕДИ МАКБЕТ
Спектакль начался. Жак не понимал ни слова, происходящее на сцене ему казалось пантомимой. Жонатан улавливал обрывки фраз и, пытаясь их понять, упускал оставшуюся половину реплики или тирады. Игра труппы была по-мещански сентиментальна и патетична, но тем не менее убедительна. Пытаясь донести до зрителей все вольности и смелые решения великого английского драматурга, актеры оглашали зал ужасающими воплями. Однако скованные и претенциозные движения служителей Мельпомены[472], их утрированная мимика, типично английская внешность, по-видимому, нравились большинству зрителей. Поединок Макбета с шотландскими баронами определенно был похож на перепалку канатных плясунов. Шотландский король делал все возможное, чтобы наносить удары строго в определенном ритме, а Макдуф каждый раз терпеливо ждал, чтобы нанести ответный выпад.
Мисс Элсворти, исполнявшая роль леди Макбет, выглядела проще и сдержанней. Она была естественной среди необузданно-романтических эмоций своих коллег. Игра хоров была скрупулезно точной; три ведьмы испускали погребальные заунывные вопли под музыку Лока, эмоциональную окраску и колорит которой Жонатан оценил весьма высоко.
Декорации — разрисованные панно, установленные на сцене, менялись с завидной скоростью. Жак был очарован небольшими шотландскими городками в районе Инвернесса. Недавнее путешествие сделало разыгрываемую актерами историю близкой его сердцу.
Произносился ли на сцене подлинный текст Шекспира? Подлаживали ли артисты под английские условности реалистическую бесцеремонность поэта или исполняли его дословно в его великолепной грубости? Вот вопрос, на который было трудно ответить и который живо интересовал Жака. Он прекрасно знал трагедию по переводам. В театре во Франции пьеса всегда исполняется сильно измененной, с купюрами. Жак указал Жонатану на знаменитое место во втором акте после убийства Дункана, когда Макдуф спрашивает у привратника, какие три вещи вызывают жажду. Но сколько Жонатан ни вслушивался, как ни напрягал все свои способности в указанный момент, он ничего не смог разобрать. Но вот на один из ответов стража ворот зал прореагировал взрывом хохота.
— Браво! — воскликнул Жак. — Они воспроизводят подлинный текст великого поэта, искусство ставят выше условностей. Браво!
— Непристойность, друг Жак, заключается не в том, чтобы произнести, а в том, чтобы вырезать слова поэта. Они абсолютно правы, эта британцы. Играйте Шекспира дословно или вовсе не касайтесь его творчества.
Великая трагедия, слабо исполненная, была встречена довольно жидкими аплодисментами. Впрочем, английская публика выражает свои эмоции вообще очень сдержанно. Во время антракта исполнялся вальс Монтгомери, который никто не слушал. Вскоре занавес вновь поднялся: вечер завершался фарсом.
С первых же сцен Жак в «Первой ночи» узнал «Отца комедиантки»[473], переведенного довольно точно. Директор театра с большим воодушевлением и живостью исполнил роль Ахилла-Тальма Дюфара, позволив себе тысячу остроумных импровизаций и добавлений к тексту. Говорил он наполовину по-французски, наполовину по-английски, а временами — даже по-итальянски. Вот исполнитель процитировал неизвестно зачем первую строку поэмы «Георгики» Вергилия[474], и парижане схватились за бока от смеха, слушая, как артист произносил:
— Taytayre tiou potiouloe ricioubance sioub tigmini faidjai[475].
Жак никогда не задумывался над тем, в каком виде латынь выходит из английского рта. Пьеса прошла гладко, и дочь директора мисс Мария Гаррис разделила с отцом успех вечера.
Усталые, засыпающие на ходу французы покинули театр в одиннадцать часов вечера. Какой насыщенный день после бессонной ночи в туристском поезде! Они спустились по Риджент-стрит, чтобы нанять экипаж. Но улицы были почти пустынны — и это здесь, в час, когда в Париже все залито светом и заполнено шумной толпой! Лондонские магазины, закрытые с восьми часов вечера, погружены во мрак. Лишь кое-где луч света пробивался сквозь матовое стекло какого-нибудь погребка, где можно выпить пива или виски. Полицейские бесшумно, как привидения, фланировали по тротуарам вдоль стен с маленьким зажженным фонариком на поясе. Проходя мимо дверей, они ударом кулака удостоверялись в том, что они заперты. Иногда стражи порядка встречались, шептали что-то друг другу на ухо и расходились в разные стороны.
Подъехавших к Хай-маркет туристов поразила резкая перемена: тишина сменилась шумом, пустынность — оживлением. Сотни женщин, одетых в немыслимые туалеты, заполнили один из тротуаров широкой улицы. Своим сомнительным ремеслом они занимались со свободой, дерзостью и вызовом, как бы говоря, что им нечего бояться полиции. Для них наступил час рынка и биржи, и в ход шли все приемы и уловки городских негоциантов, чтобы сбыть товар. В этот вечер среди несчастных существ была большая конкуренция. Предложения превышали спрос, и сделки заключались по более низкой цене, чем обычно.
Сколько среди этих женщин совсем еще молодых девушек, уже увядших от дебоша! Сколько свежих, красивых созданий оставили свою юность и красоту в публичных домах и кабаках, где любовь омывается джином и водкой. Эти заведения остаются открытыми до утра и предоставляют диваны и напитки опустившимся хай-маркетским Лаис[476].
По мере приближения к Темзе в узких грязных улочках количество продажных женщин остается прежним, но их бедность становится заметнее. В этих кварталах сцены пьянства и дебоша мешаются с кровавыми сценами убийства и грабежа.
Жак и Жонатан, брезгливо взирающие на тошнотворное зрелище, нашли наконец экипаж, который и доставил их в «Лондон-Бридж-отель». Там они мгновенно погрузились в царство Морфея, не страшась никакой бессонницы, — так они были утомлены и измучены.
Глава XLIV
НА ПАРОХОДИКЕ ПО ТЕМЗЕ
Утром Жак разбудил Жонатана:
— Это наш последний день в Британии. Идем! Мы теперь как Вечные Жиды[477] туризма. Это уже не просто удовольствие, это долг! Все время смотреть, еще смотреть и снова смотреть — вот наш девиз.
— Кстати, ты обратил внимание, что большинство девизов городов и орденов в Англии пишутся по-французски? «Бог и долг» с герба Англии, «Пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает» — девиз ордена Подвязки.
— Странно.
— Это идет еще со времен завоевания Британии норманнами. В течение двух веков добрые островитяне говорили на нашем языке!
— Что ж, на их произношении это никак не отразилось. Твое замечание, Жонатан, очень интересно, но оно только выиграет, если ты будешь развивать его на свежем воздухе. Поторопись, надо идти. Я уже прикинул программу на сегодня. Она обещает быть весьма насыщенной.
Через несколько минут друзья были готовы, они покинули гостиницу, пересекли Лондонский мост и сели на один из пароходов, спускающихся по Темзе до Гринвича. Река на подступах к мосту была запружена пакетботами и каботажными судами. Большинство из них спешили воспользоваться утренним отливом и на всех парах и парусах спешили вниз по реке.
Гринвичский пароходик на большой скорости удалялся от моста. Он оставил слева Кастом-хаус — таможню, монументальное здание с тремя обширными портиками ионического ордера, с колоннами, изъеденными испарениями Темзы. Вода в реке не тинистая и не илистая, однако напоминает зловонную жижу канализации. Впрочем, Темза и есть не что иное, как огромная сточная канава. Дважды в день прилив заставляет отступать нечистоты большого города, Северное море не хочет их принимать. Это, кстати, постоянный источник инфекций. Надо ли удивляться при таком положении вещей, что чума шесть раз опустошала Лондон, унеся, например, в 1665 году сто тысяч жизней? Во время сильной жары в июне и июле испарения от реки становятся просто невыносимы, и каждый год парламент по этой причине бывает вынужден прервать свои заседания.
Рассекаемые пароходом воды реки с трудом вспенивались, до того они были тяжелые и вязкие. Вскоре показались доки, ощетинившиеся пятнадцатью тысячами мачт кораблей, в них заключенных. Но после созерцания портовых сооружений Ливерпуля Жак решил, что вполне можно обойтись без осмотра лондонских. На излучине реки французы увидели плывущего гиганта. Это был «Левиафан»[478], усилиями инженеров оказавшийся наконец в родной стихии. К большому огорчению Жака, этого монстра нельзя было посетить. Он стоял на якоре немного ниже Гринвича, в котором несколько мгновений спустя остановился пароход с нашими приятелями.
Гринвич расположен примерно пятью милями ниже Лондонского моста. Это настоящий город. Жак мельком взглянул на великолепный дворец, отданный под госпиталь для моряков. Он тщетно попытался показать Жонатану знаменитый английский меридиан, проходящий через обсерваторию, и затем увлек своего компаньона к лодке. Молодой человек хотел вернуться к «Левиафану» и осмотреть его со всех сторон. Двухвесельная шлюпка поднялась по течению, прошла мимо неоснащенного трехмачтового судна, служащего дополнением к госпиталю и своими скромными габаритами еще больше подчеркивающего необъятность «Левиафана». Жак смог получить представление о размерах гиганта, пройдя вдоль кожухов, которые сами по себе были настоящим монументом судостроению. Во время экскурсии Жонатан окунул палец в Темзу и весь следующий день сожалел о своем легкомысленном поступке.
Обогнув «Левиафан», этот плавучий город, лодка вернулась к набережной. Путешественники снова сели на пароход, который возвращался вверх по Темзе, и вышли на причале у тоннеля на левом берегу. Подойдя ко входу этого бесполезного чуда, задуманного и исполненного французским инженером господином Брюнелем, друзья спустились по спирали лестницы в широкий колодец. Его стены были украшены картинами с видами разных стран, нарисованными с апломбом колористов, отличающим английских художников. В низу колодца начинаются две галереи, тянущиеся на четыреста метров. Для публики открыта только правая. По ней за один пенни можно пройти под ужасными водами Темзы. Длинный узкий проход мрачен, от него тянет могильной сыростью. Газовые рожки время от времени разрезают темноту. Между двумя галереями, объединенными аркадами, множество лавочек, в которых самые красивые в мире продавщицы торгуют дорогими безделушками, не забывая добавить при этом, что сами являются частью своих товаров.
В тот самый момент, когда Жак и Жонатан входили в галерею, на другом конце какой-то промышленник, обладатель корнет-а-пистона, начал издавать под длинными сводами тоннеля, к великому удовольствию публики, странные завывания. Вначале медные звуки были плохо различимы, но вскоре Жонатан, шедший впереди, остановился и схватил Жака за руку.
— Слушай! — воскликнул он. — Слушай!
— В чем дело?
— Не слышишь?! Не узнаешь?!
Ужасный инструмент выводил с мощью, на какую только был способен, мелодию из «Трубадура»: «Ah! l’amor, l’amorond’ardole!»[479]
— Даже здесь, в тоннеле!
— Не понимаю, как он не обрушится, — просто ответил Жонатан. — Идем, Жак, бежим!
Друзья вернулись к началу тоннеля и в одной из лавочек заметили маленькую паровую машинку, размером не больше ладони, работающую от пламени газового рожка. Механизм приводил в движение ручку шарманки. К счастью, инструмент молчал, ибо одному Богу известно, что бы она сыграла.
Жак с облегчением вышел на дневной свет и, согласно намеченной заранее программе, направился к Лондонской башне — Тауэру[480]. Путь был не близким, и ввиду отсутствия экипажа пришлось проделать его пешком. После долгих блужданий, не раз сбившись с пути и заблудившись в запутанной сети многочисленных торговых улочек, соседствующих с доками, заметив мимоходом железнодорожные пути, пересекающие город по прямой линии через церкви и дома, вдоволь полюбовавшись на поезда, на всей скорости проносившиеся над крышами и башенками, двое Друзей, усталые до изнеможения, добрались наконец до Лондонской башни.
Глава XLV
ЛОНДОНСКАЯ БАШНЯ, РИДЖЕНТ-ПАРК
Говорят, лондонский Тауэр был построен Вильгельмом Завоевателем[481]. Эта башня — символ Старой Англии с ее традициями, почтением к древним обычаям, любовью к вещам былых времен. В самой древней цитадели нет ничего интересного, но служители, показывающие ее туристам, безусловно заслуживают внимания, так как предстают в старинных костюмах с гербом на груди и гирляндами на шляпах, что привело Жонатана в восторг. Таким образом, создавалось полное впечатление, что они были современниками Ричарда III[482] или Генриха VIII[483] и очевидцами кровавых драм, о которых рассказывали.
Под водительством одного из этих пиковых валетов группа посетителей, в которой были и наши парижане, прошла в широкий двор крепости. Экскурсовод мимоходом указал на Кровавую башню, где были умерщвлены дети Эдуарда, на башню Бошан, государственную тюрьму, где томились Джейн Грей[484] и Анна де Болейн[485], на Векфилдскую башню, где убили Генриха VII. Недостатка в убийствах тут не испытывали. Таков был основной политический прием в арсенале государей Англии, и те частенько к нему прибегали — как в отношениях со знатью, так и в кругу своей собственной семьи. Можно сказать с полным основанием, что история Англии написана кровью.
Зал доспехов, куда вскоре пришла группа экскурсантов, выглядел весьма забавно. Доспехи надеты на манекены, изображающие английских королей. Их позы, выражение и жесты вызывают смех. Один монарх потрясает копьем, угрожая потолку, другой поднимает палицу, готовый размозжить голову собственному коню, третий, замахнувшийся топором, при попытке опустить оружие отрубит себе левую руку! Вся экспозиция свидетельствует о плохом вкусе устроителей и напоминает скорее ярмарочный балаган, чем научный музей.
В арсенале королевы Елизаветы демонстрируются два топора на двух плахах: одним была отрублена голова Анны де Болейн, другим обезглавлен граф Эссекский. Жак с содроганием провел пальцем по историческому лезвию и попытался сосчитать зарубки, оставленные на плахе королевской политикой.
Выйдя из арсенала, французы, не затрудняясь пересчитыванием спящих во дворе пушек, немедленно покинули замок. Время шло, и они вернулись к Лондонскому мосту, завизировав по дороге паспорта на Кинг-Уильям-стрит. Затем друзья поспешили к причалу. Как и накануне, они поднялись вверх по течению, но теперь их путь был более продолжительным. Приятели проплыли под аркой, ощетинившейся балками нового моста Парламента. И вот фасад дворца, выходящий на Темзу, открылся им во всем своем великолепии, как на картине Жюстена Уврие[486]. Перо бессильно описать все величие этой картины. Впечатление таково, будто Лондон где-то далеко, за тысячу лье отсюда. Архитектурные линии поразительной чистоты гордо несут щиты с историческими гербами, и со стороны реки дворец являет глазу идеально правильные формы. Башни Виктории и Часовая возвышаются с двух сторон над величественной неподвижной громадой здания. От впечатляющего зрелища трудно оторваться.
Берега реки в этом месте очень живописны. На противоположном берегу Темзы прекрасно смотрится дворец Ламбет, окруженный пышными садами с деревьями, затеняющими зеленые лужайки, и множеством построек различных стилей и направлений, но обязательно англосаксонского типа — настоящий средневековый ландшафт, затерявшийся на берегах Темзы. Здесь находится резиденция архиепископа Кентерберийского. В Лондоне только одно епископство и один епископ. Когда пресвитерианцы и пуритане Шотландии проходят мимо этих поистине царственных хором, они с презрением отворачиваются.
Пароход остановился у Воксхолл-Бридж в Ламбет. Высаживаясь на пристани Миллбанк, Жак обратил внимание своего спутника на странной формы здание на левом берегу. Это Пенитеншери, мрачного вида темница. Тюрьмы в Лондоне наводят ужас, а эта похожа на тяжелый огромный мрачный склеп с толстыми стенами. Здесь содержатся злодеи, которых раньше приговаривали к ссылке, а теперь — к пожизненному заключению. Отсюда кеб за час довез путешественников до Риджент-парка, на который им непременно хотелось взглянуть, хотя бы мельком. Они стремились удержать в памяти мимолетные впечатления. По дороге к парку кеб пересек самые красивые кварталы Лондона. Дома Пимлико, красивые, светлые, выстроившиеся ровными рядами, несут бросающийся в глаза отпечаток достатка и роскоши. Почти каждый из них окружен тенистым сквером, где могут прогуливаться только обитатели дома. На площади Бельграв-сквер демонстрируются полное единство стиля и архитектуры. Все здания, как одно, просторные, красивые, без каких-либо пристроек. Можно подумать, что огромные уединенные особняки удалены за сто лье от доков и деловых кварталов города.
Кеб остановился на Парковой площади у входа в Риджент-парк — огромное зеленое пространство, площадью четыреста пятьдесят акров, усеянное аристократическими виллами, изрезанное широкими аллеями, обсаженное деревьями, с большими лужайками. Здесь же разместились зоологический и ботанический сады, но Жонатан наотрез отказался их осматривать и совершенно без сил рухнул на одну из высоких зеленых скамей, протестующих против обычного английского «comfortable»[487]. «Птичий полет» двух путешественников подходил к концу. Форсированные марши, чрезмерная усталость, постоянное перенапряжение при обилии новых впечатлений привели к полному изнеможению. И вот теперь, прилагая неимоверные усилия, поддерживая и подбадривая друг друга, Жак и Жонатан доплелись до Риджент-стрит. Прекрасная улица была запружена экипажами. Наступил час прогулок и развлечений для обитателей фешенебельных кварталов. Началось паломничество в магазины дам в шикарных туалетах. Внимательному взгляду эти наряды объяснили бы необходимость в сорока тысячах продавщиц модных товаров в столице Англии.
Усталого Жака повергала в ужас одна только мысль об обеде в маленькой таверне в Сити, которая казалась бесконечно далекой и недосягаемой. К счастью, в Квадранте удалось обнаружить французский ресторан. Молодой человек увлек друга в зал, и там они в течение двух часов пытались побороть голод и усталость всеми доступными им способами. Кухня была французской, но с английским привкусом.
Глава XLVI
ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ ТЮССО
— Вот мы и приближаемся к завершению нашего великолепного путешествия! — сказал Жонатан за десертом.
— И сколько же всего мы смогли посмотреть! Если наши глаза останутся при этом недовольны, значит, им трудно угодить!
— Друг Жак, признаюсь, мне не терпится вернуться в Париж. Я дошел до состояния полной невосприимчивости, уже ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не воспринимаю, и за последние дни мои чувства совершенно притупились.
— Должен признать, в чем-то ты прав. Ну еще одно небольшое усилие!
— Что, неужели надо опять куда-то идти?
— Не волнуйся, это уже последнее. Моя программа подходит к концу, но я непременно хочу выполнить ее до последнего пункта.
— О, боги! Куда ты меня теперь поведешь?
— Увидишь.
— Твое «увидишь» меня пугает.
— Идем!
— Ну пойдем.
И два пилигрима вновь взялись за дорожные посохи. Они снова прошли по тем же, но теперь уже темным в восемь часов вечера, улицам. Жак, тщательнейшим образом изучивший план Лондона, уверенно направился к Оксфорд-стрит, свернув с Риджент-стрит налево. Не отвечая на вопросы приятеля, он проследовал по этой Широкой магистрали до Бейкер-стрит.
Проходя мимо протестантской церкви, неутомимый турист не удержался, чтоб не заглянуть в нее, заверив при этом музыканта, что это еще не конечная цель их прогулки.
Строгая внутренняя обстановка суровой часовни, погруженной в полумрак, наводила тоску. Несколько рассеянных по деревянным скамьям верующих замерли в безмолвной молитве. В глубине, облокотясь о кафедру, освещенную маленькой лампочкой, проповедник читал вслух Библию. Стихи, произносимые монотонным торжественным голосом, гулко отдавались под мрачными сводами. Холод леденил душу, сковывал все чувства, пробирал до мозга костей.
— Идем отсюда, Жонатан.
— Не стоило сюда заходить!
Через несколько шагов ярко освещенный подъезд на Бейкер-стрит привлек внимание друзей. Жак, направляясь туда, сказал:
— Это здесь! Изволь приготовить два шиллинга.
Жонатан послушался и получил в обмен на деньги два билета, дающих приятелям право проникнуть в ослепительно сияющий салон.
— Где мы?
— У мадам Тюссо, внучки знаменитого Курциуса![488]
— Как! Кабинет восковых фигур!
— Нет! Музей, да такой, каких ты никогда не видывал. В последний раз раскрой пошире глаза, смотри и запоминай!
Плотные толпы заполняли залы, и, если бы не яркие костюмы, порой было бы трудно отличить посетителей от посещаемых.
Здесь были показаны сцены из жизни прошлых веков и современности, причем персонажи были выполнены в натуральную величину. Английский двор был представлен в парадных костюмах. Королевы, принцессы, герцоги — все знаменитости были здесь; сидящие в естественных позах, они, казалось, беседовали. Ордена, ленты, кресты — вся история знаков отличия блистала у них на груди. Бриллианты сверкали в волосах королев и на рукоятках шпаг королей. Французский двор также был показан в полном составе. Два огромных зала с трудом вмещали толпу суверенов и полководцев. Пантеон наполеоновских королей — ничто по сравнению с толпой теснящихся здесь венценосцев.
Все эти персонажи занимали середину салонов, в то время как в амбразурах окон, на помостах вдоль стен сидели на тронах, принимая участие в параде монархов, предки английского двора. Там приводил в изумление необъятный Генрих VIII в окружении своих шести жен — Екатерины Арагонской, Анны де Болейн, Жанны Сеймур, Анны Клевской, Екатерины Говард и Екатерины Парр. Этот огромный мясник в кругу своих несчастных жертв производил сильное впечатление. Далее необыкновенной красотой сияла Мария Стюарт. И настолько совершенны были представленные произведения, эти шедевры из воска, что реальность не выглядела бы более захватывающей. Красота шотландской королевы превосходила все, что может себе представить самое пылкое воображение.
Жак и Жонатан с трудом прокладывали дорогу среди заполнявшей залы неоднородной толпы — из воска и из плоти. Французы подошли к совсем новенькому Гарибальди[489], выставленному на всеобщее обозрение. Немного поодаль Уильям Питт и Шеридан[490] с невозмутимостью английских джентльменов вели неторопливую беседу.
Жак хотел узнать имя сидящего в роскошном кресле священника, выделявшегося среди прочих фигур. Молодой человек обратился к одному из посетителей, но не получил ответа.
— Должно быть, он меня не понял. Переведи, пожалуйста, — попросил он друга.
Жонатан перевел, но также безуспешно. Жак рассердился было, если б не взрыв хохота окружавших их посетителей. Невежливый собеседник оказался восковым!
Совершенство фигур доведено до такой степени, что очень часто зрители впадают в подобные заблуждения, тем более что многие персонажи одеты по современной моде. Некоторые из них просто стоят в зале, смешиваясь, если так можно сказать, с толпой зрителей, ходящих вокруг. Жонатан, напротив, поймал себя на том, что внимательно рассматривает и трогает за руку ни о чем не подозревающего вполне живого джентльмена, которого он принял за экспонат.
Помимо двух основных салонов, в музее открылся специальный зал, в котором были выставлены личные вещи Наполеона. Почти все они были собраны на поле боя Ватерлоо. Здесь и коляска, в которой император, побежденный предательством, покинул поле сражения. Каждый посетитель, будь то мужчина или женщина, старик или ребенок, почитал своим долгом войти в экипаж и посидеть там несколько мгновений, покидая его затем гордым и довольным. Образовалась бесконечная процессия. Но Жонатан и Жак воздержались от участия в этом ритуале.
Глава XLVII
ГИЛЬОТИНА НА АНГЛИЙСКИЙ МАНЕР
— До сих пор все было очень интересно, — обратился Жонатан к другу, — но на этом закончим. У меня больше нет сил. Даже присесть негде — все стулья только для господ из воска.
— Терпение, друг Жонатан. Достань еще двенадцать пенсов из кармана и следуй за мной.
— Как, еще?! Но…
— Никаких «но». Следуй за мной, тебе говорят, а потом ты будешь свободен.
Третий зал находился в самом дальнем конце здания. У входа собралась толпа. Зал представлял собой огромную комнату, задрапированную темными портьерами и очень слабо освещенную.
Друзья бросили беглый взгляд вокруг и содрогнулись. Две или три сотни отрубленных голов, аккуратно расставленных по полкам, смотрели на них в упор мертвыми глазами. Экспонаты, каждый с этикеткой, были тщательнейшим образом препарированы и несли на себе ужасные следы преступлений и страданий. Лабокарми, Ласенер, Кастен, Папавуан, Пейтель, мадам Лафарж, Бастид, Жорион, Бенуа-отцеубийца, Палмер, Бёрк обратили к посетителям жуткие лица. Все нации — американцы, французы, англичане — были представлены отсеченными головами в этом ужасном паноптикуме. Жестокие преступления, искупленные смертной казнью, приходили на память, и в целом зрелище производило странное впечатление.
В центре зала Марат[491], получивший смертельный удар от Шарлотты Корде, умирал в ванне, выставляя на обозрение страшную зияющую рану, из которой еще струилась кровь; далее Фиески[492] подносил огонь к своей адской машине. Поодаль мирно беседовали другие преступники, смешавшись с толпой зрителей, невольно спрашивавших себя, не принадлежат ли они сами к этому сборищу негодяев.
— Где мы, Жак?
— В музее ужасов.
— Подобные зрелища не для меня, все это кажется весьма сомнительного вкуса.
— Ладно, зато это очень по-английски. Но посмотри в эту сторону, да смотри же!
— Гильотина! — отшатнулся Жонатан.
Действительно, в дальнем конце зала стояло ужасное орудие казни, первое, в котором механике была поручена роль палача высшего творения. И какая гильотина! Та самая, девяносто третьего года, та, которая ощущала смертельную дрожь стольких жертв в своих железных объятиях, та, которая отсекала головы Людовика XVI[493] и Робеспьера, Марии-Антуанетты[494] и Дюбарри[495], Дантона[496] и Андре Шенье[497], Филиппа Эгалите[498] и Сен-Жюста![499] Прикрепленный к машине сертификат, написанный по всей форме, подлинный, с серьезными подписями, доводил до сведения публики, что сам Самсон[500] продал гильотину после революции, после террора! Ничего не может быть подлинней, ничего — ужасней!
Там же в собранном виде демонстрировался и весь эшафот. Толпа сгрудилась на ступеньках лестницы. Жак, увлекая за собой друга, последовал за другими любопытными. Он взошел на платформу, на которой крепились два красных столба, поддерживающие нож в форме неправильного параллелограмма. Железный стержень, прилаженный к столбу на высоте руки, удерживал тяжелое лезвие. Правда, нижний конец на всякий случай был также закреплен с помощью замка, чтобы какому-нибудь англичанину не пришла в голову мысль опробовать механизм. Перед столбами было установлено коромысло. Жак не устоял перед искушением и поднялся на подножку, с ужасом рассматривая восхитительную в своей простоте машину. Вдруг раздались приглушенные крики, какие-то нечленораздельные звуки. Толпа замерла. Каждый невольно поднял глаза к чудовищному ножу. К счастью, он был неподвижен. Просто какому-то толстому британцу, более любопытному и большему любителю острых ощущений, чем другие, взбрело в голову засунуть означенную часть тела в окошко гильотины, и теперь он задыхался, не в силах вытащить ее обратно, зажатую под весом верхней планки отверстия. Жак кинулся толстяку на помощь и приподнял обитую железом и выщербленную по краям планку, давившую на шею островитянина. Тот вздохнул с облегчением.
— Чтобы успокоить тебя, — заметил Жак, — хочу поделиться своей догадкой.
— Какой же?
— А такой, что этим механизмом ты бываешь задушен прежде, чем гильотинирован!
— Спасибо, Жак, — ответил Жонатан, — теперь я могу спать спокойно!
— А теперь пошли! Последний взгляд, последняя мысль — и покинем Англию, поприветствовав гильотину Франции.
Двое посетителей с наслаждением вдыхали свежий вечерний воздух. Они напоминали двух осужденных, которым на эшафоте зачитали помилование.
Экипаж принял их в свое лоно и час спустя, совершенно осоловевших от сна, высадил у «Лондон-Бридж-отель». На следующее утро друзья отправились на Брайтон-Рейлвей-Дьюк-стрит. Благодаря переводчику все прошло легко и гладко, чемоданы были на этот раз помещены в надежное место. Приятели сели в вагон первого класса, и Жак, проезжая по городу, бросил прощальный взгляд на Темзу и собор Святого Павла. На мгновение перед молодым человеком промелькнул фасад феерического дворца Сиденхам, но это мимолетное видение было подобно вспышке молнии. Спустя два часа поезд остановился в Брайтоне, этой северной Партенопее[501], так расхваливаемом Теккереем[502]. Ветка железной дороги соединяет Брайтон с маленьким портом Ньюхейвен. Путешественники добрались туда за полчаса и увидели две огромные дымящие трубы лайнера «Орлеан», готового к отплытию во Францию.
Друзья ринулись на палубу.
— Вот мы и покидаем Англию, — вздохнул Жак.
— For ever! For ever![503] — отозвался эхом Жонатан.
«Орлеан» медленно поднял якорь и взял курс на Дьепп. Море было спокойным, а плаванье коротким. Через пять часов на горизонте показались скалы французского берега.
— Ты что-нибудь чувствуешь, вновь видя Францию? — поинтересовался Жак.
— Абсолютно ничего, — отозвался композитор. — А ты?
— Я тоже ничего!
Глава XLVIII
ОТНЫНЕ ВООБРАЖЕНИЕ БУДЕТ ИХ ВОЖАТЫМ
Так завершилось знаменательное путешествие в Англию и Шотландию. Несмотря на все препятствия, трудности, задержки, тревоги, заботы, порой отчаяние, насмешки, оно закончилось.
После семнадцати дней, потерянных в Бордо, и четырех дней плавания в распоряжении путешественников была всего неделя на прогулки по интереснейшим местам Соединенного Королевства! Что останется от мимолетного проезда, бешеной скачки, птичьего полета? Жак и Жонатан… Вынесли ли они что-либо, способное развеять скуку в праздные часы досуга?
Друзья бороздили Атлантический океан, проплыли вдоль берегов Франции и Британских островов, проехали через всю Англию, пересекли Туид и пробежались по Шотландии. Они лишь только слегка почувствовали Ливерпуль, мельком взглянули на Эдинбург, краем глаза приметили Глазго, угадали Стирлинг, предположили Лондон, дотронулись до гор и озер. Они скорее вообразили, чем узнали, новые нравы и обычаи, географические особенности, странные привычки, национальные различия. Они всего коснулись, но, по сути дела, ничего не видели.
Значит, только теперь, по возвращении, начнется настоящая экскурсия, в которой воображение будет им верным гидом, и друзья будут путешествовать в воспоминаниях.
Невидимая невеста
I
«…И приезжай как можно скорее, дорогой Анри. Жду тебя с нетерпением. К тому же страна великолепна, и в этом промышленном районе Нижней Венгрии инженер увидит много для себя интересного. Ты не пожалеешь об этом путешествии.
Сердечно твой
Марк Видаль».
О путешествии я не жалею, но стоит ли о нем рассказывать? Ведь существуют вещи, о которых лучше не говорить; впрочем, кто поверит этой истории?..
Мне приходит в голову, что Эрнст Гофман из Кёнигсберга[504], автор новелл и сказок «Замурованная дверь», «Король Трабаккио», «Цепь судьбы», «Утерянное отражение», не осмелился бы опубликовать этот рассказ и что даже Эдгар По[505] не решился бы включить его в свои «Необычайные истории»!
Мой брат Марк, которому тогда было двадцать восемь лет, уже добился больших успехов как художник и по праву носил золотую медаль и орденскую ленточку кавалера Почетного легиона. Он был среди первых портретистов своего времени, и Боннa[506] мог гордиться тем, что был его учеником.
… Нас с Марком связывала самая нежная, самая глубокая братская дружба. С моей стороны к ней примешивалось что-то отеческое, ибо я был старше его на пять лет. Еще в юности мы лишились отца и матери, и именно я, старший брат, должен был заниматься воспитанием Марка. Поскольку у него обнаружились удивительные способности к живописи, я побуждал его вступить на это поприще, где его ждали столь неординарные и столь заслуженные успехи.
Настал момент, когда Марк должен был сделать решающий выбор. Иногда такой выбор может завести в тупик, «блокировать», если читатель не возражает против использования этого слова, заимствованного из современной технологии; но, в конце концов, что же удивляться, если оно выходит из-под пера инженера Северной железной дороги?
Речь шла о женитьбе. Марк уже некоторое время жил в Рагзе, большом городе в Южной Венгрии[507]. После нескольких недель, проведенных в Будапеште, мадьярской столице[508], завершившихся написанием ряда очень удачных и щедро оплаченных портретов, он смог оценить прием, оказываемый в Венгрии деятелям культуры и особенно французам, которых мадьяры считают своими братьями[509]. По окончании своего пребывания в Будапеште, вместо того чтобы поехать по железной дороге Будапешт — Сегед, связанной веткой с Рагзом, он спустился по Дунаю до этого административного центра комитата[510].
Среди самых уважаемых семейств города называли семью доктора Родериха, известную во всей Венгрии. Получив немалое наследство, доктор приумножил его благодаря врачебной практике. Ежегодно он в течение месяца путешествовал по Франции, Италии, Германии. Богатые пациенты с нетерпением ждали его возвращения. Бедные — тоже, ибо он никогда не отказывал им в помощи. Его благотворительность распространялась и на самых обездоленных, что принесло ему всеобщее уважение.
Семья Родерих состояла из четырех человек: самого доктора, его жены, их сына, капитана Харалана, и их дочери, Миры. Ее грацией, любезностью и прелестью и был невольно очарован Марк, посещая гостеприимный дом Родерихов. Очевидно, поэтому его пребывание в Рагзе затянулось. Мире Родерих, можно смело утверждать, он тоже понравился. И вполне заслуженно. У этого симпатичного молодого человека выше среднего роста, с живыми голубыми глазами, каштановыми волосами и лбом поэта, был покладистый характер и темперамент артиста, фанатично ценящего все прекрасное; жизнь представлялась ему в самых радужных красках. Я не сомневался, что он не ошибся, остановив свой выбор на этой юной венгерке.
Я знал Миру Родерих только по восторженному описанию в письмах брата и горел желанием познакомиться с ней лично. Марк просил меня приехать в Рагз в качестве главы семьи; он настаивал, чтобы я пробыл там не меньше пяти-шести недель, постоянно повторяя, что его невеста хочет познакомиться со мной… Сразу после моего приезда будет назначен день свадьбы. Но до этого Мира хотела увидеть собственными глазами будущего деверя, которого, судя по всему, ей всячески расхваливали… Но ведь нужно самой составить себе представление о семье, в которую собираешься войти… Нет, разумеется, она произнесет решающее «да» лишь после того, как Марк представит ей Анри… И множество подобных доводов!..
Обо всем этом брат увлеченно рассказывал мне во многих письмах, и я чувствовал, что он без памяти влюблен в мадемуазель Миру Родерих.
Повторяю, я знал ее только по восторженным описаниям Марка. Между тем было бы нетрудно — не так ли? — поставить девушку на несколько секунд перед фотоаппаратом в самом красивом туалете и в грациозной позе. Если бы Марк прислал фотографию, я мог бы любоваться его невестой, так сказать, воочию… Но нет! Мира этого не захотела… Марк уверял, что она должна впервые появиться перед моим восхищенным взором только лично. Думаю, что поэтому он и не настаивал на ее визите к фотографу!.. Нет-нет! Они оба желали, чтобы инженер Анри Видаль на время оставил свои занятия и появился бы в салонах особняка Родерихов, где его примут как первого гостя.
Нужно ли было приводить столько доводов, чтобы убедить меня? Конечно нет. Я не мог не присутствовать на свадьбе брата. Разумеется, я появлюсь перед Мирой Родерих еще до того, как она станет по закону моей невесткой.
Впрочем, если верить письму Марка, поездка в этот столь привлекательный для туристов район Венгрии будет чрезвычайно приятна и полезна. Речь идет о чисто мадьярской территории с богатым героическим прошлым; противясь до сих пор всякому смешению с германской расой, этот край и его обитатели занимают важное место в истории Центральной Европы.
Что касается самой поездки, вот по какому маршруту я решил ее осуществить: туда — по Дунаю, обратно — по железной дороге. Я отправлюсь по этой великолепной реке от Вены и, хотя не проплыву все 2790 километров ее течения[511], увижу, по крайней мере, наиболее интересную часть Дуная, пересекающую Австрию и Венгрию — Вену, Прессбург[512], Будапешт, Рагз (у сербской границы). Путешествие там и закончится, посетить Землин[513], а затем Белград у меня уже не будет времени. Между тем сколько еще великолепных городов омывает Дунай своими могучими водами! Пройдя через знаменитые Железные Ворота[514], он отделяет Валахию[515], Молдавию[516], Бессарабию[517] от Болгарского княжества[518], течет мимо Видина, Никопола, Русе, Силистры[519], Брэилы, Галаца[520], Измаила[521] и, наконец, тремя рукавами впадает в Черное море!
Мне показалось, что для подобного путешествия будет достаточно шестинедельного отпуска. За две недели я доберусь от Парижа до Рагза; Мира Родерих, думаю, не станет проявлять слишком большого нетерпения и предоставит это время в распоряжение любителя экскурсий. Я пробуду примерно столько же недель у брата, а за оставшееся время успею вернуться во Францию.
Итак, я написал соответствующее прошение в «Компани дю Нор»[522], и моя просьба была удовлетворена. Я привел в порядок несколько срочных дел, собрал необходимые документы, о которых мне писал Марк, и занялся подготовкой к предстоявшей поездке.
На это много времени не потребовалось: у меня не было большого багажа — только небольшой чемодан да дорожная сумка.
Вопрос о языке страны, куда я ехал, меня не беспокоил. Со времени путешествия по северным провинциям я достаточно хорошо владел немецким. Кроме того, многие венгры, по крайней мере в высшем обществе, знают французский. Поэтому за австрийской границей брату никогда не приходилось испытывать какие-либо языковые трудности.
«Вы — француз, и можете чувствовать себя в Венгрии как дома», — говорил одному нашему соотечественнику депутат венгерского парламента, выражая в этих весьма сердечных словах чувства венгерского народа к Франции.
Итак, в ответе на последнее письмо Марка я просил передать мадемуазель Мире Родерих, что, так же как и она, я с нетерпением жду нашей встречи, что ее будущий деверь горит желанием поскорее познакомиться с будущей невесткой и т. д. Вскоре я должен отправиться в путь, но точно указать день приезда в Рагз не могу, так как на борту dampfschiff[523] буду зависеть от капризов прекрасного голубого Дуная, как поется в знаменитом вальсе. Одним словом, я не задержусь в пути, мой брат может на это рассчитывать, и если семья Родерих согласна, она уже сейчас может назначить свадьбу на первые дни мая. Еще я просил не ругать меня, если во время путешествия не смогу присылать письма изо всех тех мест, где побываю. Я буду писать иногда, чтобы мадемуазель Мира могла установить, сколько километров еще отделяют меня от ее родного города, и в любом случае пришлю телеграмму, ясную и лаконичную, с сообщением о дне, часе и минутах своего прибытия в Рагз, если пароход не опоздает.
Поскольку я должен был сесть на судно только в Вене, я попросил генерального секретаря «Компани де л’Ест»[524] выдать мне бесплатный железнодорожный билет с факультативными остановками на различных станциях между Парижем и столицей Австрии. Подобные услуги оказывают друг другу различные компании, и моя просьба не вызвала никаких возражений.
Накануне отъезда, 4 апреля, я отправился в контору генерального секретаря, чтобы попрощаться и взять бесплатный железнодорожный билет. Передавая его, секретарь поздравил меня, сказав, что ему известна причина моей поездки в Венгрию; он слышал о женитьбе моего брата Марка Видаля, которого знает как художника и светского человека.
— Мне известно также, — добавил он, — что семья доктора Родериха, в которую войдет ваш брат, — одна из самых уважаемых в Рагзе.
— Вам о ней говорили? — спросил я.
— Да, как раз вчера, на вечернем приеме в австрийском посольстве.
— И от кого вы все это узнали?
— От офицера будапештского гарнизона, он познакомился с вашим братом в венгерской столице; офицер всячески его расхваливал, что не может, конечно, вас удивлять, дорогой господин Видаль…
— И этот офицер, — спросил я, — столь же похвально отзывался о семье Родерих?..
— Конечно. Доктор — ученый, известный во всей Австро-Венгерской империи. Он удостоен всевозможных почетных наград. Одним словом, ваш брат сделал прекрасный выбор, ибо, как говорят, мадемуазель Мира Родерих очень красива…
— Вы не удивитесь, мой дорогой друг, — заметил я, — если я скажу, что Марк находит ее именно такой; кажется, его чувства глубоки и искренни.
— Тем лучше, дорогой Видаль, и я прошу передать вашему брату, что одобряю его выбор. Однако… кстати… Не знаю, должен ли я вам сказать…
— Сказать мне?.. О чем?..
— Марк никогда вам не писал, что за несколько месяцев до его приезда в Рагз…
— До его приезда?.. — повторил я.
— Да-да… Мадемуазель Мира Родерих… В конце концов, дорогой Видаль, возможно, ваш брат об этом ничего не знал…
— Объясните, в чем дело, дорогой друг, Марк ни разу мне ни на что не намекал…
— Так вот, за мадемуазель Родерих как будто уже ухаживал — что неудивительно, — и весьма настойчиво, один человек, которого нельзя назвать первым встречным. По крайней мере, мне об этом рассказал один сотрудник посольства, который три недели тому назад еще находился в Будапеште…
— И этот соперник?..
— Его отвадил доктор Родерих. Поэтому я думаю, что с этой стороны бояться нечего…
— Конечно, бояться нечего, иначе Марк в своих письмах сообщил бы мне о сопернике. Между тем он ни разу не обмолвился о нем. Кажется, этому соперничеству не следует придавать никакого значения…
— Разумеется, дорогой Видаль, и, однако, притязания этого человека на руку мадемуазель Родерих вызвали разные толки в Рагзе, и лучше, чтобы вы были в курсе…
— Безусловно, вы правильно поступили, предупредив меня, раз это не пустая болтовня…
— Нет-нет, информация весьма серьезная…
— Но теперь это уже не важно, — ответил я. — И это — главное!
Прощаясь, я все-таки спросил:
— Кстати, мой дорогой друг, тот сотрудник посольства, не назвал ли он вам имя соперника?..
— Назвал.
— И его зовут?..
— Вильгельм Шториц.
— Вильгельм Шториц? Он сын химика?
— Именно так.
— Сын химика, очень известного своими открытиями в области физиологии!..
— Германия по праву им гордится, мой дорогой друг.
— Разве он не умер?
— Умер несколько лет тому назад, но сын его жив, и, по словам моего собеседника, это такой человек, которого надо остерегаться…
— Мы будем его остерегаться, пока мадемуазель Мира Родерих не станет мадам Марк Видаль[525].
Затем, не придавая большого значения услышанному, я сердечно пожал руку генерального секретаря компании и вернулся домой заканчивать подготовку к отъезду.
II
Я выехал из Парижа 5 апреля в 7.45 утра поездом № 173 с Восточного вокзала и менее чем через тридцать часов оказался в столице Австрии.
На французской территории главными остановками были Шалон-на-Марне и Нанси. Проезжая через, увы, утраченные Эльзас и Лотарингию[526], поезд сделал короткую остановку в Страсбурге, но я даже не вышел из вагона. Тяжело было находиться среди людей, переставших быть твоими соотечественниками. Когда поезд уже проехал город, я высунулся из окна и увидел высокий шпиль Мюнстера, освещенный последними лучами солнца; в тот момент диск солнца клонился к горизонту и его свет шел со стороны Франции.
Ночь была заполнена мерным, усыпляющим стуком вагонов. Иногда до меня доносились выкрикиваемые резкими голосами кондукторов названия станций — Оос, Баден, Карлсруэ и другие. Затем в течение дня 6 апреля я ехал мимо смутно вырисовывавшихся городов, названия которых связаны с героическими воспоминаниями о наполеоновском периоде: Штутгарт и Ульм в Вюртемберге, Аугсбург и Мюнхен в Баварии[527]. Потом, на австрийской границе, последовала более длительная стоянка в Зальцбурге.
Во второй половине дня поезд останавливался еще несколько раз, в частности в Вельсе, а в 5.35, пыхтя и издавая пронзительные свистки, он прибыл на вокзал Вены.
В столице Австро-Венгрии без сколько-нибудь определенного плана я провел тридцать шесть часов, в том числе две ночи. Подробно осмотреть город я собирался на обратном пути. По мнению сведущих людей, этапы путешествия нужно сортировать так же, как многочисленные, навалившиеся на вас вопросы.
Дунай не пересекает и не окаймляет Вену. Чтобы добраться до пристани, где я сел на пароход, отправляющийся до Рагза, пришлось проехать на фиакре около четырех километров. По сравнению с 1830 годом, когда только создавалось речное судоходство, навигационные службы отвечали теперь всем требованиям времени.
На палубе и в рубках парохода «Матиаш Корвин» можно было видеть самых различных людей — немцев, австрийцев, венгров, русских, англичан. Пассажиры разместились на корме, поскольку нос корабля загромождали грузы и туда невозможно было пробраться. Думаю, среди моих попутчиков были и поляки, одетые в венгерские костюмы и говорившие только по-итальянски. О них упоминает господин Дюрюи, описывая свое путешествие в 1860 году из Парижа в Бухарест.
Наше судно быстро шло вниз по Дунаю; его широкие колеса вращались в желтоватых водах этой прекрасной реки; чтo бы ни утверждала легенда, вода в Дунае кажется не ультрамариновой, а окрашенной скорее в цвет охры. Нам встречается множество других судов с надутыми бризом парусами; они везут продовольствие из деревень, раскинувшихся, насколько хватает глаз, по берегам реки. Мы проплываем мимо огромных плотов из стволов корабельного леса. На них расположены плавучие деревни, которые сколачиваются при отправлении и разбираются по прибытии; они напоминают громадные бразильские «жангады», плавающие по Амазонке. Острова следуют один за другим, причудливо расположенные, большие и маленькие; большинство из них едва выступает из воды, и иногда у них такие низкие берега, что, кажется, малейший паводок их затопит. Приятно было видеть их такими зелеными, свежими, поросшими ивами, тополями, осинами, сочными травами и яркими цветами.
Мы огибаем деревни, построенные на сваях у высоких берегов. Когда пароход идет на полной скорости, кажется, что расходящиеся волны качают эти деревни. Затем он проплывает под канатом парома, протянутым от одного берега к другому, рискуя зацепиться за него пароходной трубой; канат прикреплен к двум шестам, над которыми развевается австрийский флаг с черным орлом.
Когда пароход миновал Вену и проплывал мимо круглого (4 километра в диаметре) острова Лобау, по берегам заросшего деревьями, а в центре пересеченного высохшими рукавами, которые иногда заполняются водой во время паводка, мне вспомнилось одно важное историческое событие, происшедшее 6 июля 1809 года. Именно отсюда, из укрепленного лагеря, сто пятьдесят тысяч французов переправились через Дунай и потом под командованием Наполеона одержали победы под Эсслингом[528] и Ваграмом[529].
В тот день позади нас остались и Ригельсбрун, а вечером «Матиаш Корвин» сделал остановку в устье Марха[530], левого притока Дуная (берущего начало в Моравии), почти у границы Венгерского королевства. Там пароход оставался всю ночь с 8-го на 9-е апреля. На заре он снова отправился в путь по территориям, где в XVI веке французы и турки сражались между собой с таким яростным упорством. Наконец, высадив и приняв на борт пассажиров в Петронелле, Альтенбурге, Хайнбурге и пройдя Венгерские Ворота мимо разведенного для него моста, наш пароход причалил к пристани Прессбурга.
Благодаря двадцатичетырехчасовой стоянке, вызванной разгрузкой и погрузкой товаров, — после трехсоткилометрового пути из Вены — я смог осмотреть этот город, достойный внимания туристов. Может показаться, что он построен на высоком берегу моря. И было бы неудивительно, если бы к его подножию накатывались морские волны, а не спокойные воды реки. Над великолепными набережными вырисовываются силуэты домов, построенных на удивление гармонично, в прекрасном стиле. Вверх по течению, у оконечности мыса, где, как кажется, кончается левый берег, высится остроконечная кровля церкви. На противоположном конце виднеется другой шпиль, а между ними — огромный холм, на котором воздвигнут зaмок.
Кроме собора с позолоченной короной на куполе я любовался многочисленными особняками, а иногда и настоящими дворцами венгерской аристократии. Затем поднялся на холм и осмотрел внушительный замок. Это было квадратное сооружение с башнями по углам, почти полностью разрушенное. Быть может, мы пожалели бы, что забрались на такую высоту, если бы не широкая панорама прекрасных виноградников в окрестностях города и не вид бесконечной равнины, по которой течет Дунай.
Прессбург, где когда-то утверждали свою власть венгерские короли, — официальная мадьярская столица[531] и местопребывание сейма (скупщины), который до начала полуторавековой оттоманской оккупации (1530–1686 гг.) находился в Будапеште. Хотя в Прессбурге сорок пять тысяч жителей, город кажется населенным только во время сессий сейма, на которые собираются депутаты со всего королевства.
Должен добавить, что для француза название «Прессбург» тесно связано с договором 1805 года, подписанным после победоносного сражения при Аустерлице.
Покинув Прессбург утром 11 апреля, «Матиаш Корвин» продолжал путь посреди широких равнин пусты[532]. Пуста подобна русской степи или американской саванне. Она простирается по всей Центральной Венгрии. Это действительно любопытная местность с бескрайними пастбищами, по которым иногда проносятся бешеным галопом бесчисленные табуны лошадей, где пасутся стада быков и буйволов, насчитывающие тысячи голов.
Здесь, петляя, протекает венгерская часть Дуная. Если в Австрии Дунай представляет собой обычную реку, то в Венгрии, приняв в себя мощные притоки с Малых Карпат и со Штирийских Альп, он становится полноводной рекой.
И я невольно думал, что Дунай берет начало в великом герцогстве Бадене, около которого проходила французская граница, когда Эльзас и Лотарингия принадлежали Франции! Тогда его истоки питались дождями, шедшими во Франции!
Прибыв вечером в Рааб[533], наше судно пришвартовалось к причалу, где должно было провести ночь и последующие сутки. Мне хватило двенадцати часов, чтобы осмотреть этот город (мадьяры называют его «Дьёр»), больше похожий на крепость. Он насчитывает двадцать тысяч жителей, расположен в 60 километрах от Прессбурга. Рааб перенес тяжелые испытания во время венгерского восстания 1849 года.
На следующий день в десятке километров ниже Рааба я увидел издали знаменитую крепость Коморн[534], где разыгрался последний акт восстания. Эту крепость Матиаш Корвин создал на голом месте в XV веке.
Нет, по-моему, ничего приятнее, чем плыть по течению Дуная в этой части венгерской территории. На пути то и дело встречаются капризные излучины, неожиданные изгибы, открывающие новые пейзажи, низкие острова, наполовину затопленные водой, над которыми летают журавли и цапли. Это и есть пуста во всем своем великолепии: то тучные луга, то холмы, убегающие за горизонт. Здесь раскинулись виноградники, дающие лучшие венгерские вина. По производству вина Венгрия занимает второе место после франции, опережая Италию и Испанию. Весь урожай (включая «токайское») — двадцать миллионов гектолитров, — как говорят, почти целиком потребляется на месте. Не скрою, что и я выпил несколько бутылок и в отелях, и на борту нашего парохода. Осталось поменьше для мадьярских потребителей.
Надо отметить, что сельское хозяйство пусты прогрессирует год от года. Здесь были проложены ирригационные каналы, что обещает в будущем значительное увеличение плодородия. Были высажены миллионы акаций, длинные и густые занавески этих деревьев защищают почву от ветров. Поэтому недалеко то время, когда в пусте урожаи зерновых и табака удвоятся или даже утроятся.
К сожалению, в Венгрии собственность еще недостаточно разделена. Сохранились значительные пережитки крепостного права. Нередко можно встретить владения в сто квадратных километров, которые их собственники целиком обрабатывать не в состоянии. А на долю мелких земледельцев приходится меньше трети всех сельскохозяйственных угодий.
Такое положение вещей, наносящее, повторяю, большой урон стране, постепенно изменится, хотя бы в силу безупречной логики, которой обладает будущее. Впрочем, венгерский крестьянин вовсе не чужд прогрессу, ему присущи добрая воля, мужество и сообразительность. Может быть, он, как было замечено, немного самоуверен — меньше, однако, чем германский крестьянин. Между ними есть существенное различие: один считает, что он может всему научиться, другой думает, что он уже все знает.
В Гране[535] я заметил изменение общего ландшафта на правом берегу Дуная. Равнины пусты сменились холмами удлиненной и неправильной формы. Это крайние ответвления Карпат или Северных Альп[536], которые сжимают реку, направляя ее по узким ущельям; одновременно глубина реки значительно увеличивается.
Гран служит местопребыванием всевенгерского епископа-примаса; это, несомненно, самый завидный пост, если считать, что материальные блага представляют собой известную ценность для католического прелата. Действительно, занимающий этот пост — ранее это был кардинал, примас, легат, князь империи и канцлер королевства — все еще получает доход, превышающий один миллион в переводе на франки.
После Грана вновь продолжается пуста, и можно только восхищаться художественным творчеством природы. Она применяет закон контрастов, причем, как всегда, в широких масштабах. Здесь Дунай еще продолжает течь на восток, прежде чем снова повернуть почти под прямым углом на юг. Таково общее направление, от которого он не отклоняется при всех своих изгибах. Природа пожелала, чтобы здесь пейзаж — после столь разнообразных ландшафтов между Прессбургом и Граном — был грустным, печальным, монотонным.
В этом месте «Матиаш Корвин» должен выбрать один из рукавов, образующих остров Сентендре;[537] они оба пригодны для навигации. Судно избирает левый рукав, что позволяет мне увидеть город Вайтцен, над которым возвышаются с полдюжины колоколен. В их числе воздвигнутая среди густой растительности на самом берегу церковь, отражающаяся в проточной воде.
Потом вид местности меняется. На равнинах раскинулись обработанные поля с их первой зеленью. На реке много лодок и небольших судов. Спокойствие сменяется оживлением. Чувствуется, что мы приближаемся к столице, и к какой! Эта столица двойная, как некоторые звезды, и даже если эти звезды не первой величины, они все же добавляют изрядно блеска венгерскому созвездию.
Наше судно обогнуло последний заросший лесом остров. Сначала появляется Буда, затем — Пешт. В этом городе до утра 17 апреля я немного отдохнул, но только после того, как осмотрел его и устал сверх всякой меры.
Из Буды в Пешт через Дунай переброшен великолепный висячий мост[538]. Таким и должен быть мост, связывающий турецкую Буду[539] и мадьярский Пешт. Под арками проходит множество лодок — речной флот верховья и низовья реки; это своего рода галиоты, с мачтой и флагом впереди, оснащенные широким рулем, штурвал которого находится выше рубки. Оба берега превращены в набережные, окаймленные строениями с продуманным архитектурным обликом; над ними высятся шпили и колокольни.
Город Буда расположен на правом берегу, Пешт — на левом, а Дунай, усеянный зеленеющими островами, образует как бы хорду полукруга, занятого венгерским городом. С одной стороны — равнина, где удобно расположился город, с другой — гряда укрепленных холмов, увенчанных цитаделью.
Буда, в прошлом турецкий город, стал венгерским и даже, при внимательном рассмотрении, австрийским. Это — официальная столица Венгрии; из трехсот шестидесяти тысяч жителей обоих городов в Буде насчитывается сто шестьдесят тысяч. Поскольку город имеет скорее военное, чем торговое, значение, в нем не наблюдается оживленной деловой активности. Не удивляйтесь, что трава растет на улицах и окаймляет тротуары. Прохожие — это главным образом солдаты. Можно подумать, что они передвигаются по осажденному городу. Во многих местах поднят национальный флаг, его полотнище — зеленое, белое и красное — реет на ветру. Одним словом, Буда производит впечатление мертвого города, которому противостоит столь оживленный Пешт. Можно сказать, что здесь Дунай течет между будущим и прошлым.
Хотя в Буде расположен арсенал и в нем предостаточно казарм, там можно осмотреть несколько дворцов, сохранивших свое прежнее величие. Меня тронули его древние церкви, собор, который при оттоманском владычестве был превращен в мечеть. Я прошел по широкой улице; дома с террасами, как на Востоке, окружены решетками. Я осмотрел залы ратуши, опоясанной барьерами с черными и желтыми полосами и имевшей вид более военный, чем гражданский. Я посетил могилу Гюль-Баба, у которой все еще собираются турецкие паломники.
Но как и большинство иностранцев, значительнейшую часть своего времени я посвятил Пешту, и, поверьте мне, не напрасно. С высоты горы Геллерт[540], расположенной на юг от Буды в конце предместья Табан, передо мной открылась панорама обоих городов. Между ними течет величественный Дунай, который в самом узком месте насчитывает четыреста метров. Через него перекинуто несколько мостов; один из них, очень элегантный, висячий, контрастирует с виадуком железной дороги над островом Маргариты. Дворцы и особняки, расположенные вдоль набережных и вокруг площадей Пешта, составляют прекрасный архитектурный ансамбль. За ними простирается весь город, в котором проживает свыше двухсот тысяч жителей двойного города. То здесь, то там можно видеть своды соборов с позолоченными нервюрами; их шпили смело направлены в небо. Вид Пешта, несомненно, грандиозен, и не без основания некоторые люди считают его более впечатляющим, чем Вена.
В окрестностях города, застроенных виллами, расстилается бескрайняя равнина Ракоша, где в былые времена венгерские конники проводили шумные национальные сборы.
Нет! Для осмотра венгерской столицы, благородного университетского города, двух дней явно недостаточно. На многое времени просто не хватит. Разве можно не познакомиться детально с его Национальным музеем, картинами и скульптурами, принадлежавшими семье Эстергази, в частности, с великолепной картиной Ессе_Номо,[541] приписываемой Рембрандту, с залами естественной истории и доисторических древностей, с надписями на плитах, монетами, этнографическими коллекциями, представляющими неоспоримую ценность. Затем надо побывать на острове Маргариты, в его рощах и на его лугах, осмотреть его ванны, питаемые из теплого источника, а также побродить в городском парке Штадтвальдхен, орошаемом небольшой речкой, по которой плавают легкие лодки, полюбоваться прекрасными тенистыми аллеями, палатками, кафе, ресторанами, окунуться в атмосферу народных гуляний. Вы оказываетесь в толпе веселых, непринужденных людей, среди колоритных мужчин и женщин в ярких одеждах.
Накануне отъезда из Будапешта я зашел в одно из городских кафе, из тех, что сразу ослепляют блестящей позолотой, чрезмерно яркими панно, а также обилием во дворах и залах кустарников и цветов, особенно олеандров. Приятно освежившись любимым мадьярами напитком — белым вином, смешанным с железистой водой, — я собирался было продолжить бесконечную прогулку по городу, когда мой взгляд упал на брошенную кем-то развернутую газету. Я машинально взял ее — это был номер «Винер экстраблатт» — и прочел следующую статью под крупным заголовком, набранным готическим шрифтом: «Годовщина Шторица».
Имя тотчас же привлекло мое внимание. Именно его называл секретарь «Компани де л’Ест». Так звали претендента на руку Миры Родерих, а также знаменитого немецкого химика. В этом не могло быть ни малейшего сомнения.
Вот что я узнал:
«Через двадцать дней, 5 мая, в Шпремберге[542] будет отмечаться годовщина кончины Отто Шторица; можно предположить, что много местных жителей посетят кладбище его родного города.
Общеизвестно, что этот необыкновенный ученый прославил Германию своими чудесными работами, удивительными открытиями и изобретениями, которые так способствовали развитию физических наук».
И действительно, автор статьи не преувеличивал. Отто Шториц был знаменит в научном мире, особенно своими исследованиями новых лучей, лучей «X» — теперь уже слишком хорошо известных, чтобы так называться.
Но особое внимание я обратил на следующие строки:
«Все знают, что Отто Шторица при жизни некоторые люди, склонные к мистицизму, считали отчасти колдуном. Триста — четыреста лет тому назад он, наверное, подвергся бы преследованиям за связь с нечистой силой, его бы арестовали, осудили и сожгли на площади. Добавим, что со времени его кончины многие суеверные люди считают его мастером заклинаний, обладавшим знаниями, закрытыми для всех прочих смертных. К счастью, думают они, он унес в могилу значительную часть своих тайн, и можно надеяться, что даже его сыну они неведомы. Вряд ли можно рассчитывать, что эти добрые люди когда-нибудь прозреют; для них Отто Шториц остается последователем каббалы, магом и родственником дьявола!»
Как бы то ни было, подумал я, важно, что его сыну окончательно отказано от дома доктором Родерихом и что вопрос о соперничестве уже снят.
Репортер «Винер экстраблатт» продолжал:
«Следовательно, легко предположить, что по случаю годовщины, как всегда, соберется много народу, не говоря уже о близких друзьях, оставшихся верными памяти Отто Шторица. Можно смело утверждать, что крайне суеверные жители Шпремберга ждут какого-нибудь чуда и хотят быть его очевидцами. В городе все говорят, что на кладбище должны произойти самые невероятные, самые необычайные явления высшего порядка. Никто не удивится, если посреди всеобщего ужаса камень на могиле поднимется и уникальный ученый воскреснет во всей своей славе. И, кто знает, может быть, городу, в котором он родился, угрожает какой-нибудь катаклизм!..
В заключение отметим, что, по мнению некоторых людей, Отто Шториц не умер и что в день похорон было устроено его фиктивное погребение. Пройдет немало лет, прежде чем здравый смысл восторжествует над этими нелепыми легендами».
Чтение этой статьи навело меня на некоторые мысли. То, что Отто Шториц умер и похоронен, не вызывало никаких сомнений. То, что будто бы его могила должна вновь открыться 5 мая и он должен предстать как новоявленный Христос перед толпой, — на это не стоило обращать никакого внимания. Но если не было никакого сомнения в том, что отец умер, также несомненно и то, что его сын жив, безусловно жив. Это Вильгельм Шториц, отвергнутый семьей Родерих. Не будет ли он досаждать Марку и препятствовать его женитьбе?..
«Так! — подумал я, отбросив газету. — Попробуем рассуждать здраво! Вильгельм Шториц попросил руки Миры… ему отказали… с тех пор он исчез, поскольку Марк никогда ни словом не упоминал об этом деле, так зачем же волноваться и придавать предстоящей годовщине такое значение!»
Я попросил принести бумагу, перо, чернила и написал брату, что выеду из Пешта на следующий день и приеду вечером 22-го, ибо теперь нахожусь от Рагза в трехстах километрах. Отметив, что до сих пор путешествие проходило без каких-либо инцидентов и задержек и что, по всей видимости, оно так же и закончится, я не забыл попросить передать поклоны господину и госпоже Родерих и уверение в моей искренней симпатии мадемуазель Мире.
На следующий день в 8 часов утра «Матиаш Корвин» отошел от причала набережной и отправился в путь.
Само собой разумеется, что, начиная от Вены, он на каждой остановке высаживал пассажиров и брал новых. Одни плыли до Прессбурга, Рааба, Коморна, Грана, Будапешта; другие в указанных городах садились на пароход. Только пять или шесть человек взошли на трап в австрийской столице, в их числе — английские туристы, которые намеревались через Белград и Бухарест добраться до Черного моря.
Итак, в Пеште на нашем судне появились новые пассажиры, и среди них — мужчина, особенно привлекший мое внимание своим странным видом.
Это был человек примерно тридцати пяти лет, высокий, яркий блондин с жестким выражением лица, с властным взглядом, не вызывающим симпатии. Поведение незнакомца свидетельствовало о высокомерии и пренебрежении к окружающим. Он несколько раз обратился к матросам. Голос его оказался грубым, сухим, неприятным, а тон резким, неприязненным.
Впрочем, новый пассажир, по-видимому, не хотел ни с кем общаться. Мне это было безразлично, поскольку я сам проявлял крайнюю сдержанность в отношении своих спутников по путешествию. Когда у меня возникали вопросы, я обращался только к капитану судна.
Приглядевшись к незнакомцу, я подумал, что он — немец и, весьма вероятно, родом из Пруссии. Если он узнает, что я — француз, ему скорее всего столь же мало захочется вступать со Мной в контакт, как и мне с ним. От каждого пруссака, как говорится, пахнет прусским духом, а в нем все носило тевтонский отпечаток. Этого человека невозможно было спутать со славными венграми, этими симпатичными мадьярами, настоящими друзьями Франции.
От самого Будапешта наше судно двигалось вперед с одинаковой скоростью. И мы легко могли рассматривать в деталях возникающие перед нами пейзажи. Оставив позади двойной город и пройдя еще несколько километров, «Матиаш Корвин» из двух рукавов, охватывающих остров Чепель, выбрал левое ответвление реки.
Вниз по течению после Пешта пуста являла нам, словно миражи, свои широкие равнины, зеленеющие пастбища и обработанные поля, тучные, жмущиеся друг к другу, почти подступающие к большому городу. Мимо нас по-прежнему проплывали низкие острова, поросшие ивами; верхушки деревьев выступали из воды как огромные пучки бледно-серого цвета.
Пройдя за ночь без остановок сто пятьдесят километров, пароход продолжал плыть, следуя за многочисленными извилинами реки, под затянутым облаками небом — большую часть времени шел дождь. Вечером 19 апреля наше судно прибыло в городок Сексард[543]. В тумане с трудом различались его очертания.
На следующий день, когда установилась хорошая погода, мы вновь двинулись в путь, твердо рассчитывая до вечера достичь Мохача.
Около девяти часов, когда я входил в рубку, из нее вышел пассажир-немец, бросив на меня странный взгляд, полный не только дерзости, но и ненависти. Мы впервые столкнулись так близко. Чего хотел от меня этот немец? Его поведение объяснялось, может быть, тем, что он узнал, что я — француз? Он мог прочитать на бирке моей дорожной сумки, лежавшей на одной из скамеек рубки: «Анри Видаль, Париж»; уж не поэтому ли он так косо на меня смотрел?
Как бы то ни было, пусть даже он узнал мое имя, я нисколько не торопился узнать его, поскольку этот персонаж мало меня интересовал.
«Матиаш Корвин» сделал остановку в Мохаче. Было уже довольно поздно, так что в этом городе с десятитысячным населением я смог увидеть лишь два острых шпиля над массой домов, уже погрузившихся в темноту. Тем не менее я сошел на берег и после часовой прогулки вернулся на пароход.
На рассвете 21 апреля на судно село около двадцати пассажиров, и мы снова двинулись в путь.
В течение этого дня упомянутый выше субъект встречался со мной несколько раз — проходя мимо по палубе с подчеркнуто дерзким видом, что мне решительно не нравилось. Если этот наглец хочет что-то сказать, так пусть скажет! В таких случаях одних взглядов недостаточно, а если он не говорит по-французски, я сумею ответить на его родном языке!
Я не люблю затевать ссоры, но мне не нравится, когда на меня смотрят так неприязненно. Я подумал, однако, что, если придется обратиться к пруссаку, лучше будет предварительно что-либо о нем узнать.
Я спросил у капитана, знает ли он этого пассажира.
— В первый раз вижу, — ответил капитан.
— Он — немец? — продолжал я.
— Без всякого сомнения, господин Видаль, и даже думаю, пруссак, то есть дважды немец…
— За глаза довольно и единожды!
Мои слова, как видно, понравились капитану, венгру по происхождению.
Во второй половине дня наше судно проплыло мимо Зомбора;[544] но город невозможно было увидеть, так как он расположен слишком далеко от левого берега реки. Это — важный центр с населением не менее двадцати четырех тысяч человек. Он, как и Сегед, расположен на большом полуострове[545], образованном Дунаем и Тисой — одним из самых значительных притоков, впадающим в Дунай в пятидесяти километрах от Белграда.
На следующий день «Матиаш Корвин», то и дело петляя по реке, двигался в направлении Вуковара, построенного на правом берегу. Мы плыли вдоль границы Славонии, где река меняет южное направление на восточное. Там находится «Пограничная военная зона»[546]. Нам встречались многочисленные посты в некотором отдалении от берега; между ними поддерживалась постоянная связь благодаря передвижениям часовых, размещавшихся в деревянных домиках или будках из хвороста.
Эта территория управляется военными властями. Все ее жители, так называемые «грендзеры», — солдаты. Здесь нет провинций, уездов, приходов; их заменяют полки, батальоны, роты этой особой армии. Подведомственная ей площадь простирается от побережья Адриатики до гор Трансильвании — шестьсот десять тысяч квадратных миль с населением в миллион сто тысяч человек, подчиненных строгой дисциплине. Эта административная единица, созданная еще до царствования Марии-Терезии[547], сыграла свою роль не только в борьбе с турками, но и как санитарный кордон против чумы — одно не лучше другого.
После остановки в Вуковаре я больше не видел немца на борту нашего судна. Наверное, он высадился в этом городе. Так я был освобожден от его невыносимого присутствия и избавлен от каких-либо объяснений.
Теперь меня занимали другие мысли. Через несколько часов наше судно прибудет в Рагз. Какая радость вновь увидеть брата, с которым я был разлучен целый год, сжать его в своих объятиях, поговорить о разных интересных вещах, познакомиться с его новой семьей!
К пяти часам пополудни на левом берегу реки, между ивами побережья, над занавесом из тополей появилось несколько церквей; одни из них с куполами, другие — со шпилями на фоне неба, по которому быстро двигались облака.
Это были первые очертания большого города, это был Рагз. За последним изгибом реки он предстал целиком, живописно раскинувшийся у подножия больших холмов, на одном из которых возвышался старинный феодальный замок, традиционный акрополь древних поселений Венгрии.
Несколько поворотов колеса, и наш пароход приблизился к пристани. В это время произошел следующий инцидент.
Я стоял у леера[548] левого борта, смотря на линию причалов, тогда как большинство пассажиров направились к сходням. У трапа толпились встречающие, и я не сомневался, что там был и Марк.
Я старался его разглядеть, как вдруг отчетливо услышал совсем рядом фразу по-немецки: «Если Марк Видаль женится на Мире Родерих, то горе ей и горе ему!»
Я быстро обернулся, но никого не было, и однако кто-то со мной сейчас говорил, и его голос был похож на голос немца, который уже сошел с парохода.
Но никого, повторяю, никого возле меня не было! Разумеется, я ошибся, полагая, что слышал эту угрожающую фразу… наверное, просто галлюцинация… и ничего более… Под оглушительные выхлопы пара у боков нашего судна я сошел на набережную с чемоданом и дорожной сумкой на плече.
III
Марк ждал меня у входа на пристань, он протянул руки, и мы крепко обнялись.
— Анри, дорогой Анри… — повторял он взволнованно, с мокрыми от слез глазами, хотя все его лицо сияло от счастья.
— Дорогой Марк, — произнес я. — Позволь еще раз тебя обнять! Ты повезешь меня к себе?..
— Да… в гостиницу «Темешвар», в десяти минутах отсюда, на улице Князя Милоша… Но сначала представлю тебе своего будущего шурина.
Я не заметил, что немного позади Марка стоял офицер, капитан в форме пехоты «Пограничной военной зоны». Ему было не больше двадцати восьми лет, рост выше среднего, прекрасная выправка, каштановые усы и бородка, гордый аристократический вид мадьяра и при этом приветливые глаза, улыбающийся рот; все в нем вызывало симпатию.
— Капитан Харалан Родерих, — представил мне его Марк.
Я пожал протянутую руку капитана.
— Господин Видаль, — сказал он, — счастливы вас видеть, ваш приезд, которого мы ждали с таким нетерпением, доставит большую радость всей нашей семье…
— Включая мадемуазель Миру?.. — спросил я.
— Без сомнения! — воскликнул мой брат. — И не по ее вине, дорогой Анри, «Матиаш Корвин» не смог проходить, как обычно, по Десять лье в час с момента твоего отъезда!
Надо сказать, что капитан Харалан бегло говорил по-французски, как и его отец, мать и сестра, которые бывали во Франции. С другой стороны, поскольку Марк и я прекрасно владели немецким языком, а также знали по-венгерски (правда, я много хуже Марка), то с этого же дня и в последующем мы разговаривали на этих различных языках, иногда их перемешивая.
Мы положили багаж в карету. Капитан Харалан, Марк и я сели в нее и через несколько минут остановились у гостиницы «Темешвар».
Первый визит в дом Родерихов был назначен на следующий день, поэтому мы с братом остались в моем довольно комфортабельном номере по соседству с тем, что занимал Марк со времени своего приезда в Рагз.
Разговоры велись до самого обеда.
— Дорогой брат, — сказал я, — вот наконец и встретились! Мы оба в добром здравии, не так ли?.. Если не ошибаюсь, разлука длилась целый год…
— Да, Анри!.. И это время… показалось мне таким долгим… хотя присутствие моей дорогой Миры… Но вот ты здесь, и я не забыл… что ты мой старший брат…
— И лучший друг, Марк!
— Поэтому, Анри, моя женитьба не могла состояться без твоего присутствия… рядом со мной… И потом, разве я не должен был получить твое согласие…
— Мое согласие?..
— Да… Как я попросил бы его у отца… Как и ты, он не отказал бы мне, вот познакомишься…
— Она очаровательна?..
— Ты ее увидишь, по достоинству оценишь и полюбишь!.. У тебя будет лучшая из сестер…
— И я приму ее как сестру, дорогой Марк, зная заранее, что ты не мог бы сделать лучшего выбора. Однако почему не поехать к доктору Родериху сегодня вечером?..
— Нет… завтра… Это неожиданность, что судно пришло рано… Его ждали к вечеру. Мы с Хараланом только из предосторожности пришли сегодня на пристань, и правильно сделали, поскольку присутствовали при высадке пассажиров. Ах! Если бы моя дорогая Мира знала, как она пожалела бы!.. Но, повторяю, тебя ждут только завтра… Госпожа Родерих и ее дочь сегодня вечером заняты… они собираются в собор и завтра извинятся перед тобой…
— Хорошо, Марк, — ответил я, — а поскольку сегодня в нашем распоряжении еще несколько часов, поговорим о прошлом и о будущем, оживим после годичной разлуки все воспоминания, которые могут быть у двух братьев!
И вот Марк рассказал мне, что случилось с ним после того, как он покинул Париж, о всех своих успехах в Вене, в Прессбурге, где перед ним широко распахнулись двери артистического мира. В целом он не поведал мне ничего нового. Правда, стать моделью для портрета с подписью Марка Видаля добиваются и оспаривают друг у друга с одинаковым рвением как богатые австрийцы, так и богатые мадьяры!
— Я не мог удовлетворить все просьбы, дорогой Анри. Они приходили отовсюду, и заказчики, желая оттеснить соперников, то и дело набавляли цену. Как сказал один житель Прессбурга, на портретах Марка Видаля люди больше похожи на себя, чем в жизни! Поэтому, — шутливо добавил брат, — весьма вероятно, что в один из ближайших дней министр по делам искусств увезет меня писать портреты императора, императрицы и эрцгерцогинь Австрии!..
— Будь осторожен, Марк, будь осторожен! Ты окажешься в довольно трудном положении, если получишь приглашение от двора и уедешь из Рагза.
— Я отклоню приглашение самым почтительным образом, мой друг! Теперь о портретах не может быть и речи… или, вернее, я только что закончил свою последнюю работу…
— Портрет Миры, не так ли?..
— Да, и это, наверное, не самая плохая моя работа…
— Кто знает?! — воскликнул я. — Может случиться всякое, если художник уделяет больше внимания модели, чем самому портрету!..
— В конце концов, Анри… ты сам увидишь… Повторяю, на холсте Мира больше похожа на себя, чем в жизни!.. Это, кажется, свойство моих портретов… Да… все то время, когда дорогая Мира позировала мне, я не мог оторвать от нее глаз!.. Но она не шутила… Эта слишком короткие часы она посвящала не жениху, а художнику!.. Моя кисть скользила по полотну… и казалось, что портрет готов вот-вот ожить, как статуя Галатеи…
— Спокойно, Пигмалион[549], спокойно. Расскажи, как ты познакомился с семьей Родерих.
— Это было предначертано судьбой.
— Не сомневаюсь, но все же…
— В первые же дни после моего приезда лучший светский клуб Рагза оказал мне честь и принял в свои почетные члены. Это было чрезвычайно приятно, хотя бы потому, что я мог проводить там вечера, которые кажутся такими длинными в чужом городе. Я бы усердно посещал этот клуб, где меня так хорошо принимали, и именно там я возобновил знакомство с капитаном Хараланом…
— Возобновил?.. — переспросил я.
— Да, Анри, так как я уже встречался с ним несколько раз в Пеште, в официальных кругах. Офицер с большими достоинствами и с прекрасным будущим и вместе с тем любезнейший человек. В тысяча восемьсот сорок девятом году он проявил бы себя как герой…
— Если бы родился в ту эпоху! — заключил я, смеясь.
— Золотые слова, — продолжал Марк таким же тоном. — Короче говоря, мы виделись здесь ежедневно, так как у него отпуск, и он продлится еще месяц. Наши отношения постепенно переросли в тесную дружбу. Он захотел представить меня своей семье, и я охотно согласился, тем более что уже встречал мадемуазель Миру Родерих на нескольких приемах, и если…
— А поскольку сестра была не менее очаровательной, чем брат, ты стал частым гостем в доме доктора Родериха…
— Да… Анри, и уже шесть недель я не пропустил ни одного вечера! Может быть, ты думаешь, что я преувеличиваю, когда говорю о Мире…
— Нет, мой друг! Нет! Ты не преувеличиваешь, и я даже уверен, что когда речь идет о ней, никакое преувеличение не кажется чрезмерным…
— Ах, дорогой Анри, я так ее люблю!
— Это и видно. С другой стороны, мне представляется, что ты войдешь в самую почтенную из семей…
— И самую почитаемую, — ответил Марк. — Доктор Родерих — врач с блестящей репутацией; его мнением очень дорожат коллеги!.. Вместе с тем он добрейший человек и отец, достойный…
— …своей дочери, — прервал его я. — Так же как госпожа Родерих не менее достойна быть ее матерью.
— Она — превосходная женщина, — воскликнул Марк. — Любимая всеми близкими, набожная, милосердная, занимающаяся благотворительностью…
— И она будет такой тещей, каких уже не найти во Франции… не так ли, Марк?..
— Прежде всего, Анри, здесь мы не во Франции, а в Венгрии, в стране мадьяр, где нравы сохранили кое-что из прежней строгости, где семья еще патриархальна…
— Ну-ну, будущий патриарх…
— Это общественное положение, которое имеет свою цену! — промолвил Марк.
— Да, соперник Мафусаила, Ноя, Авраама, Исаака, Иакова![550] В конце концов, в твоей истории, как мне кажется, нет ничего необычного. Благодаря капитану Харалану ты познакомился с этой семьей… Тебя радушно приняли, что меня не удивляет, так как я тебя знаю!.. Ты с первого же взгляда был очарован мадемуазель Мирой, ее физическими и моральными достоинствами…
— Ты целиком прав, брат!
— Моральные достоинства для жениха, физические достоинства для художника, и они не поблекнут ни на полотне, ни в сердце!.. Что ты думаешь о такой фразе?..
— Напыщенная, но справедливая, дорогой Анри!
— Твоя оценка тоже справедлива; короче: так же, как Марк Видаль, увидев мадемуазель Миру, был очарован ее грацией, мадемуазель Мира, увидев Марка Видаля, была очарована…
— Я этого не сказал, Анри!
— Но я это говорю, хотя бы из уважения к святой истине!
Господин и госпожа Родерих, заметив происходившее, отнеслись к нему благосклонно… Марк вскоре открылся капитану Харалану, а тот встретил это признание одобрительно… Он поведал обо всем родителям, те, в свою очередь, — дочери… Мадемуазель Мира сначала из скромности и ради соблюдения приличий положилась на мнение родителей… Затем Марк Видаль сделал официальное предложение, получил согласие, и этот роман скоро окончится так же, как и многие другие романы подобного рода…
— То, что ты называешь концом, мой дорогой Анри, — заявил Марк, — по-моему, лишь начало…
— Ты прав, Марк. Я уже не понимаю истинного значения слов!.. Когда же свадьба?..
— Ждали твоего приезда, чтобы окончательно назначить дату.
— Да когда хотите… через шесть недель… через шесть месяцев… через шесть лет…
— Дорогой Анри, — ответил Марк, — очень прошу тебя сказать доктору, что твой отпуск ограничен, что «Служба тяги на железных дорогах» пострадает, если ты задержишься в Рагзе…
— Одним словом, на меня ляжет ответственность за столкновение поездов, за железнодорожные аварии…
— Вот именно, и что нельзя переносить свадьбу позднее чем…
— На послезавтра или даже на сегодняшний вечер… не так ли?.. Будь спокоен, дорогой Марк, я скажу все, что нужно. Действительно мой отпуск кончается примерно через месяц, и я надеюсь провести большую часть времени после вашей свадьбы около тебя и твоей жены…
— Это было бы великолепно, Анри.
— Но, дорогой Марк, значит, ты собираешься обосноваться здесь, в Рагзе?.. Ты не вернешься во Францию… в Париж?..
— Еще не решено, — ответил Марк, — у нас есть время, чтобы обсудить этот вопрос!.. Я думаю только о настоящем; что касается будущего, то для меня оно ограничивается женитьбой… за этой датой оно не существует…
— Прошлого нет, — воскликнул я. — Будущего нет… Существует только настоящее!.. Об этом говорит итальянское concetto[551], которое декламируют все влюбленные, обращаясь к звездам![552]
В таком духе наш разговор продолжался до обеда. Затем мы с Марком, закурив сигары, пошли прогуляться по набережной вдоль левого берега Дуная.
Эта первая вечерняя прогулка не могла дать мне общего представления о городе. Но в течение последующих дней у меня будет время детально его осмотреть — скорее всего в компании капитана Харалана, а не Марка.
Само собой разумеется, мы говорили на одну и ту же тему: только о Мире Родерих.
Однако мне вспомнился секретарь «Компани де л’Ест» и то, что он говорил в Париже, накануне моего отъезда. Слова брата свидетельствовали: ничто, решительно ничто не омрачало его романа. И однако у Марка есть или был соперник. Мире Родерих делал предложение сын Отто Шторица. В этом не было ничего удивительного, поскольку дело касалось красивой молодой девушки, да еще с богатым приданым. Во всяком случае, теперь Вильгельму Шторицу не на что надеяться, и нечего беспокоиться по поводу этого субъекта.
Разумеется, мне вспоминались слова, услышанные, или как будто услышанные, при высадке, с парохода. Даже если допустить, что они были действительно произнесены, а не являлись галлюцинацией, я не мог их приписывать тому наглецу, который сел на пароход в Пеште, поскольку при высадке в Рагзе его уже не было на борту.
Однако, даже не рассказывая брату об этом инциденте, я все же счел необходимым передать ему в двух словах то, что узнал о Вильгельме Шторице.
Сначала Марк ответил жестом подчеркнутого презрения, а затем сказал:
— Действительно, Харалан говорил мне об этом субъекте. Он, кажется, единственный сын известного ученого — Отто Шторица, которого в Германии считали колдуном, впрочем необоснованно, так как он и в самом деле занимал важное место в научной среде и сделал существенные открытия в области химии и физики. Но предложение его сына было отвергнуто…
— Задолго до того, как было принято твое, Марк?
— За три или четыре месяца, если не ошибаюсь, — ответил брат.
— И мадемуазель Мира знала, что Вильгельм Шториц добивается чести стать ее супругом, как говорится в либретто оперетт?..
— Не думаю.
— С тех пор он ничего не предпринял в этом отношении?
— Ничего, поняв, что у него нет никаких шансов…
— А что собой представляет этот Вильгельм Шториц?..
— Большой оригинал, ведет довольно загадочный, очень уединенный образ жизни.
— В Рагзе?..
— Да… в Рагзе… в доме на отшибе по бульвару Телеки, где никто не бывает. Впрочем, — и этого было бы достаточно для отказа, — он немец, а офранцуженные венгры не очень-то любят подданных Вильгельма Второго[553].
— Он даже пруссак, Марк…
— Да, пруссак из Шпремберга в Бранденбурге.
— Тебе приходилось где-нибудь встречать его?..
— Иногда встречал, а однажды в музее капитан Харалан мне его показал, когда он, вероятно, нас не видел…
— Сейчас он в Рагзе?..
— Не знаю, что ответить, Анри, но кажется, последние две-три недели его здесь нет.
— Было бы лучше, если бы он уехал из города…
— Ладно! — произнес Марк. — Оставим этого человека там, где он есть, и если когда-либо появится госпожа Вильгельм Шториц, то уверяю тебя, это будет не Мира Родерих, поскольку…
— Да, — сказал я, — поскольку Мира Родерих будет госпожой Марк Видаль!
Мы дошли до деревянного моста, соединяющего венгерский берег с сербским, и на несколько минут остановились на мосту, любуясь великой рекой. Этой ясной ночью тысячи звезд отражались в воде, напоминая рыб с блестящей чешуей.
Мне пришлось рассказать Марку о своих собственных делах, сообщить новости о наших общих знакомых и об артистическом мире, с которым у меня была постоянная связь. Мы много говорили о Париже. Марк хотел провести там, если ничто не помешает, несколько недель после свадьбы. Хотя обычно молодожены отправляются в Италию или в Швейцарию, Марк и его жена поедут во Францию. Мира заранее радовалась, что снова увидит Париж, который уже знала, и будет его осматривать вместе с супругом.
Я сообщил Марку, что привез все бумаги, о которых он просил в своем последнем письме. Можно не беспокоиться, у него будут все документы, необходимые для большою свадебною путешествия.
Наш разговор постоянно возвращался к звезде первой величины, блистательной Мире; так магнитная стрелка всегда поворачивается к Полярной звезде. Марк говорил без устали, а я не уставал его слушать. Он давно уже хотел столько мне рассказать! Пришлось проявить благоразумие, иначе наш разговор продолжался бы до рассвета.
Впрочем, прогулка прошла спокойно, так как в этот довольно прохладный вечер прохожих на набережной было немного. Однако — не ошибся ли я? — мне показалось, что за нами шел какой-то человек, словно хотел подслушать чужой разговор. Человек этот был среднего роста и, если судить по тяжелой походке, уже немолодой. В конце концов он отстал от нас.
В половине одиннадцатого мы с Марком вернулись в гостиницу «Темешвар». Перед тем как заснуть, мне вновь и вновь вспоминались, как наваждение, слова, которые, кажется, я услышал на борту судна… слова, угрожающие Марку и Мире Родерих!
IV
На следующий день — знаменательная дата! — я нанес официальный визит семье Родерих.
Дом доктора — старинный особняк в прекрасном стиле, с модернизированными внутренними помещениями, с богатым и строгим убранством, свидетельствующим об утонченном художественном вкусе хозяев, — стоит в конце набережной Баттиани, на углу бульвара Телеки, который под разными названиями опоясывает город.
На бульвар, между двумя колоннами, на которых установлены вазы с вечнозелеными растениями, выходят ворота и служебная дверь особняка, ведущие в большой двор, посыпанный песком. Двор отделен решеткой от сада, его высокие деревья — вязы, акации, каштаны, буки — возвышаются над стеной, идущей до соседнего дома. Между аллеями, украшенными плющом, подбирающимся к кронам деревьев, простирается лужайка неправильной формы, декорированная кустарником и корзинами с цветами. Глубина сада скрыта разросшейся зеленью. Правее, в углу, между двумя строениями с узкими бойницами, отведено место для птичника. Стены особняка не видны за вьющимися растениями.
У края владения, с правой стороны расположены служебные Помещения: на первом этаже — кухня, подсобная комната, дровяной склад, гараж на две кареты, конюшня для трех лошадей, прачечная, собачья будка; на втором этаже — за шестью окнами, скрытыми жалюзи, — ванная, бельевая, комнаты для слуг, выходящие на отдельную лестницу. Между окнами тянутся стебли дикого винограда, широкого кирказона[554] и вьющихся роз.
Служебные помещения соединены с центральной частью дома коридором с цветными витражами. Этот коридор ведет к основанию круглой башни высотой примерно в шестьдесят футов.
Башня возвышается на стыке обоих зданий, расположенных под прямым углом друг к другу. Внутри ее — лестница с железными перилами, ведущая сначала на второй этаж особняка, затем на третий, мансардный, где окна украшены изящными скульптурами.
В передней части дома — застекленная галерея, поддерживаемая с наружной стороны железными пилястрами. Она залита потоком света с юго-востока. Двери на галерею завешены старинными драпировками. Они ведут в кабинет доктора Родериха, в большую гостиную и столовую. Шесть окон этих комнат на первом этаже выходят на набережную Баттиани на угол бульвара Телеки.
Комнаты на втором этаже расположены таким же образом; над гостиной — комната господина и госпожи Родерих, над столовой — комната, которую занимает капитан Харалан, когда приезжает в Рагз; на другом конце — комната мадемуазель Миры и ее рабочий кабинет с тремя окнами; одно из них выходит на набережную, другое — на бульвар, третье, рядом с окнами коридора, протянувшегося по всему этажу, — в сад.
Должен признаться, что еще до посещения особняка Родерихов мне было бы легко описать его. Благодаря недавнему разговору с Марком, все комнаты были мне известны. Марк не забыл ни одной детали, касающейся небольших апартаментов девушки. Я даже знал совершенно точно, на каком месте сидела мадемуазель Мира за обеденным столом, знал, где именно она предпочитала находиться в большой гостиной, на какой скамейке любила сидеть в глубине сада в тени великолепного каштанового дерева.
Возвращаясь к описанию особняка, скажу, что лестница башни, куда свет проникал через стрельчатый витраж, ведет к бельведеру круглой формы под опоясывающей башню террасой, откуда, должно быть, открывается широкая панорама города и Дуная.
Нас с Марком приняли около часа дня в галерее. В середине ее находилась медная резная жардиньерка, где пышно распустились весенние цветы, по углам стояли тропические деревца — пальмы, драцены[555], аларии…[556] На стене, между дверями гостиной и столовой, висело несколько картин венгерской и голландской школ. Марк высоко ценил их художественные достоинства.
На мольберте в правом углу я увидел портрет мадемуазель Миры и был восхищен его великолепием, достойным имени его автора, самого дорогого для меня на свете человека.
Доктору Родериху было пятьдесят, но он выглядел намного моложе своих лет. Это был человек высокого роста, держащийся прямо, с седеющей бородой, с густой шевелюрой. Цвет его лица свидетельствовал о прекрасном здоровье, а крепкое телосложение — о готовности сопротивляться любой болезни. Впрочем, он был типичным мадьяром с пламенным взглядом, решительной походкой, с благородной, внушительной внешностью. Все в нем выдавало природную гордость, смягченную благожелательным выражением красивого лица. Доктор служил сначала в рядах венгерской армии, отличился там как военный врач, затем окончательно перешел на гражданскую службу. Как только нас представили друг другу и мы обменялись крепким рукопожатием, я понял, что передо мной достойнейший человек.
У госпожи Родерих в ее сорок пять лет от прежней красоты остались правильные черты лица, темно-голубые глаза, великолепные волосы, начинающие седеть, тонко очерченный рот, прекрасные зубы, все еще изящное телосложение. Хотя она и была венгеркой, ее характеру были свойственны спокойствие и мягкость. Это была прекрасная супруга, наделенная всеми семейными добродетелями. Она обрела полное счастье со своим супругом, обожала сына и дочь, окружая их нежностью мудрой и предусмотрительной матери. Она была очень набожна, скрупулезно выполняла все предписания Католической Церкви, опираясь на непоколебимую веру, которая принимает религиозные догматы и не пытается их осмыслить. Госпожа Родерих отнеслась ко мне весьма дружески, сказав, что счастлива принимать у себя брата Марка Видаля, и просила чувствовать себя здесь как дома. Меня это глубоко тронуло.
Что можно сказать о Мире Родерих? Она подошла ко мне улыбаясь, с протянутыми руками. Да! Эта юная девушка поцеловала меня как настоящая сестра и я ее поцеловал без всяких церемоний! В этот момент Марк посмотрел на меня если не ревниво, то, по крайней мере, с некоторой завистью!
— Мне этого еще не позволено! — произнес он.
— Нет, господин Марк, — сказала мадемуазель Мира. — Вы, вы мне не брат!..
Мадемуазель Родерих была в точности такой, какой описал ее Марк, какой она была изображена на портрете, которым я только что любовался. Юная девушка с очаровательной головкой, обрамленной тонкими светлыми волосами, — мадонна Миериса[557], приветливая, жизнерадостная, с прекрасными темными глазами, излучающими ум; у нее был теплый цвет лица, свойственный мадьярам, чистые линии рта, розовые губы, приоткрывающие ослепительно белые зубы. Роста немного выше среднего, с изящной походкой и превосходными манерами, она была олицетворением грации, без жеманства и позы.
И мне пришла в голову мысль: если о портретах Марка говорили, что на них модели более похожи на себя, чем в жизни, то о мадемуазель Мире можно сказать, что она более естественна, чем сама природа!
Хотя, как и ее мать, Мира Родерих вышла в современном костюме, в нем что-то было и от национальной мадьярской традиции. Это сказывалось в покрое одежды, в подборе цветов: блузка с вырезом по шее, украшенные вышивкой рукава, стянутые в запястьях, обшитый сутажом корсаж с металлическими пуговицами, пояс, завязанный лентами с позолотой, юбка с широкими складками, доходящая до лодыжек, кожаные красно-коричневые сапожки с золотистым отливом — все это создавало общую приятную картину, отвечающую самому изысканному вкусу.
Капитан Харалан тоже был там, великолепный в своей военной форме и поразительно похожий на сестру. Его внешность была отмечена изяществом и силой. Он тоже протянул мне руку и обращался со мной как с братом. Мы уже были друзьями, хотя наша дружба родилась только вчера.
Таким образом, я познакомился со всеми членами семьи доктора Родериха.
Завязался непринужденный разговор, переходивший от одной темы к другой. Говорили о моем путешествии из Парижа в Вену, о плавании на пароходе, о моей работе во Франции, о том, каким временем я располагаю, о прекрасном городе Рагзе, который мне помогут детально осмотреть, о великой реке, о прекрасном Дунае, пронизанном золотыми лучами, по которому я должен спуститься хотя бы до Белграда, обо всей стране мадьяр, полной исторических воспоминаний, о знаменитой пусте, достойной того, чтобы привлекать туристов со всего мира, и так далее и тому подобное.
— Как замечательно, что вы с нами, господин Видаль! — повторяла мадемуазель Мира, соединяя грациозным жестом руки. — Путешествие продолжалось так долго, что пришлось поволноваться. Мы успокоились только тогда, когда получили ваше письмо из Пешта!..
— Виноват, мадемуазель Мира, — отвечал я. — Очень виноват, что задержался в пути. Я был бы в Рагзе уже полмесяца назад, если бы поехал по железной дороге. Но венгры не простили бы мне, если бы я забыл о Дунае, которым они по праву гордятся и который заслуживает свою репутацию…
— Вы правы, господин Видаль, — сказал доктор, — это река, овеянная славой, несомненно, наша от Прессбурга до Белграда!..
— И мы вас прощаем ради нее, господин Видаль, — промолвила госпожа Родерих.
— Но при условии, что вы повторите еще не раз это путешествие! — добавила мадемуазель Мира.
— Ты видишь, дорогой Анри, — сказал Марк, — тебя ждали с нетерпением…
— И с желанием познакомиться наконец с господином Анри Видалем, — заявила мадемуазель Мира. — Ваш брат не скупился на похвалы в ваш адрес…
— Имея в виду и себя, не так ли? — заметил капитан Харалан.
— О чем ты говоришь? — спросила мадемуазель Мира.
— Именно так, сестра, раз они столь похожи друг на друга!..
— Да… сиамские близнецы, — проговорил я таким же шутливым тоном. — Поэтому, капитан, раз вы были благосклонны к одному из нас, вы согласитесь проявлять внимание и к другому. Я рассчитываю на вас больше, чем на Марка, который, конечно, слишком занят, чтобы служить мне проводником…
— Я в вашем распоряжении, дорогой Видаль, — ответил капитан Харалан.
Потом мы заговорили о множестве других вещей, и я искренне восхищался этой прекрасной семьей. Особенно сильное впечатление производило на меня то выражение счастья и нежности, с которым госпожа Родерих смотрела на дочь и на Марка, уже соединившихся в ее сердце.
Затем доктор рассказал о путешествиях семьи за границу — в Италию, Швейцарию, Германию, Францию, о которой у них остались неизгладимые воспоминания; они объездили всю страну, побывали и в Бретани, и в Провансе. Мог ли им представиться лучший повод поговорить по-французски, чем воспоминания о Франции? Я, в свою очередь, старался применить свои нетвердые знания мадьярского языка всякий раз, когда это было возможно, и, несомненно, это им нравилось. Что касается Марка, то он говорил по-венгерски, как на родном языке. Можно было подумать, что он подвергся мадьяризации, которая, по мнению Элизе Реклю[558], все шире распространяется среди населения Центральной Европы.
Ах, Париж! Париж! Первый город мира, — после Рагза, разумеется, — потому что Рагз — это Рагз! И не нужно искать другого объяснения. Для Марка оно было достаточно, потому что Рагз — это Мира Родерих! Поэтому он возвращался к этому городу с таким же упорством, с каким мадемуазель Мира вспоминала о Париже и его достопримечательностях, несравненных памятниках, художественных ценностях, интеллектуальных богатствах, о его великолепных музейных коллекциях, великолепных, даже если их сравнивать с коллекциями Рима, Флоренции, Мюнхена, Дрездена, Гааги, Амстердама! В душе я мог только приветствовать утонченный вкус юной венгерки и все лучше и лучше понимал, с какой силой воздействовало ее неотразимое очарование на чувствительное и нежное сердце брата.
Во второй половине дня никто и не помышлял о том, чтобы выйти на улицу. Доктору пришлось вернуться к своим обычным занятиям. Но у госпожи Родерих и ее дочери не оказалось никаких особых дел, которые вынуждали бы их выйти из дома. В их сопровождении я должен был обойти весь особняк и полюбоваться собранными в нем прекрасными вещами — картинами и изящными безделушками, сервантами с серебряной посудой в столовой, старинными сундуками и ларями на галерее, а на втором этаже — небольшой библиотекой юной девушки, где на видном месте стояли многочисленные произведения классической и современной французской литературы.
Но не думайте, что сад был забыт ради особняка! Отнюдь нет. Мы прогуливались по его тенистым аллеям, отдыхали на удобных плетеных стульях под деревьями, срезали несколько цветов в вазах на лужайке, и один из них мадемуазель Мира собственноручно прикрепила к моей петлице.
— А башня? — воскликнула она. — Разве господин Видаль может подумать, что его первый визит закончится без осмотра нашей башни?..
— Нет, мадемуазель Мира, конечно нет! — ответил я. — Ни в коем случае. Я не получал ни одного письма от Марка, где бы он похвально не отзывался об этой башне (почти как о вас), и я приехал в Рагз только для того, чтобы подняться на вашу башню…
— Что же, вы подниметесь без меня, — произнесла госпожа Родерих, — так как это слишком высоко!..
— О, мама! Только девяносто ступенек!
— Да… учитывая твой возраст, дорогая мама, на каждый год придется только по две ступеньки, — сказал капитан Харалан. — Однако оставайся внизу. Я пойду с сестрой, Марком и господином Видалем. Мы встретимся с тобой в саду.
— Отправляемся на небо! — подхватила мадемуазель Мира.
Так, следуя за Мирой и с трудом поспевая за ее легким шагом, мы за какие-нибудь две минуты достигли бельведера, а затем и террасы.
Вот какая панорама открылась перед нашими глазами.
На западе раскинулся весь город с его предместьями; над ними господствовал холм Вольфанг, на котором возвышался старинный замок. На главной башне реял венгерский флаг. На южной стороне проложило себе путь извилистое русло Дуная шириной в триста метров; по реке непрестанно сновали, поднимаясь или спускаясь по течению, разные суда под парусами или с паровой тягой. За Дунаем простиралась пуста с ее густыми лесами, подобными зеленым массивам парка, с ее равнинами, обработанными полями, пастбищами — вплоть до далеких гор сербской провинции и «Пограничной военной зоны». На севере — пригород, застроенный виллами и коттеджами, а также фермами, узнаваемыми по остроконечным голубятням.
В эту ясную погоду, под яркими лучами апрельского солнца меня восхищала прекрасная и столь многообразная панорама, раскинувшаяся до самого горизонта. Нагнувшись над парапетом, я увидел госпожу Родерих, сидевшую на скамейке у края лужайки и приветливо махавшую нам рукой.
И тогда на меня посыпались одно за другим пояснения.
— Вот там, — говорила мадемуазель Мира, — аристократический квартал с дворцами, особняками, площадями, статуями… С этой стороны, господин Видаль, спустившись вниз, вы попадете в торговый квартал с многолюдными улицами, рынками!.. А Дунай (никогда не надо забывать о нашем Дунае), как он сейчас оживлен!.. Вон остров Швендор, весь в зелени, с рощами и цветущими лугами!.. Мой брат обязательно сводит вас туда!
— Будь покойна, сестра, — сказал капитан Харалан, — я покажу господину Видалю все уголки Рагза до последнего!
— И наши церкви, — продолжала мадемуазель Мира, — видите наши церкви? Вы услышите их звоны и куранты в воскресенье! Вот собор Святого Михаила, его величественные контуры, башни фасада, обращенный в небо, словно возносящий молитву, центральный шпиль! Внутри, господин Анри, так же великолепно, как снаружи!..
— Завтра же я осмотрю его.
— А вы, господин Марк, — спросила мадемуазель Мира, обернувшись к Марку, — что рассматриваете, пока я показываю собор вашему брату?..
— Ратушу, мадемуазель Мира… немного правее, ее высокую крышу, широкие окна, башенные часы, отбивающие время, парадный двор между двумя строениями, а главное — монументальную лестницу…
— Почему, — произнесла Мира, — столько энтузиазма по поводу муниципальной лестницы?..
— Потому, что она ведет в некий зал… — ответил Марк, глядя на невесту, чье хорошенькое личико слегка покраснело.
— Зал?.. — переспросила она.
— Зал, где я услышу из ваших уст самое дорогое слово, слово всей моей жизни…
— Да, дорогой Марк, и это слово после ратуши мы повторим в Божьей обители!
После довольно продолжительного пребывания на террасе бельведера все спустились в сад, к госпоже Родерих.
В тот день я обедал за семейным столом Родерихов. Впервые в Венгрии я ел не в ресторане гостиницы или парохода. Обед был превосходным. Судя по высокому качеству блюд и вин, я подумал, что доктор любит вкусно поесть, как, по-видимому, все врачи, в какой бы стране они ни жили. Большинство блюд было приправлено перцем, широко применяемым и любимым повсюду в Венгрии! Это еще одна национальная особенность, которую брат усвоил и к которой мне тоже следовало привыкнуть.
Мы провели этот вечер в узком кругу. Мадемуазель Мира несколько раз садилась за рояль и, аккомпанируя себе, проникновенно исполняла своеобразные венгерские мелодии, оды, элегии, эпопеи, баллады Петёфи[559], которые невозможно слушать без волнения. Восхитительный вечер мог бы продолжаться до поздней ночи, если бы капитан Харалан не подал сигнал к расставанию.
Когда мы с Марком вернулись в отель «Темешвар» и зашли в мой номер, он спросил:
— Ну как? Разве я преувеличивал и разве есть на свете другая такая девушка?..
— Другая? — проговорил я. — А я вот думаю, существует ли вообще эта девушка, существует ли в действительности мадемуазель Мира Родерих!
— Ах, дорогой Анри! Как я ее люблю!
— Что же, это меня не удивляет, дорогой Марк. Мадемуазель Миру можно описать только одним словом, и я трижды повторю его: она очаровательна… очаровательна… очаровательна!
V
На следующее утро я осмотрел часть Рагза в компании с капитаном Хараланом. Марк в это время занимался делами, связанными с женитьбой. Свадьба была назначена на 15 мая, то есть примерно через двадцать дней. Капитан Харалан хотел показать мне родной город во всех деталях. Я не мог бы найти другого, более добросовестного, более эрудированного и более предупредительного проводника.
Хотя воспоминания о Вильгельме Шторице иногда всплывали в памяти с удивлявшим меня постоянством, я не стал сообщать брату Миры то, что вкратце сообщил своему брату. Капитан Харалан тоже обходил молчанием эту тему. Вполне возможно, что досадный инцидент никогда больше не получит огласки.
Мы покинули отель «Темешвар» в восемь часов утра и начали прогулку с того, что прошли вдоль Дуная по набережной Баттиани до самого конца.
Как и большинство городов Венгрии, Рагз сменил несколько названий. Венгерские города могут, в зависимости от эпохи, предъявить свидетельства о крещении на четырех или пяти языках — латинском, немецком, славянском[560], венгерском. Их названия, почти такие же сложные, как имена князей, великих герцогов, эрцгерцогов. Ныне, в современной географии, Рагз есть Рагз.
— Наш город не имеет такого значения, как Пешт, — говорил капитан Харалан. — Но его население (около сорока тысяч человек) такое же, как в городах второго ранга, и благодаря своей промышленности и торговле он занимает заметное место в Венгерском королевстве.
— Рагз действительно мадьярский город? — спросил я.
— Разумеется, как по нравам и обычаям, так и, как видите, — по одежде жителей. Принято считать — и в этом есть некоторая доля истины, — что в Венгрии государство было основано мадьярами, а города — немцами. Такое утверждение вовсе не относится к Рагзу. Конечно, вы встретите среди торговцев людей германского происхождения, но они в ничтожном меньшинстве.
Впрочем, я это знал, знал, что жители Рагза очень гордятся своим городом, где живут чистокровные мадьяры.
— К тому же мадьяры (не надо их путать с гуннами, как это делают иногда), — добавил капитан Харалан, — образуют самую сплоченную политическую общность. И с этой точки зрения Венгрия, по сравнению с Австрией, отличается большим единообразием народов, каждый из которых занимает определенную территорию.
— А славяне?.. — спросил я.
— Славяне, дорогой Видаль, менее многочисленны, чем мадьяры, но даже их больше, чем немцев.
— А как в Венгерском королевстве относятся к немцам?
— Признаюсь, довольно плохо; особенно мадьярское население, так как несомненно, что для людей тевтонского происхождения столица метрополии не Вена, а Берлин.
Кроме того, как мне показалось, капитан Харалан не испытывал особой симпатии ни к австрийцам, ни даже к русским, которые помогли им подавить восстание 1849 года. Воспоминания об этих событиях еще волнуют сердца венгров. Что касается немцев, то между ними и мадьярами давно существует национальная антипатия. Она выражается в самых разнообразных формах, что быстро замечает иностранец. Существуют даже поговорки, отражающие ее довольно грубо. Одна из них гласит: «Там, где немец, там и пес!»
Даже учитывая, что некоторым поговоркам свойственно преувеличение, такая свидетельствует, по крайней мере, о малой доле согласия между двумя расами.
Что касается других национальностей, населяющих Венгрию, то вот общие данные: в Банате насчитывается полмиллиона сербов, сто тысяч хорватов, двадцать тысяч румын. В довольно компактной группе словаков два миллиона человек. Добавьте к этому русинов, словенцев, малороссов[561], итого десять миллионов человек, живущих в комитатах четырех округов по обе стороны Дуная, по обе стороны Тисы.
Город Рагз застроен довольно правильно. За исключением той его части на левом берегу реки, где сосредоточены низкие дома, кварталы с высокой застройкой имеют почти американскую геометрическую правильность.
Следуя по набережной Баттиани, выходишь на первую, Мадьярскую, площадь, окаймленную великолепными особняками. С одной ее стороны — мост, пересекающий остров Швендор и упирающийся в сербский берег; с другой — улица Князя Милоша, одна из красивейших в городе, ведущая к площади Св. Михаила. На улице Князя Милоша находится дворец — резиденция губернатора Рагза.
Миновав эту улицу и продолжая идти вдоль набережной, капитан Харалан привел меня к улице Иштвана II. Затем мы достигли рынка Коломан, очень оживленного в эти часы.
Там под арками огромного холла были в изобилии выставлены разнообразные продукты, производимые в стране: зерно, овощи, Фрукты с полей и садов пусты, а также дичь, подстреленная в лесах и придунайских равнинах. Все это было доставлено на судах с верховья и низовья реки. Тут были у торговцев в розницу и продукты животноводства с обширных пастбищ в окрестностях Рагза — различные сорта мяса и колбас.
Процветание Рагза обеспечивается не только этой сельскохозяйственной продукцией. Венгрия может в самых больших количествах производить табак, выращивать высокие урожаи винограда — один только «токай» занимает около трехсот тысяч гектаров[562]. Упомянем, кроме того, рудные богатства гор, где добываются благородные металлы — золото и серебро и менее аристократические: железо, медь, свинец, цинк. Кроме того, здесь есть крупные разработки серы, залежи соли, запасы которой определяются в три миллиарда триста миллионов тонн, что позволит подлунному миру солить пищу в течение еще долгих веков, когда соль морей будет исчерпана!
И вот что говорит мадьяр:
«Банат[563] дает нам пшеницу, пуста — хлеб и мясо, горы — соль и золото! Чего еще желать? Ничего! За пределами Венгрии жизнь — не жизнь!»
На рынке Коломан я мог как следует рассмотреть венгерского крестьянина в его традиционной одежде. В нем хорошо сохранились характерные черты нации: большая голова, слегка курносый нос, круглые глаза, свисающие вниз усы. Обычно он носит широкополую шляпу, из-под которой выглядывают волосы, завязанные в два пучка. Его куртка и жилет с костяными пуговицами сшиты из овечьей шкуры, штаны из толстой материи (она могла бы соперничать с вельветом наших северных деревень) стянуты на талии разноцветным поясом. На ногах у него крепкие сапоги, к которым по необходимости можно прицепить шпоры.
Мне показалось, что женщины, привлекательной наружности, более подвижны, чем мужчины. Они носят короткие юбки яркой расцветки, вышитые кофточки, шляпы с пером и приподнятыми полями или платки, завязанные у шеи и прикрывающие пышные прически.
Встречались мне и цыгане, так сказать, в естественном состоянии, совсем не похожие на своих соплеменников, которых импресарио демонстрируют в наших кафешантанах и казино. Нет! Это — бедолаги, нищие, мужчины, женщины, старики, дети в жалких лохмотьях, где больше дыр, чем материи.
От рынка капитан Харалан повел меня через лабиринт узких улочек, по обе стороны которых расположены лавки с висячими вывесками. Потом квартал расширяется и выходит на площадь Листа, одну из самых больших в городе.
В середине этой площади — красивый фонтан из бронзы и мрамора, его бассейн наполняется источниками, заключенными в желобы причудливой формы. На площади возвышается статуя Матиаша Корвина, героя XV века, ставшего королем в пятнадцать лет; он смог противостоять вторжениям австрийцев, чехов и поляков и спас европейское христианство от оттоманского варварства.
Площадь поистине прекрасна. С одной стороны — ратуша с флюгерами на высокой крыше, сохранившая стиль старинных построек эпохи Возрождения. К главному зданию ведет лестница с железными перилами, на втором его этаже — галерея, украшенная мраморными статуями. Окна фасада со старинными витражами укреплены каменными поперечинами. В центре — дозорная башня под куполом со слуховыми окнами; наверху — будка караульного, над которой поднят национальный флаг. Внизу два строения образуют выступ фасада; они соединены решеткой, ворота которой выходят на широкий двор, засаженный по углам разной зеленью.
Напротив ратуши — вокзал, к которому ведет линия железной дороги от Темешвара[564] в Банате. Таким образом облегчается сообщение с Будапештом через Сегед по эту сторону Дуная, по ту сторону реки — железная дорога в западном направлении до Мохача, Вараждина, Марбурга и столицы Штирии — Граца.
Мы остановились на площади Листа.
— Вот ратуша, — сказал мне капитан Харалан. — Здесь через двадцать дней Марк и Мира предстанут перед бургомистром и на заданный вопрос дадут… ответ…
— Ответ, известный заранее! — подхватил я смеясь. — А далеко ли отсюда до собора?..
— Несколько минут ходьбы, дорогой Видаль, и, если вы не против, мы пойдем по улице Ладислава, ведущей прямо туда.
Улица Ладислава, изрезанная трамвайными линиями, как и набережная Баттиани и главные улицы Рагза, заканчивается у собора Св. Михаила. Это памятник XIII века, построенный в эклектическом стиле, где смешиваются романские и готические черты. Однако у собора есть прекрасные части, заслуживающие внимания знатоков: фасад с двумя башнями по бокам, шпиль высотой в триста пятнадцать футов над трансептом[565], центральный портал с тщательно отделанными скульптурными сводами, большой круглый витраж, через который проходят лучи заходящего солнца, освещая центральный неф[566], наконец, закругленная апсида[567] между многочисленными подпорными арками, которые не очень почтительный турист назвал ортопедическим аппаратом соборов.
— Позднее мы сможем осмотреть внутренность собора, — заметил капитан Харалан.
— Как вам угодно, — ответил я. — Вы — мой гид, дорогой капитан, и я следую за вами…
— Ну что ж, поднимемся снова к замку, затем обогнем город по линии бульваров и вернемся домой как раз к завтраку.
В Рагзе, где католики составляют подавляющее большинство населения, есть и другие католические церкви. Лютеранские, румынские и греческие храмы и часовни не имеют никакой архитектурной ценности. В Венгрии исповедуют главным образом апостольскую римскую религию, хотя в ее столице, Будапеште, самое большое, после Кракова, количество евреев, и там, как и в других местах, состояния магнатов почти целиком перешли в их руки.
Направляясь к замку, мы миновали довольно оживленное предместье, где толпились продавцы и покупатели. И как раз когда мы добрались до небольшой площади, там поднялся шум, более сильный, чем обычный гул торгов.
Несколько женщин, оставив прилавки, окружали какого-то мужчину, крестьянина, распростертого на земле. Казалось, ему трудно подняться; охваченный гневом, он кричал:
— Говорю, меня ударили… толкнули… и с такой силой, что я тут же свалился!..
— Кто же мог тебя ударить? — возразила одна из женщин. — Ты был один… Рядом — никого… Я хорошо это видела из своей лавки…
— Ну вот!.. — не соглашался мужчина. — Когда тебя толкают, это чувствуешь… К тому же прямо в грудь… Само собой такое не случается!
Капитан Харалан, подняв крестьянина с земли, стал его расспрашивать и узнал следующее: бедняга сделал шагов двадцать в конце площади и вдруг почувствовал сокрушительный удар, словно его толкнул спереди какой-то сильный человек, хотя вокруг никого вроде и не было…
Где же правда в этом рассказе? Действительно ли крестьянину нанесли сильный и неожиданный удар? Но удара не может быть без ударяющего. Возможно, причина — порыв ветра, но в то время погода стояла совсем тихая. Получалось, человек упал по какой-то непонятной причине…
Оставалось предположить одно из двух: либо у потерпевшего галлюцинации, либо он выпил. Пьяный падает сам собой, просто в силу закона тяготения.
Общее мнение склонилось именно к этому. И хотя крестьянин божился, что не пил, стражи порядка увели его, упирающегося, в полицейский участок.
Когда инцидент был исчерпан, мы поднялись в восточную часть города. Из переплетающихся улиц и улочек здесь начинается настоящий лабиринт, из которого иностранцу невозможно выбраться.
Наконец мы дошли до замка на одном из гребней горы Вольфанг.
Это была настоящая крепость, венгерский акрополь, «вар» по-мадьярски — цитадель феодальных времен, угрожавшая как внешним врагам — гуннам или туркам, так и вассалам сюзерена. Высокие зубчатые стены с навесными галереями и бойницами, массивные башни, из которых самая высокая, донжон, господствовала над всей окружающей местностью.
По подъемному мосту через заросший кустарником ров мы достигли закрытой галереи между двумя вышедшими из строя массивными мортирами. Над нами торчали жерла пушек старинной артиллерии, которые теперь используются в качестве причальных тумб на портовых набережных.
Перед Хараланом благодаря его званию, естественно, открывались все двери древних крепостей, место которым — среди исторических памятников. Несколько старых солдат, охранявших замок на горе Вольфанг, отдали полагающиеся офицеру воинские почести. Когда же мы оказались на учебном плацу, капитан предложил подняться на угловой донжон.
Чтобы очутиться на верхней площадке, нам пришлось преодолеть по меньшей мере двести сорок ступенек винтовой лестницы.
Когда я шел вдоль парапета, перед глазами открывался еще более широкий горизонт, чем с башни особняка Родерихов. Эта часть Дуная, который поворачивает здесь на восток в направлении Нойзаца[568], простирается, если не ошибаюсь, на расстояние не менее тридцати километров.
— Теперь, дорогой Видаль, — сказал мой замечательный гид, — вы частично знаете Рагз. Вот он весь у наших ног…
— Увиденное здесь, — ответил я, — показалось мне очень интересным, даже после Будапешта и Прессбурга.
— Я рад, что вы так говорите. Когда закончите осмотр Рагза, познакомитесь с нравами и обычаями его жителей, со всем его своеобразием, вы, без сомнения, сохраните о нем прекрасные воспоминания. Мы, мадьяры, любим наши города сыновней любовью! Здесь в отношениях между различными классами царит полное согласие. У населения в высшей степени развиты чувства независимости и самого пламенного патриотизма. Кроме того, имущий класс охотно помогает обездоленным, и их число из года в год сокращается благодаря центрам милосердия. По правде говоря, вы встретите здесь лишь немного несчастных, и, во всяком случае, им сразу же приходят на помощь, когда становится известно, что в этом возникла необходимость.
— Я это знаю, дорогой капитан, как знаю и то, что доктор Родерих никогда не отказывает бедным и что госпожа Родерих и мадемуазель Мира возглавляют благотворительные учреждения.
— Моя мать и сестра делают лишь то, что обязан делать каждый в их положении и с их достатком. По-моему, милосердие — наш первейший долг!..
— Разумеется, — проговорил я, — но как выполнить его наилучшим образом?!
— Это — тайна женщин, дорогой Видаль, и одно из их неотъемлемых качеств…
— Да… и, бесспорно, самое благородное.
— Одним словом, — продолжал капитан Харалан, — мы живем в спокойном городе, уже не подверженном или почти не подверженном политическим страстям. Однако Рагз ревниво оберегает свои права и привилегии и готов их защищать от малейшего посягательства со стороны центральной власти. Я считаю, что у наших сограждан есть только один недостаток…
— Какой же?
— Они немного склонны к суевериям и слишком охотно верят в сверхъестественное! Им больше, чем следовало бы, нравятся вымыслы об оживших мертвецах, о привидениях, духах и прочей чертовщине! Я хорошо знаю, что жители Рагза — правоверные католики и что практика католицизма способствует такой предрасположенности умов…
— Таким образом, — произнес я, — если исключить доктора Родериха — врачу это несвойственно, — то можно предположить, что ваша мать и ваша сестра?..
— Да, и они, и все окружающие подвержены этой слабости. Именно слабости, другого слова не подберу. И побороть ее я пока не в силах. Может быть, Марк мне поможет…
— Если только мадемуазель Мира этому не воспротивится!
— А теперь, дорогой Видаль, нагнитесь над парапетом… Посмотрите на северо-восток… туда… там на краю города видите террасу и бельведер?
— Вижу, — ответил я, — кажется, это башня особняка Родерихов…
— Вы не ошиблись, и в этом особняке есть столовая, там через час будет подан завтрак, а поскольку вы — один из приглашенных…
— Я весь в вашем распоряжении, дорогой капитан…
— Ну что ж! Тогда спустимся и оставим замок в его феодальном одиночестве, которое мы нарушили на короткое время. Давайте вернемся, следуя линии бульваров; это позволит пройти по северной части города…
Через несколько минут мы прошли по закрытой галерее.
За благоустроенным кварталом, протянувшимся до городской стены Рагза, бульвары, общей длиной в пять километров, образуют три четверти круга, замкнутого Дунаем. Их названия меняются при пересечении с каждой широкой улицей. Бульвары засажены четырьмя рядами уже разросшихся деревьев — буков, каштанов и лип. С одной стороны, за бруствером со старинными куртинами, виднеется сельская местность. С другой — протянулись великолепные дома, и почти перед каждым — двор с роскошными клумбами цветов; а позади — тенистые сады, орошаемые проточной водой.
В этот ранний час по проезжей части бульваров уже пронеслось несколько экипажей, по боковым аллеям двигались группы элегантно одетых всадников и амазонок.
На последнем повороте мы свернули налево, чтобы спуститься по бульвару Телеки к набережной Баттиани.
Тут я заметил дом, одиноко стоявший в центре сада. По его печальному виду можно было предположить, что в нем уже некоторое время никто не живет. Закрытые ставнями окна, казалось, почти никогда не открывались. Фундамент покрылся мхом и зарос колючим кустарником. Дом этот странно контрастировал с остальными особняками, выходившими на бульвар.
Решетчатая дверь, у порога которой торчал чертополох, вела в небольшой двор, где росли два искривленных от старости вяза; через широкие трещины их стволов виднелась сгнившая сердцевина.
Дверь фасада утратила свою первоначальную окраску из-за непогоды — зимних ветров и снега. К двери вело крыльцо с тремя полуразвалившимися ступеньками.
Над первым этажом протянулся второй — с крышей из толстых брусьев и квадратным бельведером с узкими окнами, завешенными толстыми портьерами.
Складывалось впечатление, что в доме никто не живет, если он вообще пригоден для жилья.
— Чей это дом? — спросил я.
— Одного оригинала, — ответил капитан Харалан.
— Но это жилище портит бульвар, — сказал я. — Город должен был бы его выкупить и снести…
— Тем более, дорогой Видаль, что, если его снести, владелец покинет город и уберется к дьяволу, своему ближайшему родственнику, если верить кумушкам Рагза!
— Он — иностранец?
— Немец.
— Немец? — переспросил я.
— Да… пруссак.
— И его зовут?..
В тот момент, когда капитан Харалан собирался мне ответить, дверь дома отворилась. Вышли два человека. Более пожилой, мужчина лет шестидесяти, остался на крыльце, тогда как другой прошел через двор и вышел за решетку.
— Ах вот как, — тихо проговорил капитан Харалан, — он, значит, здесь… А я и не предполагал…
Незнакомец, обернувшись, увидел нас. Знал ли он капитана Харалана? Тут не могло быть никаких сомнений, ибо оба обменялись взглядами, выдававшими взаимную неприязнь.
Но и я, со своей стороны, узнал его и потому негромко воскликнул:
— Это он!
— Вы уже встречали этого человека? — спросил не без удивления капитан Харалан.
— Разумеется. Плыл с ним от Пешта до Вуковара на пароходе «Матиаш Корвин» и, признаюсь, совсем не ожидал увидеть его в Рагзе.
— Да, лучше бы его здесь не было! — заявил капитан Харалан.
— Вы, как мне кажется, — заметил я, — находитесь не в лучших отношениях с этим немцем…
— А кто мог бы относиться к нему хорошо?!
— И давно он обосновался в Рагзе?..
— Примерно два года, и, скажу вам, этот господин имел наглость просить руки моей сестры! Но отец и я отказали ему, причем так, чтобы лишить его всякого желания возобновить свое предложение…
— Как? Это тот человек!..
— Значит, вы в курсе?..
— Да, дорогой капитан, и я знаю, что его зовут Вильгельм Шториц и что он — сын Отто Шторица из Шпремберга!
VI
В течение последующих двух дней я посвятил все свободное время знакомству с городом. Подобно истинному мадьяру, я подолгу простаивал на мосту, соединяющему два берега Дуная с островом Швендор, и не уставал любоваться этой прекрасной рекой.
Должен признаться, что часто имя Вильгельма Шторица невольно приходило мне на ум. Значит, он обычно живет в Рагзе и, как я узнал, имеет единственного слугу по имени Герман, не более симпатичного, приветливого и общительного, чем его хозяин. Мне даже казалось, что этот слуга своей одеждой и походкой напоминал того человека, который в день моего приезда в Рагз следовал за мной и моим братом во время нашей прогулки по набережной Баттиани.
Я решил ничего не говорить Марку о нашей встрече на бульваре Телеки. Возможно, Марк встревожился бы, узнав, что Вильгельм Шториц, которого он считал уехавшим из Рагза, вернулся сюда. А омрачать его счастье даже малейшим беспокойством так не хотелось! Однако я сожалел, что этот отвергнутый соперник не покинул город, хотя бы до свадьбы Марка и Миры.
Утром 27 апреля я готовился к обычной прогулке, на этот раз намереваясь совершить экскурсию в окрестности Рагза, в пригородные деревни, населенные сербами. Я уже собирался выйти, когда в номер вошел мой брат.
— У меня много дел, Анри, — произнес он, — ты не обидишься, если я оставлю тебя одного?..
— Не беспокойся, дорогой Марк, — сказал я, — и не думай обо мне…
— Зайдет ли за тобой Харалан?..
— Нет… он занят… Я позавтракаю в каком-нибудь кабачке на том берегу Дуная…
— Но обязательно вернись к семи часам вечера!..
— Стол у доктора настолько хорош, что грех было бы опоздать!
— Какой же ты гурман… Через несколько дней намечается также вечер в особняке Родерихов и ты сможешь понаблюдать за высшим обществом Рагза…
— Вечер по случаю помолвки, Марк?
— О, мы с Мирой уже давно помолвлены… Мне даже кажется, что так было всегда…
— Да… С самого рождения…
— Вполне возможно!
— Тогда прощай, счастливейший из смертных…
— Подожди, скажешь это, когда моя невеста станет моей женой!
Пожав мне руку, Марк ушел, а я спустился в ресторан гостиницы.
Закончив первый завтрак, я уже собрался уходить, когда появился капитан Харалан. Меня несколько удивил его приход, ведь мы договорились, что сегодня утром я прогуляюсь один.
— Вы! — воскликнул я. — Ну что ж, дорогой капитан, это приятный сюрприз!
Может быть, я ошибался? Но мне показалось, что капитан Харалан чем-то озабочен. Вместо ответа он проговорил:
— Дорогой Видаль… я пришел…
— Как видите, я готов… Погода прекрасная, и если вы не боитесь потратить несколько часов на прогулку…
— Нет… в другой раз, если вы не против…
— Тогда что же привело вас сюда?
— Отец хочет с вами поговорить, он ждет у себя…
— Я в вашем распоряжении, — ответил я.
Идя рядом со мной по набережной Баттиани, капитан Харалан не произнес ни слова. Что же случилось? И о чем доктор Родерих хочет со мной поговорить? О женитьбе Марка?..
Как только мы вошли в дом, слуга проводил нас в кабинет доктора.
Госпожа Родерих и Мира уже покинули особняк, и Марк, по-видимому, сопровождал их во время утренней прогулки.
Доктор был один в своем кабинете. Он сидел за письменным столом и, когда обернулся, показался мне таким же озабоченным, как и его сын.
«Что-то случилось, — подумал я. — И конечно, Марк сегодня утром еще ничего не знал… Ему ничего не сказали и, по-видимому, не хотели ничего сказать…»
Я сел в кресло напротив доктора, а капитан Харалан остался стоять возле камина, где догорали последние поленья.
Я ждал не без некоторой тревоги, когда доктор заговорит.
— Прежде всего, господин Видаль, — сказал он мне, — спасибо за то что вы пришли.
— Всегда в вашем распоряжении, господин Родерих.
— Я хотел вам кое-что сообщить в присутствии Харалана.
— Это касается свадьбы?
— Совершенно верно.
— Что-то серьезное?
— И да и нет, — ответил доктор. — Как бы то ни было, я не сообщил о случившемся ни супруге, ни дочери, ни вашему брату и предпочитаю, чтобы они ничего не знали… Впрочем, судите сами.
Невольно я связал слова доктора со вчерашней встречей, когда капитан Харалан и я столкнулись со Шторицем перед его домом на бульваре Телеки.
— Вчера во второй половине дня, — продолжал доктор, — когда госпожи Родерих и Миры не было дома, во время врачебной консультации слуга передал мне карточку посетителя, которого я не ожидал вновь увидеть. Прочитав имя на визитке, я был сильно раздосадован… Там значилось: «Вильгельм Шториц».
Я взял карточку и, разглядывая ее, обратил внимание, что имя на ней не вытиснено, не напечатано в типографии, а написано собственноручно этим опасным субъектом — его замысловатый росчерк напоминал клюв хищной птицы.
Впрочем, вот факсимиле:
Вильгельм Шториц[569].
— Может быть, — спросил меня доктор, — вам не известно, кто этот немец?
— Известно… Я в курсе дела, — ответил я.
— Так вот, примерно три месяца назад, до того как было сделано и принято предложение вашего брата, Вильгельм Шториц просил руки моей дочери. Посоветовавшись с супругой, с сыном и Мирой, которые разделяли мое отрицательное отношение к подобному браку, я сказал этому господину, что его предложение не может быть принято. Вместо того чтобы смириться, он снова официально попросил руки Миры. Я ему вновь, столь же определенно, порекомендовал оставить всякую надежду.
Пока доктор Родерих говорил, капитан Харалан расхаживал по комнате, иногда останавливаясь перед одним из окон, чтобы посмотреть в сторону бульвара Телеки.
— Господин Родерих, — проговорил я, — я знаю, что это предложение было сделано до предложения моего брата…
— Примерно за три месяца, господин Видаль.
— Значит, — продолжил я, — Вильгельму Шторицу отказали не потому, что Марк уже получил согласие на руку и сердце мадемуазель Миры, а потому, что этот брак не входил в ваши планы.
— Разумеется. Мы никогда не согласились бы на этот союз, который не подходил нам ни в каком отношении и которому Мира категорически воспротивилась бы…
— Что побудило вас принять такое решение? Личность Вильгельма Шторица… или его положение?..
— Говорят, — ответил доктор Родерих, — отец оставил ему большое состояние — результат выдающихся открытий. Ну, а личные качества…
— Я его знаю, господин Родерих…
— Знаете?..
Я рассказал, при каких обстоятельствах повстречался с Вильгельмом Шторицем, не подозревая, кто он. В течение сорока восьми часов этот немец плыл со мной на пароходе от Пешта до Вуковара, где, наверное, и сошел, поскольку его уже не было на борту, когда пароход прибыл в Рагз.
— И наконец, вчера, — добавил я, — во время прогулки с капитаном Хараланом мы проходили мимо его жилища и я узнал его в тот момент, когда он выходил из дому…
— Между тем говорили, что он уже несколько недель тому назад уехал из Рагза, — заметил доктор Родерих.
— Так полагали, и, возможно, он отсутствовал некоторое время, — проговорил капитан Харалан. — Но несомненно то, что он вернулся к себе домой, что вчера он был в Рагзе!
В голосе капитана Харалана чувствовалось сильное раздражение.
Доктор продолжал:
— Я вам говорил, господин Видаль, о материальном положении Вильгельма Шторица. Что касается его образа жизни, то тут с полной определенностью ни о чем утверждать невозможно… Это полная загадка! Такое впечатление, будто этот человек живет вне человеческого общества…
— Нет ли здесь преувеличения? — сказал я доктору.
— Возможно, некоторое и есть, — ответил он. — Однако Вильгельм Шториц — выходец из довольно подозрительной семьи, о его отце ходили самые необыкновенные легенды…
— Они его пережили, доктор, судя по статье в «Винер экстраблатт», которую я прочел в Пеште. Там шла речь о дате смерти ученого, которая ежегодно отмечается в Шпремберге на местном кладбище. Если верить репортеру, время нисколько не ослабило суеверия местных жителей… Мертвый ученый — наследник живого ученого!.. Это был колдун… Ему открылись тайны потустороннего мира… И подчинились сверхъестественные силы… Каждый год люди ожидают у его могилы каких-то необыкновенных явлений!..
— Таким образом, господин Видаль, — заключил доктор Родерих, — принимая во внимание то, что происходит в Шпремберге, не удивляйтесь, если в Рагзе Вильгельма Шторица считают странным персонажем!.. И вот такой человек посватался к моей дочери, а вчера имел дерзость вновь просить ее руки…
— Вчера?.. — воскликнул я.
— Именно вчера, во время своего визита!
— Кем бы ни был этот тип, — вскричал капитан Харалан, — он еще и пруссак, и этого предостаточно, чтобы отвергнуть подобный брак! Вы поймете нас, дорогой Видаль…
— Я понимаю, капитан!
В словах капитана Харалана прорывалась вся антипатия, которую и по традиции, и по природным наклонностям мадьярская нация испытывает к германской.
— Вот как все происходило, — продолжал доктор Родерих, — вам следует это знать. Когда мне передали визитную карточку Вильгельма Шторица, я колебался… Пригласить ли его к себе в кабинет или передать, что не могу его принять?
— Может быть, последнее было бы лучше, отец, — сказал капитан Харалан, — поскольку после первой неудачи этому человеку должно было быть ясно: ни под каким предлогом он не может здесь снова появляться…
— Возможно, — произнес доктор, — но я боялся довести его до крайности и вызвать какой-нибудь эксцесс…
— Которому я быстро положил бы конец, дорогой отец!
— Именно потому, что я тебя знаю, — сказал доктор, беря за руку капитана Харалана, — я действовал осторожно!.. Что бы ни произошло, я полагаюсь на твою любовь к матери, ко мне и к сестре. А Мира оказалась бы в очень трудном положении, если бы ее имя стали трепать в прессе, если бы Вильгельм Шториц устроил скандал…
Хотя я знал капитана Харалана совсем мало, он казался мне человеком с очень импульсивным характером, чрезвычайно щепетильным во всем, что касалось его семьи. Поэтому я жалел, что соперник Марка, вернувшись в Рагз, снова сватался.
Доктор продолжил свой подробный рассказ о визите немца. Разговор состоялся в том самом кабинете, где мы сейчас находились. Вильгельм Шториц тоном, свидетельствовавшим о редком упорстве, объяснил, что вернулся в Рагз два дня назад, и господин Родерих не может удивляться тому, что он захотел снова его увидеть.
«Если я это сделал, — заявил незваный гость доктору, — если я настоял на приеме, то только потому, что захотел предпринять вторую попытку, и она не будет последней…»
«Господин Шториц, — перебил его доктор, — я мог понять ваше первое сватовство, но не понимаю теперешний поступок…»
«Господин Родерих, — последовал резкий ответ, — я не отказался от чести стать супругом мадемуазель Миры Родерих и поэтому снова обращаюсь к вам…»
«Тогда, — заявил доктор, — ваш визит ничем не может быть оправдан… Мы не намерены возвращаться к этому вопросу; вам отказали, и я не вижу никакого основания для такой настойчивости…»
«Напротив, — продолжал Вильгельм Шториц, — основание существует. И я продолжаю настаивать, потому что появился другой претендент, более удачливый, чем я, которого вы благосклонно принимаете… француз… француз!..»
«Да, — ответил доктор, — француз, господин Марк Видаль, попросил руки моей дочери…»
«И получил согласие!» — вскричал Вильгельм Шториц.
«Да, господин Шториц, — произнес доктор. — И даже если не было бы других оснований, вы должны были понять, что у вас нет никакой надежды…»
«Есть, — заявил Вильгельм Шториц. — Я не отказываюсь от союза с мадемуазель Мирой Родерих!.. Я ее люблю, и если она не будет моей, то, по крайней мере, она никогда не будет принадлежать другому!»
Слушая этот рассказ, капитан Харалан едва сдерживал гнев.
— Наглец… мерзавец! — проговорил он. — Осмелиться так говорить! А меня здесь не было, чтобы вышвырнуть его вон!
«Решительно, — подумал я, — если эти двое столкнутся лицом к лицу, то будет трудно помешать взрыву, которого опасается доктор Родерих!»
— После этих слов Шторица, — сказал нам доктор, — я встал и заявил, что больше не хочу ни о чем слушать. Вопрос решен, и свадьба состоится через несколько дней…
«Ни через несколько дней, ни позднее…» — ответил Вильгельм Шториц.
«Господин Шториц, — сказал я, указывая ему на дверь, — извольте выйти вон!..» Всякий другой человек понял бы, что его визит не может продолжаться… Однако Шториц остался, заговорил другим тоном, попытался мягкостью получить то, чего не мог добиться угрозами, просил, по крайней мере, отсрочить свадьбу. Тогда я направился к камину, чтобы позвонить слуге. Он схватил меня за руку, гнев снова овладел им, а голос звучал так громко, что, должно быть, слышался за стенами кабинета. К счастью, моя жена и дочь еще не вернулись. Вильгельм Шториц согласился наконец уйти, но продолжал выкрикивать угрозы: «Мадемуазель Родерих не выйдет за этого француза… Возникнут такие препятствия, что свадьба станет невозможной… У Шторицев есть средства, превосходящие все человеческие возможности, и я, Вильгельм Шториц, их использую против неосторожной семьи, которая меня отвергает!» Наконец он открыл дверь кабинета, в ярости вышел на галерею, где собралось несколько пациентов, оставив меня весьма напуганным.
Доктор повторил, что ни одно слово этой сцены не было передано ни госпоже Родерих, ни Мире, ни моему брату. Лучше было избавить их от такого беспокойства. Впрочем, я достаточно хорошо знал Марка и опасался, что он не оставит этого дела, как и капитан Харалан. Однако тот согласился с доводами отца.
— Хорошо, — сказал он, — я не буду наказывать этого наглеца, но если он сам придет ко мне… если начнет угрожать Марку или вздумает нас провоцировать…
Доктор Родерих ничего не смог сказать в ответ.
Разговор закончился. В любом случае нужно было ждать: никто ничего не узнает, если только Вильгельм Шториц не перейдет от слов к действиям. А вообще-то говоря, что он сможет сделать? Как помешает свадьбе? Вызовет Марка на дуэль?.. Или, скорее, совершит какой-нибудь насильственный поступок в отношении Миры Родерих?.. Но как ему удастся проникнуть в особняк, где его больше не примут?.. Ведь не может же он, подумал я, силой ворваться в дом!.. Впрочем, доктор Родерих без колебаний обратится к властям, которые сумеют призвать к порядку этого немца!
Перед тем как мы разошлись, доктор в последний раз обратился к сыну с настоятельной просьбой ничего не предпринимать против Шторица и, повторяю, капитан Харалан неохотно обещал выполнить просьбу отца.
Наша беседа настолько затянулась, что госпожа Родерих, ее дочь и мой брат к тому времени уже вернулись. Я должен был остаться завтракать, так что пришлось перенести на вторую половину дня экскурсию по окрестностям Рагза.
Само собой разумеется, я придумал какое-то объяснение моего присутствия в то утро в кабинете доктора. Марк ничего не заподозрил, и завтрак прошел в очень приятной атмосфере.
Когда вставали из-за стола, мадемуазель Мира сказала мне:
— Господин Анри! Поскольку мы имели удовольствие застать вас здесь, вы пробудете с нами весь день…
— А как же мои прогулки? — ответил я.
— Совершим их вместе!
— Дело в том, что я хотел пойти довольно далеко…
— Мы и пойдем довольно далеко!
— Пешком?..
— Да, пешком!
— Ты не можешь отказаться, — добавил брат, — раз мадемуазель Мира просит тебя об этом.
— Да, не можете, или между нами все будет кончено, господин Анри!..
— Я в вашем распоряжении, мадемуазель!
— И потом, господин Анри, нужно ли идти так далеко?.. Я уверена, что вы еще не видели остров Швендор во всей его красе…
— Я собирался сделать это завтра…
— Ну что ж, пойдем туда сегодня.
И вот так, в компании Марка, госпожи и мадемуазель Родерих я побывал на этом острове, превращенном в общественный сад, в своего рода парк с рощами, беседками и всевозможными аттракционами.
Однако мои мысли были заняты не только прогулкой. Марк это заметил, пришлось дать ему какой-то уклончивый ответ.
Было ли это опасением встретить на пути Вильгельма Шторица?.. Нет, я, скорее, думал о том, что он сказал доктору Родериху: «Возникнут такие препятствия, что свадьба станет невозможной… У Шторицев есть средства, превосходящие все человеческие возможности!..» Что означали эти слова?.. Нужно ли принимать их всерьез?.. Я решил поговорить об этом с доктором наедине.
Прошло несколько дней. Я начал успокаиваться. Вильгельма Шторица никто вновь не видел. Однако он не уехал из города. В доме на бульваре Телеки жили по-прежнему. Проходя как-то мимо, я увидел, как закрылись двери за Германом. Однажды в одном из окон бельведера показался и сам Вильгельм Шториц — он смотрел в конец бульвара, в направлении особняка Родерихов.
Таково было положение вещей, когда в ночь с 3 на 4 мая произошло следующее.
Хотя дверь ратуши постоянно охраняли сторожа и никто не мог к ней незаметно подойти, объявление о предстоящей свадьбе Марка Видаля и Миры Родерих было сорвано со стенда публикаций и его обрывки разбросаны поблизости.
VII
Кто же мог совершить столь гнусный поступок? Только тот, кто был в нем заинтересован… А что последует дальше? Еще более серьезные действия?.. Не есть ли это началом преследований семьи Родерих?..
О происшествии доктору Родериху сразу сообщил капитан Харалан и тут же пришел в гостиницу «Темешвар».
— Это дело рук того негодяя, — в крайнем раздражении воскликнул он, — да, его рук дело!.. Как ему такое удается, я не знаю! На этом он, видно, не остановится, но я не позволю ему продолжать в том же духе!..
— Сохраняйте хладнокровие, дорогой Харалан, — проговорил я. — Не предпринимайте никаких опрометчивых шагов, чтобы не осложнить обстановку!..
— Дорогой Видаль! Если бы отец предупредил меня до того, как этот человек покинул особняк, и если бы затем мне позволили действовать, мы были бы от него избавлены!..
— Я по-прежнему считаю, дорогой Харалан, что вам лучше ничего не предпринимать…
— А если он будет продолжать?..
— Тогда потребуем вмешательства полиции! Подумайте о вашей матери, о вашей сестре…
— А разве они не узнают?..
— Им никто ничего не скажет, так же как и Марку… А после свадьбы подумаем, что предпринять…
— Боюсь, после свадьбы, — повторил капитан Харалан, — будет слишком поздно…
В этот день в особняке занимались только подготовкой к церемонии обручения. Господин и госпожа Родерих хотели «сделать все как полагается», если использовать принятое во Франции выражение. Приготовления близились к завершению. Доктор, которого в Рагзе все так любили, разослал довольно много приглашений. В его доме весьма часто мадьярская аристократия встречалась с военными, судейскими, чиновниками, представителями торговли и промышленности. Губернатор Рагза, которого связывала с доктором давняя дружба, принял его приглашение.
Около полутораста гостей должны были собраться в тот вечер в особняке Родерихов. Для их приема вполне хватало места в гостиных и на галерее, где в конце вечера намечалось подать ужин.
Нет ничего удивительного в том, что вопрос о своем праздничном туалете очень занимал Миру Родерих и что Марк захотел привнести в него артистическую нотку — как он уже сделал это однажды при написании портрета своей невесты. Впрочем, Мира была мадьяркой, а мадьяры, независимо от пола, уделяют большое внимание одежде. Это у них в крови, как и любовь к танцам, доходящая до страсти. Поскольку то, что я сказал о мадемуазель Мире, относилось ко всем дамам и кавалерам, вечер по случаю обручения обещал быть восхитительным.
После обеда все приготовления закончились. Я провел тот день в особняке в ожидании момента, когда тоже, как настоящий мадьяр, смогу заняться своим костюмом.
Вдруг, облокотившись на подоконник одного из окон, выходивших на набережную Баттиани, я с величайшей досадой увидел Вильгельма Шторица. Случайно ли он оказался здесь? Нет, конечно. Он медленно шел по набережной вдоль реки опустив голову, а пройдя до особняка Родерихов, выпрямился и бросил на дом уничтожающий, полный ненависти взгляд. Это не ускользнуло от внимания и госпожи Родерих. Она позвала доктора, который постарался ее успокоить, ничего не сказав, конечно, о недавнем визите к ним Вильгельма Шторица.
Добавлю, что, когда я и Марк шли в отель «Темешвар», Шториц повстречался нам на Мадьярской площади. Увидев брата, он резко остановился и, казалось, заколебался, словно желая подойти поближе. Но с места он так и не двинулся, лишь лицо его побледнело, а руки словно оцепенели… можно было подумать, что он вот-вот упадет… Его сверкающие глаза смотрели на Марка, который сделал вид, что не заметил немца. Когда Шториц остался в нескольких шагах позади нас, Марк спросил:
— Заметил этого субъекта?
— Да, Марк.
— Это тот самый Вильгельм Шториц, о котором я говорил…
— Знаю, брат.
— Ты знаешь его?!
— Капитан Харалан уже показывал мне его раз или два.
— Я думал, он уехал из Рагза… — произнес Марк.
— Видно, не уехал или, по крайней мере, вернулся…
— В конце концов, теперь это уже не имеет никакого значения!
— Да, не имеет.
«Но, — подумал я, — лучше все-таки, если бы Вильгельм Шториц убрался восвояси».
Около девяти часов вечера перед особняком Родерихов остановились первые экипажи. Доктор с женой и дочерью встречали гостей у входа на галерею, залитую огнями люстр. Вскоре доложили о прибытии губернатора Рагза; его превосходительство сердечно поздравил семью Родерих. Он высказал особенно изысканные комплименты мадемуазель Мире, а также моему брату. Впрочем, поздравления в их адрес слышались со всех сторон.
Между девятью и десятью часами прибыли представители городских властей, магистраты, офицеры — товарищи капитана Харалана, который, хотя его лицо и казалось мне озабоченным, старался как можно любезнее встретить гостей. Туалеты дам сверкали, оттененные мундирами и черными фраками мужчин. Гости прогуливались по гостиным и галерее, любовались подарками, выставленными в кабинете доктора, драгоценностями и дорогими безделушками. Подарки моего брата говорили о его утонченном вкусе. На одном из консолей[570] большой гостиной стоял великолепный букет из роз и флёрдоранжа[571] — букет обручения. Рядом на бархатной подушке лежал брачный венец, который Мира наденет, по мадьярскому обычаю, в день свадьбы, когда поедет в церковь.
Программа вечера состояла из двух частей: концерта и бала. Танцы должны были начаться после полуночи, и, быть может, большинство гостей сожалело, что они назначены на столь поздний час, ибо, повторяю, нет другого развлечения, которому венгры и венгерки предавались бы с большим удовольствием и страстью.
За музыкальную часть программы отвечал великолепный цыганский оркестр. Этот оркестр, очень известный в Венгрии, еще не выступал в Рагзе. В назначенное время музыканты и дирижер заняли свои места в зале.
Мне было известно, что венгры — страстные любители музыки. Но, как справедливо было замечено, немцы и они по-разному ею наслаждаются. Мадьяр не поет или поет мало, он слушает, и, когда речь идет о национальной музыке, слушать ее для него — и величайшее удовольствие, и очень серьезное дело одновременно. Мне думается, что никакой другой народ так не восприимчив в этом отношении, а цыгане, инструменталисты родом из Богемии, наилучшим образом отвечали патриотическим настроениям публики.
Оркестр состоял из дюжины исполнителей под руководством дирижера. Они собирались играть свои самые красивые произведения, «венгерки» — песни воинов, военные марши, которые мадьяр, человек действия, предпочитает грезам немецкой музыки.
Может быть, вы удивитесь, что для свадебного вечера не выбрали более подходящую музыку — посвященные этой церемонии гимны Гименею. Но подобной традиции тут не существует, а Венгрия — страна традиций. Она верна своим народным мелодиям, как Сербия — своим песням, как Румыния — своим дойнам[572]. Венграм нужны эти зажигательные напевы, эти ритмы маршей, которые их воодушевляют на полях сражений и прославляют незабвенные подвиги предков.
Цыгане были в национальных костюмах. Я с любопытством рассматривал этих столь необычных людей, их смуглые лица, блестящие глаза под густыми бровями, выступающие скулы, белые зубы, яркие пухлые губы, черные курчавые волосы над слегка покатым лбом.
Цыгане играли на струнных инструментах нескольких видов: басах и альтах, предназначенных для главной темы, с оригинальным аккомпанементом скрипок, флейт и гобоев. В руках у двух исполнителей я увидел цимбалы с металлическими струнами, по которым ударяют палочками; дека этого инструмента усиливает его своеобразные звуки, не похожие ни на какие другие.
Репертуар оркестра, более богатый, чем те, что мне довелось услышать в Париже, произвел большое впечатление. Все присутствующие слушали концерт с религиозной сосредоточенностью, а затем взрывались бурными аплодисментами. Так были встречены наиболее популярные пьесы, в частности «Песнь Ракош» и «Ракоци-марш»[573], которые цыгане исполнили в тот вечер с мастерством, способным вызвать восторженные отклики всей пусты!
Время, отведенное для концерта, истекло. Что касается меня, то я испытал величайшее наслаждение, находясь в окружении мадьяр и слыша — в те моменты, когда звуки оркестра затихали, — отдаленный плеск Дуная!
Я не осмелился бы утверждать, что Марк тоже был очарован этой странной музыкой. Его душу наполняла другая гармония, еще более сладкозвучная, более личная. Он сидел рядом с Мирой Родерих, они разговаривали взглядами, пели друг другу романсы без слов, упоительные для сердец обрученных.
Когда смолкли последние аплодисменты, руководитель цыган встал, остальные оркестранты последовали его примеру. Доктор Родерих и капитан Харалан поблагодарили музыкантов в самых лестных выражениях, которые их, видимо, очень тронули. Затем они ушли.
Между двумя частями программы был своего рода антракт. Гости встали с мест, нашли знакомых, образовали группы, некоторые разбрелись по ярко иллюминированному саду. Тем временем появились слуги с подносами, уставленными бокалами с прохладительными напитками.
До этого момента ничто не нарушало распорядок празднества, и не было никакого основания полагать, что, так хорошо начавшись, оно не закончится таким же образом. Если я чего-то и опасался, если у меня и родились какие-то сомнения, то теперь они полностью исчезли.
Поэтому я не скупился на лестные оценки, беседуя с госпожой Родерих.
— Благодарю вас, господин Видаль, — отвечала она. — Я счастлива, что наши гости провели здесь несколько приятных часов. Но среди этих радостно настроенных людей я вижу только свою дорогую дочь и вашего брата… Они так счастливы!..
— Госпожа Родерих! — проговорил я. — Вы заслужили это счастье… самое большое счастье, о котором могут мечтать отец и мать!
Эта довольно банальная фраза по какому-то странному предчувствию напомнила мне о Вильгельме Шторице. Что касается капитана Харалана, он, казалось, уже не думал о нем. Возможно, он просто очень хорошо владел собой?.. Не знаю… но он переходил от одной группы к другой, оживляя праздник своим заразительным весельем, и, наверное, не одна молодая венгерка смотрела на него с восхищением! Он был счастлив, потому что, можно сказать, весь город проявил в те часы искренние симпатии к его семье.
— Дорогой капитан, — сказал я, когда он проходил мимо, — если второй номер вашей программы так же хорош, как и первый…
— Не сомневайтесь! — воскликнул Харалан. — Музыка — хорошо, но танец — еще лучше!..
— Ну что ж! — продолжал я. — Француз не уступит мадьяру… Второй вальс вашей сестры за мной.
— А почему… не первый?
— Первый?.. Но он принадлежит Марку… по праву и по традиции!.. Разве вы забыли о Марке и хотите, чтобы я имел с ним дело?..
— Вы правы, дорогой Видаль. Бал должны открыть жених и невеста.
За цыганским оркестром последовал оркестр танцевальной музыки. Он разместился в глубине галереи. В кабинете доктора были расставлены столы с таким расчетом, чтобы важные гости, которым Положение не позволяло отплясывать мазурки и вальсы, могли вкусить удовольствие от карточной игры.
Однако новый оркестр не издал ни звука, ожидая знака капитана Харалана, когда со стороны галереи, дверь которой выходила в сад, раздался голос, еще отдаленный, но мощный и грубый. То была странная песнь с необычным ритмом, в какой-то неопределенной тональности, а между фразами не было никакой мелодической связности.
Пары, образовавшиеся для первого вальса, замерли… Все превратились в слух… Может быть, это был сюрприз, дополняющий программу вечера?..
Подошел капитан Харалан.
— Что это? — спросил я его.
— Не знаю, — ответил он тоном, в котором сквозило беспокойство.
— Быть может, что-то случилось на улице?..
— Нет, не думаю!
Действительно, тот, кому принадлежал голос, находился скорее всего в саду и приближался к галерее… возможно, был уже на пороге…
Капитан Харалан схватил меня за руку и увлек к двери гостиной.
В это время на галерее было примерно десять человек, не считая музыкантов оркестра, сидевших в глубине за пюпитрами. Другие приглашенные находились в гостиной и в зале. Те, кто раньше направился в сад, теперь возвратились.
Капитан Харалан остановился на крыльце… Я последовал за ним. Был хорошо виден весь сад, освещенный из конца в конец.
Никого.
В этот момент господин и госпожа Родерих присоединились к нам, и доктор спросил у сына:
— Известно ли, кто это?
Капитан Харалан отрицательно покачал головой.
Однако голос все приближался и продолжал звучать все более резко, более повелительно…
Марк, держа под руку мадемуазель Миру, подошел к нам. Госпожа Родерих ничего не могла сказать окружившим ее дамам.
— Сейчас я выясню! — воскликнул капитан Харалан, сбегая по ступенькам крыльца.
Доктор Родерих, несколько слуг и я последовали за ним.
Внезапно голос смолк, и пение прервалось в тот момент, когда поющий, как казалось, находился всего лишь в нескольких шагах от галереи.
Сад очень тщательно осмотрели… Иллюминация не оставила в тени ни одного уголка… и однако… никого.
Возможно ли, что голос доносился с бульвара Телеки и что принадлежал запоздалому прохожему?
Навряд ли. Впрочем, доктор Родерих самолично убедился, что бульвар в этот час совершенно пуст.
Только в пятистах шагах слева горел едва заметный свет, свет на бельведере дома Шторица. Когда мы вернулись на галерею, нас обступили гости. Со всех сторон посыпались вопросы, но за неимением ответа мы просто пригласили собравшихся к вальсу.
Первым это сделал капитан Харалан. Вновь образовались группы гостей.
— Что же, — спросила меня, смеясь, мадемуазель Мира, — вы выбрали себе партнершу?
— Моя партнерша — это вы, мадемуазель, но только для второго вальса…
— Тогда, дорогой Анри, — сказал мне Марк, — мы не заставим тебя ждать!
Оркестр только что закончил прелюдию одного из вальсов Штрауса, когда голос вновь зазвучал — на этот раз в середине гостиной…
Тогда к смятению, охватившему многих, добавилось чувство возмущения.
Чей-то громкий голос пел один из германских гимнов, «Песню ненависти» Георга Гервега[574]. Это был вызов мадьярскому патриотизму, прямое и преднамеренное оскорбление!
Того, чей голос гремел посередине гостиной, не было видно!.. Но он находился здесь, и никто не мог его видеть!..
Вальсирующие пары распались, и гости хлынули в зал и на галерею. Всех, особенно дам, охватило подобие паники.
Капитан Харалан был сам не свой, его глаза горели, а руки вытянулись так, словно он хотел схватить человека, ускользавшего от наших взглядов…
В этот момент голос остановился, закончив последний куплет «Песни ненависти».
И тогда сто человек увидели, как и я, то, что разум отказывался понимать…
Обручальный букет на консоле был грубо схвачен, разорван, и его растоптанные цветы усеяли паркет…
На этот раз чувство ужаса охватило всех присутствовавших!.. Никто не хотел оставаться там, где происходили такие странные вещи!.. Я спрашивал себя, не потерял ли я рассудок при виде всех этих фокусов.
Капитан Харалан подошел ко мне и, бледный от гнева, проговорил:
— Это Вильгельм Шториц!
Вильгельм Шториц?.. Уму непостижимо!
В это мгновение свадебный венец поднялся с подушки, пролетел через гостиную, затем через галерею — причем никто не мог видеть державшую его руку — и исчез в зеленых массивах сада.
VIII
Еще до рассвета слухи о происшедшем в особняке Родерихов распространились по городу. С утра газеты писали о случившемся без каких-либо преувеличений. Да и что можно было преувеличивать?.. Прежде всего, как я и ожидал, публика не хотела верить, что такие явления могли произойти естественным порядком. Однако все случилось именно так, а не иначе. Но можно ли было найти этому приемлемое объяснение?
Излишне говорить, что после таинственных происшествий празднество закончилось. Марк и Мира были глубоко огорчены. Растоптанный обручальный букет, свадебный венец, украденный у них на глазах, — какое плохое предзнаменование накануне свадьбы!
Утром толпы любопытных собрались перед особняком Родерихов. Горожане (в подавляющем большинстве — женщины) стекались на набережную Баттиани и останавливались под окнами первого этажа, которые не открывались со вчерашнего дня.
Люди оживленно обсуждали вчерашние события. Одни высказывали самые экстравагантные предположения, другие довольствовались тем, что с беспокойством посматривали на особняк.
В это утро госпожа Родерих и ее дочь впервые не присутствовали на мессе. Мира оставалась около матери, состояние которой после пережитого накануне вызывало опасения. Она нуждалась в полном покое.
В восемь часов дверь моей комнаты открылась — вошел Марк с доктором и капитаном Хараланом. Нам надо было посоветоваться и, возможно, принять некоторые безотлагательные меры. Лучше, чтобы разговор состоялся вне стен особняка Родерихов. Накануне мы вместе с братом вернулись в отель ночью, а с самого раннего утра Марк пошел узнать о состоянии здоровья госпожи Родерих и ее дочери. Затем по его предложению доктор и капитан Харалан поспешили вслед за ним в гостиницу.
Сразу же завязался разговор.
— Анри, — сказал Марк, — я распорядился никого не пускать. Здесь нас никто не может услышать, мы одни, совсем одни… в этой комнате!
В каком ужасном состоянии находился брат! Его лицо, еще вчера излучавшее счастье, было искажено и мертвенно-бледно. В целом он казался слишком удрученным, что, может быть, не соответствовало обстоятельствам.
Доктор Родерих всячески старался держать себя в руках. В этом отношении он отличался от своего сына, который, со сжатыми губами и помутненным взглядом, был, видимо, в самом мрачном расположении духа.
Я решил, что в такой ситуации постараюсь сохранить все свое хладнокровие, и первым делом осведомился о состоянии госпожи Родерих и ее дочери.
— Они обе потрясены вчерашними событиями, — ответил доктор, — и им потребуется несколько дней, чтобы прийти в себя. Правда, Мира, которая сначала была очень огорчена, собрала все силы и старается успокоить мать, более взволнованную, чем она сама. Надеюсь, что воспоминания об этом вечере скоро сотрутся из памяти, если только эти ужасные сцены не повторятся…
— Повторятся?.. — произнес я. — Этого нечего опасаться, доктор. Обстоятельства, при которых имели место эти явления, — как можно иначе их назвать? — так больше не сложатся…
— Кто знает? — проговорил в ответ доктор Родерих. — Кто знает? Поэтому я хочу, чтобы свадьба состоялась как можно скорее: мне кажется, что…
Доктор не закончил фразы, смысл которой был совершенно понятен. Что касается Марка, то он ничего не сказал, поскольку еще ничего не знал о последних действиях Вильгельма Шторица.
У капитана Харалана уже сложилось определенное мнение. Однако он хранил полное молчание, ожидая, по-видимому, что я скажу о вчерашнем.
— Господин Видаль, — продолжил доктор Родерих, — что вы думаете обо всем этом?
Я думал, что мне надлежит играть скорее роль скептика, не принимающего всерьез странности, свидетелями которых мы были, и уверить всех, что необъяснимое, далеко не всегда оказывается в конце концов экстраординарным, если можно так выразиться. Хотя, по правде говоря, просьба доктора ставила меня в затруднительное положение и я не мог отделаться просто уклончивым ответом…
— Господин Родерих, — сказал я, — признаюсь вам, что «все это», как вы выразились, не заслуживает, по-моему, длительного обсуждения. Перед нами всего лишь выходка злонамеренного шутника! Среди ваших гостей затесался какой-то мистификатор… Он позволил себе добавить к программе вечера постыдную сцену чревовещания… Вы знаете, как ловко теперь осуществляются подобные проделки…
Капитан Харалан повернулся и посмотрел мне прямо в глаза, словно для того, чтобы прочитать мои мысли… и его взгляд недвусмысленно означал: «Мы здесь не для того, чтобы выслушивать подобные объяснения!»
Впрочем, доктор заметил:
— Позвольте мне, господин Видаль, не верить, что речь идет о каком-то фокусе…
— Доктор, — возразил я, — я не могу предположить, что есть какая-то другая причина… если это только не вмешательство сверхъестественных сил, — что я лично отвергаю…
— Вмешательство естественных сил, — прервал меня капитан Харалан, — но связанных с не известными нам приемами…
— Однако, — продолжал настаивать я, — что касается услышанного нами вчера голоса, то это был явно человеческий голос, и почему не предположить, что это голос чревовещателя?..
Доктор Родерих покачал головой, без сомнения, в знак того, что совершенно не приемлет такое объяснение.
— Повторяю, — проговорил я, — нельзя исключить возможность, что какой-то незваный гость проник в гостиную… намереваясь задеть национальные чувства мадьяр… оскорбить их патриотизм исполнением «Песни ненависти», пришедшей из Германии!..
По крайней мере, это было единственно правдоподобное объяснение, если отбросить предположение о вмешательстве в дела семьи Родерих каких-то потусторонних сил. Но даже в этом случае имело место одно простое возражение. И его как раз высказал доктор:
— Если я соглашусь с вами, господин Видаль, что мистификатор, или, точнее, оскорбитель, проник в особняк и мы были свидетелями сцены с чревовещанием (во что я отказываюсь верить), то что вы скажете о разорванном букете и о венце, унесенном невидимой рукой?..
Действительно, невозможно было объяснить эти два инцидента действиями фокусника, каким бы ловким он ни был. Поэтому капитан Харалан добавил:
— Говорите же, дорогой Видаль. Это ваш чревовещатель разорил букет, уничтожив цветок за цветком, завладел венцом, пронес его через гостиные и украл как вор?
Я не ответил.
— Не будете же вы утверждать, — продолжал капитан, горячась, — что мы были жертвами какой-то галлюцинации?
Нет, конечно! Все произошло на глазах у сотни человек!
После нескольких минут всеобщего молчания, которые я не прерывал, доктор сказал в заключение:
— Примем вещи такими, какие они есть, и не будем стараться себя обманывать… Перед нами факты, которые не поддаются никакому естественнонаучному объяснению, но которые нельзя отрицать… Оставаясь, однако, реалистами, посмотрим, не захотел ли кто-то… не любитель глупых шуток, нет, а враг… испортить вечер обручения из чувства мести…
Именно так, возможно, следовало ставить вопрос.
— Враг? — воскликнул Марк. — Враг вашего или моего семейства, господин Родерих?.. У меня нет таких врагов!.. А у вас? У вас есть?
— Да, — утвердительно ответил капитан Харалан.
— И кто это?..
— Тот, кто раньше вас, Марк, просил руки моей сестры…
— Вильгельм Шториц?..
— Вильгельм Шториц!
Вот имя, которое я ждал услышать… имя того таинственного и подозрительного субъекта!
Тогда Марку рассказали о том, чего он еще не знал. Доктор поведал ему о визите Вильгельма Шторица к ним в дом за несколько дней до инцидента… Тот опять пришел свататься, несмотря на то, что прежде уже получил окончательный отказ, несмотря на то, что рука Миры Родерих уже обещана другому. Мой брат узнал о том, что доктор выставил вон незваного гостя, затем об угрозах со стороны наглого пруссака. Эти угрозы подкрепляли в определенной мере предположение о его участии в сценах вчерашнего вечера.
— И вы ничего не сказали мне обо все этом! — вскричал Марк. — Вы предупреждаете меня только сегодня… когда Мире грозит опасность!.. Ну что ж, этого Вильгельма Шторица я найду и сумею…
— Позвольте нам заняться этим, Марк, — произнес капитан Харалан. — Ведь он осквернил своим присутствием дом моего отца…
— Но он оскорбил мою невесту, — ответил Марк, который уже не мог сдержать себя.
Разумеется, они оба не помнили себя от гнева. Но гнев тут был плохим советчиком. Можно предполагать, что Вильгельм Шториц намерен отомстить семье Родерих и готов привести угрозы в исполнение. Но невозможно установить, что он участвовал во вчерашних сценах, что он лично играл в них какую-то роль. Нельзя на основании простых предположений обвинить его и сказать: «Вы были там вчера вечером, среди гостей. Вы оскорбили нас вашей “Песнью ненависти”… Вы уничтожили обручальный букет… Вы похитили брачный венец!» Никто не видел, никто!.. Все эти явления произошли без видимого вмешательства живого человека.
Я повторил это, настаивая, чтобы Марк и капитан Харалан учли мои соображения, логику которых признавал и доктор Родерих. Но они были слишком возбуждены, чтобы внять доводам разума, и хотели немедленно отправиться в дом на бульваре Телеки.
Наконец после долгих споров мы приняли единственно разумное решение. Я сделал следующее предложение:
— Друзья мои! Пойдемте в ратушу… сообщим о случившемся начальнику полиции, если он еще не в курсе дела… Объясним отношения этого немца с семьей Родерих, расскажем, как он угрожал Марку и его невесте, как утверждал, что обладает научными секретами, которых следует бояться. Очевидно, это чистое бахвальство… И тогда начальник полиции решит, какие меры можно принять в отношении этого иностранца!
Что можно было еще сделать в данной ситуации? Полиция в таких ситуациях действует более эффективно, чем частные лица.
Если бы капитан Харалан и Марк пришли к дому Шторица, дверь им, конечно, никто не открыл бы, поскольку ее никому не открывают. Неужели они попытались бы войти силой?.. По каком) праву?.. Но полиция может это сделать, и обращаться надо к ней, только к ней.
Итак, было решено, что Марк вернется в особняк Родерихов, а мы — доктор, капитан Харалан и я — пойдем в ратушу.
Было половина одиннадцатого. Весь Рагз, как я уже говорил, знал к тому времени о происшедшем накануне. Поэтому жители города быстро догадались, зачем доктор и его сын направляются к ратуше.
Когда мы открыли массивные двери, доктор передал свою визитную карточку начальнику полиции, и тот сразу же приказал провести нас в кабинет. Господин Генрих Штепарк был человеком небольшого роста, с энергичным лицом и проницательным взглядом. Он обладал незаурядным практическим умом, точностью суждений, очень тонкой интуицией, тем, что можно назвать высоким профессионализмом. Решая какую-нибудь задачу, он неоднократно проявлял завидную настойчивость в сочетании с большой компетентностью. Можно было быть уверенным, что он сделает все возможное, чтобы прояснить эту темную историю в особняке Родерихов. Вся загвоздка состояла в том, что полиции предстояло вторгнуться в сферу чего-то абсолютно неправдоподобного…
Начальник полиции был уже осведомлен о деталях этого дела, за исключением того, чтo знали только доктор, капитан Харалан и я.
Поэтому он сразу же сказал:
— Я ожидал вашего визита, господин Родерих, и, если бы вы не пришли в мой кабинет, я пришел бы к вам. Еще ночью я узнал, что в вашем особняке произошли странные вещи, вселившие в ваших гостей сильнейший страх, впрочем, вполне закономерный. Добавлю, что чувство ужаса охватило весь Рагз, и, на мой взгляд, город еще не скоро успокоится.
По этому вступлению мы поняли, что самое простое было бы дождаться вопросов господина Штепарка относительно семьи Родерих.
— Прежде всего мне хотелось бы знать, господин доктор, не навлекли ли вы на себя чью-либо ненависть и не думаете ли вы, что вследствие этой ненависти мог быть осуществлен акт мести по отношению к вашей семье и именно в связи со свадьбой мадемуазель Миры Родерих и господина Марка Видаля?
— Я так полагаю, — ответил доктор.
— И кто это может быть?
— Пруссак Вильгельм Шториц!
Это имя произнес капитан Харалан, не вызвав, как мне показалось, ни малейшего удивления у начальника полиции.
Потом капитан замолчал, дав возможность говорить своему отцу. Господину Штепарку было известно, что Вильгельм Шториц просил руки Миры Родерих. Но он не знал, что тот посватался вторично и, получив новый отказ, угрожал помешать свадьбе средствами, недоступными другим людям!..
— Он начал с того, что незаметно сорвал объявление о свадьбе, — произнес тогда господин Штепарк.
Все мы были того же мнения. Однако происшедшее продолжало оставаться необъяснимым, если только в дело не вмешалась «рука тени», как сказал бы Виктор Гюго! Такое возможно в воображении поэта! Но не в реальности — а полиция твердо стоит на земле. Своей грубой рукой она хватает за шиворот людей во плоти и крови! У нее нет привычки арестовывать привидения и призраки!.. Тот, кто сорвал объявление, уничтожил букет цветов, украл свадебный венец, был человеком; он вполне мог быть задержан, и его следовало задержать. Впрочем, господин Штепарк признал, что наши подозрения и предположения относительно Вильгельма Шторица были обоснованны.
— Этот субъект, — сказал он, — всегда казался мне подозрительным, хотя я никогда не получал на него жалоб. Он ведет уединенный образ жизни… Нам не известно, как и на что он живет! Почему он уехал из своего родного города Шпремберга?.. Почему он, пруссак из Южной Пруссии, поселился в стране мадьяр, проявляющих столь мало симпатии к его соотечественникам?.. Почему он заперся со своим старым слугой в доме на бульваре Телеки, куда никто никогда не входит?.. Повторяю, все это подозрительно… очень подозрительно…
— Что вы намерены делать, господин Штепарк? — спросил капитан Харалан.
— Поступим так, как диктуют обстоятельства, — ответил начальник полиции, — мы обыщем этот дом, может быть, найдем какие-нибудь документы… какие-нибудь улики…
— Но разве для обыска, — заметил доктор Родерих, — не требуется разрешения губернатора?
— Речь идет об иностранце… об иностранце, угрожавшем вашей семье, и вы можете не сомневаться, что его превосходительство даст такое разрешение!
— Губернатор был вчера на праздничном вечере, — сказал я начальнику полиции.
— Я это знаю, господин Видаль, и он уже вызывал меня к себе по поводу фактов, свидетелем которых был он сам.
— Он их как-то интерпретировал? — спросил доктор.
— Нет!.. Он не находил им никакого объяснения.
— Но, — сказал я, — когда он узнает, что в этом деле замешан Вильгельм Шториц…
— Тогда он тем более захочет во всем разобраться, — ответил господин Штепарк. — Будьте добры, подождите меня, господа. Я пойду в резиденцию губернатора и меньше чем через полчаса вернусь с разрешением произвести обыск в доме на бульваре Телеки…
— Мы будем вас сопровождать, — сказал капитан Харалан.
— Если вам угодно, капитан… и вы тоже, господин Видаль, — добавил начальник полиции.
— Что касается меня, — произнес доктор Родерих, — я оставлю вас с господином Штепарком и его агентами. Хочу поскорее вернуться в особняк, куда и вы придете после окончания обыска…
— И после ареста, если таковой произойдет, — заявил господин Штепарк и отправился в резиденцию губернатора.
Мне показалось, что он полон решимости провести эту операцию по-военному.
Доктор вышел одновременно с ним и направился в особняк, где должен был ждать нашего возвращения.
Мы с капитаном Хараланом остались в кабинете начальника полиции и изредка обменивались замечаниями. Значит, вскоре мы войдем в это подозрительное жилище!.. Но застанем ли его владельца?.. Я думал, сможет ли капитан Харалан обуздать свой гнев в присутствии Вильгельма Шторица.
Через полчаса появился господин Штепарк. Он принес разрешение на обыск и мандат на принятие всех необходимых мер в отношении иностранца.
— Теперь, господа, — сказал он, — прошу вас покинуть ратушу до меня. Я пойду с одной стороны, мои агенты — с другой, а через двадцать минут встретимся в доме Шторица. Вы согласны?..
— Согласны, — ответил капитан Харалан.
Выйдя из ратуши, мы спустились к набережной Баттиани.
IX
Господин Штепарк направился к северной части города, тогда как шесть его агентов по двое пошли по кварталам центра. Капитан Харалан и я, дойдя до конца улицы Иштвана II, повернули на набережную вдоль Дуная.
Погода была пасмурной. Сероватые тучи быстро двигались с востока по долине реки. Гонимые свежим ветром суда бороздили желтоватые воды, давая сильный крен. Пары аистов и журавлей с пронзительными криками устремлялись наперерез ветру. Еще было сухо, но тяжелые тучи грозили разрядиться проливными дождями.
Навстречу нам попадались редкие прохожие. Исключение составлял торговый квартал, который в этот час заполняла толпа горожан и крестьян. Если бы с нами были начальник полиции и его агенты, это могло привлечь внимание, и мы правильно сделали, что разделились на группы у ратуши.
Капитан Харалан продолжал хранить молчание. Я по-прежнему опасался, что если он встретит Вильгельма Шторица, то не сможет сдержать себя и совершит какое-нибудь насильственное действие. Я почти сожалел, что господин Штепарк разрешил нам участвовать в обыске.
Через четверть часа мы были в конце набережной Баттиани, на углу, где находился особняк доктора Родериха.
Ни одно из больших окон первого этажа не было открыто, как не были открыты и окна комнат госпожи Родерих и ее дочери. Какой контраст с тем оживлением, которое царило здесь вчера!
Капитан Харалан остановился, на мгновение задержав взгляд на спущенных жалюзи, потом тяжело вздохнул, сделал угрожающий жест рукой, но не произнес ни слова.
Завернув за угол, мы поднялись но правой стороне бульвара Телеки и остановились в ста шагах от дома Шторица.
Напротив с безразличным видом прогуливался человек, засунув руки в карманы.
Это был начальник полиции. Мы с Хараланом подошли к нему, как и было условлено. Через несколько минут появились шесть агентов в штатском и по сигналу господина Штепарка стали вдоль решетки дома.
Их сопровождал слесарь на тот случай, если дверь не откроют либо из-за нежелания ее открыть, либо из-за отсутствия хозяина или его слуги.
Окна дома, как всегда, были закрыты. Занавески бельведера, задернутые изнутри, закрывали стекла.
— Никого, видимо, нет, — сказал я господину Штепарку.
— Мы это сейчас узнаем, — ответил он. — Но меня удивило бы, если бы дом оказался пуст… Взгляните, видите дым из трубы слева?..
Действительно, из трубы вился тонкий черный дымок.
— Если хозяина нет дома, — добавил господин Штепарк, — возможно, здесь находится слуга; и не важно, кто из них откроет нам дверь.
Учитывая присутствие капитана Харалана, я, со своей стороны, предпочел бы, чтобы хозяина не было дома и чтобы вообще он уехал из Рагза.
Начальник полиции потянул за шнурок звонка у верхней части решетки.
Мы ждали, что кто-нибудь появится или что дверь откроют изнутри дома.
Прошла минута. Никого. Новый звонок у двери… и опять без всякого результата.
— В этом доме, должно быть, плохо слышат! — заметил господин Штепарк. Затем он повернулся к слесарю: — Приступайте!
Слесарь нашел в своей связке ключей отмычку, и едва язычок замка коснулся замочной скважины, как дверь открылась.
Начальник полиции, капитан Харалан и я, а также четверо полицейских (двое других остались снаружи) вошли во двор.
В глубине двора крыльцо с тремя ступеньками вело к входной двери, запертой, как и вход в ограду.
Господин Штепарк дважды постучал тростью.
Ответа не последовало. Внутри дома не было слышно ни малейшего шума.
Слесарь поднялся на крыльцо и вставил один из своих ключей в замочную скважину. Если Вильгельм Шториц, заметив полицейских, захотел помешать им войти, то дверь могла быть заперта на несколько оборотов, а также на задвижку. Но нет, замок Щелкнул, и дверь открылась.
Впрочем, появление полиции не привлекло внимания. Только Двое или трое прохожих остановились. В то туманное утро мало кто Прогуливался по бульвару Телеки.
— Войдем, — сказал господин Штепарк.
Коридор был освещен одновременно и зарешеченной фрамугой над дверью, и, в глубине, витражом второй двери, выходившей в небольшой сад.
Начальник полиции сделал несколько шагов по коридору и громко крикнул:
— Эй!.. Есть здесь кто-нибудь?!
Ответа не последовало даже тогда, когда он повторил еще раз эти слова. В доме не было слышно ни звука, если не считать какого-то непонятного шума вроде скольжения в одной из боковых комнат.
Господин Штепарк дошел до конца коридора. Я следовал за ним, за мной шел капитан Харалан.
Один из полицейских остался караулить на крыльце.
Открыв дверь, мы смогли окинуть взглядом весь сад. Он занимал площадь примерно в двести метров и был окружен стенами. В центре находилась лужайка, которую давно уже не косили. Ее застилала длинная полузасохшая трава. Вдоль высоких стен росло пять или шесть деревьев; их верхушки, должно быть, возвышались над бруствером[575] старинных укреплений.
Все говорило о неопрятности или заброшенности.
Сад осмотрели; полицейские там никого не обнаружили, хотя по аллеям кто-то недавно ходил.
Окна с этой стороны, за исключением последнего окна второго этажа, через которое на лестницу падал дневной свет, были закрыты наружными ставнями.
— Эти люди должны вскоре вернуться, — заметил начальник полиции, — поскольку дверь заперта лишь на один поворот ключа… если только их что-нибудь не насторожит…
— Вы думаете, они что-то заподозрили?.. — произнес я. — Вряд ли. Скорее, все-таки они вернутся с минуты на минуту!
Но господин Штепарк с сомнением покачал головой.
— Впрочем, — добавил я, — дым из трубы доказывает…
— Доказывает, что где-то есть огонь… Поищем огонь, — ответил начальник полиции.
Убедившись, что сад, как и двор, пуст и там невозможно спрятаться, господин Штепарк попросил нас вернуться в дом, и дверь коридора закрыли.
В этот коридор выходили двери четырех комнат. Одна из них (со стороны сада) служила кухней, другая была лишь площадкой лестницы, которая вела на второй этаж, а затем на чердак.
Обыск начался с кухни. Один из полицейских открыл окно, которое пропускало лишь тусклый свет, и наружные ставни с узким ромбовидным отверстием.
Кухня была обставлена крайне просто, даже примитивно: чугунная печь с трубой под навесом широкого камина; с каждой стороны — по шкафу; посередине — стол, покрытый клеенкой, два соломенных стула и две деревянные табуретки; на стенах — кухонная: утварь; в углу равномерно тикали настенные часы, — судя по положению гирь, их завели вчера.
В печи еще горело несколько кусков угля, от него и шел дым, который мы видели снаружи.
— Вот кухня, — произнес я, — а где же повар…
— И его хозяин, — добавил капитан Харалан.
— Продолжим наши поиски, — сказал господин Штепарк.
Мы осмотрели две другие комнаты первого этажа, выходившие во двор. Одна из них — гостиная — была обставлена старинной мебелью с потертой местами обивкой немецкого производства. На полочке камина с толстой железной подставкой для дров стояли у часы в стиле рококо довольно дурного вкуса; их остановившиеся; стрелки и пыль на циферблате свидетельствовали о большой неаккуратности хозяев. На одной из панелей, напротив окна, висел портрет в овальной рамке. Дощечка с надписью красными буквами гласила: «Отто Шториц».
Мы смотрели на это полотно, отличавшееся энергичным рисунком и яркими красками. Хотя и подписанное неизвестным именем, оно представляло собой настоящее художественное произведение.
Капитан Харалан не мог оторвать глаз от этого холста.
На меня тоже лицо Отто Шторица произвело сильное впечатление. Способствовало ли этому мое тогдашнее умонастроение?.. Испытывал ли я невольно влияние среды? Не знаю. Но здесь, в этой заброшенной гостиной, ученый представлялся мне фантастическим существом, персонажем из книг Гофмана — Даниэлем из «Замурованной двери», Деннером из «Короля Трабаккио», «Песочным человеком» из «Мастера Коппелиуса»[576]. На портрете он был словно живой: с могучей головой, всклокоченными седыми волосами, огромным лбом, горящими как уголья глазами, ртом со вздрагивающими губами; мне представилось, что вот сейчас он выскочит из своей рамы и воскликнет голосом, пришедшим из потустороннего мира: «Что вы здесь делаете, незваные гости?! Подите прочь!»
Окно гостиной, закрытое жалюзи, пропускало дневной свет. Нам не было необходимости его открывать, и мы его не открыли. Быть может, поэтому портрет выглядел так странно и производил такое сильное впечатление?
Начальника полиции, казалось, больше всего поразило сходство между Отто и Вильгельмом Шторицами.
— Если бы не разница в возрасте, — сказал он мне, — этот портрет мог бы быть портретом как отца, так и сына: те же глаза, тот же лоб, та же голова на широких плечах и то же дьявольское лицо!.. Так и хочется изгнать нечистую силу и из того, и из другого…
— Да, — произнес я, — сходство поразительное!..
Капитан Харалан стоял как пригвожденный перед полотном, словно это был сам портретируемый.
— Вы идете, капитан? — спросил я его.
Он обернулся и пошел за нами.
Из гостиной по коридору мы прошли в соседнюю комнату. Это был рабочий кабинет, там царил полный беспорядок. Некрашеные деревянные полки были загромождены книгами, по большей части не переплетенными; в основном это были труды по математике, химии и физике. В одном из углов находились какие-то инструменты, аппараты, механизмы, банки, портативная плита, набор батареек, катушка Румкорфа[577], один из электрических горнов системы Муассана[578], который доводит температуру до 4000–5000 градусов, несколько реторт и перегонных аппаратов, образцы металлов и металлоидов, объединенных под названием «редкоземельные элементы»[579], небольшой ацетиленовый газгольдер[580], питающий висящие в разных местах лампы. Посреди комнаты стоял стол с грудой бумаг, канцелярскими принадлежностями и тремя или четырьмя томами полного собрания сочинений Отто Шторица, раскрытыми на главе, где речь шла о рентгеновских лучах.
Обыск в рабочем кабинете не принес никаких новых сведений. Мы уже собирались уходить, когда господин Штепарк заметил на камине странной формы склянку голубоватого цвета. Сбоку была приклеена этикетка, а через пробку проходила трубка, закупоренная куском ваты.
Господин Штепарк — то ли просто из любопытства, то ли следуя инстинкту полицейского — протянул руку, чтобы взять склянку и рассмотреть ее поближе. Возможно, он сделал какое-то неловкое движение, но стоявшая у края камина склянка упала как раз в тот момент, когда он собирался ее взять, и разбилась о пол.
Разлился раствор желтоватого цвета. Эта чрезвычайно летучая жидкость превратилась в пар со специфичным слабым запахом, не похожим ни на какой другой, таким слабым, что наше обоняние едва его улавливало.
— Черт возьми, — сказал господин Штепарк, — эта склянка упала вовремя…
— В ней, по-видимому, был какой-то состав, изобретенный Отто Шторицем… — проговорил я.
— Сын, должно быть, знает его формулу и сумеет приготовить все заново! — сказал мне в ответ господин Штепарк.
Затем, направляясь к двери, он произнес:
— Пойдемте на второй этаж.
Прежде чем покинуть первый этаж, господин Штепарк приказал двум полицейским остаться в коридоре.
В глубине особняка, с другой стороны кухни, находилась лестница с деревянными перилами и скрипящими ступеньками.
На лестничную площадку выходили две смежные комнаты. Их двери не были заперты на ключ, и, чтобы войти, достаточно было повернуть медную ручку.
Первая комната, расположенная над гостиной, была, очевидно, спальней Вильгельма Шторица. Там находились только железная кровать, ночной столик, дубовый шкаф для белья, туалетная тумбочка на медных ножках, диван, кресло, обитое толстым утрехтским[581] бархатом, два стула. И кровать, и окна — без занавесок. Словом, меблировка была сведена к необходимому минимуму. Никаких бумаг ни на камине, ни на круглом столике, стоявшем в одном из углов комнаты, мы не обнаружили. Постель была еще разобрана в этот утренний час, оставалось только гадать, спал ли кто на ней ночью.
Однако, подойдя к туалетной тумбочке, господин Штепарк обратил внимание, что на поверхности воды в тазике плавало несколько мыльных пузырей.
— Если предположить, — проговорил начальник полиции, — что с тех пор, как пользовались этой водой, прошло двадцать четыре часа, мыльные пузыри уже растворились бы… Из этого я заключаю, что интересующий нас субъект занимался здесь своим туалетом сегодня утром, перед тем как выйти из дома.
— Поэтому возможно, — сказал я, — что он вернется… если только не заметит ваших полицейских…
— Если он увидит моих агентов, они тоже увидят его, а им дан приказ — доставить его ко мне. Но я сомневаюсь, что он даст себя взять!..
В этот момент раздался какой-то шум, подобный скрипу плохо подогнанного паркета под тяжестью шагов. Казалось, что шум доносился из соседней комнаты, расположенной над рабочим кабинетом.
Спальня сообщалась с этой комнатой специальной дверью, что при переходе из одной комнаты в другую избавляло от необходимости выходить на лестничную площадку.
Капитан Харалан, опережая начальника полиции, бросился к двери, рывком открыл ее…
Никого, никого!
В конце концов, шум мог доноситься с верхнего этажа, то есть с чердака, имевшего выход на бельведер.
Вторая комната была обставлена более бедно, чем первая: тут находились складная брезентовая кровать, продавленный от длительного пользования матрац, грубые простыни, шерстяное одеяло, два разных стула; на камине, в котором не было и следов пепла, стоял кувшин с водой и глиняный тазик; на вешалке — несколько носильных вещей из толстой грубой ткани; в комнате был еще ларь или, скорее, дубовый сундук, служивший одновременно шкафом и комодом, в нем господин Штепарк обнаружил довольно значительное количество белья.
Это была, разумеется, комната старого слуги, Германа. Впрочем, начальник полиции знал по донесениям своих агентов, что если окно первой спальни иногда открывалось для проветривания, то окно второй комнаты, выходившее тоже во двор, всегда оставалось закрытым. Это было видно и по оконной задвижке весьма сложного устройства, и по заржавевшим железным жалюзи.
Во всяком случае, комната Германа была пуста. Если окажутся пустыми чердак, бельведер и погреб под кухней, то можно смело утверждать, что хозяин и слуга ушли из дома, очевидно, с намерением больше не возвращаться.
— Вы не думаете, — спросил я господина Штепарка, — что Вильгельм Шториц знал о предстоявшем обыске?..
— Нет, господин Видаль, если он не спрятался в моем кабинете или в кабинете его превосходительства, когда мы разговаривали об этом деле!
— Когда мы пришли на бульвар Телеки, возможно, нас заметили…
— Согласен… Но как эти двое вышли из дома?
— Выбравшись на пустырь… через черный ход…
— Стены сада слишком высоки, а с другой стороны пролегает ров укреплений, через который невозможно перейти…
Итак, по мнению начальника полиции, еще до нашего прихода Вильгельма Шторица и Германа дома уже не было.
Мы вышли из комнаты через дверь лестничной площадки и быстро поднялись на третий этаж, где лестница заканчивалась.
Здесь был только чердак, протянувшийся от одного шпица до Другого. Свет сюда проникал через узкие форточки в крыше. С первого же взгляда стало ясно, что никто здесь не спрятался.
В центре чердака довольно крутая приставная лестница вела на бельведер, занимавший почти всю верхнюю часть дома. На него можно было попасть через люк, который откидывался с помощью противовеса.
— Люк открыт, — сказал я начальнику полиции, который уже ступил на лестницу.
— Действительно, господин Видаль. И поэтому-то здесь гуляют сквозняки… Сегодня сильный ветер!.. Флюгер скрипит на крыше!.. Мы ведь слышали…
— Однако, — заметил я, — мне казалось, что это был скорее скрип пола от шагов…
— Кто же мог ходить, раз никого тут нет…
— Может быть, наверху… господин Штепарк?..
— В этой воздушной клетке?.. Невероятно. Никого нет — ни здесь, ни в других помещениях дома!
Капитан Харалан, молча слушавший мой разговор с начальником полиции, проговорил, указывая на бельведер:
— Поднимемся!
Господин Штепарк первым поднялся по лестнице с помощью толстой веревки, свисавшей до пола.
Капитан Харалан, а затем и я последовали за ним. Можно было предполагать, что в этом узком пространстве поместилось бы не больше трех человек.
Действительно, это была своего рода квадратная клетка восьми футов в ширину и длину, высотой примерно в десять футов.
Там было довольно темно, хотя в пазы стоек, прочно закрепленных между балками крыши, были вделаны стеклянные перегородки.
Темнота объяснялась тем, что, как мы и заметили снаружи, были спущены толстые шерстяные занавеси. Но, как только их подняли, свет широкой волной хлынул через стеклянные стенки.
С четырех сторон бельведера взгляд мог охватить весь Рагз. Ничто не мешало обзору, более широкому, чем с террасы особняка Родерихов, однако меньшему, чем с замковой башни и башни Св. Михаила.
Я вновь увидел Дунай в конце бульвара, южную часть города, над которой господствовали дозорная вышка ратуши, шпиль собора, башня на холме Вольфанга. Вокруг простирались зеленые луга пусты, окаймленные вдалеке горами.
Спешу сказать, что на бельведере, как и повсюду в доме, не было никого! Господину Штепарку пришлось признать: этот полицейский десант не дал никакого результата и мы пока ничего не узнали о тайнах особняка Шторица.
Я сначала подумал, что бельведер служит для астрономических наблюдений и что здесь находятся приборы для изучения неба. Но нет. Там были только стол и деревянное кресло.
На столе лежали какие-то бумаги, и среди них — номер «Винер экстраблатт», где я прочитал статью о годовщине смерти Отто Шторица.
Несомненно, именно здесь его сын проводил часы досуга после работы в кабинете или, точнее, в лаборатории. Во всяком случае, он прочел эту статью, так как на ней — наверняка его рукой — красным карандашом был поставлен крест.
Вдруг послышалось громкое восклицание, полное удивления и ярости.
Капитан Харалан заметил на полочке, прибитой к одной из стенок, картонную коробку и сразу открыл ее… И что же он оттуда извлек?..
Свадебный венец, похищенный во время помолвки в особняке Родерихов!
X
Итак, по поводу вмешательства Вильгельма Шторица в ход событий, происшедших в особняке Родерихов, сомнений уже не оставалось! У нас была теперь материальная улика, а не просто предположения. Кто бы ни был виновником случившегося — сам Вильгельм Шториц или кто другой, — стало ясно, что, по крайней мере, он замешан в похищении венца, хотя мы и не могли объяснить сути дела!..
— Вы все еще сомневаетесь, дорогой Видаль? — воскликнул капитан Харалан дрожащим от гнева голосом.
Господин Штепарк молчал, хорошо понимая, что в этом странном деле еще много неясного. Действительно, хотя виновность Вильгельма Шторица бросалась в глаза, мы не знали, какие средства он использовал и сможет ли полиция, продолжая расследование, когда-либо их установить…
Хотя капитан Харалан обращался непосредственно ко мне, я ему ничего не ответил. Да и что можно было сказать?..
— Разве не он, этот мерзавец, — продолжал капитан, — оскорбил нас своей «Песнью ненависти», надругавшись над патриотическими чувствами мадьяр?.. Вы его не видели, но вы его слышали!.. Он был там, говорю я вам!.. Он был в середине гостиной!.. И я не хочу, чтобы остался хоть один лепесток от венца, оскверненного его рукой!..
Господин Штепарк остановил Харалана, когда он собирался разорвать венец.
— Не забывайте, что это улика, — сказал начальник полиции, — и она еще может пригодиться, если, как я полагаю, у этого дела будет продолжение!
Капитан Харалан отдал ему венец. Мы спустились по лестнице, осмотрев еще раз — безрезультатно — все комнаты дома.
Двери крыльца и решетки были заперты на ключ, и мы покинули дом в таком же состоянии заброшенности, в каком его нашли. Однако, по приказу господина Штепарка, двое полицейских на бульваре продолжали оставаться на посту.
Распрощавшись с господином Штепарком, взявшим с нас слово сохранять в тайне проведенный обыск, мы с капитаном Хараланом вернулись в особняк Родерихов.
Мой спутник не мог уже сдерживаться, и его гнев выражался в яростных словах и жестах. Все попытки успокоить его были бы тщетны. Впрочем, я надеялся, что Вильгельм Шториц уехал или уедет из города, когда узнает, что его дом подвергся обыску и что свадебный венец, который он украл — или приказал украсть (одно из двух), — находится в руках полиции.
Поэтому я просто сказал:
— Дорогой Харалан, понимаю ваш гнев… Понимаю, что вы не хотите оставить безнаказанным этого наглеца. Но не забудьте, что господин Штепарк просил ничего никому не говорить о венце, найденном в доме Шторица…
— А мой отец… а ваш брат… Разве они не будут интересоваться результатами обыска?..
— Несомненно, и мы им ответим, что не застали Вильгельма Шторица… что его, очевидно, уже нет в Рагзе… Это, впрочем, мне кажется вполне вероятным!
— Вы не скажете, что у него в доме был найден венец?..
— Скажу… Они должны знать, но излишне говорить об этом госпоже Родерих и ее дочери… Зачем причинять им еще большее беспокойство, произнося имя Вильгельма Шторица?.. Что касается венца, я сказал бы, что его нашли в саду особняка, и возвратил бы его вашей сестре!..
— Что!.. — вскричал капитан Харалан. — После того, как этот субъект…
— Да… Я уверен, что мадемуазель Мира будет счастлива получить обратно венец!..
Капитан Харалан, несмотря на свое отвращение, понял мои доводы, и было условлено, что я пойду за венцом к господину Штепарку, который, надо надеяться, не откажется мне его передать. Мне хотелось как можно скорее увидеть брата, все ему рассказать. Но больше всего я желал, чтобы его свадьба поскорее состоялась.
Как только мы пришли в особняк, слуга проводил нас в кабинет, где находились доктор и Марк. Их нетерпение было столь велико, что они начали задавать вопросы еще до того, как мы переступили порог кабинета.
Как же они были удивлены и возмущены, когда узнали, что произошло в доме на бульваре Телеки!
Мой брат никак не мог взять себя в руки. Как и капитан Харалан, он хотел наказать Вильгельма Шторица еще до вмешательства правосудия.
— Если его нет в Рагзе, — вскричал Марк, — значит, он в Шпремберге!
Мне вместе с доктором пришлось приложить немало усилий, чтобы его успокоить.
Я напирал на то, что Вильгельм Шториц, несомненно, уже уехал из города или поспешит это сделать, как только узнает об обыске в его доме. А то, что он укрылся в Шпремберге, маловероятно. Его, видимо, не найдут ни там, ни в другом месте.
— Дорогой Марк, — сказал доктор, — послушайтесь советов вашего брата, и не будем больше касаться этого вопроса, столь тяжкого для нашей семьи. Если постоянно не говорить о случившемся, то скоро все забудется…
На моего брата было жалко смотреть. Он стиснул голову руками, и было видно, что его сердце разрывается от боли. Я чувствовал, как глубоко он страдает! И дорого бы дал, чтобы поскорее прошли несколько дней и Мира Родерих стала бы наконец Мирой Видаль!
Затем доктор добавил, что он сможет увидеть губернатора Рагза. Вильгельм Шториц — иностранец, и его превосходительство без каких-либо колебаний издаст распоряжение о его высылке. Нужно принять срочные меры, чтобы не допустить повторения событий, имевших место недавно, даже если мы не можем дать им удовлетворительного объяснения. Что касается хвастливых заявлений Вильгельма Шторица, будто он обладает сверхчеловеческими возможностями, никто не принимал их во внимание.
Я изложил свои доводы в пользу того, чтобы случившееся сохранялось в полной тайне от госпожи Родерих и ее дочери. Они не должны были знать ни об обыске в доме Вильгельма Шторица, ни о том, что его участие в известных событиях уже не может быть поставлено под сомнение.
Мое предположение о свадебном венце было принято. Марк якобы случайно нашел его в саду особняка. Все это были дескать проделки какого-то любителя глупых шуток, который в конце концов будет найдет и должным образом наказан.
В тот же день я вернулся в ратушу и сообщил господину Штепарку, чтo мы решили относительно венца. Он тут же мне его передал.
Вечером мы были в гостиной вместе с госпожой Родерих и ее дочерью, когда Марк, отлучившись на некоторое время, вернулся со словами:
— Мира… моя дорогая Мира… посмотрите, что я вам принес!
— Мой венец… мой венец!.. — вскричала Мира, бросившись к моему брату.
— Этот венец… Марк? — произнесла госпожа Родерих голосом, дрожащим от волнения.
— Да… — проговорил Марк, — …там… в саду… в саду… Я нашел его в зарослях, где он упал…
— Но… как… как?.. — повторяла госпожа Родерих.
— Как?.. — промолвил доктор. — Кто-то проник сюда вместе с нашими гостями… Главное… вот он…
— Спасибо… спасибо, мой дорогой Марк, — произнесла Мира, и у нее по щеке покатилась слеза.
В последующие дни никаких новых событий не произошло. Город вновь обрел свое обычное спокойствие. Об обыске в доме на бульваре Телеки не просочилось никаких сведений, и еще никто не произносил имени Вильгельма Шторица. Оставалось только терпеливо (или, скорее, с нетерпением) ждать дня свадьбы Марка и Миры Родерих.
Все время, оставшееся у меня после общения с братом, я проводил в прогулках по окрестностям Рагза. Иногда меня при этом сопровождал капитан Харалан. Тогда, направляясь из города, мы обычно проходили по бульвару Телеки. И подозрительный дом словно притягивал нас. Впрочем, таким образом мы убеждались, что он все так же пуст… И что за ним по-прежнему ведется наблюдение… Да, дежурили здесь днем и ночью двое полицейских, и, если бы Вильгельм Шториц появился, полиция была бы немедленно оповещена о его возвращении и тут же арестовала бы его.
Впрочем, у нас появилось доказательство того, что он отсутствует и что, по крайней мере, сейчас его невозможно встретить на улицах Рагза.
Действительно, в номере от 9 мая газета «Пештер Ллойд» напечатала статью о состоявшейся несколько дней тому назад в Шпремберге церемонии, посвященной годовщине смерти Отто Шторица. Я поспешил передать эту статью Марку и капитану Харалану.
Церемония привлекла значительное число зрителей — не только шпрембергцев, но и тысяч любопытных из соседних городов и даже из Берлина. Кладбище не могло вместить такое количество народа, вокруг него собралась большая толпа. Из-за давки немало людей было покалечено, несколько человек погибли и на следующий день нашли себе на кладбище место, которого им недоставало накануне.
Люди не забыли тайны, окружавшей жизнь и смерть Отто Шторица. Каждый суеверный человек ждал, что в эту годовщину произойдут какие-то чудеса. Ждали по меньшей мере, что прусский ученый выйдет из могилы и с этого момента мировой порядок будет существенно нарушен… Земля, изменив свое движение, станет вращаться с востока на запад. И это анормальное вращение приведет к полному хаосу в Солнечной системе!.. Так, в частности, выражался репортер газеты. Однако в целом все произошло самым обычным образом… могильный камень не сдвинулся с места… мертвец не поднялся из гроба… и Земля продолжала двигаться по неизменным правилам, установленным от века!..
Но главное внимание мы обратили на ту часть сообщения газеты, где говорилось, что на церемонии в память Отто Шторица присутствовал его сын. Это еще раз доказывало, что он уехал из Рагза… Я надеялся, что Вильгельм Шториц принял окончательное решение никогда сюда не возвращаться. Можно было все же опасаться, что Марк и капитан Харалан захотят отправиться в Шпремберг!.. Что касается моего брата, то, быть может, мне удастся его образумить! Ведь было бы безумием уехать накануне женитьбы… Но капитан Харалан… Я решил не спускать с него глаз и в случае необходимости использовать авторитет его отца.
Хотя шум вокруг семьи Родерих заметно поутих, губернатор Рагза все еще был обеспокоен. Проделки фокусника, мистификатора или какого-то другого злоумышленника сильно растревожили город, и нужно было предотвратить их повторение.
Поэтому не стоит удивляться, что его превосходительство очень серьезно отнесся к сообщению начальника полиции о поведении Вильгельма Шторица в отношении семьи Родерих… и о его угрозах!
Узнав о результатах обыска, губернатор решил принять меры. В конце концов, была совершена кража либо самим этим иностранцем, либо его соучастником… Значит, если бы он не уехал из Рагза, его арестовали бы. И, оказавшись за тюремными стенами, он вряд ли смог бы выбраться из заточения так же легко, как из гостиных особняка Родерихов!
В тот день между его превосходительством и господином Штепарком состоялся следующий разговор:
— Есть ли у вас что-нибудь новое?..
— Ничего, господин губернатор.
— Есть ли сведения о том, что Вильгельм Шториц вернулся в Рагз?..
— Нет.
— Его дом по-прежнему под наблюдением?..
— Днем и ночью.
— Об этом деле, — продолжал губернатор, — мне пришлось написать в Будапешт. Оно вызвало слишком большой шум. Мне предложено принять меры, чтобы побыстрей поставить на всей этой истории точку.
— Пока Вильгельм Шториц вновь не появится в Рагзе, — заметил начальник полиции, — его нечего опасаться, а нам известно из надежного источника, что еще несколько дней тому назад он находился в Шпремберге…
— Действительно, господин Штепарк, он был на поминальной церемонии!.. Но весьма вероятно, что он захочет вернуться сюда, и этому надо помешать.
— Нет ничего проще, господин губернатор. Поскольку речь идет об иностранце, будет достаточно распоряжения о высылке…
— Распоряжения, — подхватил губернатор, — которое запретит его пребывание не только в городе Рагзе, но и на всей территории империи.
— Как только у меня будет такое распоряжение, — произнес начальник полиции, — я с ним ознакомлю все пограничные посты.
Короче говоря, это распоряжение запрещало немцу Вильгельму Шторицу появляться на территории империи. Затем его дом был заперт, а ключи передали в управление начальника полиции.
Такие меры должны были успокоить доктора, его семью и его друзей. Но мы еще не проникли в тайны этого дела, и кто знает, удастся ли когда-нибудь их разгадать!
XI
Долгожданный день свадьбы приближался. Он наступит послезавтра, 15 мая, когда солнце взойдет над горизонтом Рагза.
Я отмечал с глубоким удовлетворением, что у Миры при всей ее впечатлительности не сохранилось, по-видимому, воспоминаний об описанных выше досадных инцидентах. Впрочем, подчеркну, что имя Вильгельма Шторица ни разу не было произнесено ни при ней, ни в присутствии ее матери.
Мира мне полностью доверяла. Она делилась со мной своими планами на будущее, хотя и не была уверена, что они осуществятся. Будут ли они с Марком жить во Франции? Возможно, но не сразу… Расставание с отцом, с матерью было бы для нее очень тягостным…
— Но, — говорила она, — пока речь идет только о том, чтобы провести несколько недель в Париже, куда вы будете нас сопровождать, не так ли?!
— Если вы не имеет ничего против!
— Дело в том… что молодожены — довольно скучная компания в путешествии…
— Постараюсь привыкнуть! — сказал я смиренным тоном.
Впрочем, доктор одобрял такое решение. В любом случае молодоженам лучше было уехать из Рагза на месяц или два. Конечно, госпожа Родерих будет очень огорчена отъездом дочери, но она найдет в себе силы пережить разлуку.
Когда Марк был около Миры, он, со своей стороны, все забывал или, скорее, хотел все забыть. Правда, находясь со мной, он вновь испытывал опасения, и я тщетно пытался их развеять. Он постоянно спрашивал:
— Ты не узнал ничего нового, Анри?..
— Ничего, дорогой Марк, — так же неизменно отвечал я, и это была чистейшая правда.
Однажды он добавил:
— Если ты что-нибудь узнаешь… ну, в городе… или через господина Штепарка… если ты услышишь о…
— Я тебя предупрежу, Марк.
— Я на тебя рассержусь, если ты скроешь от меня…
— Ничего я от тебя не скрою… но уверяю тебя, что это дело уже никого не интересует!.. Никогда город не был так спокоен!.. Одни занимаются своими делами, другие — удовольствиями, и котировки на бирже держатся на высоком уровне!
— Ты шутишь, Анри…
— Хочу доказать тебе, что у меня нет никаких опасений!
— И однако, — проговорил Марк с помрачневшим видом, — если этот человек…
— Нет!.. Он знает, что будет арестован, если вернется в Рагз. А в Германии множество ярмарок, где он может демонстрировать свои таланты фокусника!
— Таким образом… эти возможности… о которых он говорит…
— Это годится только для глупца!
— Ты в них не веришь?..
— Так же, как и ты! Итак, дорогой Марк, считай дни, часы, минуты, которые остались до знаменательного дня!.. Лучшего занятия не придумаешь, и начинай считать снова, когда дойдешь до конца!
— Ах, мой друг!.. — вскричал Марк, сердце у которого, должно быть, учащенно билось.
— Ты ведешь себя как мальчишка, Марк. Мира более благоразумна, чем ты!
— Это потому, что она не знает того, что знаю я…
— А что ты знаешь?.. Я тебе скажу! Ты знаешь, что этого субъекта уже нет в Рагзе, что он не может сюда вернуться… что мы никогда его больше не увидим, слышишь… и если этого недостаточно, чтобы тебя успокоить…
— Что ты хочешь, Анри, у меня предчувствия… Мне кажется…
— Это безрассудство, бедный Марк!.. Послушай… Поверь мне… Вернись в особняк к Мире…
— Да… Мне не следует оставлять ее одну… даже на мгновение.
Бедный брат! Мне было больно смотреть на него! Его опасения возрастали по мере приближения дня свадьбы. И по правде говоря, я сам ждал эту дату с величайшим нетерпением! Но если — чтобы успокоить брата — я мог рассчитывать на Миру, на ее влияние, то в отношении капитана Харалана я не знал, как поступить.
Читатель не забыл, что в тот день, когда газета «Пештер Ллойд» сообщила, что Вильгельм Шториц находится в Шпремберге, мне стоило большого труда отговорить капитана от поездки в этот город. Шпремберг расположен только в восьмистах километрах от Рагза… За сутки он мог бы туда добраться… В конце концов нам удалось удержать его. Но несмотря на наши доводы о необходимости предать забвению это дело, он все время к нему возвращался, и я боялся, что храброму мадьяру удастся от нас ускользнуть.
В то утро он пришел ко мне, и с самого начала разговора я понял, что он решил ехать.
— Вы этого не сделаете, дорогой Харалан, — произнес я, — вы этого не сделаете!.. Ведь ваша встреча с этим пруссаком… Нет… теперь это невозможно!.. Умоляю вас не уезжать из Рагза.
— Дорогой Видаль!.. Нужно наказать этого мерзавца.
— Он будет наказан рано или поздно! — воскликнул я. — Да, он будет наказан!.. Единственная рука, которая должна его схватить и поставить перед судом, — это рука полиции!.. Вы хотите уехать, а ваша сестра?.. Прошу вас… Послушайте меня как друга… Через два дня состоится свадьба… а вы не успеете к тому времени вернуться в Рагз…
Капитан Харалан понимал, что я прав, но не хотел сдаваться.
— Дорогой Видаль, — ответил он тоном, показывавшим, что у меня было мало надежды его переубедить, — мы с вами не видим… не можем видеть вещи одинаково… Моей семье, которая вскоре станет семьей и вашего брата, нанесены оскорбления, и за эти оскорбления я должен отомстить!..
— Нет!.. Это дело правосудия!
— Как же оно накажет человека, которого здесь нет… и он не может вернуться! Значит, я должен отправиться туда, где он находится… где он еще должен быть… в Шпремберг!
— Хорошо, — ответил я, пуская в ход последний довод, — еще два-три дня терпения, и я поеду с вами в Шпремберг!..
Я настаивал с такой убежденностью, что наш разговор закончился твердым обещанием: после свадьбы я не буду противиться плану капитана и поеду вместе с ним.
Какими бесконечно долгими показались мне эти два дня, отделявшие нас от 15 мая! Считая своим долгом успокаивать других, я сам иногда испытывал тревогу.
Поэтому, движимый каким-то предчувствием, часто поднимался или спускался по бульвару Телеки.
Дом Шторица по-прежнему оставался таким, каким был после полицейского обыска: запертые двери, закрытые окна, безлюдные двор и сад. На бульваре Телеки дежурили несколько полицейских. Их бдительный взгляд достигал парапета старинных укреплений и охватывал даже окружающую сельскую местность. Ни хозяин, ни его слуга ни разу не попытались войти в дом. И однако (вот что значит навязчивые мысли!), несмотря на все, что я говорил Марку и капитану Харалану, вопреки тому, что говорил самому себе, мне казалось, что, если бы я увидел, как из трубы лаборатории поднимается дым, а за стеклами бельведера появляется какое-то лицо, я этому не удивился бы.
Тогда как население Рагза, оправившись от недавнего страха, уже перестало обсуждать это происшествие, призрак Вильгельма Шторица преследовал нас — доктора Родериха, моего брата, капитана Харалана и меня!
В тот день, 13 мая, чтобы развеяться, я направился после обеда к мосту Швендор с намерением перейти на правый берег Дуная.
Прежде чем попасть на мост, я прошел мимо пристани, где причалил пароход из Будапешта — все тот же «Матиаш Корвин».
Тогда мне вспомнились эпизоды моего путешествия, моя встреча с этим немцем, его провокационное поведение, чувство антипатии, которое он вызвал у меня с первого же взгляда, а потом, когда считал, что он сошел с парохода в Вуковаре, произнесенные им слова! Это был он, и никто другой, тот же голос, что мы слышали в гостиной особняка Родерихов, та же артикуляция, та же резкость, та же тевтонская жестокость.
И под влиянием этих мыслей я ехал разглядывать одного за другим пассажиров, которые сходили с парохода в Рагзе… Я искал бледное «гофманское» лицо, странные глаза этого субъекта!.. Но, как говорится, зря старался.
В шесть часов я, как обычно, занял место за семейным столом. Мне показалось, что госпожа Родерих чувствовала себя лучше и почти оправилась от волнений. Сидя рядом с Мирой, накануне свадьбы брат забывал обо всем. Сам капитан Харалан казался более спокойным, хотя и мрачноватым.
Я был полон решимости сделать все возможное, чтобы развеселить это маленькое общество и рассеять последние тягостные воспоминания. К счастью, мне в этом помогала Мира, вносившая очарование и радость в этот вечер, который затянулся допоздна. Без чьей-либо просьбы она села за рояль и спела несколько старинных мадьярских песен, словно для того чтобы стереть из нашей памяти отвратительную «Песнь ненависти», прозвучавшую в этой гостиной.
Когда мы уже расходились, она сказала с улыбкой:
— Это будет завтра, господин Анри… Не забудьте…
— Не забыть чего, мадемуазель? — ответил я таким же шутливым тоном.
— Не забудьте, что брак будет зарегистрирован в ратуше…
— А, так это завтра!..
— И что вы — один из свидетелей вашего брата…
— Вы хорошо сделали, что напомнили об этом, мадемуазель Мира… Свидетель брата… А я и запамятовал!..
— Это меня не удивляет!.. Я заметила, что вы бываете иногда рассеянным…
— Виноват! Но завтра со мной этого не случится, обещаю… Лишь бы Марк тоже не забыл…
— За него я отвечаю!..
— Подумать только!..
— Итак, ровно в четыре часа…
— В четыре часа, мадемуазель Мира?.. А я-то думал, что в полшестого!.. Не беспокойтесь… Я буду там без десяти минут четыре!..
— Спокойной ночи, спокойной ночи вам, брату Марка, а скоро вы станете и моим братом!..
— Спокойной ночи, мадемуазель Мира… спокойной ночи!
На следующий день утром Марку нужно было сделать кое-какие покупки. Мне показалось, что к нему вернулось все его спокойствие, и я отпустил его одного.
Впрочем, желая подстраховаться и убедиться (если это возможно), что Вильгельм Шториц не появлялся в Рагзе, я отправился в ратушу.
Господин Штепарк сразу же принял меня и осведомился о мотиве моего визита.
Я спросил, располагает ли он какой-нибудь свежей информацией.
— Никакой, господин Видаль, — ответил он, — вы можете быть уверены, что интересующий вас человек не появлялся в Рагзе…
— Он еще в Шпремберге?..
— Все, что я могу утверждать, так это то, что он там был вчера.
— Вы получили депешу?
— Депешу от немецкой полиции, подтверждающей данный факт.
— Это меня обнадеживает.
— Понимаю. Но для меня это неприятно, господин Видаль.
— Почему же?..
— Потому, что этот дьявольский персонаж (именно дьявольский), по-моему, не расположен пересекать границу…
— Тем лучше, господин Штепарк!
— Тем лучше для вас, но хуже для меня!..
— Не понимаю, о чем вы сожалеете!..
— Ну как же: как полицейский, я хотел бы схватить это подобие колдуна за шиворот и посадить за решетку!.. В конце концов, может быть, позднее…
— Да позднее, после свадьбы, господин Штепарк!
И, поблагодарив начальника полиции, я ушел.
В четыре часа мы собрались в гостиной особняка Родерихов. На бульваре Телеки нас ожидали два ландо:[582] одно для Миры, ее отца, матери и друга семьи — судьи Ноймана, другое — для Марка, капитана Харалана, одного из его товарищей — лейтенанта Армгарда и меня. Господин Нойман и капитан Харалан были свидетелями невесты, а лейтенант Армгард и я — свидетелями Марка.
В то время мадьярский сейм после долгих дискуссий ввел в Венгрии, как и в Австрии, гражданский брак. Он сводился к самой простой церемонии в присутствии членов семьи. Торжественной будет религиозная церемония, которая должна была состояться на следующий день.
Юная невеста была одета со вкусом в платье из розового крепдешина, украшенное кисеей без вышивки. Туалет госпожи Родерих тоже отличался простотой. Доктор и судья были в сюртуках, так же как мой брат и я сам, оба офицера — в обыкновенной форме.
На бульваре выезда карет ожидали лишь несколько человек — женщины и девушки из народа, которым любопытно было посмотреть на свадьбу. Но весьма вероятно, что на следующий день в собор придет много людей в знак заслуженного уважения к семье Родерих.
Оба ландо выехали из больших ворот особняка, повернули за угол бульвара, проследовали по набережной Баттиани, по улице Князя Милоша, по улице Ладислава и остановились перед решеткой ратуши.
На площади Листа и во дворе муниципалитета стояли группы любопытных. Может быть, их привлекало воспоминание о недавних инцидентах?.. Может быть, они ожидали, что в зале бракосочетаний случится какое-нибудь новое происшествие?..
Кареты въехали в парадный двор и остановились у входа.
Минутой позже мадемуазель Мира под руку с отцом, госпожа Родерих под руку с господином Нойманом, затем Марк, капитан Харалан, лейтенант Армгард и я заняли свои места в зале. Свет проникал сюда через большие окна с разноцветными витражами. Стены были отделаны дорогими резными деревянными панно. В центре зала на обоих концах большого стола стояли две великолепные корзины цветов.
Господин и госпожа Родерих, как родители, сели по обе стороны кресла, предназначенного для должностного лица, ведающего актами гражданского состояния. Напротив на стульях сидели рядом Марк Видаль и Мира Родерих, затем четыре свидетеля: господин Нойман и капитан Харалан — справа, лейтенант Армгард и я — слева.
Распорядитель объявил о прибытии бургомистра Рагза, который пожелал самолично возглавить эту церемонию. Все встали, когда он вошел в зал.
Стоя у стола, бургомистр спросил родителей, дали ли они согласие на брак своей дочери с Марком Видалем. Получив утвердительный ответ, он не стал задавать подобный вопрос в отношении Марка, ибо мы с братом были единственными членами нашей семьи.
Затем бургомистр обратился к жениху и невесте:
— Согласен ли господин Марк Видаль взять в жены мадемуазель Миру Родерих?..
— Да.
— Согласна ли мадемуазель Мира Родерих взять в мужья господина Марка Видаля?
— Да.
Затем от имени закона, зачитав соответствующие статьи, бургомистр объявил, что молодые соединены узами брака.
Так закончилась эта простая церемония. Не произошло никакого чуда (хотя мысль об этом в какой-то момент и закралась мне в голову), не был разорван акт, на котором после чтения части положений о браке были поставлены подписи, перо не было вырвано из рук молодоженов и свидетелей.
Вильгельма Шторица определенно не было в Рагзе, а если он находится в Шпремберге, то пусть бы там и оставался на радость своих соотечественников!
Теперь Марк Видаль и Мира Родерих были соединены перед людьми, завтра они будут соединены перед Богом.
XII
И вот наконец наступило 15 мая. Ожидаемая с таким нетерпением дата, казалось, никогда не придет!
Пройдет еще несколько часов, и церемония религиозного бракосочетания состоится в соборе Рагза.
Если у нас еще сохранялись опасения, какие-то воспоминания о необъяснимых происшествиях, случившихся дней десять тому назад, они стерлись после гражданской церемонии. В ратуше не произошло ничего из того, что стряслось в гостиных особняка Родерихов.
Я встал рано, но Марк меня опередил. Я еще не закончил одеваться, как он вошел в мою комнату.
Он был уже, так сказать, при полном параде: весь в черном, в одежде, принятой в высшем свете, где строгие костюмы мужчин контрастируют с яркими туалетами женщин.
Марк так и сиял от счастья, ничто не омрачало его радости.
Он горячо обнял меня, и я прижал его к груди.
— Моя дорогая Мира попросила тебе напомнить, — сказал он.
— …Что свадьба назначена на сегодня, — продолжил я со смехом. — Ну что ж, передай, что если я не опоздал на церемонию в ратуше, то не опоздаю и в собор! Вчера… я сверил часы с часами дозорной башни! И ты сам, дорогой Марк, постарайся не задерживаться!.. Ты ведь знаешь, что твое присутствие необходимо!.. Иначе нельзя будет начать церемонию!..
Он ушел, а я поспешил закончить свой туалет. Заметьте, что было только девять часов утра.
Мы должны были собраться в особняке Родерихов. Оттуда намечалось отправиться в венчальных каретах — мне нравилось это необыкновенное название. Поэтому, чтобы продемонстрировать свою точность, я прибыл в особняк ранее назначенного времени (чем заслужил приветливую улыбку невесты) и стал ждать в гостиной.
Один за другим появлялись участники (скажем лучше, персонажи, учитывая торжественность обстоятельств) вчерашней церемонии в ратуше. Теперь они были в парадной одежде — в черных фраках, черных жилетах, черных брюках: ничего, как видим, мадьярского, все на парижский манер. В петлицах красовались награды: у Марка — ленточка кавалера Почетного легиона, у доктора и судьи — австрийские и венгерские награды, у обоих офицеров в великолепных мундирах полка «Пограничной военной зоны» — кресты и медали, у меня — простая красная ленточка.
На Мире Родерих (а почему бы мне не назвать ее Мирой Видаль, ведь жених и невеста уже были соединены узами гражданского брака) был восхитительный туалет — белое муаровое платье со шлейфом, корсаж, расшитый белыми цветами померанцевого дерева. В руках она держала роскошный букет невесты, и на ее прекрасных белокурых волосах сиял свадебный венец, с которого длинными складками спадала белая тюлевая вуаль. Это был венец, принесенный моим братом: она не захотела надеть другой.
Войдя в гостиную с матерью, в богатом наряде, она подошла ко мне, протянула руку, и я пожал ее с любовью, по-братски. Сияя от радости, она сказала:
— Ах, мой брат! Как я счастлива!
Видимо, у нее не осталось никаких воспоминаний о тех несчастливых днях, о тягостных испытаниях, что выпали недавно на долю этой достойной семьи. Даже капитан Харалан, казалось, все забыл. Пожав мне руку, он сказал:
— Нет… не будем больше об этом думать!
Вот какой была программа этого дня, получившая всеобщее одобрение: без четверти десять отъезд в собор, где прибытия новобрачных будут ждать губернатор Рагза, представители властей и почетные лица города. После свадебной мессы, при подписании актов в ризнице собора — представления и поздравления. Возвращение в особняк Родерихов на завтрак с участием примерно пятидесяти гостей; вечером празднество в гостиных особняка, на которое было разослано около двухсот приглашений.
Как и накануне, в первом ландо разместились невеста, доктор, госпожа Родерих и господин Нойман; во втором — Марк и три других свидетеля. По возвращении из собора Марк и Мира Видаль сядут в одно и то же ландо. Другие экипажи уехали за теми, кто должен был присутствовать на религиозной церемонии.
Господину Штепарку пришлось принять меры для обеспечения порядка, ибо публики как в соборе, так и на площади Святого Михаила ожидалось много.
Без четверти десять экипажи выехали из особняка Родерихов и направились по набережной Баттиани. Достигнув Мадьярской площади, они пересекли ее и поехали через богатый квартал Рагза — по улице Князя Милоша.
Стояла прекрасная погода, веселые лучи майского солнца пронизывали небо. Под аркадами улицы толпа людей шла в направлении собора. Все взгляды, обращенные к первому ландо, были полны симпатий и восхищения юной новобрачной, и я должен отметить, что доля этого внимания относилась и к моему дорогому Марку. В окнах виднелись улыбавшиеся лица, отовсюду слышалось столько приветствий, что ответить на все было невозможно.
— Право, я увезу из этого города приятные воспоминания! — произнес я.
— Венгры ценят в вашем лице Францию, которую они любят, господин Видаль, — ответил мне лейтенант Армгард, — и они счастливы, что благодаря этому браку в семью Родерих войдет француз.
Мы приближались к площади. Движение было здесь так затруднено, что лошадям пришлось идти шагом.
С башен собора, овеваемых восточным ветром, лился радостный звон колоколов, а около десяти часов высокие ноты курантов дозорной башни присоединились к звучным голосам колоколов собора Св. Михаила.
Когда мы прибыли на площадь, я увидел, что справа и слева вдоль боковых аркад выстроился кортеж экипажей, на которых приехали приглашенные.
Было ровно десять часов пять минут, когда два наших ландо остановились перед ступеньками центрального портала, обе двери которого были широко раскрыты.
Доктор Родерих вышел из экипажа первый, за ним — взявшая его под руку Мира. Затем сошли господа Родерих под руку с господином Нойманом. Мы тоже сразу вышли и отправились за Марком между рядами зрителей, стоявших вдоль паперти.
В этот момент большой орган внутри собора заиграл свадебный марш венгерского композитора Конзаха[583].
В то время в Венгрии согласно литургическому ордонансу, не принятому в остальных католических странах, супруги получали благословение только после свадебной мессы. Очевидно, на богослужении новобрачные должны были присутствовать не как супруги, а как жених и невеста. Сначала месса, затем таинство бракосочетания!
Марк и Мира направились к предназначенным для них двум креслам перед большим алтарем. Затем родители и свидетели разместились сзади на приготовленных заранее сиденьях.
Все стулья и кресла на клиросе[584] были уже заняты многочисленными приглашенными. Среди них находились губернатор Рагза, магистраты, офицеры гарнизона, члены муниципалитета, первые чиновники администрации, друзья семьи, видные деятели промышленности и торговли. Дамам в блистательных туалетах были отведены специальные места. Толпа любопытных теснилась за решетками клироса, этого шедевра кузнечного дела XIII века. Ну а те, кто не смог подойти к дверям клироса, заняли все стулья большого нефа.
В поперечных и боковых нефах и даже на ступеньках паперти собрался простой люд. В этой толпе, где преобладали женщины, можно было заметить людей в национальных мадьярских костюмах.
Если некоторые из этих славных горожанок и крестьянок помнили о странных явлениях, недавно смутивших город, могли ли они предположить, что подобное повторится и в соборе?.. Разумеется, нет. Действительно, если они приписывали случившееся дьявольскому вмешательству, то в церкви подобное вмешательство не могло бы осуществиться. Разве могущество дьявола не останавливается у порога святилища Господа Бога?..
Справа от клироса толпа пришла в движение и расступилась, чтобы пропустить протоиерея[585], диакона и иподиакона, служек, детей из церковного хора.
Протоиерей остановился перед ступеньками алтаря, поклонился и произнес первые фразы входной молитвы, тогда как певчие запели строфы исповедальной молитвы.
Мира преклонила колени на подушку у скамеечки для молитвы, опустив голову в благоговейной позе. Марк стоял рядом и не сводил глаз с любимой.
Месса прошла со всей той торжественностью, которой Католическая Церковь окружает подобные церемонии. Звучание органа чередовалось с церковным пением Kyrie[586] и строфами Gloria in Excelsis,[587] плывшими под высокими сводами собора.
Иногда слышался смутный шум толпы, перемещение стульев, хлопанье откидных сидений, хождение низших служителей церкви, которые следили за тем, чтобы проход по большому нефу всюду оставался свободным.
Обычно внутренние залы собора погружены в полумрак, в котором душе легче отдаваться религиозным чувствам. Слабый свет проникает сюда через старинные витражи, где изображены силуэты библейских персонажей, и через узкие стрельчатые окна в раннеготическом стиле. Если на дворе пасмурно, большой неф, боковые нефы и абсида погружены в темноту, и этот мистический мрак нарушается лишь огоньками длинных свечей в алтарях.
Сегодня все было иначе. Освещенные ослепительным солнцем, окна с восточной стороны и круглый витраж трансепта ярко светились. Лучи солнца через один из проемов апсиды падали прямо на кафедру, словно подвешенную к одной из опор нефа, и, казалось, лучи эти придают жизнь страдающему лицу микеланджеловского гиганта, который поддерживал кафедру на своих огромных плечах.
Когда прозвенел звонок, присутствующие поднялись; после шума от вставания наступила тишина; диакон стал нараспев читать Евангелие от Матфея.
Потом протоиерей повернулся к новобрачным. Он говорил довольно тихим голосом, голосом старца, увенчанного сединами. Он говорил об очень простых вещах, которые, должно быть, трогали сердце Миры; он отдавал должное ее дочерним добродетелям, хвалил семью Родерих, ее доброту и милосердие по отношению к бедным. Соединяя француза и венгерку, он благословил этот союз и призвал, чтобы небесная благодать снизошла на новобрачных.
Закончив речь, старый священник повернулся к алтарю, по обе стороны которого вновь встали диакон и иподиакон, и прочитал молитвы дароприношения.
Я так подробно описываю одну за другой детали свадебной мессы потому, что они глубоко врезались мне в душу, и воспоминания о них никогда не сотрутся из моей памяти.
Тогда под звуки органа прозвучал восхитительный голос в сопровождении струнного квартета. Тенор Готтлиб, очень известный среди мадьярской публики, пел гимн приношения даров.
Марк и Мира поднялись со своих мест и встали перед ступеньками алтаря. После того как иподиакон принял их щедрые дары, они прикоснулись губами, как в поцелуе, к дискосу, который им протянул священник. Потом, идя рядом, они вернулись на свои места. Никогда, о, нет, никогда еще Мира не казалась такой прекрасной, такой озаренной счастьем!
Затем настала очередь сборщиц пожертвований для больных и бедных. Идя вслед за служками, они скользили между рядами на клиросе и в нефе; слышался шум от передвигаемых стульев, шуршанье платьев, шарканье ног, в то время как монетки падали в кошельки молодых девушек.
Sanctus[588] был исполнен хоровой капеллой, в которой громко звучали высокие сопрано детских голосов. Приближалась минута освящения, и, когда прозвенел звонок, мужчины встали, а женщины склонились над скамеечками для молитвы.
Марк и Мира опустились на колени в ожидании чуда, которое вот уже восемнадцать веков свершается мановением руки священника, — высшей тайны пресуществления.
Кто же в этот торжественный момент мог не испытать глубокого волнения при виде истовых поз верующих, когда в мистической тишине все головы склоняются и все мысли обращены к Небу!
Старый священник нагнулся над чашей, над облаткой, которую надлежало освятить. Два его помощника, стоя на коленях на верхней ступеньке алтаря, держали низ ризы святого отца, чтобы ничто не стесняло его во время литургической церемонии. Мальчик из хора с колокольчиком в руке был наготове.
Дважды — с коротким интервалом — прозвенел звонок. Его отзвук еще слышался посреди благоговейного молчания, когда священник медленно произносил заветные слова…
В этот момент раздался душераздирающий крик, крик ужаса.
Колокольчик выпал из руки мальчика и покатился по ступенькам алтаря.
Диакон и иподиакон отстранились друг от друга.
Едва не опрокинутый протоиерей с искаженными чертами лица, испуганным взглядом судорожно схватился за алтарный покров; губы у него еще дрожали от крика; колени подгибались, он готов был упасть…
И вот что я увидел, вот что увидели тысячи людей…
Освященная облатка была вырвана из пальцев старого священника… этот символ воплощенного Слова был схвачен святотатственной рукой! Затем облатка была разломана, и ее кусочки полетели через клирос…
Ужас охватил всех присутствовавших при виде такого кощунства.
И в этот момент я, как и тысячи людей, услышал слова, произнесенные страшным голосом, хорошо нам знакомым, голосом Вильгельма Шторица, который стоял на ступеньках, но был невидим, как и в гостиной особняка Родерихов:
— Горе супругам… Горе!..
Мира вскрикнула и упала без чувств на руки Марка. Казалось, сердце ее разбилось!
XIII
Все, что произошло в соборе Рагза и в особняке Родерихов, было совершено с одной и той же целью и должно было иметь одну и ту же причину. Виновником случившегося мог быть только Вильгельм Шториц. Нельзя было допустить и мысли, что похищение облатки и похищение свадебного венца были просто фокусом! Мне приходило в голову, что отец этого немца передал ему какой-то научный секрет, какое-то тайное открытие, дававшее возможность становиться невидимым… подобно тому как некоторые световые лучи способны проходить через светонепроницаемые тела так, словно тела эти прозрачные… Но не слишком ли далеко я заходил в своих предположениях?.. Поэтому я остерегался высказывать их кому бы то ни было.
Мы привезли домой Миру, не приходившую в сознание. Ее перенесли в комнату и уложили на кровать. Но, несмотря на оказанную помощь, сознание к ней не возвращалось. Мира оставалась неподвижной, бесчувственной. Доктор сознавал свое бессилие перед этой неподвижностью, этой бесчувственностью. Но, в конце концов, она дышала, она жила. Как же она смогла выдержать столько испытаний, как же последнее из них ее не убило?!
Несколько коллег доктора Родериха срочно прибыли в особняк. Они окружили кровать Миры, лежавшей без движения, с опущенными веками и бледным как воск лицом. Ее грудь приподнималась, следуя за неровным биением сердца. Дыхание было таким слабым, что казалось, оно в любой момент может остановиться!..
Марк держал ее за руки, звал ее, умолял, плакал.
— Мира… моя дорогая Мира!..
Она его не слышала, не открывала глаз…
Голосом, прерывавшимся от рыданий, госпожа Родерих повторяла:
— Мира… дитя мое… доченька моя… Я здесь… возле тебя… я… твоя мать…
Мира не отвечала.
Между тем врачи уже применили самые действенные лекарственные средства, и казалось, девушка вот-вот придет в сознание…
Да, ее губы невнятно произнесли несколько слов, но их смысл невозможно было понять… Ее пальцы пошевелились в руках Марка, глаза полуоткрылись… Но что за странный взгляд из-под приподнятых век… взгляд, в котором отсутствует мысль!..
И Марк слишком хорошо это понял. Он упал с криком:
— Она безумна… безумна!..
Я бросился к нему и с помощью капитана Харалана удерживал его, опасаясь, как бы он тоже не лишился рассудка!..
Его пришлось отвести в другую комнату, где врачи постарались всеми способами остановить этот припадок с возможным роковым исходом!
Какой же будет развязка?.. Можно ли надеяться, что со временем рассудок вернется к Мире, что благодаря лечению удастся победить ее болезнь, что ее безумие — явление преходящее?..
Когда мы остались вдвоем, капитан Харалан сказал:
— С этим надо кончать!..
Кончать?.. Но как?.. Что он имел в виду?.. Мы не могли сомневаться в том, что Вильгельм Шториц вернулся в Рагз, что именно он учинил это кощунство!.. Но где его найти и можно ли справиться с этим неуловимым существом?..
А город? Какое впечатление все это произвело на горожан? Согласятся ли они с естественнонаучным объяснением случившегося? Мы не во Франции, где, без сомнения, подобные чудеса были бы обращены в шутку газетами и осмеяны в застольных песенках на Монмартре! В этой же стране, видимо, все происходит по-иному. Мне уже приходилось отмечать, что мадьяры имеют природную склонность к вере в чудеса и что суеверие в необразованных классах неискоренимо. Для просвещенных же людей такие странные вещи могли произойти только в результате какого-то физического или химического открытия. Но в глазах простого народа все объясняется вмешательством дьявола, и Вильгельма Шторица будут считать самим дьяволом.
Действительно, уже нельзя было пытаться скрыть, каким образом в данном деле был замешан этот иностранец, которого по приказу губернатора Рагза надлежало выдворить из города. То, что мы до сих пор держали в тайне, не могло остаться скрытым после скандала в соборе Св. Михаила.
Прежде всего, городские газеты снова повели кампанию, прекращенную некоторое время тому назад. Они связали происшествия в особняке Родерихов с тем, что случилось в соборе. Успокоившаяся было публика вновь была растревожена. Горожане узнали наконец, что общего было между этими событиями. Во всех домах, во всех семьях имя Вильгельма Шторица связывалось с образом (можно даже сказать, с призраком) странного человека, чья жизнь протекала между немыми стенами и закрытыми окнами дома на бульваре Телеки.
Не следует поэтому удивляться, что, как только газеты сообщили последние новости, толпа, увлекаемая неодолимой и скорее всего неосознанной силой, устремилась на бульвар Телеки.
Подобным же образом дней за десять до этого люди собрались на кладбище Шпремберга. Но соотечественники ученого, не испытывая никакого чувства враждебности, пришли туда, чтобы увидеть чудеса. Здесь же, наоборот, людьми двигала ненависть и потребность в мести, вызванные вмешательством творящего зло существа.
С другой стороны, не забудем, до какой степени этот благочестивый город был потрясен скандалом, разыгравшимся в соборе! Там произошло чудовищное святотатство. Во время мессы, в момент возношения даров люди видели, как освященная облатка была вырвана из рук протоиерея, пронесена через нефы, затем разломана и сброшена с высоты кафедры!..
И церковь — до нового очищения — будет недоступной для верующих!
Возбуждение усиливалось и приобретало опасные масштабы. Наибольшее число горожан никогда не согласилось бы с единственно приемлемым объяснением — открытием способности стать невидимым.
Губернатор Рагза должен был учитывать такие настроения в городе; поэтому он приказал начальнику полиции принять все необходимые меры в соответствии с ситуацией. Надо было быть готовым к возникновению паники, которая могла бы иметь самые серьезные последствия. Кроме того, как только было названо имя Вильгельма Шторица, пришлось установить охрану дома на бульваре Телеки, перед которым собрались сотни рабочих, крестьян, и защитить его от захвата и ограбления.
Однако, если человек обладает способностью стать невидимым (что мне казалось уже очевидным), если легенда о перстне Гига[589], служившего при дворе царя Кандола, стала реальностью, спокойствие в обществе будет совершенно подорванным! Личная безопасность исчезнет. Таким образом, Вильгельм Шториц вернулся в Рагз, но никто его здесь не видел. Никто не мог сказать наверняка, находится ли он еще здесь. И потом, сохранил ли он для себя одного тайну этого открытия, которую, вероятно, ему передал отец?.. Не приобщен ли к ней и его слуга Герман?.. Не воспользуются ли другие люди этим опасным открытием? И кто помешает им проникать в дома когда заблагорассудится, вмешиваться в чужую жизнь?.. Не будет ли нарушена личная жизнь в семьях?.. Сможете ли вы быть уверенным, что, запершись у себя в доме, вы там один, что никто вас не слышит и не видит, если только в помещении не царит полная темнота? А на улице вы все время будете бояться, что за вами следит (без вашего ведома) кто-то незримый, не теряющий вас из виду, могущий вас избить, если ему этого захочется!.. И как можно избежать всякого рода нападений, ставших такими легкоосуществимыми?.. Не наступит ли вечная смута, и не будет ли уничтожена общественная жизнь?..
Газеты вспомнили тогда о происшествии на площади рынка Коломан, свидетелями которого были капитан Харалан и я. Какой-то мужчина был грубо опрокинут на землю, и, как он потом утверждал, опрокинут человеком, которого он не видел… Ошибался ли этот крестьянин?.. Не толкнул ли его мимоходом Вильгельм Шториц, или Герман, или кто-то другой?.. Каждый думал, что такое могло бы случиться с ним самим. Подобные встречи поджидали вас повсюду.
Потом вспомнились некоторые необъяснимые факты: афиша, сорванная у ратуши, шум шагов в комнатах и неожиданно упавшая и разбившаяся склянка во время обыска в доме на бульваре Телеки!..
Итак, он был здесь, и Герман, очевидно, тоже. Они не уехали из города, как мы предполагали, после вечера обручения. Это и объясняет наличие в спальне мыльной воды, огонь кухонной печи. Да! Они оба присутствовали при обыске во дворе, в саду, в доме… И если мы нашли свадебный венец на бельведере, так это, очевидно, потому, что Вильгельм Шториц, застигнутый обыском врасплох, не успел его унести!..
Что касается меня, то таким образом объяснялись инциденты, происшедшие на пароходе, когда я плыл по Дунаю из Будапешта в Рагз. Пассажир, которого я считал сошедшим в Вуковаре, оставался на борту судна, но его никто не видел!..
Итак, Вильгельм Шториц умеет мгновенно превращаться в невидимку… Появляться и исчезать по своему желанию… как сказочный персонаж, владеющий волшебной палочкой. Однако речь не идет о магии, о каббалистических[590] словах, о заклинаниях, о фантасмагории, о колдовстве! Хотя он делает свое тело и одежду невидимыми, это, вероятно, не относится к предметам, которые он держит в руках, поскольку мы видели разорванный букет, унесенный венец, разломанную и брошенную к подножию алтаря облатку. Судя по всему, Вильгельм Шториц знает формулу состава, который достаточно проглотить… Но какого состава? Того самого, который находился в разбитой склянке и который почти мгновенно испаряется! Но какова формула этого состава? Вот чего мы не знаем, вот что нужно узнать, но удастся ли это?!
Что касается самого Вильгельма Шторица — можно ли его схватить, когда он невидим? Будучи скрытым от нашего зрения, ускользнет ли он от нашего осязания?! Его материальная оболочка, думаю, не утратила ни одного из трех измерений, общих для всех тел: длины, ширины, глубины… Вильгельм Шториц всегда был здесь собственной персоной. Невидимый — да, неуловимый — нет! Неуловимы призраки, а мы имеем дело не с призраком!
«Если, — думал я, — удастся по воле случая его схватить — за руки, за ноги, за голову, он, оставаясь невидимым, окажется в наших руках… И какой бы удивительной ни была его способность превращаться в невидимку, она не позволит ему пройти сквозь стены тюрьмы!»
Все это были лишь рассуждения, в целом приемлемые, которые, по-видимому, многим приходили в голову. Однако положение оставалось тревожным, а общественная безопасность подорванной. Горожане жили в состоянии страха. Они не чувствовали себя в безопасности ни дома, ни на улице, ни ночью, ни днем. Малейший шум в комнатах, скрип пола, колышущиеся от ветра жалюзи, поскрипывание флюгера на крыше, жужжание под ухом какого-нибудь насекомого, свист ветра через плохо закрытую дверь или окно — все казалось подозрительным. Во время домашней суеты, за семейным столом, во время вечерних бдений, ночью в часы сна (если вообще можно говорить о сне) люди никогда не были уверены в том, что какой-нибудь незваный гость не нарушит своим присутствием неприкосновенность жилища! Ни на минуту нельзя было оставаться уверенным, что Вильгельм Шториц или кто-либо другой не находится в вашем доме, следя за каждым вашим шагом, слушая, чтo вы говорите, проникая, наконец, в самые сокровенные семейные тайны.
Конечно, могло быть и так, что этот немец уехал из Рагза и вернулся в Шпремберг. И кто знает, не захочет ли он сообщить об открытии германскому государству, передать своим соотечественникам эту способность все видеть, все слышать. Тогда не будет ничего секретного в посольствах, в канцеляриях, в высших правительственных учреждениях, и международная безопасность станет невозможной!
Беря все это во внимание, доктор, капитан Харалан, а также губернатор и начальник полиции, сошлись во мнении, что Вильгельм Шториц вряд ли прекратит свои гнусности. Если гражданское бракосочетание Миры и Марка состоялось, то, очевидно, потому, что пруссак не смог ему помешать; может быть, его не было тогда в Рагзе. Но он прервал религиозное бракосочетание; и в том случае, если к Мире вернется рассудок, не попытается ли он вновь взяться за старое? Угасла ли в нем ненависть к семье Родерих?.. Удовлетворена ли его жажда мести? Можно ли было забыть угрозы, прозвучавшие в соборе?.. «Горе супругам… Горе!..»
Нет! Последнее слово в этом деле еще не было сказано! Какими средствами располагал этот человек для осуществления своих планов мщения?
Хотя особняк Родерихов охранялся и днем, и ночью, не удастся ли злоумышленнику туда проникнуть, а оказавшись в особняке, не будет ли он действовать в соответствии со своими намерениями, свободно прятаться в каких-нибудь закоулках, а затем прокрадываться либо в комнату Миры, либо в комнату моего брата с самыми дурными помыслами?!
Можно себе представить, что подобные мысли преследовали всех жителей Рагза, как тех, кто не терял трезвого взгляда на вещи, так и тех, кто находился во власти суеверного воображения!
Но, в конце концов, был ли выход из этой ситуации?.. Я не видел выхода, и отъезд Марка и Миры из Рагза ничего не изменил бы. Разве Вильгельм Шториц не мог беспрепятственно последовать за ними! И разве, кроме того, состояние Миры позволяло им уехать из города?..
Нельзя было сомневаться и в том, что этот субъект находится среди жителей Рагза и будет продолжать безнаказанно третировать и терроризировать их.
В тот же вечер яркий свет появился у верхнего окна дозорной башни в квартале ратуши, и этот свет был виден даже с площади Листа и рынка Коломан. Горящий факел то опускался, то поднимался, метался, словно какой-то поджигатель хотел, чтобы море огня охватило всю ратушу.
Начальник полиции и его полицейские, оставив центральный пост, мгновенно поднялись на верхушку дозорной башни…
Свет исчез, и — как и предвидел господин Штепарк — никого не нашли. Потушенный факел валялся на полу, распространяя запах гари. Искры от смолистого факела еще не потухли на крыше, но угроза пожара была предотвращена.
Итак, никого!.. Поджигатель — например Вильгельм Шториц — или успел убежать, или находился где-нибудь в углу дозорной башни, невидимый и ненеуловимый.
Толпе, собравшейся у ратуши, оставалось лишь взывать к отмщению, кричать: «Смерть ему!.. Смерть ему!», над чем Вильгельм Шториц, должно быть, смеялся.
На следующий день, на этот раз утром, всему городу, охваченному паникой, был брошен новый вызов.
В половине одиннадцатого вдруг раздался зловещий перезвон колоколов, похоронный звон, набат, вселяющий ужас.
Один человек не мог бы привести в действие все колокола собора. Очевидно, Вильгельму Шторицу помогали несколько сообщников или, по крайней мере, его слуга Герман.
Горожане толпами устремились на площадь Святого Михаила. Испуганные этим набатом, прибежали даже люди из отдаленных кварталов.
И на этот раз господин Штепарк и его полицейские бросились к лестнице северной башни, стремглав поднялись по ней, достигли площадки колоколов, залитой солнечным светом, проходившим сквозь щели навесов.
Но тщетно обыскивали они этот этаж башни и верхнюю галерею… Никого! Никого!.. Когда полицейские ступили на площадку, где умолкнувшие колокола еще слегка качались, невидимые звонари скорее всего унесли ноги.
XIV
Вот таков был теперь Рагз, обычно спокойный, счастливый, на зависть другим мадьярским городам. К нему лучше всего подходило сравнение с городом в захваченной стране, живущим в постоянном страхе перед бомбардировками, когда никто не знает, куда упадет первая бомба и не будет ли разрушен первым его дом!..
От Вильгельма Шторица можно было всего ожидать… Он не только не покинул город, но и старался все время напоминать о себе.
В особняке Родерихов положение было еще более тревожным. Прошло уже два дня, а к несчастной Мире все еще не вернулся рассудок. Ее губы произносили только бессвязные слова, ее блуждающий взгляд ни на ком не останавливался. Она нас не слышала, она не узнавала ни мать, ни Марка, сидевшего у ее изголовья в девичьей комнате, прежде такой веселой, а ныне столь печальной. Было ли это беспамятство преходящим, припадком, который отступит благодаря заботам окружающих?.. Или это — неизлечимое безумие?.. Никто не мог дать ответа…
Мира была крайне слаба, словно у нее сломались все пружины жизнедеятельности. Она лежала на кровати почти без движения. Иногда она слегка приподнимала руку, которая тут же падала. Казалось, она пытается отстранить пелену, окутывающую ее сознание. Или, может быть, она в последний раз старалась сделать волевое усилие… Марк склонялся над ней, что-то говорил, пытался прочитать ответ на ее губах, в ее глазах… но безуспешно!..
Что касается госпожи Родерих, то у нее чувства матери возобладали над женской слабостью. Она проявляла необыкновенную силу духа, позволяя себе лишь несколько часов отдыха, и то потому только, что ее к этому принуждал супруг. Но сон бедной женщины был полон кошмаров и прерывался при малейшем шуме!.. Ей казалось, что кто-то ходит у нее в комнате, она говорила себе, что это он, Вильгельм Шториц, что он проник в особняк… и что он бродит вокруг ее дочери!.. Она вставала и немного успокаивалась, только убедившись, что доктор или Марк бодрствуют у изголовья Миры… Если так будет продолжаться неделями, месяцами, выдержит ли она?..
Ежедневно несколько коллег доктора Родериха приходили для консультаций. Один из них, знаменитый психиатр, был вызван из Будапешта. Долго и тщательно осматривал он больную, ни не смог дать заключения относительно этой умственной инертности. У Миры отсутствовали реакции, не было приступов. Нет!.. Безразличие ко всему окружающему, полное отсутствие сознания, спокойствие мертвой, перед которым искусство врачевания было бессильно.
Мой брат занимал теперь одну из комнат флигеля, но, может быть, правильнее было бы сказать, что он жил в комнате самой Миры, от которой не хотел отходить. Я покидал особняк только для того, чтобы побывать в ратуше. Господин Штепарк держал меня в курсе всего, что говорилось в Рагзе. Благодаря ему я знал, что население города пребывает в сильнейшем страхе. Уже не только Вильгельм Шториц, но и целая банда невидимок, созданная им, орудует на улицах, оставшихся без защиты от их дьявольских ухищрений!.. Ах! Если бы хоть один из них был схвачен, его бы растерзали!
После случившегося в соборе я стал реже встречаться с капитаном Хараланом. Виделись мы только в особняке Родерихов. Преследуемый навязчивой мыслью, он постоянно бродил по городу и уже не просил меня его сопровождать. Был ли у него какой-нибудь план, и он боялся, что я буду его отговаривать?.. Рассчитывал ли он на какое-то невероятное стечение обстоятельств, чтобы встретить Вильгельма Шторица?.. Ждал ли он, что этот злодей объявится в Шпремберге или где-то еще? Я не стал бы удерживать брата Миры в его отчаянных попытках разыскать негодяя. Нет! Я поехал бы с капитаном… Я помог бы ему настичь этого дикого зверя!
Но могла ли представиться такая возможность?.. Нет, конечно. Ни в Рагзе, ни в другом месте!
Вечером 18 числа у меня с братом состоялся длинный разговор. Он казался более чем когда-либо удрученным, и я опасался, что он серьезно заболеет. Ему следовало бы уехать подальше из этого города, обратно во Францию; но согласится ли он оставить Миру?.. Разве, в конце концов, семья Родерих не могла на некоторое время уехать из Рагза?.. Разве не стоило рассмотреть этот вопрос?.. Я думал об этом и собирался поговорить с доктором.
Заканчивая в тот день наш разговор, я сказал Марку:
— Мой бедный брат! Я вижу, ты готов потерять всякую надежду, но так нельзя… Жизнь Миры вне опасности… На этом сходятся все врачи… Если она и утратила рассудок, то лишь на время, будь уверен… Сознание вернется к ней… Она придет в себя, вернется к тебе… ко всем своим близким…
— Ты хочешь, чтобы я не отчаивался, — ответил мне Марк голосом, прерываемым рыданиями. — Мира… моя бедная Мира… она вновь обретет рассудок!.. Да услышит тебя Господь Бог!.. Но разве она не будет всегда во власти этого чудовища?.. Ты считаешь, что ненависть его удовлетворится содеянным? А что, если он захочет Мстить и дальше, если он захочет?.. Послушай, Анри… пойми меня… я не знаю, как сказать тебе!.. Он все может… все!..
— Нет-нет! — воскликнул я (и признаюсь, что я сам так не думал). — Нет, Марк, ведь как-то можно было оградить, обезопасить себя от его угроз…
— Но как… как?.. — произнес Марк, оживляясь. — Нет, Анри, ты не говоришь мне того, что думаешь… То, что ты говоришь, абсурдно!.. Нет! Мы безоружны перед этим негодяем!.. Он находится в Рагзе… Он может в любую минуту войти в особняк, и никто его не увидит!
Марк был так возбужден, что я не мог ему отвечать. Он слушал только самого себя.
— Нет, Анри, — повторял он, — ты обманываешь себя… Ты не хочешь видеть ситуацию такой, какая она есть…
Затем, схватив меня за руки, он продолжал:
— Разве можно быть уверенным, что его сейчас нет в особняке?.. Я не могу пройти из одной комнаты в другую, выйти на галерею… в сад, не думая о том, что, быть может, он преследует меня… Мне кажется, кто-то идет рядом со мной!.. Кто-то, кто меня избегает… кто отступает, когда я иду вперед… А когда я хочу схватить его… я ничего не нахожу!
И он начинал ходить по комнате, словно бросаясь вдогонку за невидимым существом. Я уже не знал, как успокоить беднягу!.. Лучше всего было увезти его из особняка Родерихов… увезти далеко… очень далеко…
— И кто знает, — продолжал он, — не слышал ли он все, о чем мы только что с тобой говорили, думая, что мы одни… Подожди… вот за этой дверью я слышу шаги… Он там… Пойдем вдвоем!.. Схватим его, и я его собью с ног! Я его убью… Но… это — чудовище… возможно ли… подвластен ли он смерти?..
Вот в каком состоянии находился Марк, и разве я не должен был опасаться, что во время одного из таких припадков он лишится рассудка.
Ах! Зачем произошли открытие, позволяющее человеку стать невидимым… зачем, будучи и так достаточно вооруженным, чтобы творить зло, человек получил в руки еще и такое оружие!..
Не находя ответов на эти вопросы, я все время возвращался к своему проекту: убедить семью Родерих уехать… увезти подальше Миру, потерявшую рассудок, и Марка, которому угрожала такая же участь!
Хотя не произошло никаких других инцидентов с той поры, как Вильгельм Шториц словно прокричал с высоты дозорной башни: «Я здесь, я еще здесь!», все население Рагза было охвачено ужасом. Не было ни одного дома, жителей которого не преследовал бы страх перед невидимкой! И Шториц был не один!.. Ему подчинялась целая банда!.. После страшного случая в соборе даже церкви не могли теперь служить убежищем!.. Газеты пытались как-то воздействовать на умы горожан, но это им не удавалось, да и что можно было противопоставить страху?..
Вот пример того, до какой степени смятения дошли горожане.
Девятнадцатого мая утром я вышел из отеля «Темешвар» и отправился к начальнику полиции.
Дойдя до улицы Князя Милоша, в двухстах шагах от площади Святого Михаила, я увидел капитана Харалана и подошел к нему.
— Иду к господину Штепарку, — сказал я капитану. — Не хотите ли ко мне присоединиться?..
Ничего не ответив, он машинально пошел в том же направлении, что и я. Когда мы подошли к площади Листа, то услышали крики ужаса.
По улице мчался шарабан, запряженный двумя лошадьми. Прохожие разбегались кто куда, рискуя быть раздавленными. Наверное, кучер шарабана был сброшен на землю, и лошади, предоставленные самим себе, понесли.
Трудно поверить, но некоторые прохожие, «закусив удила», подобно коням в этой упряжке, вообразили, что повозкой правит невидимка… что на месте кучера — Вильгельм Шториц. До нас доносились крики: «Он!.. Он!.. Это он!»
Не успел я повернуться к капитану, как увидел, что его уже нет рядом со мной. Он бросился к шарабану, чтобы, поравнявшись с ним, остановить его.
В этот час улица была полна народа. Со всех сторон слышались крики: «Вильгельм Шториц!.. Вильгельм Шториц!..» Всеобщее возбуждение были так велико, что с шарабан полетели камни, а потом из магазина на углу улицы Князя Милоша прогремело несколько пистолетных выстрелов.
Одна из лошадей упала, пораженная пулей в бедро, и шарабан, наехав на нее, опрокинулся.
Тотчас же толпа кинулась к повозке. Люди цеплялись за колеса, за кузов, за оглобли… и два десятка рук протянулись, чтобы схватить невидимку… Но никого не было!
Может быть, он успел выпрыгнуть еще до того, как шарабан опрокинулся? Было очевидно, что возница хотел напугать город, промчавшись галопом в необычайном экипаже!..
Однако на этот раз ничего особенного не произошло, и это пришлось признать. Через несколько минут к месту происшествия прибежал крестьянин из пусты: лошади, оставленные им без присмотра на рынке Коломан, чего-то испугались и понесли. И как же он был взбешен, увидев, что одна из них лежала на мостовой!.. Его отказывались слушать, и я опасался, что толпа расправится с этим беднягой. Нам с трудом удалось увести его в безопасное место.
Я взял капитана Харалана под руку, и он, не говоря ни слова, направился вместе со мной в ратушу.
Господин Штепарк был уже информирован о том, что произошло на улице Князя Милоша.
— Жители города потеряли голову от страха, — сказал он мне. — И никто не знает, до чего дойдет это безумие…
Тогда я его спросил, как обычно:
— Вы узнали что-нибудь новое?
— Да, — ответил господин Штепарк, протягивая мне номер газеты «Винер экстраблатт».
— И что сказано в этой газете?
— В ней говорится, что Вильгельм Шториц в Шпремберге…
— В Шпремберге?! — вскричал капитан Харалан.
Быстро прочитав заметку, он повернулся ко мне.
— Поехали, — произнес он. — Вы мне обещали… Ночью будем на месте…
Я не знал, чтo ответить; я был убежден, что эта поездка окажется бесполезной.
— Подождите, капитан, — сказал господин Штепарк, — я запросил в Шпремберге подтверждение этого сообщения, и телеграмма вот-вот придет.
Не прошло и трех минут, как связной передал начальнику полиции депешу.
Новость, сообщенная газетой, не имела под собой никаких серьезных оснований. Присутствие Вильгельма Шторица в Шпремберге отрицалось. Там, напротив, были уверены, что он еще в Рагзе.
— Дорогой Харалан, — заявил я, — я дал вам обещание и сдержу его. Но сейчас ваша семья нуждается в нашем присутствии.
Капитан Харалан простился с господином Штепарком, а я вернулся один в гостиницу «Темешвар».
Само собой разумеется, что газеты Рагза поспешили дать правильное объяснение происшествия с шарабаном, но я не уверен, что оно всех убедило!
Прошло два дня, и в состоянии Миры Родерих не произошло никаких изменений. Что касается моего брата, то он казался немного спокойнее. Я ждал удобного момента, чтобы посвятить доктора в свой проект отъезда из Рагза, и надеялся получить поддержку.
День 21 мая оказался менее спокойным, чем два предыдущих. На этот раз власти почувствовали свое полное бессилие сдержать толпу, дошедшую до крайней степени возбуждения.
Около одиннадцати часов, прогуливаясь по набережной Баттиани, я внезапно услышал поразившие меня слова:
— Он вернулся… Он вернулся!
Нетрудно было догадаться, о ком шла речь. Из двух или трех прохожих, к которым я обратился, один сказал:
— Видели дым из трубы его дома!
Другой добавил:
— За занавесками бельведера видели его лицо.
Не зная, верить или нет этим россказням, я направился к бульвару Телеки.
Какова вероятность того, что Вильгельм Шториц так неосторожно обнаружил себя в Рагзе? Он не мог не знать, что его ждет, если он будет схвачен!.. Разве он пошел бы на такой риск, когда бы ничто его к этому не принуждало, разве показался бы он в одном из окон своего жилища?..
Новость, истинная или ложная, принесла свои плоды. Сотни людей уже окружили дом Шторица со стороны бульвара и дозорного пути. Вскоре прибыли отряды полиции под командованием господина Штепарка, их было недостаточно, чтобы сдержать толпу и очистить бульвар. Со всех сторон стекались люди, мужчины и женщины, крайне возбужденные, то и дело выкрикивавшие: «Смерть ему!»
Что могли власти противопоставить неосознанному и вместе с тем неискоренимому убеждению, что «он» там?! Может быть, со слугой Германом… может быть, с сообщниками… И толпа так плотно окружила проклятый дом, что убежать из него, пройти, не будучи схваченным, никто не сможет… Впрочем, когда Вильгельма Шторица заметили в окне бельведера, он был, так сказать, в своей материальной оболочке. Значит, он будет схвачен, прежде чем сделается невидимым! На этот раз ему не избежать народной мести!..
Короче говоря, несмотря на противодействие полицейских, несмотря на усилия начальника полиции, решетка была сломана. Толпа ворвалась в дом, выломала двери, выбила окна, выбросила мебель в сад и во двор, разломала аппаратуру лаборатории. Затем языки пламени охватили верхний этаж, поднялись над крышей, и вскоре бельведер рухнул в огне пожарища.
Что касается Вильгельма Шторица, то его тщетно искали в доме, во дворе, в саду… Его там не было или, по крайней мере, его не смогли там обнаружить, ни его, ни кого-либо другого…
Теперь дом пылал в огне, зажженном в десятках мест, и спустя час от жилища Шторица остались только четыре стены.
Кто знает, может быть, и хорошо, что оно было разрушено… что за этим последует успокоение умов… и население Рагза поверит, что невидимка Вильгельм Шториц погиб при пожаре…
Однако господину Штепарку удалось спасти значительную часть бумаг, находившихся в рабочем кабинете немца. Они были доставлены в ратушу. Возможно, изучив их, удастся раскрыть тайну… или тайны Отто Шторица… которые так злонамеренно использовал его сын!..
XV
После разрушения дома Шторица напряжение в Рагзе, как мне показалось, несколько спало, город начал успокаиваться. Хотя и не удалось схватить этого мерзавца, его жилище было сожжено, но, к сожалению, он не сгорел вместе со своим домом. Однако некоторые горожане, наделенные пылким воображением, упорно продолжали верить, что он находился в доме, когда туда ворвалась толпа, и, даже невидимый, погиб в пламени пожара…
Правда же состоит в том, что, обшаривая развалины, роясь в пепле, не нашли ничего, что подкрепляло бы это мнение. Если Вильгельм Шториц присутствовал при пожаре, то он находился в таком месте, где огонь не мог его достать.
Между тем новые письма, другие депеши, полученные из Шпремберга начальником полиции, утверждали: Вильгельм Шториц не появлялся вновь в родном городе, там не видели и его слугу Германа. Никто не знал, где они укрылись. Вполне возможно, что они не уезжали из Рагза.
К несчастью, повторяю, если относительное спокойствие царило в городе, иначе обстояло дело в особняке Родерихов. Психическое состояние нашей бедной Миры нисколько не улучшалось. Она не отдавала себе отчета в своих поступках, оставалась безразличной к заботам, которыми ее окружали, никого не узнавала. Поэтому врачи не питали ни малейшей надежды на ее выздоровление. Впрочем, не было ни припадков, ни приступов, с которыми они могли бы бороться, вызвав благотворную для нее реакцию!..
Как бы там ни было, жизнь Миры казалась вне опасности, хотя она была крайне слаба и по-прежнему лежала на кровати почти без движения, смертельно бледная. Если пробовали ее поднять, из груди бедняжки вырывались рыдания, в ее глазах появлялось выражение ужаса, она ломала себе руки, с губ срывались бессвязные слова. Может быть, тогда к ней возвращалась память? И она вновь видела сквозь пелену помутившегося рассудка сцены, происшедшие в вечер обручения, сцены в соборе… Слышала угрозы в свой адрес и в адрес Марка… И возможно, это было даже обнадеживающе, что она сохранила хоть воспоминания о прошлом! Мы могли надеяться только на время, а излечит ли время то, перед чем оказались бессильны все заботы родных о выздоровлении девушки?..
Вот каково было теперь существование этой несчастной семьи! Мой брат проводил все время в особняке Родерихов. Он оставался около Миры с доктором и госпожой Родерих. Он кормил ее из ложечки. Он ждал, не появится ли во взгляде любимой хоть проблеск рассудка…
Мне хотелось, чтобы Марк, пусть на час, выходил из особняка, но он отказался. Таким образом, я видел его, так же как и капитана Харалана, только тогда, когда приходил в особняк Родерихов.
Двадцать второго мая, во второй половине дня я бродил один по улицам города, положившись на волю случая. Только от случая и можно было ожидать изменения ситуации…
Мне пришла в голову мысль перейти на правый берег Дуная. Такая экскурсия была давно задумана, но до сих пор обстоятельства мешали ее осуществлению. Впрочем, в том моем состоянии она не могла произвести на меня большого впечатления. Итак, я направился к мосту, пересек остров Швендор и вышел на сербский берег.
Перед глазами простиралась великолепная картина: сельскохозяйственные угодья и пастбища в это время года утопали в зелени. Почему-то я подумал о чертах сходства между сельскими жителями Сербии и Венгрии. Те же красивые люди, та же манера держаться, у мужчин — несколько жесткий взгляд и военная выправка, у женщин — величественная осанка. Но в Сербии политические настроения как среди крестьян, так и среди горожан, возможно, более обострены, чем в мадьярском королевстве. Сербия считается своего рода преддверием Востока, а административный центр Белград — его дверьми. Хотя Сербия формально зависит от Турции[591], которой платит ежегодную дань в размере трехсот тысяч франков, она тем не менее остается наиболее значительной христианской частью Оттоманской империи. О сербской нации, отличающейся воинской доблестью, один французский писатель справедливо сказал: «Если есть страна, где достаточно топнуть ногой о землю, чтобы появились батальоны воинов, так это, несомненно, патриотически настроенная, воинственная Сербия. Серб рождается, живет и умирает солдатом и как солдат. Впрочем, разве не к Белграду, его столице, направлены все устремления славянства? И если однажды оно поднимется против германской расы, если вспыхнет революция, то знамя независимости будет держать рука серба».
Я думал обо всем этом, когда шел по берегу реки, где с левой стороны лежали широкие равнины на месте прежних лесов, которые, к сожалению, были вырублены вопреки национальной поговорке: «Кто убивает дерево, убивает серба!»
Меня преследовала также мысль о Вильгельме Шторице. Я подумал, не укрылся ли он на одной из вилл в этой сельской местности, — не восстановил ли свой видимый облик. Но нет! Как по эту, так и по ту сторону Дуная его история была хорошо известна, и если бы их увидели, Вильгельма Шторица и его слугу Германа, сербская полиция без колебаний арестовала бы злоумышленников и передала бы венгерской полиции.
Около шести часов я вернулся к мосту, пересек его первую часть и спустился по большой центральной аллее острова Швендор.
Едва пройдя с десяток шагов, я увидел господина Штепарка. Он был один, между нами тут же завязался разговор на занимавшую нас обоих тему.
Ему не было известно ничего нового, и мы пришли к единому мнению, что город начал оправляться от ужаса, охватившего его в последние дни.
Прогуливаясь и беседуя, мы вышли минут через 45 к северной оконечности острова. Вечерело, под деревьями сгущались тени, аллеи пустели, павильоны закрывались на ночь, уже никто не попадался нам навстречу.
Пора было возвращаться в Рагз. Мы уже направлялись к мосту, когда услышали какие-то голоса.
Я внезапно остановился и остановил господина Штепарка, взяв его за руку. Затем, склонившись так, что никто, кроме него, не мог меня услышать, сказал:
— Кто-то говорит… и этот голос… это голос Вильгельма Шторица.
— Вильгельма Шторица? — проговорил так же тихо начальник полиции.
— Да-да, господин Штепарк.
— Если это он, он нас не заметил. И не надо, чтобы он нас заметил!..
— Он не один…
— Да… вероятно, со своим слугой!
Господин Штепарк, пригнувшись к земле, повлек меня вдоль массива зелени.
Впрочем, темнота была нам на руку, и мы могли все слышать, оставаясь незамеченными.
Вскоре мы спрятались в укромном уголке, шагах в десяти от места, где должен предположительно находиться Вильгельм Шториц. Поскольку мы никого не увидели, это означало, что он и его собеседник были невидимыми.
Итак, он был в Рагзе вместе с Германом. В этом мы скоро убедились.
Никогда еще у нас не было такой возможности застигнуть его врасплох и, может быть, узнать, что он замышляет, установить, где он живет после пожара, и, возможно, схватить.
Разумеется, он не подозревал, что мы рядом и все слышим. Спрятавшись в зарослях, затаив дыхание, мы с несказанным волнением следили за разговором, более или менее внятным, в зависимости от того, удалялись или приближались к нам хозяин и слуга, прогуливаясь вдоль зеленого массива.
Вот первые слова, произнесенные Вильгельмом Шторицем, которые мы услышали:
— Мы сможем войти туда уже завтра?
— Уже завтра, — ответил Герман, — и никто не узнает, кто мы такие.
Само собой разумеется, что они оба говорили по-немецки, на языке, который мы с господином Штепарком понимали.
— А когда ты вернулся в Рагз?
— Сегодня утром. Ведь было условлено встретиться на этом месте на острове Швендор, когда здесь никого нет…
— Жидкость принес?
— Да… две склянки, они заперты на ключ в доме…
— Ты снял этот дом?..
— Да, на мое имя!
— Полагаешь, мы сможем там жить как обычные люди и что нас не знают в…
К великому сожалению, название города, произнесенное Вильгельмом Шторицем, мы не услышали, ибо голоса удалились, а когда вновь приблизились, Герман повторял:
— Нет, бояться нечего… полиция Рагза не сможет нас обнаружить под именами, которые я назвал…
Полиция Рагза? Значит, они будут жить в венгерском городе?
Затем звуки шагов стихли, что позволило господину Штепарку сказать мне:
— Какой город?.. Какие имена?.. Вот что нужно бы узнать…
— И еще, — добавил я, — почему они оба вернулись в Рагз? (Это казалось мне особенно опасным для семьи Родерих.)
Как раз когда шаги вновь приблизились, Вильгельм Шториц говорил с особенной озлобленностью:
— Нет, я не уеду из Рагза, пока не утолю свою ненависть к этому семейству… пока Мира и этот француз…
Он не кончил говорить, скорее, издал что-то вроде рычания! В этот момент пруссак находился рядом с нами, и, быть может, достаточно было протянуть руку, чтобы его схватить! Но наше внимание отвлекли слова Германа:
— Теперь в Рагзе знают, что вы можете делать себя невидимым, хотя им и неизвестно, каким именно способом…
— А этого… они никогда не узнают… никогда! — произнес Вильгельм Шториц. — Рагз еще услышит обо мне!.. Они думают, что, сжигая мой дом, они сожгли мои тайны!.. Безумцы! Нет!.. Рагзу не избежать моей мести, я не оставлю здесь камня на камне!..
Едва были произнесены эти угрожающие слова, как ветви зеленого массива резко раздвинулись. Господин Штепарк ринулся в направлении голосов, которые слышались в трех шагах от нас. И когда я, в свою очередь, выбирался из чащи, он крикнул:
— Я держу одного, господин Видаль! Хватайте второго!
Сомнения не было: его руки схватили тело человека, вполне осязаемое, хотя и не видимое… Но полицейского оттолкнули с яростной силой, и он упал бы, если бы не я.
Тогда у меня мелькнула мысль, что мы будем атакованы в крайне неблагоприятных для нас условиях, поскольку не видели противников. Но этого не случилось: слева раздался издевательский смех вырвавшегося человека и звук удалявшихся шагов.
— На этот раз не повезло, — воскликнул господин Штепарк. — Но теперь мы знаем, что, даже когда их нельзя увидеть, их можно схватить!..
К сожалению, двое злодеев действительно ускользнули от нас, и мы не знали, в каком месте они скрывались. Но, как стало известно, семейство Родерих, как и весь город Рагз, были по-прежнему во власти этого негодяя.
Мы с господином Штепарком спустились с острова Швендор и, перейдя мост, расстались на набережной Баттиани.
В тот же вечер, ближе к девяти часам, я был в особняке Родерихов наедине с доктором, в то время когда госпожа Родерих и Марк находились у постели Миры. Важно было немедленно сообщить доктору о том, что произошло на острове Швендор, и о присутствии Вильгельма Шторица в Рагзе.
Я рассказал все, и доктор понял, что, ввиду угроз со стороны этого субъекта и его намерения продолжать мстить семье Родерих, возникла настоятельная необходимость покинуть город. Надо было уезжать… Уезжать тайком… сегодня же, а не завтра!
— У меня только один вопрос, — сказал я. — Сможет ли мадемуазель Мира выдержать тяготы путешествия?..
Доктор опустил голову и после длительного раздумья ответил:
— Здоровье моей дочери не подорвано… она не страдает. Затронут только ее рассудок, но я надеюсь, что со временем…
— И главное, благодаря покою, — произнес я. — А где можно надежнее обеспечить его, чем в другой стране. Там ей нечего будет бояться… Там ее будут окружать близкие люди, Марк, ее муж… ведь они соединены узами, которые ничто не может разорвать…
— Ничто, господин Видаль! Но удастся ли избежать опасности, не может ли Вильгельм Шториц последовать за нами?..
— Нет… если сохранить в тайне и дату отъезда, и сам отъезд…
— В тайне, — тихо проговорил доктор Родерих.
И одно это слово свидетельствовало: как и мой брат, он сомневался, что можно сохранить что-нибудь в тайне от Вильгельма Шторица… Может быть, в этот самый момент злодей находился в его кабинете, слушая наш разговор и строя какие-нибудь новые козни, чтобы помешать намечавшемуся путешествию?
Как бы там ни было, вопрос об отъезде был решен. У госпожи Родерих не было никаких возражений. Она хотела только одного: чтобы Мира была перевезена в другое место… подальше от Рагза!
Нисколько не колебался и Марк. Впрочем, я не говорил ему о нашей встрече на острове Швендор с Вильгельмом Шторицем и Германом. Мне это казалось ненужным. Я ограничился тем, что обо всем рассказал капитану Харалану, когда тот вернулся домой.
— Так, значит, он в Рагзе! — воскликнул капитан.
Никаких возражений против отъезда у него не было. Он одобрил наш план и добавил:
— Вы, наверное, поедете со своим братом?
— Могу ли я поступить иначе? И разве я не должен быть рядом с ним, как вы будете рядом с…
— Я не еду, — прервал он меня тоном человека, принявшего окончательное решение.
— Вы не едете?..
— Нет… я хочу… я должен остаться в Рагзе… раз он здесь… И у меня такое предчувствие, что я правильно поступаю.
Нельзя подвергать сомнению предчувствие, и я не возражал.
— Пусть будет так, капитан…
— Я рассчитываю на вас, дорогой Видаль! Вам предстоит заменить меня в нашей семье, которая уже стала вашей…
— Положитесь на меня!
На следующий день я отправился на вокзал и заказал купе в поезде, отбывающем в 8.57 вечера. Этот экспресс ночью останавливается только в Будапеште и утром прибывает в Вену. Там мы пересядем на Восточный экспресс, в котором я, отправив телеграмму, забронировал места.
Затем я посетил господина Штепарка и сообщил о наших планах.
— Вы поступаете правильно, — сказал он. — Жаль, что весь город не может последовать вашему примеру!
После услышанного вчера начальник полиции был явно обеспокоен — и не без основания.
К семи часам я вернулся в особняк Родерихов и удостоверился, что все приготовления к отъезду закончены.
В восемь часов закрытое ландо уже ждало доктора и госпожу Родерих, Марка и Миру, находившуюся по-прежнему в бессознательном состоянии… Мы с капитаном Хараланом должны были поехать на вокзал в другом экипаже и другой дорогой, чтобы не привлекать излишнего внимания.
Когда доктор и мой брат вошли в комнату Миры, чтобы перенести ее в ландо, Миры там не было, она исчезла…
XVI
Мира исчезла!..
Когда этот крик раздался в особняке, никто сначала не понял, что сие означает. Исчезла?.. Бессмыслица!.. Неправдоподобно!..
Полчаса назад госпожа Родерих и Марк еще находились в комнате, где Мира, ровно дыша, лежала на кровати, спокойная, уже одетая в дорожный костюм. Казалось, она спит. Незадолго до этого девушка немного поела, ее кормил Марк…
После ужина доктор и мой брат вновь поднялись к ней, чтобы перенести в ландо… Но на кровати ее уже не было… Комната оказалась пуста…
— Мира! — бросился к окну Марк.
Но окно было закрыто, дверь тоже.
Тут прибежала госпожа Родерих, за ней — капитан Харалан.
— Мира… Мира?! — разносилось по всему особняку.
Понятно, что Мира не ответила, да от нее и не ждали ответа. Но как объяснить, что Миры больше не было в девичьей?.. Возможно ли, что она встала с постели… прошла через комнату матери, спустилась по лестнице, и никто при этом ее не заметил?..
Когда раздались крики, я укладывал в ландо небольшие дорожные вещи. Я сразу поднялся на второй этаж.
Мой брат шагал из угла в угол как сумасшедший, повторяя с трагическим надломом:
— Мира… Мира!
— Мира?.. — спросил я его. — Что ты говоришь… что ты хочешь сказать, Марк?..
Доктор с трудом проговорил:
— Моя дочь… исчезла!
Госпожу Родерих, потерявшую сознание, пришлось положить на кровать.
Капитан Харалан с искаженным лицом, блуждающими глазами подошел ко мне и произнес:
— Это он… это все он!
Между тем я попытался обдумать случившееся: я находился около двери галереи, перед которой стояло ландо; как же Мира, не будучи замеченной мной, могла пройти через эту дверь и добраться до двери сада? Вильгельм Шториц — невидимка, — пусть так!.. Но она… она?..
Я снова спустился на галерею и вызвал слуг. Мы заперли дверь сада, выходившую на бульвар Телеки, и я взял себе ключ. Затем я обследовал весь дом до последнего угла, чердак, подвалы, пристройки, всю башню снизу доверху. Затем настала очередь сада…
— Нигде никого не было! Никого!
Я вернулся к Марку. Мой бедный брат горько плакал! Он не мог сдержать рыданий.
Надо было срочно сообщить о случившемся начальнику полиции, чтобы он немедленно начал поиски Миры.
— Я иду в ратушу… Пойдемте со мной! — предложил я капитану Харалану.
Мы спустились на первый этаж. Ландо стояло у подъезда, и мы сели в него. Когда большие ворота открылись, упряжка помчалась галопом и через несколько минут остановилась на площади Листа.
Господин Штепарк находился еще в кабинете, и я рассказал ему о случившемся.
Даже этот человек, привыкший ничему не удивляться, потерял хладнокровие.
— Мадемуазель Родерих исчезла! — вскричал он.
— Да… — ответил я. — Это кажется невероятным, но это так! Ее похитил Вильгельм Шториц!.. Он проник в особняк и вышел оттуда, так как был невидим. Но… она… она не была невидимой!..
— А почему вы так думаете? — спросил господин Штепарк.
Эти слова, вырвавшиеся у господина Штепарка (словно к нему пришло озарение), были, по-видимому, единственно логичным, единственно правильным объяснением… Разве Вильгельм Шториц не обладал способностью делать людей такими же невидимыми, как он сам?.. Разве мы не убедились, что его слуга Герман тоже невидим?
— Господа, — произнес начальник полиции, — не хотите ли вернуться в особняк вместе со мной?..
— Мы готовы, — ответил я.
— Я в вашем распоряжении, господа… Только отдам несколько приказаний.
Начальник полиции вызвал капрала и приказал ему отправиться с группой полицейских в особняк Родерихов. Он должен был дежурить там всю ночь. Затем мы все трое сели в ландо и поехали к доктору.
В особняке и вокруг него вновь был произведен самый тщательный обыск. Он ничего не дал и не мог ничего дать!.. Но как только господин Штепарк вошел в комнату Миры, он поделился с нами следующим наблюдением.
— Господин Видаль, — сказал он мне, — разве вы не чувствуете особого запаха, с которым мы уже где-то сталкивались?..
Действительно, в воздухе стоял едва уловимый запах. Я вспомнил, что уже вдыхал его однажды, и воскликнул:
— Это запах жидкости в склянке, которая разбилась, господин Штепарк, в тот момент, когда в лаборатории вы собирались взять ее.
— Да, господин Видаль, и именно эта жидкость делает людей невидимыми. Вильгельм Шториц превратил мадемуазель Миру Родерих в невидимку и унес ее, когда она стала такой же невидимкой, как он сам!..
Мы были сражены! Очевидно, все произошло именно так, и я больше не сомневался, что Вильгельм Шториц находился в своей лаборатории во время того обыска и разбил эту склянку с летучей жидкостью, чтобы она не попала нам в руки.
Да! Здесь мы почувствовали слабый запах именно этой жидкости!.. Да! Вильгельм Шториц приходил в эту комнату и похитил Миру Родерих!
Какую страшную ночь провели мы — я рядом со своим братом, доктор рядом с госпожой Родерих — и с каким нетерпением ждали мы наступления дня!
Но чего можно было ждать от рассвета?.. Разве свет существовал для Вильгельма Шторица?.. Разве свет возвращал ему его обычный облик?.. Разве Шториц не умел окружать себя непроницаемой тьмой?..
Господин Штепарк покинул нас только утром, когда направился в свою резиденцию. Около восьми часов прибыл губернатор. Он заверил доктора, что все будет сделано для того, чтобы найти его дочь…
Но что он мог сделать?
Между тем с наступлением дня известие о похищении Миры распространилось по кварталам Рагза. Я не в силах описать, какой оно произвело эффект.
Около десяти часов лейтенант Армгард присоединился к нам и заявил, что находится в распоряжении своего товарища капитана Харалана. Но мог ли он что-нибудь сделать? Во всяком случае, если капитан Харалан намеревался продолжить свои поиски, он будет не один.
И действительно, именно таков был его план, ибо, увидев лейтенанта, он сказал ему только одно слово:
— Пошли.
В тот момент, когда они оба выходили, мне неудержимо захотелось отправиться вместе с ними.
Я сказал об этом Марку. Не знаю, понял ли он меня, поскольку находился в состоянии прострации. Я вышел. Оба офицера были уже на набережной. Перепуганные прохожие смотрели на особняк со смешанным чувством ужаса и неприязни. Не отсюда ли исходил кошмарный страх, объявший город?..
Когда я догнал офицеров, капитан Харалан взглянул на меня невидящим взглядом.
— Вы идете с нами, господин Видаль? — спросил меня лейтенант Армгард.
— Да, а куда вы направляетесь?
Этот вопрос остался без ответа. Куда мы идем?.. Навстречу случаю… и не был ли случай нашим самым надежным проводником?..
Мы шли каким-то неуверенным шагом, не говоря ни слова.
Пересекли Мадьярскую площадь, потом поднялись по улице Князя Милоша, обошли вокруг площадь Святого Михаила с ее аркадами. Иногда капитан Харалан останавливался, как будто ноги отказывались нести его дальше, затем продолжал неуверенно двигаться вперед.
В глубине площади я увидел собор. Его двери были закрыты, колокола молчали. Посреди этого запустения собор казался каким-то зловещим; богослужения в нем еще не проводились…
Свернув налево, мы обогнули апсиду, и после некоторого колебания капитан Харалан пошел по улице Бихар.
Этот аристократический квартал Рагза словно вымер. Навстречу нам попалось лишь несколько торопливо идущих прохожих. У большинства особняков окна были закрыты, как в день всеобщего траура.
В конце улицы мы увидели, что бульвар Телеки на всем протяжении опустел. Никто не проходил по нему после пожара в доме Шторица.
Куда направится капитан Харалан: в верхнюю часть города, к замку, или к набережной Баттиани, в сторону Дуная?..
Внезапно у него вырвался крик.
— Там… там… — повторял он с горящими глазами, указывая рукой на еще дымившиеся развалины.
Капитан остановился, с ненавистью глядя на то, что осталось от дома Шторица! Эти руины, казалось, неудержимо притягивали его к себе, и он бросился к наполовину сломанной решетке.
Спустя мгновение мы все трое стояли посередине двора.
На пожарище остались лишь почерневшие от огня части стен. Около них громоздились обуглившиеся части остова дома, скрюченные металлические остатки арматуры, кучи еще не остывшего пепла с легкими струйками дыма, обломки мебели и на острие правого шпица крыши — флюгер, на котором отчетливо виднелись две буквы: В. Ш.
Капитан Харалан неотрывно смотрел на это скопище обломков. Ах! Как жаль, что в огне, подобно дому, не сожгли этого проклятого немца, а вместе с ним и тайну его ужасного открытия! Тогда на семью Родерих не обрушилось бы страшное несчастье!..
Лейтенант Армгард, испуганный крайним возбуждением своего товарища, хотел увести его.
— Уйдем отсюда, — проговорил он.
— Нет! — вскричал капитан Харалан сам не свой. — Нет!.. Я хочу обыскать эти руины!.. Мне кажется, что этот человек там… и моя сестра с ним!.. Мы его не видим, но он там… Послушайте… по саду кто-то идет… Это он… он!
Капитан Харалан прислушался и сделал нам знак не двигаться.
Это было скорее всего только галлюцинацией, но мне тоже послышались шаги по песку…
В этот момент, оттолкнув лейтенанта, который пытался его увести, капитан Харалан бросился к развалинам, ступая по пеплу и всевозможным обломкам, и остановился на том месте, где находилась лаборатория, на первом этаже со стороны двора… Он кричал:
— Мира… Мира…
И казалось, что эхо повторяет это имя…
Я взглянул на лейтенанта Армгарда в тот момент, когда он тоже вопросительно посмотрел на меня…
В это время капитан Харалан прошел по руинам до сада, сбежал по ступенькам вниз и пошел по траве лужайки.
Мы почти догнали его, когда он как будто натолкнулся на какое-то препятствие… Он продвигался вперед, потом отступал, хотел кого-то схватить, наклонялся, выпрямлялся, как борец, который обхватил руками противника.
— Я его держу! — крикнул капитан.
Лейтенант Армгард и я бросились к нему, и я слышал, как он тяжело дышит…
— Я держу негодяя… я его держу… — повторял капитан. — Ко мне, Видаль… ко мне, Армгард!
Вдруг я почувствовал, что меня отталкивает какая-то невидимая рука и кто-то шумно дышит прямо мне в лицо!
Нет! Да!.. Настоящая рукопашная схватка! Он здесь, этот невидимка… Вильгельм Шториц или кто другой!.. Кто бы он ни был, он в наших руках, и мы его не упустим… Мы заставим его сказать, где Мира!
Таким образом (как я всегда и думал) он может скрыть свою видимую форму, но не материальность! Это не призрак, а тело, существующее в трех измерениях, и его движения мы пытались парализовать ценой неимоверных усилий!.. Вильгельм Шториц здесь один, ведь если бы в саду, где мы его схватили, были другие невидимки, они уже набросились бы на нас! Да… он один… Но почему он не убежал при нашем появлении?.. Значит, он был неожиданно застигнут и схвачен капитаном Хараланом?.. Да… очевидно, все так и произошло!..
Скоро мы держали нашего невидимого противника за руки. Я — за одну, лейтенант Армгард — за другую.
— Где Мира… где Мира? — кричал пленнику капитан Харалан.
Вместо ответа тот яростно пытался высвободиться, и я чувствовал, что мы имеем дело с очень сильным человеком. Доведись ему вырваться, он бросится бежать через сад, через руины, достигнет бульвара, и придется навсегда отказаться от мысли вновь его схватить!
— Ты скажешь, где Мира?.. — повторяет капитан Харалан.
И в ответ слышится:
— Никогда!.. Никогда!
Конечно, это Вильгельм Шториц!.. Это его голос!..
Борьба с ним становится все ожесточенней… Хотя нас трое против одного, наши силы иссякают. Вот уже лейтенант Армгард отброшен в сторону и падает на лужайку; рука негодяя, которую я держу, вырывается. И прежде чем лейтенант Армгард поднимается на ноги, его сабля оказывается выхваченной из ножен; рука, которая ею потрясает, — это рука Вильгельма Шторица… Да… гнев ослепляет его, и он уже не пытается убежать… он хочет убить капитана Харалана!.. Тот хватает свою саблю, и вот они оба стоят друг против друга, как на дуэли: один из них виден, другой — нет!..
Мы не можем вмешаться в эту странную схватку, завязавшуюся в столь неблагоприятных для капитана Харалана условиях, поскольку, если он может отражать наносимые ему удары, ему трудно отвечать на них. Поэтому, не пытаясь защищаться, он непрерывно атакует, чтобы поразить своего противника. Сабли скрещиваются. Одну из них держит рука, которую мы видим, другую — невидимая рука.
Ясно, что Вильгельм Шториц владеет этим оружием; ударом в предплечье, быстро отраженным, капитан Харалан ранен в плечо… Но следует его выпад… раздается крик боли… и что-то массивное падает на траву лужайки.
Вероятно, удар пришелся прямо в грудь Вильгельму Шторицу… Хлынула кровь, и вот, но мере того как жизнь уходит из тела, оно обретает свою материальную форму… появляется в последних конвульсиях смерти…
Капитан Харалан бросается к умирающему и снова кричит:
— Мира… моя сестра… где Мира?..
Но перед нами только труп с искаженным судорогой лицом, открытыми глазами, еще угрожающим взглядом, — труп злого и странного человека, каким был Вильгельм Шториц!
XVII
Таков был трагический конец Вильгельма Шторица. Но если семье Родерих после его смерти уже ничего не угрожало, положение Миры стало еще более сложным.
Прежде всего надлежало поставить в известность о случившемся начальника полиции, с тем чтобы он принял все необходимые в таких случаях меры. И вот что было решено.
Капитан Харалан (его рана не была серьезной) отправится в особняк Родерихов, чтобы предупредить о происшедшем своего отца.
Я немедленно пойду в ратушу и сообщу о последних событиях господину Штепарку.
Лейтенант Армгард останется в саду около трупа.
Мы расстались, и, пока капитан Харалан спускался по бульвару Телеки, я быстро пошел вверх по улице Бихар к ратуше.
Господин Штепарк сразу принял меня и, после того как выслушал мой рассказ о неправдоподобной дуэли, сказал, не скрывая своего удивления и своих сомнений:
— Значит, Вильгельм Шториц умер?..
— Да… от удара сабли капитана Харалана прямо в грудь.
— Умер… В самом деле умер?..
— Пойдемте, господин Штепарк, и вы сами в этом убедитесь…
— Да, да…
Заметно было, что господин Штепарк сомневался, в своем ли я уме. Тогда я добавил:
— После смерти он утратил способность быть невидимым, и, по мере того как кровь вытекала из раны, тело Вильгельма Шторица вновь обретало свои очертания.
— Вы это видели?..
— Как я вижу вас.
— Пойдемте, — ответил начальник полиции и приказал капралу с дюжиной полицейских сопровождать нас.
Как я уже говорил, после пожара в доме Шторица жители города избегали ходить по бульвару Телеки. Никто здесь не появился и после моего ухода. Поэтому Рагз еще не знал, что освобожден от злодея.
Когда мы с господином Штепарком и его полицейскими миновали решетку и прошли через развалины, то увидели лейтенанта Армгарда.
Окоченевший труп лежал на траве, слегка повернутый на левый бок. Одежда Шторица была пропитана кровью, и ее капли сочились из раны на груди. Лицо было мертвенно-бледным. Правая рука еще держала саблю лейтенанта, а левая лежала полусогнутой. Словом, перед нами было уже похолодевшее тело, готовое к погребению.
Господин Штепарк долго смотрел на него, потом сказал:
— Это он!
Затем подошли — не без опасений — его полицейские и тоже опознали Вильгельма Шторица. Чтобы подкрепить достоверность зрительного восприятия осязанием, господин Штепарк ощупал труп с головы до ног.
— Мертв… определенно мертв! — сказал он.
Затем, обращаясь к лейтенанту Армгарду, спросил:
— Никто не приходил?..
— Никто, господин Штепарк.
— И вы ничего не слышали в этом саду, никаких шагов?..
— Никаких!
Все говорило о том, что Вильгельм Шториц был один посреди развалин своего дома, когда мы его там застигли.
— Что теперь, господин Штепарк? — спросил лейтенант Армгард.
— Я прикажу перенести тело в ратушу…
— Открыто?.. — спросил я.
— Да, — ответил начальник полиции. — Нужно, чтобы весь Рагз знал, что Вильгельм Шториц мертв, а в это поверят, только увидев его труп…
— Увидев, что он похоронен, — добавил лейтенант Армгард.
— Если его похоронят!.. — сказал господин Штепарк.
— Если его похоронят?.. — повторил я.
— Сначала, господин Видаль, надо произвести вскрытие… Кто знает?.. Исследуя органы, анализируя кровь покойного, может быть, откроют то, чего мы еще не знаем… природу вещества, которое делает человека невидимым…
— Тайну, которую никто не должен знать! — воскликнул я.
— Затем, — продолжал начальник полиции, — если со мной согласятся, то лучше всего сжечь труп и развеять пепел по ветру, как поступали с колдунами в средние века!
Господин Штепарк послал за носилками, а мы с лейтенантом Армгардом отправились в особняк Родерихов.
Капитан Харалан находился у своего отца, которому он все рассказал. Ввиду состояния госпожи Родерих решили, что следует проявить осторожность и ничего ей не говорить. К тому же смерть Вильгельма Шторица не вернет ей Миру!
Что касается моего брата, то он еще ничего не знал. Ему передали, что мы ждем его в кабинете доктора.
Узнав о смерти Шторица, он вовсе не почувствовал себя отомщенным. Сквозь рыдания он произносил полные отчаяния слова:
— Он мертв!.. Вы его убили!.. Он умер, не сказав, где Мира!.. Если бы он был жив… Мира… моя бедная Мира… Я ее уже никогда не увижу!
Что можно было сказать в ответ на этот приступ душевной боли?
Однако я попытался обнадежить и успокоить брата, а позднее и госпожу Родерих. Нет, нельзя было отчаиваться… Мы не знали, где находится Мира… удерживается ли в каком-нибудь доме в городе или ее уже нет в Рагзе. Но один человек знал, должен был знать это… слуга Вильгельма Шторица… Герман… Мы будем его искать… Мы его найдем, хоть в самом отдаленном уголке Германии!.. У него — в отличие от его хозяина — не было оснований молчать… Он заговорит… его заставят заговорить… даже если придется предложить ему целое состояние!.. Мира возвратится в свою семью… к своему жениху… к своему мужу, и разум вернется к ней благодаря заботам, ласке и любви близких!..
Марк ничего не слышал… не хотел ничего слышать… Он считал, что единственный человек, который мог нам все рассказать, мертв… Не следовало его убивать… Надо было вырвать у него его тайну!..
Я не знал, как утешить брата. Внезапно наш разговор был прерван шумом, донесшимся снаружи.
Капитан Харалан и лейтенант Армгард бросились к окну, которое выходило на угол бульвара Телеки и набережной Баттиани.
Что там еще произошло?.. В том состоянии, в котором мы находились, ничто, мне кажется, не могло нас удивить, даже воскресение Вильгельма Шторица!..
Это был похоронный кортеж. Труп на носилках, даже не прикрытый простыней, несли двое полицейских в сопровождении остальной части взвода… Рагз узнает, что Вильгельм Шториц умер и что время террора закончилось!
Поэтому, пройдя по набережной Баттиани до улицы Иштвана II, кортеж должен был пересечь рынок Коломан, а затем миновать наиболее многолюдные кварталы, ведущие к ратуше.
По-моему, было бы лучше, если бы кортеж не проходил мимо особняка Родерихов!
Мой брат подошел с нами к окну. При виде окровавленного тела, которому он хотел бы вернуть жизнь даже ценой собственной жизни, он испустил крик отчаяния!..
Собравшаяся толпа — мужчины, женщины, дети, бюргеры, крестьяне пусты — бурно проявляла свои чувства… Если бы Вильгельм Шториц был жив, его бы растерзали! Труп же пощадили. Но, очевидно, как сказал господин Штепарк, население Рагза не захочет его погребения в священной земле. Он будет сожжен на городской площади или сброшен в Дунай, и воды реки унесут его далеко, в глубины Черного моря.
В течение получаса перед особняком Родерихов раздавались крики, затем наступила тишина.
Капитан Харалан сказал, что собирается в резиденцию губернатора, чтобы переговорить относительно розысков Германа. Нужно было написать в Берлин, в посольство Австрии, подключить к поискам германскую полицию, которая, несомненно, окажет содействие… Ей помогут газеты… Будут предложены вознаграждения тем, кто найдет убежище Германа, единственного человека, который знает тайны Вильгельма Шторица и, вероятно, сторожит его жертву.
Капитан Харалан в последний раз поднялся в комнату своей матери и потом покинул особняк в сопровождении лейтенанта Армгарда.
Я остался с братом, и какими же тягостными были эти часы, проведенные рядом с ним! Как его успокоить? Я с ужасом видел, что нервное возбуждение все сильнее охватывает беднягу! Я чувствовал: он ускользает от меня, и опасался кризиса, сопротивляться которому у него, возможно, не хватит сил!.. Он бредил!.. Хотел уехать, сегодня же вечером уехать в Шпремберг… В этом городе Германа, должно быть, знали… Почему бы ему не быть в Шпремберге… И может быть, Мира с ним!..
Вполне вероятно, что Герман находился в Шпремберге. Но что касается Миры, такое предположение следовало отбросить. Она исчезла накануне вечером, а сегодня утром Вильгельм Шториц был еще в Рагзе… Я, скорее, склонялся к мысли, что ее увезли в окрестности города… что Герман сторожил где-то это бедное создание, лишенное и рассудка, и видимой оболочки.
Как при таких обстоятельствах можно отыскать Миру?..
Мой брат отказывался меня слушать… Он даже не спорил… У него была только одна мысль… навязчивая мысль… уехать в Шпремберг!..
— И ты будешь меня сопровождать, Анри, — сказал он.
— Да… мой бедный друг, — ответил я, не надеясь, что сумею отговорить его от этой бесполезной поездки.
Я смог добиться лишь того, что отъезд был отложен до следующего дня… Нужно было повидать господина Штепарка, попросить его дать мне рекомендательное письмо к полиции Шпремберга, затем предупредить капитана Харалана, который, разумеется, захочет нас сопровождать.
Около семи часов капитан с лейтенантом Армгардом вернулись в особняк. Губернатор их заверил, что немедленно будут предприняты поиски в окрестностях Рагза, где — тут наши мнения совпадали — Мира находится под охраной Германа.
Доктор был еще у госпожи Родерих. В гостиной находились только оба офицера и я с братом.
Поскольку жалюзи были спущены, слуга принес лампу и поставил ее на одну из консолей. Мы должны были пройти в столовую только тогда, когда спустится доктор Родерих.
Пробило половину восьмого. Я сидел рядом с капитаном Хараланом и собирался поговорить о поездке в Шпремберг, когда дверь галереи распахнулась, вероятно, от порыва ветра, так как рядом никого не было. Далее произошло самое удивительное: дверь сама закрылась…
О! Я никогда не забуду этой сцены!
Прозвучал голос… но не тот, что мы слышали в вечер обручения, грубый, оскорблявший нас исполнением «Песни ненависти», а голос чистый и радостный, самый любимый голос! Голос Миры!..
— Марк… дорогой Марк, — произнесла она, — и вы, господин Анри, и ты, мой брат… Ну что ж, сейчас время обеда!.. Вы предупредили об этом родителей?.. Харалан… Сходи за ними, и сядем за стол… Я умираю от голода!.. Вы пообедаете с нами, господин Армгард?..
Это была Мира… сама Мира… Мира, к которой вернулся рассудок… Выздоровевшая Мира! Словно она, как обычно, спустилась из своей комнаты. Это была Мира, которая нас видела, но которую мы не видели!.. Мира-невидимка!..
В изумлении мы застыли на стульях, не смея ни двигаться, ни говорить. Мы не решались пойти в ту сторону, откуда слышался голос… Однако Мира была здесь, живая (мы это знали) и вполне реальная, хотя и невидимая…
Откуда она пришла?.. Из дома, куда отвел ее похититель?.. Значит, она сумела убежать, ускользнуть от Германа, пройти по городу, вернуться домой, никем не замеченная?.. Между тем двери особняка были заперты, и никто их ей не открывал!..
Вскоре мы получили объяснение… Мира спустилась из своей комнаты, где Вильгельм Шториц превратил ее в невидимку… Когда мы считали, что ее нет в особняке, она по-прежнему находилась в своей постели… В течение двадцати четырех часов она лежала неподвижно, не произнеся ни слова, в бессознательном состоянии. Никому в голову не пришло, что она могла быть здесь, и действительно, можно ли было это себе представить!
Очевидно, Вильгельму Шторицу что-то помешало похитить ее сразу. Но он вернулся бы, если бы сегодня утром не был убит капитаном Хараланом…
Перед нами была Мира выздоровевшая (может быть, под влиянием жидкости, сделавшей ее невидимкой), но ничего не знавшая о событиях последней недели. И вот она в гостиной, разговаривает с нами, видит нас, но не осознает, спустившись в темноте из своей комнаты, что не видит себя!..
Марк поднялся, протянув руки, словно хотел обнять Миру…
А она продолжала:
— Но что с вами, друзья мои?.. Я вас спрашиваю… а вы не отвечаете?.. Вы, кажется, чем-то удивлены? Что же случилось?.. И почему здесь нет матушки?.. Может быть, она больна?..
Мира не закончила фразы. Дверь снова открылась, и вошел доктор Родерих.
Мира тут же бросилась к нему — по крайней мере, мы так предполагали, — воскликнув:
— Ах! Отец!.. Что-то произошло?.. Где матушка? Она больна?.. Я поднимусь к ней в комнату…
Доктор остановился на пороге, он понял…
Мира была рядом, обнимала его, повторяя:
— Моя матушка… моя матушка!..
— Она не больна!.. — пробормотал доктор. — Она сейчас спустится… Останься здесь, дитя мое, останься!
В этот момент Марк нащупал руку Миры и тихо увлек ее в сторону, как если бы вел слепую…
Но слепыми были только те, кто не мог ее видеть!
Затем мой брат посадил ее рядом с собою…
Мира больше ничего не говорила, напуганная тем впечатлением, которое производила на окружающих. Марк дрожащим голосом произнес несколько слов, из которых она, должно быть, ничего не поняла:
— Мира… моя дорогая Мира!.. Да… Это, конечно, ты… Я чувствую, что ты здесь… рядом!.. О, умоляю… любимая… не уходи…
— Дорогой Марк… Почему такой встревоженный вид?.. Вы все… пугаете меня… Отец… ответь мне!.. Случилось несчастье?.. Моя матушка… моя матушка!..
Марк почувствовал, что она встает, и мягко удержал ее:
— Мира… дорогая… говори же… говори еще!.. Я хочу слышать твой голос… ты… ты… моя жена!.. Моя любимая Мира!..
Глядя на эту сцену, мы с ужасом думали, что тот, кто только и мог вернуть нам Миру такой, какой она была, мертв и унес с собой свою тайну.
XVIII
Будет ли счастливая развязка у этой истории? Кто мог еще на это надеяться?.. И как не впасть в отчаяние при мысли, что Мира Родерих, быть может, навсегда выключена из видимого мира?.. Поэтому огромное счастье от ее возвращения смешивалось с острой болью: мы ее больше не видим во всей ее грации и красоте!
Трудно было представить, какой станет теперь жизнь семьи Родерих!
Внезапно в гостиной раздался крик отчаяния… Мира захотела взглянуть на себя и не смогла… Она бросилась к зеркалу камина и не увидела в нем своего отражения… а когда прошла перед лампой на консоли, то не увидела позади себя тени!..
Пришлось рассказать ей все, и тогда мы услышали, как она горько зарыдала. Марк, став на колени рядом с креслом, в которое она села, пытался ее успокоить. Он любил ее до этого несчастья, он будет ее любить несмотря ни на что. У нас сердце обливалось кровью при виде этой душераздирающей сцены.
Тогда доктор высказал пожелание, чтобы Мира поднялась в комнату матери. Для госпожи Родерих было бы лучше, чтобы Мира была рядом, чтобы рядом слышался ее голос…
Прошло несколько дней. И девушка смирилась со своим положением. Благодаря ее душевной стойкости казалось, что в особняке снова потекла нормальная жизнь. Мира предупреждала нас о своем присутствии, обращаясь то к одному, то к другому. Мне и сейчас все еще кажется, что я слышу, как она говорит:
— Друзья мои, я здесь… Не нужно ли вам чего-нибудь? Я принесу!.. Дорогой Анри! Что вы ищете?.. Ту книгу, что положили на стол? Вот она!.. Где ваша газета? Она упала на пол!.. Отец… в это время я обычно целую вас!.. А ты, брат, почему ты смотришь на меня такими печальными глазами?.. Уверяю тебя, что я улыбаюсь!.. Зачем огорчаться!.. А вы… вы, дорогой Марк, вот мои руки… Держите их… Не хотите ли пойти в сад?.. Мы погуляем вместе… Я возьму вас под руку, Анри, и мы станем говорить о тысяче разных вещей!
Это прелестное доброе создание не хотело, чтобы горести и дальше омрачали жизнь ее семьи. Марк и Мира проводили вместе долгие часы. Девушка постоянно говорила Марку ободряющие слова, в то время как он держал ее руку… Она старалась его утешить, утверждая, что верит в будущее и что в один прекрасный день ее можно будет видеть… Действительно ли она на это надеялась?
Было сделано лишь одно исключение: Мира не садилась за стол вместе с нами, понимая, каким тягостным было бы ее присутствие в этих условиях. Но после окончания обеда она спускалась в гостиную; мы слышали, как она открывает и закрывает дверь, говоря:
— Вот и я, друзья мои, я здесь!
И она оставалась с нами, пока не наступало время попрощаться и идти к себе в комнату.
Нет нужды говорить, что если исчезновение Миры Родерих так взбудоражило город, то ее возвращение (не это ли слово следует употребить!) произвело еще большее впечатление! Отовсюду приходили свидетельства самой горячей симпатии к семье Родерих и в особняк хлынули посетители. Впрочем, Мира отказалась от пешеходных прогулок по улицам Рагза. Она выезжала лишь в экипаже в сопровождении отца и матери, Марка и капитана Харалана. Иногда до нее доносились благожелательные слова горожан, которые девушку глубоко трогали. Но она предпочитала сидеть в саду с теми, кого любила и к кому действительно вернулась, пусть и не в прежнем своем облике.
Вспомним, что после смерти Вильгельма Шторица губернатор Рагза распорядился предпринять розыски Германа. Это делалось для того, чтобы обнаружить место, где находилась Мира, поскольку предполагалось (с достаточным основанием), что ее где-то сторожит слуга Вильгельма Шторица.
Эти поиски решено было продолжить, ибо все заставляло думать, что Герман являлся доверенным лицом своего хозяина и частично знал его тайны. Никто не сомневался, что он способен вернуть девушку видимому миру.
Действительно, Вильгельм Шториц был, несомненно, в силах становиться по своему желанию невидимым или видимым. Такой же способностью обладал, очевидно, и Герман. Найдя Германа, мы сумели бы вырвать у него эту тайну либо обещанием щедрого вознаграждения, либо угрозой возложить на него ответственность за преступление хозяина, ибо деяние Шторица являлось, бесспорно, одним из самых ужасных преступлений.
Было сделано все возможное. Кроме этого, дело получило широкий общественный резонанс. Газеты сообщили его подробности и постоянно держали в курсе событий читателей всего мира. Люди прониклись горячим сочувствием к Мире Родерих! Обсуждали открытие немецкого химика, его ужасные последствия с точки зрения общественной безопасности, проявляли заинтересованность в том, чтобы эта тайна не была разглашена единственным человеком, который, вероятно, знал формулу загадочного состава.
Я говорю «вероятно», потому что, если бы другие люди владели, как и он, этой формулой, они не устояли бы перед щедрым вознаграждением, предлагаемым не только семьей Родерих, но и полицейскими службами Старого и Нового Света.
Однако никто не заявил о себе; отсюда следовал вывод, что только слуга Вильгельма Шторица владел его тайной.
С другой стороны, поиски в Шпремберге не принесли никакого результата. Между тем здешние власти оказали все возможное содействие, а ведь известно, что прусская полиция — одна из лучших в Европе. Ни в Шпремберге, ни в другом месте невозможно было обнаружить, где прятался Герман.
Увы! Вскоре мы узнали, почему эти поиски не могли дать желаемого результата.
Муниципалитет Рагза решил уничтожить развалины дома на бульваре Телеки, чтобы стереть само воспоминание о нем. Следовало убрать обломки, снести остатки стен, чтобы от жилища, одиноко стоявшего на боковой дорожке бульвара, не осталось и следа.
Утром 2 июня, когда рабочие пришли к дому Шторица, чтобы начать расчистку, они нашли в глубине сада лежащее тело. Это было тело Германа, которого сразу опознали. Возможно, старый слуга пришел сюда, когда он был невидим, но смерть сделала его видимым, как и его хозяина. Впрочем, было установлено, что он умер от разрыва сердца.
Таким образом, исчезла последняя надежда, и тайна Вильгельма Шторица умерла вместе с ним.
Действительно, в бумагах, доставленных в ратушу, после их тщательного изучения обнаружили лишь какие-то непонятные формулы, физические и химические обозначения, относящиеся, по всей вероятности, к области рентгеновских лучей и электричества. Но из них невозможно было сделать какие-либо выводы относительно состава, позволяющего мгновенно делать человека видимым или невидимым!..
Значит, бедную Миру мы вновь увидим только тогда, когда жизнь оставит ее, когда она будет лежать на своем смертном одре?..
Наступило 5 июня. Утром ко мне пришел мой брат, уже более спокойный, и вот что сказал:
— Дорогой Анри! Я принял решение и хочу прежде всего им поделиться с тобой. Думаю, что ты его одобришь, как и все другие.
Признаюсь (почему бы не признаться?), я предчувствовал, что собирается сказать Марк.
— Друг мой, — ответил я, — ты можешь мне довериться!.. Я знаю, что ты слушался только голоса разума…
— Разума и любви, Анри! Мира — моя жена по закону… Нашей свадьбе недостает только религиозного освящения, и это освящение я хочу попросить… и получить…
Я обнял брата и сказал:
— Я понимаю тебя, Марк, и не вижу ничего, что могло бы воспрепятствовать твоей женитьбе…
— Воспрепятствовать могла бы только Мира, — ответил Марк. — Но она готова преклонить колени вместе со мной перед алтарем! Хотя священник не будет ее видеть, но, по крайней мере, услышит, когда она заявит, что берет меня в мужья, как и я беру ее в жены!.. Я не думаю, что у церковной власти могут быть какие-то возражения. Впрочем, даже если бы мне пришлось обратиться…
— Нет, дорогой Марк, я беру на себя все хлопоты…
Прежде всего я обратился к настоятелю собора, к протоиерею, служившему свадебную мессу, которая была прервана беспрецедентным святотатством. Почтенный старец ответил, что этот случай уже предварительно рассмотрен, что архиепископ примас[592] Рагза дал положительный ответ после консультации с церковными инстанциями Рима. Не было сомнений, что невеста жива и поэтому способна приобщиться к таинству брака.
Короче говоря, дату церемонии назначили на 12 июня.
Накануне Мира, как уже однажды, сказала мне:
— Это будет завтра, мой брат!.. Не забудьте!..
Бракосочетание состоялось во вновь освященном согласно церковным правилам соборе Святого Михаила, с теми же свидетелями, с теми же друзьями и приглашенными семьи Родерих, с тем же наплывом горожан.
Не буду отрицать, что к церемонии примешивалось больше, чем раньше, любопытства, но это любопытство можно понять и извинить! Конечно, у присутствующих еще сохранились некоторые предрассудки; они исчезнут только со временем! Да, Вильгельм Шториц умер, да, его слуга Герман был найден мертвым в саду проклятого дома… И однако, многие задавались вопросом, не будет ли эта вторая свадебная месса прервана, как и первая, не нарушат ли новые необъяснимые явления церемонию бракосочетания…
Вот жених и невеста на клиросе собора. Кресло Миры кажется незанятым. Но она там в своем платье новобрачной, совсем белом, невидимом как она сама…
Марк стоит, повернувшись к ней. Он не может ее видеть, но знает, что она рядом; он держит ее за руку, чтобы засвидетельствовать ее присутствие перед алтарем.
Позади — свидетели, судья Нойман, капитан Харалан, лейтенант Армгард и я, затем господин и госпожа Родерих. Бедная мать стоит на коленях, моля Всевышнего сотворить чудо ради ее дочери, надеясь, быть может, что оно произойдет в святилище Бога. В большом нефе вокруг собрались друзья, знатные люди города; боковые нефы заполнены народом.
Звонят колокола, громко звучит органная музыка.
Появились протоиерей и его служки. Начинается месса, вся церемония сопровождается молитвенными песнопениями. Затем следуют целование дискоса[593] и принятие пожертвований. Мы видим, как Марк ведет Миру к первой ступеньке алтаря… Затем отводит на прежнее место после того, как диакон принимает пожертвование.
Наконец, во время возношения даров, после трехкратного звучания колокольчика, облатка поднята к небу, и на этот раз освящение заканчивается посреди глубокой тишины!..
Когда месса закончилась, старый священник поворачивается к собравшимся. Марк и Мира приближаются к нему, и он говорит:
— Вы здесь, Мира Родерих?..
— Я здесь, — отвечает Мира.
Обращаясь к Марку, священник произносит:
— Марк Видаль! Хотите ли вы взять присутствующую здесь Миру Родерих в жены, следуя предписаниям нашей Святой Церкви?
— Хочу, — отвечает Марк.
— Мира Родерих! Хотите ли вы взять присутствующего здесь Марка Видаля в мужья, следуя предписаниям нашей Святой Церкви?
— Хочу, — отвечает Мира, и все присутствующие слышат ее голос.
— Марк Видаль! — продолжает протоиерей. — Обещаете ли вы сохранять верность во всем, как верный супруг, своей супруге по велению Бога?
— Да… обещаю.
— Мира Родерих! Обещаете ли вы сохранять верность во всем, как верная супруга, своему супругу по велению Бога?
Марк и Мира соединены таинством религиозного брака.
По окончании церемонии молодожены, их свидетели, друзья направляются в ризницу, с трудом пробираясь сквозь толпу.
А в книге записей прихода рядом с именем Марка Видаля появилось другое имя, написанное невидимой рукой… имя Миры Родерих!
XIX
Такова развязка этой истории, которая, может быть, получит другой, более счастливый конец…
Разумеется, молодожены отказались от своих прежних планов. Теперь не могло быть и речи о путешествии во Францию. Я предвидел даже, что отныне мой брат будет лишь изредка приезжать в Париж и окончательно обоснуется в Рагзе. Это меня глубоко огорчало, но что поделать!
Действительно, для Марка и его жены лучше было жить в старом особняке, рядом с доктором и госпожой Родерих. Впрочем, все привыкли бы к такой жизни; Миру ее близкие представляли себе благожелательной и улыбающейся… Она обнаруживала свое присутствие голосом, пожатием руки! Всегда было известно, где она находится и что делает. Она была душой дома, а душа, как известно, невидима!
И потом, был еще ее замечательный портрет, написанный рукой большого мастера. Мира любила сидеть около этого полотна. Своим ободряющим голосом она часто говорила:
— Вы видите… Это я… я здесь… меня снова можно видеть… и вы меня видите такой, какой я себя вижу!
Получив продление своего отпуска, я остался в Рагзе еще на несколько недель и жил в особняке семьи Родерих, перенесшей такие тяжелые испытания. Скоро приближается день моего отъезда!..
Иногда я думал, стоило ли отчаиваться из-за того, что мы никогда не увидим вновь молодую женщину в ее материальности. А может быть, совершится какой-нибудь физиологический процесс или само время вернет ей утраченный облик, и в один прекрасный день Мира предстанет перед нами в сиянии молодости, грации и красоты.
Возможно, это произойдет в будущем. Но пусть Небо сделает так, чтобы тайна превращения людей в невидимок никогда не была бы открыта и чтобы она навсегда была погребена в могиле Отто и Вильгельма Шторицев!
Послесловие
Для поклонников того или иного литературного мэтра нет ничего более желанного, чем открыть новое произведение своего любимца. Жюль Верн и через девять десятилетий после смерти все еще доставляет своим почитателям подобные удовольствия. И с каждым появлением спрятанной во мгле времен, в тишине хранилищ рукописи мы знакомимся с новыми чертами творческой биографии замечательного художника, по-новому оцениваем, казалось бы, давно известные факты, еще на шаг приближаемся к подлинному постижению любимой творческой личности.
В этом томе сочинений Жюля Верна вниманию читателя предлагаются произведения, не публиковавшиеся при жизни их создателя. Они долгие годы хранились в архивах и предстали перед почитателями знаменитого писателя только в последнем десятилетии. Разумеется, к вершинам верновского творчества они не относятся, однако каждое из публикуемых здесь произведений отражает определенный важный этап в судьбе их автора. Именно знакомство с этими недавно явленными миру вещами значительно расширяет наши представления о Жюле Верне, в новом свете показывает его отношение к литературному творчеству и к жизни вообще и в какой-то степени ведет к переоценке его наследия.
Работу над романом «Город будущего» Жюль Верн начал сразу же после триумфального успеха «Пяти недель на воздушном шаре». На этот раз все еще ищущий свою дорогу писатель решил попробовать силы в жанре футурологического произведения. Он намерен предвосхитить эволюцию нации. Тайна этого так и не напечатанного при жизни автора романа почти целый век будет волновать литературоведов. Впервые критики и читающая публика узнали о его существовании из послания сына писателя Мишеля журналисту Эмилю Берру от 30 апреля 1905 года, к которому автор письма приложил список неизданных произведений недавно умершего отца. Этот список перепечатали многотиражные «Фигаро», «Тан», многие другие газеты и журналы. О немедленной публикации футурологического прогноза знаменитого писателя речь и не шла — в распоряжении Мишеля оказались более интересные наработки отца, включая полностью законченные приключенческие романы. А потом рукопись затерялась, и верновский роман о будущем перешел в категорию мифов. Но в середине восьмидесятых затерянная рукопись была обнаружена, и в 1994 году появилось ее первое издание. Книгу выпустило парижское издательство «Ашетт». Теперь о ней сможет судить и русский читатель.
На мой взгляд, с этим произведением непременно должен познакомиться каждый поклонник Жюля Верна хотя бы потому, что оно, по меткому замечанию вице-президента общества имени Жюля Верна Пьеро Гондоло делла Ривы, является подлинной энциклопедией мыслей автора в ранний период его творчества. Другой литературовед, Вероника Беден, считает, что это сказание о будущем дает читателю весьма ценную информацию о веке XIX, являясь, в сущности, самым актуальным для того времени романом. Действительно, в книге упоминается масса деятелей французской культуры — поэтов, драматургов, музыкантов, композиторов, артистов. Многим из них даются характеристики, свидетельствующие прежде всего о литературных, театральных, музыкальных пристрастиях самого автора. Читатель может видеть и личное верновское отношение к писателям, вошедшим в историю французской литературы. Из современников больше всего он ценит литераторов из либерального лагеря, друзей П. Ж. Этцеля или близких к нему людей. Правда, Этцель был весьма уважаемой в творческой среде личностью; он поддерживал дружеские связи с большинством писателей своего времени. Видимо, Ж. Верн был не в курсе всех нюансов этих отношений, однако он судит о деятелях культуры весьма самоуверенно, гиперболически расхваливая тех, кого считал близкими к издателю, и необдуманно казня неприятелей из противного лагеря. И в конце концов молодой автор надоел тем, кого стремился узнать поближе, — о том свидетельствуют пометки известного издателя на полях рукописи.
Писатель вовсю старается стать предсказателем будущего, причем предсказателем как можно более точным. Его задача, как он считает, состоит не в выдумывании оригинальных технических диковинок, а в угадывании наиболее перспективных предложений среди тех реальных проектов, которые в большом количестве поставляли на рынок идей одержимые изобретатели. И надо признаться, что Жюль обнаружил недюжинную интуицию. Из массы проектов он отбирал воистину самые перспективные. Иные из них осуществились через четверть века (скажем, мотор конструкции Ленуара был применен в автомобиле Даймлера в 1889 году), иные — только в наши дни (бесшумный рельсовый транспорт), некоторые оказываются слишком смелыми и для нашего времени (морской канал до Парижа). Возьмем в качестве примера вопрос об уличном освещении. Возможность применения электричества в этой области была принципиально доказана еще в начале XIX века опытами Хамфри Дэви, однако осуществилась эта техническая идея только в конце века, после изобретения Томасом Эдисоном электрической лампочки накаливания. В Париже в 1861 году перед воротами Пале-Руаяль была установлена экспериментальная дуговая лампочка, питавшаяся током от мотора мощностью в три лошадиных силы. Для Верна и такой малости было достаточно, чтобы убедиться в потенциале нового вида освещения. Уже в 1867 году прожектора с дуговыми лампами стали в качестве эксперимента применяться для ночных работ на строительстве Парижской выставки и «Отель-дю-Лувр». Регулярное уличное освещение появилось в Париже в 1885 году.
Но если в технике Жюля можно считать пророком, то в области общественных отношений, политики, культуры его мрачные предвидения не сбылись. Один из критиков назвал их «отражением делячества Второй империи»[594]. К счастью, романист преувеличил силу денег, ошибся с определением положения классической культуры в нашем обществе и самого типа людей, хотя отдельные положения его мрачных предсказаний осуществлялись в той или иной мере в процессе развития современного общества, да и в нашей жизни при желании можно отыскать параллели верновским пророчествам.
Это странное и вместе с тем сильное произведение в значительной мере меняет наше представление о Верне как человеке и писателе. Футурологом писатель, по существу, и был-то только в этом романе. Он дает красочное описание метрополии будущего. Но в этом городе права гражданства имеют только деньги да механические науки, культура находится под полным контролем государства, и только несколько деклассированных маргиналов еще сохраняют память о классической культуре — их безжалостно давят сарказм и безразличие, убивают голод и нищета. Такое контрастное видение городской цивилизации, восхищающей своими техническими достижениями, но абсолютно обескультуренной, и составляет основной мотив «Города будущего».
Полностью проявился в футурологической фантазии и романический талант Верна. «Здесь пробивается стиль Жюля Верна, со своими недостатками и оплошностями, разумеется, но и со своими достоинствами. Здесь уже появляется любовь к перечислению (общественных учреждений, писателей, поэтов, ученых и музыкантов), которая так знатно заявит о себе в реестрах рыб, насекомых или растений, через которые иные молодые читатели “Необыкновенных путешествий” порой будут пытаться перескочить, зато другие станут ценить их поэтические качества. Повсюду на страницах романа рассыпан юмор. А в особенности здесь уже есть эта способность раскрыть сегодняшние реалии, чтобы увидеть в них мечту»[595].
Неясной остается дата написания романа. Когда-то его считали предшественником «Пяти недель на воздушном шаре», но он, видимо, все же написан позже. До 1863 года, как утверждает Гондоло делла Рива, «Город будущего», во всяком случае, не мог быть написан. Кроме того, содержание письма Этце-ля, приложенного к возвращенной рукописи, дает основание утверждать, что самый замысел романа появился после знакомства Жюля со своим будущим издателем, а его осуществление, вероятнее всего, произошло непосредственно после окончания знаменитых «Пяти недель на воздушном шаре».
Пьер Жюль Этцель отклонил рукопись, вернув ее автору со своими замечаниями в конце 1863 или начале 1864 года. «Дорогой друг, — начинает издатель свое сопроводительное письмо, — все эти обширные диалоги не являются тем, о чем вы думаете. Они выглядят нарочитыми, не вытекающими из обстоятельств. Такой прием хорош под рукой Дюма, в изобилующей приключениями книге, здесь же он утомляет... Это — всего лишь мелкий журнализм, вот и все. Это ниже вашего замысла»[596]. А всю содержащуюся в романе критику общества, «все эти гипотезы» Этцель посчитал неинтересными. «Нет, нет, — убеждает он молодого автора, — это не получится. Подождите с такой книгой лет эдак двадцать»[597]. Вся рукопись пестрит пометками Этцеля: «развить», «детализировать», а иногда встречаются и более резкие суждения, как, например: «Сегодня в ваше пророчество не поверят».
В конце концов издатель выносит суровый приговор: «Вы взялись за непосильную задачу... и не смогли ее хорошо воплотить. Это на сто футов ниже “Пяти недель на воздушном шаре”. Если вы перечтете рукопись через год, то согласитесь со мной. Это — для дешевенького журнальчика. Я ожидал лучшего. Публикацию подобной работы я считал бы несчастьем для вашего имени. Это дало бы повод судить о том, что “Воздушный шар” был только временной удачей. Но у меня есть “Капитан Гаттерас”, и я знаю, что, напротив, случайность — эта вещь, но публика-то этого не ведает. Вы еще не созрели для подобной книги. Вы дозреете до нее лет через двадцать... Такая литература ниже вас, и притом почти в каждой строчке»[598].
Трудно судить, как воспринял Верн этот отказ, поскольку его ответа не сохранилось, но, судя по тому, как он вообще относился в 1863 — 1870 годах к замечаниям Этцеля, особенно обиженным автора представить трудно. Конечно, издатель знал читателей выпускаемых им книг, проникся их вкусами и пристрастиями. Кроме того, будучи сам ценимым писателем, он мог по-деловому судить о литературных достоинствах труда младшего собрата по цеху. Этцель посчитал, что многие персонажи книги не внушают доверия — с этим недостатком Ж. Верну придется бороться на протяжении всей своей писательской карьеры. Возможно, Этцеля оттолкнул «недостаток воображения». Но скорее всего верновский роман просто-напросто не соответствовал его издательским планам.
Жюль в дальнейшем не возвращался к этому произведению, хотя некоторые его последующие вещи удивительно близки по тематике отрывкам из «Города будущего».
Речь прежде всего идет о шутливом докладе «Идеальный город», прочитанном в Амьенской академии 12 декабря 1875 года[599]. Тема доклада — прогулка автора по Амьену в 2000 году, что дает повод рельефно отобразить недостатки современного города. Там, в частности, тоже упоминается об электрическом концерте, в котором находят свое отражение две занимавшие почтенного амьенца издавна, со времен «Города будущего», а то и раньше, музыкальные темы: а) какофония вытесняет традиционную музыку, б) сочиняются пьесы «по научному вдохновению» — такие как упоминаемые в докладе «Мечтания о квадрате гипотенузы». Любители музыки могут судить, сколь справедливы были предсказания «великого фантаста».
Еще дважды Ж. Верн будет пытаться изобразить мегаполис будущего: американскую столицу XXIX столетия Центрополис (Юниверсал-Сити в англоязычном варианте Мишеля Верна) в рассказе «День американского журналиста» и город богачей Миллиард-Сити в позднем романе «Плавучий остров». Сходство описаний этих городов с Парижем середины XX века совершенно очевидно, особенно во втором случае.
А к тексту отклоненного П. Ж. Этцелем футурологического романа писатель больше никогда не возвращался. Зачем? Уже передана издателю рукопись «Приключений капитана Гаттераса» — он уже выбрал свой путь в литературе.
Хотя момент этого выбора мог случиться гораздо раньше. Здесь время вспомнить о шотландском путешествии Жюля Верна. Как известно, далекий предок писателя по материнской линии Аллотт (или Алиотт), шотландец по происхождению, завербовался во второй половине XV века лучником в гвардию французского короля Людовика XI. Он честно выслужил дворянство, а король к тому же даровал ему почетное право содержать голубятню, что в те времена было, кстати сказать, сугубо королевской привилегией. Оттого-то и появилась благородная опушка de la Fuye в простецкой шотландской фамилии. Оттого-то в материнской семье большой популярностью пользовались предания о Шотландии и ее народе, а также романтические истории из жизни пращура, скорее всего выдуманные. Маленький Жюль, вдобавок к услышанному на семейных вечерах, жадно поглощал романы Вальтера Скотта, которые воспринимал с гордостью законного наследника славы всех этих Монтрозов, Маклинов и МакГрегоров. (Не случайно небогатый студент права Верн, едва обосновавшись в Париже в конце 1840-х годов, покупает прежде многих более нужных ему изданий 32-том-ное собрание сочинений знаменитого романиста). Так в юношеском впечатлительном сердце зародилась любовь к туманной отчизне предков, которая позднее отчасти воплотилась в «Зеленом луче», «Черной Индии», во многих эпизодах других романов.
И вот скромному, мало зарабатывающему парижскому литератору, каким был в 1859 году Жюль Верн, представился счастливый случай побывать в давно привлекавшей его стране. Возможность эту предоставил Жюлю его близкий друг и автор музыкальных пьес на верновские стихи Аристид Иньяр. Брат композитора трудился в одном из многочисленных бюро путешествий. Он-то и предложил Аристиду прокатиться по льготной цене на Британские острова. Тот попросил разрешения взять с собой друга. Разрешение было получено, и французы отправились в гости к северным соседям. До тех пор Жюль ни разу не пересекал границ родной страны. Все для него было внове, все привлекало его внимание: судовые порядки, таможенные формальности, пейзажи островного государства, архитектура городов, незнакомые обычаи островитян и — ясное дело! — технические новинки. А самое главное заключалось для писателя в узнавании мест, знакомых только по литературным описаниям. Эта процедура идентификации, кстати, позднее не раз использовалась писателем в его приключенческих романах.
Ход путешествия достаточно полно отражен в записях Верна — именно в записях, потому что произведение не поддается точной литературной классификации. Задумано оно было как путевой роман, но автору не хватило ни изобретательности, ни мастерства написать его в подобном жанре. Кроме того, Жюль находился под сильным влиянием целого ряда опубликованных работ очеркового характера, иногда принадлежавших перу крупных мастеров. Скажем, критики находят в верновской книге немалое сходство и с «Зимой на Майорке» Жорж Санд, и с «Путешествием в Англию и Ирландию» Алексиса Токвиля. Верновская рукопись обнаруживает знакомство и с фантастической сказкой Шарля Нодье «Трилби». Еще большее воздействие на прозелита европейских вояжей оказали две серии репортажей. Одна из них — о путешествиях, совершенных в 1848 —1851 годах, — была собрана автором Луи Эно в книгу под названием «Англия, Шотландия, Ирландия. Живописное путешествие». Другую, «Англичане у себя дома», Франсис Вей публиковал в ноябре 1850 года — мае 1851 года в том же самом «Мюзе де фамий», в котором сотрудничал Верн. Возможно, Жюль надеялся украсить своим трудом страницы этого журнала, да не повезло.
Отметим интересный момент. В соответствии с духом времени писатель не боится доверить страницы своей книги «низким» материям, в частности, описывает моральное убожество и материальную нищету в кварталах городской бедноты. И здесь Верн послушно следует за предшественниками. Так, в описании Ливерпуля французские критики слышат отголоски токвилевской картины Манчестера. Вероятно, он считал, что право на вторжение в текст «низких» тем автор получает в том случае, когда отказывается от беллетристической направленности и ступает на явно репортерскую дорожку. Во всяком случае, в романах из серии «Необыкновенные путешествия» мы не встречаем столь открытых описаний язв человеческого общества.
Шотландское путешествие произвело на Верна неизгладимое впечатление. Сорок лет спустя он признавался английской журналистке Мэри Беллок: «Всю свою жизнь я наслаждался романами Вальтера Скотта, и во время путешествия на Британские острова, которое никогда не забуду, самыми счастливыми были дни, проведенные в Шотландии. Словно видения, вспоминаю чудесный, живописнейший Эдинбург, холмы Хайленда и дикие Гебриды. Для человека, родившегося с произведениями Вальтера Скотта, нет места в Шотландии, которое он не мог бы вспомнить по описаниям знаменитого автора»[600].
Литературный отчет об этом путешествии остался невостребованным, так как Этцель в 1862 году отказался публиковать книгу подобного рода. Однако писатель использовал наиболее интересные свои наблюдения при создании последующих романов, в том числе таких знаменитых, как «Дети капитана Гранта» и «20 000 льё под водой».
Рукопись книги после смерти автора была передана на хранение в Нантскую муниципальную библиотеку. Она считается теперь собственностью города Нанта, родного города писателя. В 1989 году «Путешествие в Англию и Шотландию задом наперед» было опубликовано парижским издательством «Шерш миди». Читатель познакомился в данном томе с первым переводом путевых записей Ж. Верна на русский язык.
Том завершается романом «Невидимая невеста». Собственно говоря, это произведение не совсем верно считать неопубликованным. Значительная его часть увидела свет в составе романа «Тайна Вильгельма Шторица». Но роман этот, как знает теперь любой поклонник Верна, был значительно изменен сыном писателя Мишелем. Историю создания и искажения этой единственной в своем роде верновской фантазии читатель найдет в XXI томе нашего Собрания сочинений[601]. В послесловии к этому тому выражено пожелание, «чтобы до русского читателя дошла и... авторская версия романа».
Теперь читатель получил первый русский перевод авторской версии «Шторица». Ему представляется уникальная возможность проникнуть в творческую мастерскую мэтра приключенческой литературы и сравнить оригинальный замысел Ж. Верна с тем, что получилось после внесения Мишелем — по требованию Этцеля-младшего — изменений в текст романа. Можно утверждать, что сам писатель никогда бы не согласился с пожеланиями издателя.
К работе над «Шторицем» писатель приступил весной 1898 года, сразу после окончания «Ледяного сфинкса» — блестящего фантастического сочинения, в котором мастерски развивается замысел великого американца Эдгара По. И для «Шторица» Верн выбрал литературный образец: на этот раз им стал только что появившийся «Человек-невидимка» Герберта Уэллса. Верн переосмыслил идею британца в чисто французском духе. Оттого и назывался роман первоначально «Невидимая невеста». Написан он был очень быстро: между 17 апреля и 23 июня 1898 года, что существенно меняет как сложившееся мнение о поздних романах Верна, которые — как обычно утверждается — писались медленно и тяжело, так и мнение о постепенном истощении творческого потенциала автора «Необыкновенных путешествий». Роман французского писателя получился легче, светлее, жизнелюбивее мрачной фантазии англичанина.
Потом на целых три года рукопись легла в ящик письменного стола. В 1901 году Верн снова вернулся к «Невидимой невесте». Он доработал текст, сделав изложение строже и лаконичнее. Тем не менее автор чувствовал, что его новая работа не вызовет восторга у издателя. Он долго не решался передать рукопись Жюлю Этцелю. Только в сентябре 1904 года он выразил пожелание увидеть-таки роман напечатанным. Пятого марта 1905 года, за девятнадцать дней до кончины, писатель отослал «Секрет Шторица» (как он уже переименовал роман) в издательство. В кратком сопроводительном письме Верн признавался: «Шториц... это — чистый Гофман, но даже Гофман не осмелился бы зайти так далеко». Поклонникам верновского творчества стоит запомнить эту фразу, потому что очень часто их любимца называют писателем второго сорта, популяризатором, творцом, почти начисто лишенным фантазии. И вот — «Шториц». Немногим авторам удалось унестись так далеко в своей буйной фантазии.
Впрочем, если мы оглянемся на творчество почтенного мастера, то увидим, что проблема невидимого давно привлекала его. В той или иной степени невидимые герои появляются в «Замке в Карпатах», «Черной Индии», «Злоключениях одного китайца», «Таинственном острове». В «Шторице» эта проблема нашла свое наиболее полное воплощение. Ключом к роману некоторые считают слова другого верновского героя, Матиаса Сандорфа — «Смерть не разрушает, она только делает невидимым».
С полным правом, утверждают некоторые специалисты по Верну, роман мог бы называться и «Страсть Вильгельма Шторица», потому что именно любовь человека, владеющего могучим средством, становится движущей силой сюжета романа. Надо сказать, что писатель отлично справился со своей задачей, дав психологический анализ сложной, хотя и воспитанной на принципах эгоизма натуры. Он мастерски изображает пылкую, эгоистичную, преступную страсть. «Как.после этого можно говорить о Жюле Верне только как о писателе-географе, прогуливающем своих героев по страницам туристического справочника!» — возмущается один из крупнейших современных специалистов по творчеству Верна Оливье Дюма, между прочим, по первой профессии — врач[602].
Ж. Этцелю роман с самого начала не понравился. Он предложил Мишелю Верну перенести действие из строгого, материалистического XIX века в таинственный, заполненный грандиозными обманами и спекуляциями предыдущий век. В соответствии с этим из текста надо было вытравить все современное — исторические аллюзии, современные средства передвижения, гражданский брак ит. п., включая все новые словечки. Мишель было воспротивился. «По поводу “Шторица”, — писал он Этцелю в сентябре 1909 года. — Я все размышляю над этой работой и никак не могу решиться взяться за нее. В конце концов я готов оставить все как есть. Текст обладает достоинствами куда большими, чем я могу ему придать. Что же до недостатков, то они невосполнимы. Я ограничиваю свою задачу ретушью отдельных мест, которые вы мне указали»[603]. Но издатель настаивал, и, к сожалению, наследник великого писателя сдался, за что позднее не раз упрекал себя.
А оригинальная рукопись, казалось, была навсегда утеряна. Но в 1977 году Пьеро Гондола делла Рива приобрел у наследников Этцеля машинописные копии поступивших от Мишеля последних романов отца. Среди них оказалась и «Невидимая невеста». Общество имени Жюля Верна решило издать оригинальные версии этих романов, известных до того только в переработке Мишеля. В 1985 году «Секрет Вильгельма Шторица (Авторский вариант)» был издан небольшим тиражом. Одиннадцать лет спустя издание было повторено. Роман вышел одновременно в издательстве «Аршипель» и «Международном издательстве Алена Станке». Первый русский перевод оригинальной версии «Шторица» выполнен для нашего издания. При этом нам казалось предпочтительным сохранить и первоначальное заглавие романа. Именно такое пожелание высказал в свое время автор в своем последнем письме Этцелю-младшему от 5 марта 1905 года.
А. МОСКВИН