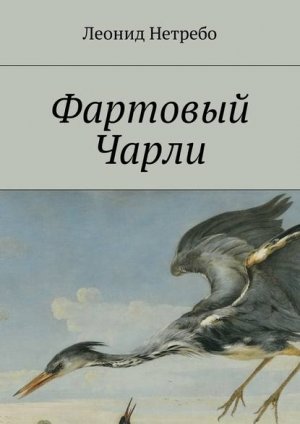
© Леонид Нетребо, 2018
ISBN 978-5-4490-2366-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ПРОСТРЕЛЕННЫЙ
…Пуля навылет – ему показалось, что он ее увидел, звякнувшую и покатившуюся по каменному тротуару, побежавшему вниз. И он сам, необычно напрягшись, как бы покатился без сил, на одном ускользающем разуме, на понимании того, что нельзя останавливаться, нельзя показывать тем, кто сейчас смотрит в спину, что его прошило насквозь: пусть думают, что это он просто так на секунду остановился, оттого, что рядом прожужжало что-то, щелкнуло по дувалу, чиркнуло по камням. Нельзя показывать кровь, которая, наверняка, уже залила всю пазуху и спину, и сейчас просочится сквозь гимнастерку, туго обхваченную ремнем, и закапает на камни. Они увидят это в бинокль и сейчас же пойдут следом. А так… дырку в спине, в гимнастерке, издалека вряд ли видно: гимнастерка нова и к тому же великовата, с воздухом, он не успел ее ушить, спина в складках, да и так прохладнее, чем в обтяжку. Пусть думают, что он, завернув за угол, быстро ушел с этого места, спеша по своим делам. Нужно еще сделать какой-нибудь жест, разочаровывающий их напряженное внимание (нет подранка, уходит здоровый зверь, промах, поэтому уйдет, бесполезно догонять, торопиться по следу). Он демонстративно поднимает над головой левую руку, отводит вывернутую ладонь в сторону: «…ах, да, сколько там времени?» Не слишком ли картинно? Удивился, что «как в кино», не чувствует боли, только жжение под правым плечом, а рука безжизненной плетью застряла в кармане брюк, может быть, кстати, – невольная маскировка под непотревоженную беспечность. Что ж, нате еще, последнее: поворачивая за угол, быстро и как бы небрежно, вытянув губы в трубочку, имитирующую простодушный посвист, который наблюдатели просто не могут слышать, как бы машинально оглядывается. Оказалось, двойная польза: убедился, – крови на тротуаре нет.
Вот и спасительный поворот. Дувал – надежная преграда от взглядов тех, кто за ним только что внимательно наблюдал. Всё. Всё ли? Он опустил голову, изображение резко поплыло, прикрыл один глаз, – предметы нехотя приняли привычный вид. Так и есть – темная, мокрая, тяжелая полоса вдоль пояса, кровь… Сейчас она где-нибудь найдет выход, даже через плотную ткань гимнастерки или под тугим поясом, и предательски закапает, прольется на землю гибельным следом. Через несколько минут они обязательно пройдут здесь, не догоняя, прогуляются, – почему нет? – оставив винтовку с глушителем в укрытии, вдвоем или втроем, чтобы осмотреть место, куда так неудачно положили выстрел, чтобы покачать головами, поцокать языками, весело поупрекать друг друга: вах, какой был шурави, наверное, офицер, вай, как жалко, вроде хорошо прицелился, должен был попасть, э-эах, мазила, как не попал? – вот если бы с оптическим прицелом! – жалко, цок-цок-цок… И, завершая неудачную охоту, полоскаясь от быстрого шага длинными одеждами, растворяться в знойном мареве городской окраины, пустынном полуденном царстве узких глинобитных улочек. Но если увидят кровь, то обязательно начнут искать, заходить во дворы, спрашивать жителей…
Силы покидают. А вот и теплая влага щекотливо и быстро побежала по ногам. Он толкает первую попавшуюся калитку и проваливается во двор, оказавшийся ниже уровня тротуара, от неожиданности падает, подламывая ногу, и ударяется головой об утрамбованную, утоптанную, твердую как асфальт землю. Хотя, он и так бы уже упал, пора, силы на исходе. Он знает, видел – все простреленные в это время уже падают, сколько можно… Он лежит на боку и, не пытаясь поднимать голову от земли, прищурив один глаз и, может быть, постанывая, осматривает двор. Словно потерянный собутыльниками пьяница, не удосуживающийся вынуть руку из кармана брюк, под которыми проступает темная лужа. Подходит седой старик с огромным кетменем наперевес и гневно, удивленно спрашивает по-узбекски (это узбекский район в Кабуле): «Сен каердан кельдынг, урус?» – Ты откуда пришел (появился, приперся), русский?..» Ему знаком этот язык, он немного жил в Ташкенте. Впрочем, нет, здесь язык не такой, как в Ташкенте, даже он это чувствует, здесь чужой язык. Старик не смотрит ему в лицо, он смотрит на лужу. Нижняя челюсть, наверняка беззубая, прикрывающая десна завернутой вовнутрь губой, трясется вместе с острой редкой бородой…
…Павел проснулся, потрогал живот – мокрый, хлюпающая складка, это от пота. Шевельнул плечом, нащупал шрам, привычный плотный узелок над правым соском груди. Все на месте… Эти сны страшны ожиданием того, что где-нибудь пойдет не по верному – незнакомому, неожиданному, смертельному пути. Хотя, и «верное» ужасно само по себе, если даже без неожиданностей, – годы не притупляют страха. Да, на этот раз все было почти так, как было. Правда, сейчас, в только что минувшем сновидении, он больше, чем на самом деле, думал, анализировал, с дыркой в теле убегая от «духов»… В действительности же… (Впрочем, что значит «в действительности»? – то, что физически произошло или то, от чего страдаешь?) Многозначность слова определяет панику души… Значит, выход в том, что нужно возвращаться к определенности, однозначности. Итак: если быть точным, то это он потом, много позже, присочинил себе, что сосредоточенно размышлял – тогда. И теперь каждый следующий, один из избитых, с небольшими вариациями, снов прибавляет мыслей тому лейтенанту, пробитому пулей, и плотность ужаса на секунду сна все возрастает. А на самом деле (долой, долой второй смысл!), на самом деле, о чем мог думать простреленный человек?.. Ну, вот, уже лучше.
Почти полдень. Нельзя так долго спать. А что делать, если заснул только под утро.
…Потный, чумной после позднего сна, он вывалился наружу, присел в пустом открытом кафе. Здесь можно сидеть просто так. Если хочется. Если неспроста, то изящный, высокий официант, весь в белом, с черной бабочкой, поэтому безликий, тривиальный, наблюдающий откуда-то изнутри стеклянной веранды с затемненными стеклами, неуловимо поймет это и выйдет наружу: чем я могу?..
Посетителей мало – поздняя осень. Еще тепло, но уже падают листья – в бассейн с рыбками, окруженный столиками открытого кафе, в котором мало посетителей, в основном обитатели дома отдыха. Рыбки плавают под чашей спокойного фонтана, создающей тень. В тени они все серые. На самом деле, на свету, они желтые, красные, огненные. Это самые настоящие золотые рыбки с выпученными глазами и вуалевыми раздвоенными хвостами, которых на лето выпускают из аквариума в бассейн. Здесь они, как в природе, инстинктивно начинают бояться людей, поэтому плавают в тени. В прошлую осень, рассказывают, один «новый» велел выловить их и зажарить. Заплатил большие деньги. Но есть, говорят, не стал, побрезговал, что ли, только поковырялся вилкой. Рядом с бассейном, ближе к веранде с кухней, небольшой водоемчик, метр на полтора: тут плавают, вернее, ползают по мелкому дну, стандартные, с ладонь, усталые форели, их можно потрогать за темные спинки, выбрать. Рыбину тут же ловко извлекут удобным пластмассовым сачком, на глазах посетителя (если угодно) почистят от чешуи, вскроют брюшко, выпотрошат и кинут на сковородку. Подадут на стол с охапкой зелени: милости прошу, пожалуйста, господин, госпожа, форель-с!..
Днем тут, как правило, тихо: обитатели пансионата разбредаются по городу, многие на процедурах. Да и вообще, коридоры дома отдыха полупустые, в любое время суток, – бархатный сезон если и рай, довольно многолюдный, то на море. А здесь, в сотне километров от края земли, в это время царит тишина (хотя, может статься, на оптимистичный взгляд, тоже бархатная…) Даже не видно гор, которые могли бы являться, по меньшей мере, зрительным шумом-гулом, их закрывают дремучие кроны вековых деревьев. Горы лишь угадываются в звуках ближней трассы, доносящихся непременно сверху. Но и шорох шин, усиленный акустикой каменного царства, да изредка нетерпеливые стоны клаксонов, идущих на обгон авто, только подчеркивают отдаленность от цивильного гомона, спутника суеты.
И все же вечером кафе оживает. Выползает из своих келий обитатели дома отдыха, подъезжают такси, подвозя местное население, предпочитающее активный вечерний отдых. До полуночи звучат шлягеры, публика вполне достойно отдыхает, забирая последнее перед надвигающейся зимой, которая на четыре слякотных месяца умертвит курортную бесшабашность южного города.
Напрасно он выбрал это место для отдыха. Горы. На море было бы лучше, хотя и там горы. Прибавилось снов, он совсем перестал высыпаться.
…Вчера опять снился издыхающий ишак, кричащий, весь в крови.
…Душман (скорее всего крестьянин в длинных рубищах, при нем не оказалось оружия, только кетмень и садовый нож) лежит рядом, сраженный первой очередью. Ишак страшно кричит, ерзая в пыли, размазывая черную кровь по дороге. Из засады в него стреляют, вокруг фонтанчики из пыли от пуль. Чтобы заглох. Из засады орут, матерятся, силясь заглушить этот трубный крик. Фонтанчики, пузырится одежда на крестьянине. Потом они покидают засаду и двигаются в сторону кишлака. Разведгруппа из пяти человек. Он, которому это снится, старший. Их только что забросили сюда на вертолете. Небо в той стороне, куда они двигаются, омрачено черным дымом… Он то и дело оглядывается по сторонам, удивляясь: сзади день, впереди ночь, кругом горы…
Кафе – это всего лишь часть территории дома отдыха, вернее, доля внутреннего парка, более или менее открытая небу. Выходящий из спального корпуса, если только он не держит направления к центральным воротам, за которыми – автобусная остановка, обязательно пересекает мозаичную дорожку и оказывается в кафе. Навязчивый сервис. Или, скорее, если учесть неназойливое поведение обслуги, ласковый намек. Видно, что кафе вселилось в центр исторической композиции парка недавно – современное, граненое, сине-желто-красное исполнение, красиво нарушающее архитектурную гармонию старины (овалы, гребни, шары, цилиндры, – все белое), и даже претендующее на модерновую часть гармонии новой. Единственная заградительная конструкция кафе, если не считать веранду с кухней, – полупрозрачный купол со светоотражательным покрытием, над всей полезной площадью, висящий на цепных растяжках, через который ночью хорошо просматривается звездное небо, между тем как днем это надежная защита от солнца. Фонтан – под куполом. Он так и остался, согласно замыслу новых строителей, началом дорог и дорожек, которые разбегаются в разные стороны прямо от пластмассовых столиков. Вокруг, уходящие лучами, – кажущиеся фрагментами лилипутового королевства, узкие и низкие от разбухших вековых деревьев, аллеи; архаичные, с вековым слоем облупившейся краски скамейки и «девушки с веслами», частью без рук и без весел, – все провинциальное, старое, вросшее в землю.
Павел пошарил по карманам, ища сигареты. Как будто нажал какую-то сервисную кнопку, – официант с готовностью показал свою услужливую фигуру в широком створе кухонной веранды. Сигареты нашлись, официант опять исчез, как будто затаился, как снайпер, за темными ветровыми стеклами.
День только начинался, а Павел уже чувствовал себя утомленным. Сейчас он докурит сигарету и сделает свой обычный заказ, немного взбодрится, вернее, слегка утолит хроническую усталость. Дома он по большей части обходился без этого – дела, дела, дела… Изо дня в день. Спасительный круговорот.
Среди теней и солнечных пятен, рядом с кафе, гуляют молодая женщина и ребенок, туда и обратно, то исчезая в сумраке аллей, то появляясь вновь. Павел поймал себя на мысли, что от этой семейной идиллии веет прохладой. Это счастливая поимка. Нужно развить тему. «Это семейная идиллия… От них веет прохладой… Красивый ребенок, гладкая кожа, светлые кудри – ангел… Она – смуглая богиня, величавая, недоступная, прекрасная… Отличный предмет искреннего, платонического обожания… Приют для утомленной души, охваченной неутолимым жаром… От нее веет прохладой… Так веяло…» Ах, черт!..
…Так веяло от афганской узбечки, внучки старика, у которого он пролежал простреленный трое суток. Ему повезло: внучка какое-то время работала в аминовском госпитале, и кое-что умела. Она оказала первую помощь, которая определила его надежду на выживание. На третью ночь старик, чтобы не видели соседи, забросав тело старыми мешками, вывез раненного «шурави» на арбе к советскому госпиталю… Эта женщина чем-то напоминает ту узбечку: такая же скромно, но достойно молчаливая, и даже – восточные черты, едва, впрочем, уловимые. Однако та молчаливость была покорностью, покладистостью. А эта?.. Так, так, нужно найти разницу и уйти в сторону…
– Куда только мужчины смотрят!.. Добрый день.
Это старушка. Рядом, за соседним столиком. Он едва не зашиб ее вчера, невидяще идя по коридору. Долго извинялся. Она, закусив губу и прижав морщинистую ладошку к груди, только кивала. Она тоже похожа – на сиделку в госпитале. Такие же пепельные кудри и губы в яркой розовой помаде. Не слишком ли много похожестей. Еще немного и придётся констатировать окончательное схождение с ума. Пора уезжать отсюда?..
Он приветствовал старушку глубоким кивком головы. Затем, подумав, что вчерашнее их «знакомство» не дает ему право на формальный молчаливый кивок, встал из-за своего столика и присел с ее разрешения рядом с ней. Старушка улыбалась умными глазами и всеми морщинками, венчиками, расходившимися от уголков этих глаз, и редкими крошечными глотками пила остывший, подернувшийся сланцевой пленкой кофе. Видимо, давно наблюдала за своим соседом по кафе. Интересно, что он делал не так в последние минуты, в чем был, вполне возможно, смешон? Павел огляделся, ища официанта, который немедленно возник как будто из-за спины.
– Коньяк? – спросил, заранее уверенный в ответе, приветливо, как завсегдатая, но без фамильярности, соблюдая дистанцию.
Уже несколько дней Павел, помимо воли, наблюдает за этим гарсоном. Навязчивое ожидание вот-вот поймать в ясных глазах под аккуратным «ежиком» искорку превосходства, присущую, как раньше казалось, всей этой ресторанной шушере по отношению к таким как Павел простым людям. Поймать – и проучить!.. Хотя бы как-нибудь. Например, заказать нечто невыполнимое и, услышав отказ… Наивное и, скорее всего, напрасное желание – порочной искорки не обнаруживалось. Иное время – иные нравы.
В годы молодости Павла это была особая каста. Тогда официант мог быть как просто холуем, шестеркой (злобной, заискивающий перед сильными и люто презирающий слабых – безденежных горожан и вполне обеспеченных провинциальных толстосумов, лохов), – так и даже главарем мафиозной группы, значимым человеком. Его величество дефицит делал свое дело, – из ряда социальных извращений. Сейчас для того, чтобы быть «мафиозой» (тоже извращение, но бессмертное), совсем не обязательно прикидываться пролетарием или инвалидом.
Отрицательные воспоминания, навеянные безадресным и бесплотным, каким-то классовым, кастовым мщением, сменялись вполне доброжелательной констатацией нынешнего положения вещей. Бывали мгновения, когда хотелось даже пригласить официанта за столик, угостить коньяком, поговорить по-мужски. На вид парень гораздо моложе, но, наверное, тоже где-то служил. Возможно, в горячей точке. Наверняка у него многое было по-другому. Как?
Но следом за этим дружелюбием перед глазами обязательно мелькали неприятные фрагменты истории возвращения домой из Афгана, через Ташкент. Там, в столице Узбекистана, в одном из пустующих дневных ресторанов, белобрысый официант принял его, Павла, человека в неподогнанной, великоватой для фигуры гражданской одежде, за проезжего лоха. Наглый взгляд, издевательские уточнения заказанного меню. Почему это так необычно сильно задело Павла? Белобрысый… Если бы он оказался чернявым, плохо понимающим по-русски, Павел простил бы ему непонимание, которое порождает со стороны непонимающего лишь невольное беззлобное, а потому почти необидное, пренебрежение. Подошли блатные. Официант бесцеремонно оставил «лоха», и… еще полчаса ожиданий. Наконец Павел, улучив момент, ловко поймав двумя пальцами обидчика за галстук-бабочку, прервал его подобострастное, женоподобное порхание в сторону ненавистного столика с уверенными, холеными ликами. Далее – познакомил ресторанного соплеменника со своим дубовым столиком, обойденного должным вниманием, поближе, вдавив хрустнувшим, хрюкнувшим носом в скатерть, которая через несколько секунд украсилась алым пятном и грязными пузырями… Павла били сзади мягкими кулаками и звенящими подносами… В милицейском «воронке» молодые сержанты, узбек и русский, наметанным взором рассмотревшие в его гневном гражданском облике черты одного из афганских вояк, сотнями курсирующих через Ташкент, даже не решившиеся потребовать его документов, удивленно, миролюбиво спрашивали, откуда он и кто. «Оттуда… Человек». Оттуда – понятно. А что значит «человек»? Какой человек? «Живой». А еще какие бывают? – снисходительно переглянулись. «Мертвые…»
– Чай, пожалуйста. Если можно, зеленый. Разумеется, правильно заваренный. – Павел немного помолчал, колеблясь, и все же добавил: – В отдельном чайничке. Кусковой сахар. Если в вашем заведении такого нет, найдите на стороне, я лучше подожду. И две чашки, если нет пиал. А если все это невозможно, то, пожалуйста… две бутылочки «Пепси»…
– Вы из Средней Азии? – спросила старушка заговорщицким голосом, чуть пригнувшись к столу, когда официант отошел.
– В некотором роде, – Павел улыбкой постарался показать соседке, что оценил ее наблюдательность, – немного жил там. – Он склонил голову набок и приподнял одну бровь, что означало шутливое любопытство к будущим отгадкам со стороны собеседницы.
Старушка кашлянула, борясь с волнением, порожденным гордостью за собственную прозорливость, и потянулась за кофе. Сухонькая рука дрогнула, звякнула чашечка, разлучаясь с блюдцем.
– Вы меня извините. Но еще – позвольте мне ошибиться, – ее глаза слегка увлажнились и заблестели, – я делаю вывод, что вы… Вы – военный!.. Возможно бывший, но офицер. – Она потупилась, как отличница перед строгим учителем, сомневающаяся в стопроцентной правильности своего ответа, и шумно потянула в себя большой глоток, разбивая кофейную пленку на мелкие блестки.
Заказ был выполнен почти молниеносно: парящий из всех отверстий фаянсовый чайник, две большие пиалы, горка сахарных плиток. На лице официанта – прежнее уважительное бесстрастие, но в скорости и пунктуальности прочитывалась обидчивая реакция на подозрительность клиента в несостоятельности фирмы.
Павел произвел необходимый ритуал: пиала наполнилась первой жидкостью лишь затем, чтобы тут же отдать ее обратно в чайник. Только после этого, выдержав небольшую паузу, он налил янтарного чаю в обе пиалы, одну протянул старушке:
– Угощайтесь. Оставьте свой кофе… – Спохватившись, сменил интонацию на более мягкую: – Просто потому, что ваш серьезный напиток совсем остыл. Хороший чай, я слышу знакомый запах… А с чего у вас такой вывод – про мою социальную принадлежность? У меня, что – командный голос?
Старушка окончательно осмелела, угадав в поведении Павла точность своего логического попадания. К тому же, его доброжелательность больше всего располагала к дальнейшему разговору. Было заметно, что она соскучилась по общению. Она торопливо взяла предложенную пиалу двумя руками, демонстрируя послушность, и, отхлебнув, презрительно покосилась на остатки своего кофе.
– С чего я взяла, вы спрашиваете? Это, знаете ли, труднообъяснимо. Видимо, жизненный опыт. А вот пиалы у нас, даже на Кавказе, делают все же не такие, как в Средней Азии, не правда ли? Как ни стараются. Смотрите: желтый фон, красный горошек! – как это по-нашему! Хотя, если о деталях по начатой теме… – Старушка перестала пить, и, упершись локтями в стол, подняла пиалу на уровень лица и стала осторожно перекатывать ее, на весу, как маленький обруч, сжимая ладонями лишь острые грани, не проливая ни капли и не обжигаясь. – Вы здесь уже трое суток… Днем заходите в кафе, заказываете рюмку коньяка – как это универсально! – выпиваете и сразу уходите в город. Что там можно делать целыми днями? Достопримечательностей – на одну хорошую экскурсию. Наверное, просто гуляете, наедине с собой. Точнее, – «отгуливаете» от… от себя, это довольно типично. Впрочем, о чем это я? Склероз. Не по теме? Ах, да, характерные детали… Ну вот, например, у вас рубашка всегда заправлена. Другой бы в такую жару – посмотрите вон на того, который пошел, видимо, к остановке… – навыпуск, а вы… Я ни разу не видела вас в сланцах… Здесь – и по городу в них шлепают. У вас босоножки. Какие-то крепкие. Всегда застегнутые. Как будто необходима постоянная готовность, ну, я не знаю, побежать, что ли… Ну, еще, разумеется, осанка и прочее. И еще одна, прямо скажем, неявная, но для меня пронзительная, лишенная многозначности, деталь… Я давно, нужно признаться, за вами наблюдаю, несколько дней, как, впрочем, и за всеми, кто меня так или иначе окружает, простите… Поймите меня правильно, это, знаете ли, возрастное… Годы, одиночество и так далее. Так вот. Наша с вами столовая. Вы как заведенный, съедаете какую-то кашу, омлет, пудинг, зелень (всего этого много – ведь вы не включаете в заказ бифштексы, гуляши и прочее, и прочее), выпиваете компот, встали, ушли. Потом, этот, я уже говорила, ежедневный коньяк. Признайтесь: чай – это впервые за три дня?..
Старушка перевела дух, отхлебнула из замученной пиалы:
– Так вот, эта пронзительная, но косвенная, да, все же косвенная, деталь: вы совсем не употребляете мясных блюд… Притом что внутренне – это уже в ваших глазах, да, да! – вы далеко не вегетарианец, не травоядный, если хотите… Извините за сумбур. Говорят, старея, люди становятся как дети. Не знаю, не знаю. Я этого как-то не замечаю. Впрочем, собеседники иногда снисходительно улыбаются. Вы – нет…
…Еще часто снится (а может быть, все эти сны – просто видения в нездоровой полуяви? Разве может сниться одно и то же?): душман, невидимый, стреляет сверху. Только что они, разведгруппа из пяти человек, вышли из мертвого кишлака: убитые люди – недавно, еще парятся раны. Это не они!.. Но душман думает иначе. Он длинными очередями, смертельным свинцовым дождем положил, распластал их на голом пятаке земли, рядом ни камня, ни деревца. Они, панически перекатываясь, чтобы не оставаться на месте, отвечают из своих «калашниковых», иногда через голову, лежа на спине, – бесприцельно, просто так, вверх, по скалам. Потом, когда кончились патроны, вдавленные, униженные в пыль понимают, что у душмана они кончились еще раньше. Они встают, отряхиваясь, тяжело дыша: будто только что закончилась мирная, но тяжелая, в темпе аврала, разгрузка вагона с какой-то серой мукой. Душман, прыгая с камня на камень, уходит вверх, гортанно изрыгая рыдающие проклятия, потрясая над головой по очереди биноклем и гранатой с длинной ручкой. Дескать, убью, дескать, видел, запомнил лица. Почему он не бросает гранату? – далеко?..
«Куда только мужчины смотрят!..» – говорит вполголоса пожилая соседка по столику с такой же, как и у него, пиалой в руках. Ах, да…
Официант превосходно владеет собой: осанка, жесты, мимика, – отличный кавалер. Сейчас он стоит перед молодой женщиной с ребенком. Ребенок, упершись руками в угол бордюра, занят разглядыванием золотых рыбок, которые иногда, выплывая из-под основания фонтанной чаши к границе света и тени, показывают золотые бока затихшему без движения зрителю. Женщина, меняя положения головы, вполголоса задает какие-то вопросы: вопрос – наклон к левому плечу, другой вопрос – к правому. Доносятся только обрывки фраз, но интонация выдает заслуживающую уважение пытливость: любознательность дилетанта, обращенная к специалисту, или экскурсанта – к гиду. Только, может быть, любознательность избыточно подчеркнутая голосом и движениями красивой головы. Официант, демонстрируя готовность к любым вопросам собеседницы, даже наивным, встречает каждый из них ровной улыбкой и ясным взглядом. Когда он говорит, его руки не блуждают в области карманов, не теребят салфетку, – каждый раз им находится положение точного жеста, удачно начатого в начале фразы и венчающего ее в конце. Официант не смотрит в сторону Павла и старушки, но трудно поверить, что он полностью поглощен беседой и не контролирует ситуацию вокруг. Те же предположения относятся и к женщине.
– Молодцы! Что бы сейчас выкрикнул Станиславский? «Верю!..»
Старушка, таинственно улыбаясь, – поднятые бровки, лобик в гармошку, опущенные уголки губ, – смотрела вместе с Павлом на беседующих у веранды.
– Они оба молоды, но ей бы больше подошел мужчина постарше, согласитесь. Если рассматривать эту пару как будущий дуэт… Поймите меня правильно – это просто так, в качестве макета, у которого в данном конкретном случае, нет воплощения, нет будущего. Так вот, в этой якобы гармонии – отсутствие обстоятельности, фундамента, если хотите, фундамента прошлого, без которого нет основательного будущего… Я совсем запутала вас и себя. Одним словом, как официант он – совершенство. И все. Ну, еще кавалер. Не более. Мой муж был гораздо старше меня…
– Как можно такую предпочесть какой-либо иной?.. – Павел удивился, насколько выразительна речь старушки, по одной только интонации единственной фразы следует, что молодая женщина разведена, оставлена. А ведь озвучена только эмоциональная вершина: дескать, невероятно, не может быть.
Официант исчез в своем укрытии, женщина и мальчик ушли из поля зрения Павла и старушки.
– …К тому же, вы одинок… У вас нет семьи, простите, простите…
Эти слова были чуть раньше. Они не просто продолжение отгадок, а подготовка, определяющая логику следующих предложений. Предложений не как грамматической суммы слов, а именно призывов к действию. Вот сейчас она говорит вроде бы совершенно другое, невинно кося глаза и наивно выделяя интонацией провокационный смысл фразы:
– Вы не просветите меня, каким образом сейчас заводят знакомства мужчины и женщины? Я имею в виду зрелых, отдающих себе отчет в собственных поступках людей. Ну, те, которые заинтересованы в серьезных отношениях? Без разных там глупостей… Быть может, приглашают за свой столик… в каком-нибудь кафе? Вы знаете… ну, это я так просто, так сказать, возрастные фантазии… Если бы я… – увы, мое время прошло, – и все же, если бы я, допустим, была заинтересована в некоем подобном… Думаю, что в данных условиях, например, в доме отдыха, где работает вечернее кафе… это было бы совсем не трудно. Впрочем, весьма возможно, я ошибаюсь, – нравы изменчивы. Но одно несомненно: я бы атаковала. Вернее, – атаковал… – она засмеялась, прикрывая рот сморщенной тонкой ладошкой. – Мой будущий… или, вернее сказать, прошлый муж нашел меня на танцах! Вернее, это я его нашла!.. Ой, простите! Не поймите меня превратно: мы с вами, то есть пара «я – вы», не в счет! Я совсем не о том. Отнюдь, отнюдь! Не подумайте! Ах!..-ха-ха!..
Павлу трудно сдерживаться, и он тоже смеется. Наверное, впервые за все время пребывания в доме отдыха. Вспорхнули с мозаичного тротуара голуби. Из веранды с затененными стеклами опять выглянул официант. Женщина и ребенок на секунду подняли головы, отвлекаясь от своего семейного общения, от своих праздных веселых забот.
У женщины, сидящей на корточках, поворот головы, на длинной, с четким продольным рельефом шее, напоминает движение удивленной птицы. Каштановая волна, попав под солнечный луч, пронзивший вековую чинару, вспыхнула, разлилась по поникшему плечу: рука снимает с детской коленки назойливых муравьев. Засмеявшись (по-своему – ребенку), она быстро распрямилась, выходя из профиля в анфас, царственную грацию которого подчеркнул вздрогнувший на бедрах, мгновенно разглаживая поперечные складки, темно-красный, с бархатным отливом халат. Серебряно сверкнула, от глубокого выреза на груди до колен, гирлянда из маленьких застежек-кнопок.
…Это не сон. Просто это продолжалось целый сладкий год. Казалось, в этом и было его спасение после отставки. Она встречала его в невинном шелковом халатике на застежке-молнии. Язычок металлического зиппера возле нежной выемки на шее имел запах и вкус. Ритуал, который с невероятной скоростью вгонял в транс, гасил внешнее солнце, зажигая исподний, тайный огонь…
Когда из школы приходили ее почти взрослые дети, нетерпеливо звонили в дверь – три длинных, – зиппер визжал, соединяя, казалось, в ровный шов обрывки времени – до и после. Она бежала к двери, он шел на кухню, целомудренно пил остывший чай, выглядывал из дверного проема: привет, молодежь, как успехи, а мы вот тут с вашей мамой чайком…
Через сколько времени это случилось? Ах, да, разумеется, через сладкий год. Он позвонил, отступая от сложившегося расписания. Улыбаясь в дверной глазок (он уже любил ее детей, мальчика и девочку, – не по годам взрослых): три нетерпеливых длинных. Она открыла, все было как всегда: невинный халатик и… Даже показалось, что это именно он, Павел, сидит сейчас на кухне и пьет остывший чай и машет рукой: привет!..
«Не верю!..» (Впрочем, это, похоже, из сегодняшнего дня.)
Как тривиально, оказалось. А ему виделось, что все было так волнующе оригинально, и в этой оригинальности – спасительная суть: он закусывал этот язычок-лепесток, который имел запах и вкус, зубами (затылок касался ее точеного подбородка), и медленно опускаясь на колени, зная, что произойдет…, – он не будет открывать глаз, пока хрустящий, иногда заедающий, замочек не достигнет дна своего пути, когда, щелкнув, разведет окончательно половинки гладкого, приятного щеке… Господи, как разочаровывающе обыкновенно!..
«Привет!..»
…Он надрезал кожу у самого горла, затем, поддев, довел лезвие до самого низа живота. Кожа расползлась на груди, обнажая белое мясо. «Как будто бабу раздеваем», – пошутил один из разведчиков, наблюдая, как Павел разделывает ворону, – «а я думал, общипывать будем, как курицу». Это было в тех же проклятых горах, когда несколько суток они пробирались к своим, без воды и пищи. (Вертолет не прибыл в назначенное место, они только слышали его шум за соседней горой, ошибка была совсем невеликой, но «достаточной», – покружился и улетел.) С «лимонками», но без единого патрона (благодаря душману, который спровоцировал их на бесполезную перестрелку), поэтому – обходя на всякий случай любые селения и вообще любые живые шумы. …Им повезло: сначала они поймали какого-то грызуна, потом подбили камнем неосторожную ворону. А на третью ночь, когда они уже почти совсем высохли, пошел сильный дождь, ливень, по камням потекли грязные ручьи… В следующую ночь они развели костер, – они решили, что все трудности и опасности позади. Город был уже близко, за небольшим перевалом, который контролировали правительственные афганские войска…
– Вы опять о чем-то задумались, – напомнила о себе старушка. – Чай совсем остыл. Можно, я закажу еще чайничек? Это прелесть. – Она резво привстала и изящно, звонко щелкнула пальцами правой руки, подняв ладонь на уровень лица. Громко обратилась к невидимому официанту: – Эй, где вы там! Молодой человек!.. Я тоже заказываю чай. Заказ аналогичный предыдущему!..
Павел опять не удержался и улыбнулся, так комично выглядела соседка. Сквозь эхо воспоминаний, из которых он только что вышел, улыбка получилась вымученной, он сам это чувствовал.
– Вы смеетесь над моим ископаемым жестом? – она повторила щелчок. – Это я для вас… Вы часто грустите. Не надо, уверяю вас. Вы мне не поверите, но я уже, какой бы не была причина вашей тайной печали, сопереживаю вам. Чем бы я могла вам помочь? Все это глупо, конечно, это, простите, возрастные сантименты… Но в принципе, кто-то должен… Я – конечно, вряд ли. Не тот запал… Даже на это, – она опять сделала движение пальцами, на этот раз они издали только шелест, – нужна энергия. А вот если бы…
Она повертела маленькой седой головкой, раз за разом устремляя обеспокоенный взгляд туда, где только что играли женщина и мальчик.
Неразлучная парочка снова оказалась совсем рядом. Женщина и мальчик уже сидели на корточках у водоема с форелями, которые, возвышаясь темными спинками из мелкой воды, вяло уворачивались от ручонок мальчика. Иногда мальчик звонко смеялся и хлопал ладошкой по воде. При этом его мама зажмуривалась и смешно трясла каштановой челкой в сверкающем бисере мелких брызг.
– У меня к вам предложение… Вернее, просьба, как к рыцарю… Здесь не так уж много особей одного с вами полу, а уж рыцарей!.. – не знаю! По крайней мере, – не созерцаю.
Павел с шутливой готовностью распрямил спину и склонил голову на бок: само внимание.
– Давайте сегодня вечером… Закажем столик, к примеру… – она покосилась на тех, кто играл с форельками, – скажем, на… четверых. И кого-нибудь пригласим в качестве третьего и четвертого. Просто так, как бы между прочим, случайно. Это ведь классика – в том, что иногда только маленький шаг отделяет нас от великого. Но вот сделать его – не всегда хватает смелости. Мешают условности. Извините за нравоучительный пафос.
Павел изобразил, как мог, шутливую мину:
– Понял. Прямо так, как в классике, подойдем к случайному прохожему и предложим, без лишнего пафоса, – он отвернул голову в сторону, хрипло обращаясь к невидимому прохожему: «Третьим будешь?»
Старушка поддержала игру и отвернулась в сторону противоположную: «А четвертым?..» С тем же хрипом. По всему было видно, что в молодости этот ныне седой милый одуванчик был неутомимым генератором идей, возможно, отчаянных.
– Эта? – женщина смеется вместе с мальчиком. – Эта? Ну, же, сынок! Эта? Смотри, какая красивая, спиночка блестит!..
Бывший офицер и старушка невольно умолкли, залюбовавшись воплощением непосредственности, покоя и счастья…
– Эта? – очередной раз восклицает женщина, и, услышав утвердительный ответ, облегченно показывает официанту пальцем на рыбину: – Вот эта.
Гарсон, на секунду загородивший каштановую голову стриженым затылком, ловко выхватил сачком из воды трепыхающуюся форель и унес, оставляя на кафеле мокрый след, в глубь стеклянной веранды.
Слышен характерный шум разделки, затем запах жареной рыбы. Женщина и мальчик сидят за соседним столиком в молчаливом ожидании и, влюблено глядя друг на друга, улыбаясь, чуть поднимая подбородки, втягивают в себя аппетитный запах. Кажется, ее красивые ноздри при этом страстно, плотоядно подрагивают.
…Зачем они в ту ночь развели костер!
Он ушел в сторону перевала с биноклем, не терпелось увидеть конец своего мучительно пути. В тот момент, когда он уже разглядел редкие огни города, сзади ухнуло что-то большое и страшное. Сразу ли он понял, что это взрыв гранаты? Или это понятие пришло позже, в снах? Трое ребят, кроме того, кто остался дозором у костра, спали в небольшой пещере. Взрыв получился удавленный. Когда он прибежал туда, все было уже кончено и спокойно: вход в пещеру завален, а дозорный лежал со вспоротым животом, с куском печени во рту (как оказалось – собственной), его внутренности шипели и лопались в угасающем костре, источая едкий дым и тошнотворный запах – смесь жареного мяса и фекалий.
Павел навалился локтями на столешницу и закрыл глаза, устало прислонив лоб, покрывшийся испариной, к сжатым кулакам.
…Такая мысль все эти годы ни разу не приходила ему в голову. Мысль о том, что это тот самый душман, который грозил им гранатой, который (это потом ни разу не вызывало сомнений) преследовал и положил почти всю разведгруппу на перевале, – это именно он потом, много позже, выследил его, Павла, в Кабуле и прострелил… Невероятная, но почему-то, в осознаваемой дикости, – все-таки жуткая мысль… Жуткая также в своей навязчивости, как неверный вариант концовки в целом «правильного» сна. (Например: калитка оказалась запертой, сзади – улыбающийся душман со снайперской винтовкой. Или: старик замахивается кетменем.) Нет, на самом деле все было не так. Но что значит «на самом деле»? Если этого не было на самом деле, то почему оно отравляет жизнь, съедая изнутри?
Вечером странная на взгляд пара: моложавый седеющий мужчина и кудрявая, маленькая сухонькая старушка, – сидели в уютном и достаточно многолюдном открытом кафе дома отдыха. Они сидели в самом дальнем углу площадки, уставленной пластмассовыми столиками, спиной к основной массе отдыхающих, к ансамблю на невысоком подиуме у фонтана. Можно было подумать, что их лица были намеренно обращены в сторону темной аллеи, как будто это двое незрячих, которым все равно, какая картина перед ними, но не безразлично, что думают о них окружающие (чтобы не вызывать жалость). Впрочем, скорее всего, эту несколько необычную для дома отдыха пару, их трогательные позы, когда они, бережно и нежно обращали друг к другу лица, видимо беседуя о чем-то, их волнующем, – все эти удивительные странности могли быть замечены только одним человеком – дневным официантом, который, дорабатывая смену, вместе с парой своих других, более свежих коллег, сновал среди столиков. Хотя, с другой стороны, официанту вряд ли было до этих удивлений: за те сутки, которые были отданы дежурству, он порядком устал и мыслями был уже дома.
«…Знаете, у нас с моим мужем было свадебное путешествие: Кавказ, озеро Рица и так далее. Жили мы в Сухумском пансионате. Нас возил величавый автобус по достопримечательным местам. Так вот, на этом самом озере Рица, помню, ужасно захотелось есть… А надо сказать, что, как вы наверняка знаете, первые дни – это притирка характеров… Словом, мы уже с утра были в очередной ссоре, в одной из тех, которые сами собой улетучиваются к вечеру. Классика: с утра несколько пылких, обидных фраз, затем день молчания, затем вечер прощения и ночь примирения… И так далее. Так вот, в тот день, вернее, в полдень молчания мы, безъязыкие и независимые (по отношению друг к другу, разумеется), зашли примерно вот в такую же кафешку. Самообслуживание. Муж принес великолепного, вкуснейшего жигулёвского пива и какую-то жареную рыбу. Мне показалось – ряпушка, какую тогда обычно продавали в столовых, такая, знаете, гадость. Вот, думаю, жадина, и прочее, разумеется, думаю, отнюдь не возвышающее моего избранника в моих глазах… Не мог хотя бы шашлыка купить!.. Но молчу, гордость. Недосоленная, холодная, бр-р-р!.. Впрочем, я была зла и, в том числе по этой причине, голодна, поэтому, с отвращением, но все же стрескала эту… даже не знаю, как назвать, противную… ну прямо ряпушку, классику отечественного общепита. Представьте: все это молча, демонстративно блестя глазами по сторонам, якобы на всех проходящих мужчин, – чтобы досадить тому, кто невозмутимо трапезничает рядом. А вечером он меня спрашивает: „Дорогая, правда, вкусная была сегодня форель?“ Ремарка: я форели до этого ни разу в жизни не ела. Когда ехали на Кавказ, я мечтала: море, пальмы, горная форель!.. Я была страшно расстроена, шокирована, я не хотела знать то, что он мне сообщил: „Форель!“ Я всю ночь ворочалась, старалась представить иной вкус, я бы даже сказала – иной мир, и даже тихо причмокивала: „Ах, какая вкусная форель, ах, форель!..“ Но сколько бы я не заставляла себя, вспоминалось ужасное – ряпушка… А между тем, то была действительно форель… Вы не поверите, с тех пор мы никогда с мужем не вздорили по пустякам. До сих пор не знаю, то ли муж так все тонко подстроил, то ли случайность. Я внушила себе, что первое. Поэтому… В том числе поэтому я старалась относиться к нему бережно и даже иногда восхищаться им. Хотя он, разумеется, не был лишен недостатков…»
Седая старушка иногда обеспокоено оглядывалась, как будто ища глазами кого-то.
ФАРТОВЫЙ ЧАРЛИ
Чарли всегда умудрялся взять стол не на отшибе, но и не в середине зала, а где ни будь у центрального окна, – дабы не задевали без необходимости снующие официанты и публика из числа танцоров, в то же время, чтобы кампанию было видно и посетителям, и музыкантам. Как правило, столик на шестерых; пять персон – девочки. На острие всеобщего внимания единственный мужчина шестерки – великолепный Чарли. Он в белом костюме, вместо тривиального галстука – золотистая бабочка. Наш «Чарли Чаплин» гораздо крупнее одноименной кинозвезды, осанка прямая, что делает его раза в полтора выше знаменитого англичанина. Лоб высокий, броский, с глубокими для двадцати двух лет пролысинами. Широко расставленные глаза настолько велики и выпуклы, что собеседнику, словно ученику на уроке биологии, предоставляется редкая возможность видеть, как происходит процесс моргания: верхние веки, отороченные кудрявыми ресницами, как шоры обволакивают глаза, смазывая глазные яблоки, а затем медленно задираются вверх. Густые брови недвижимо застыли, взметнувшиеся к небу, в вечном удивлении – дальше удивляться просто некуда, что непостижимым образом придает лицу уверенность, замешанную на равнодушии к внешней суете. Танец в исполнении Чарли собирает, кроме девушек его стола, всех резвящихся на пятачке возле оркестрового подиума. Никому и в голову не приходит, что этот супермен в белом костюме, руки в карманах брюк, – всего лишь студент технического института.
Ресторанные потасовки, которые можно сравнить с кометой или смерчем из высокотемпературных кряхтящих тел, пахнущих винегретом и водкой, сметающих все на своем пути, проносились стороной от столика фартового Чарли. Однажды было отмечено, как Чарли, видя, что надвигающийся «смерч» не минует его уютного гнездышка, и через несколько секунд сметет всего Чарли вместе с подругами и сервировкой, спокойно скомандовал девочкам «вспорхнуть» с кресел, захватил ручищами столешницу и, уронив всего пару бутылок, отнес стол в угол зала. Отдых продолжался.
Родители имели неосторожность назвать его Чарли, естественно, что с самого детства к нему прилипла кличка «Чаплин». В отличие от Чарли, его родителям не нравился этот «псевдоним», которым наградили сына сверстники. По известной логике, именно благодаря им, предкам, точнее, их отношению ко всему этому, «псевдоним» прилип намертво.
Все бы ничего, но вероятно от желания соответствовать имени, организм Чарли в подростковом возрасте взялся корректироваться согласно «благодати», заложенной в оригинальном имени. Так, ноги Чарли стали… «разъезжаться» – носки ботинок «сорок последнего» размера при ходьбе расходились в стороны почти на девяносто градусов относительно направления движения. При этом непременно – «руки в брюки», по словам матери. «Что ты там в карманах делаешь, – поддевал его отец в воспитательных целях, – в бильярд играешь?» – «Нет, – невозмутимо ответствовал находчивый Чарли, – фиги мну». Наблюдение за ходьбой сына-подростка не доставляло родителям приятных минут, однако и к этому они привыкли. Отказывались только смириться с излишней беспечностью Чарли, которая могла сулить многие жизненные неприятности. Сам Чарли так не считал, полагая, что никто от оптимизма не умирает. Да и как еще может считать человек, которого зовут Чарли Чаплином!
В нашей институтской группе он слыл фартовым малым. Не только потому, что сам не уставал при случае об этом сообщать. Действительно, на экзаменах везло. Впрочем, как известно, в студенческой жизни учеба – не самое главное, и образ фартового в основном складывался из иных, более значимых примеров.
Мы, однокашники Чарли, пожалуй, чаще встречали его в городском парке, на речном пляже, в ресторане. Неизменно – в окружении девчонок, числом не менее трех, как правило, студенток нашего института. Это был наивесомейший показатель «фарта».
Нет, Чарли не являлся прощелыгой-халявщиком, который бессовестно доил свое природное везенье. В основе благополучия этого внешнего повесы лежал, как это ни пресно и неинтригующе, хотя и нельзя сказать, что банально, – обыкновенный труд. К тому времени у Чарли оставалась одинокая мать в другом городе, которая «поднимала» младшего сына-школьника. Помощи ни коим образом не предвиделось, на стипендию не пошикуешь. Истина относительно «широких» возможностей стипендии относилась ко всем. Поэтому все мы чем-то промышляли: разгружали вагоны, сторожили детские садики, мели тротуары. Зарабатывали мелочь. Иное было у Чарли – он работал постоянным ночным грузчиком на перевалочной продуктовой базе. Того, что он совершенно легально, по разрешению и даже настоянию начальника смены, уносил с работы в сумках, вполне хватало на ежедневное питание. Зарплата же, соизмеримая с получкой высококвалифицированного токаря, шла на одежду и активный отдых. Доставалось и матери с братишкой. Как Чаплину удалось устроиться на такую выгодную работу, для всех оставалось загадкой. При этом никого не интересовало, когда Чарли спит и как он готовится к занятиям. У нищих и ленивых коллег по студенческой когорте превалировало одно суждение: «Везет же человеку!»
Единственным заметным изъяном Чарли было следующее – он заикался. Прежде чем произнести первое слово, он закатывал глаза, сжимал губы, прерывистыми неглубокими вдохами втягивал в себя воздух, «настраивал» первый слог, далее все предложение шло нормально: «Ха-ху-хо… хо-орошая погода, пойдем пиво пить!» По возможности старался обходиться мимикой. Например, если на его предложение следовало неуверенное возражение: «А как же лекции?» – Чарли в ответ уверенно махал рукой, отметая неромантическое сомнение.
Что касается его девочек, которые менялись с быстротой метеоров, то многие из его приятелей, как говориться, облизывались. И дело не в том, что это были какие-то особые подруги – нет, самые обыкновенные студентки, наши знакомые. Завидовали же количеству и той легкости, с которой Чарли удавалось «прицепить» к себе очередную «чуву», той беспечности, с которой он с ними расставался.
«Ой, залетишь ты, когда-нибудь», – шутили друзья, скрывая зависть. На что Чарли неизменно отвечал: «Не-ни-не… Не родилась еще такая!..» – одна рука, украшенная золотой «печаткой», вылетев из брюк, беспечно резала воздух, вторая, как борец под ковром, продолжала пузырить карман, вероятно, лепя свою миллионную фигу.
Во всем этом мнимом суперменстве было что-то ненормальное. Ну, так не бывает, чтобы студент фартово жил, благодаря просто физическому «ломовому» вкалыванию: не фарцевал, не имел богатых родителей – просто работал. Ой, залетишь ты, думали друзья. Аномалия не может продолжаться долго. Где-нибудь да залетишь.
Наконец, он «залетел», правда, случилось это на предпоследнем курсе. От него забеременела «однокашница» Наташка. Разведенка, прожженная очаровательная Натэлла, все четыре года безуспешно скрывавшая свое деревенское происхождение толстым слоем помады и частым курением на лестничной площадке общежития. Напившись в ресторане, она висла на великолепном женихе в золотистой бабочке и громко причитала, не обращая внимания на гостей: «Чарка, а я думала ты меня обманешь, бросишь. Если бы ты бросил, это было бы в порядке вещей. Я была готова к этому, я привыкла… Может быть, ты еще бросишь, а? Ты ведь вон какой, а я…» У Натэллы уже был шестилетний сын, который рос без ее участия в деревне, что вообще-то – Натэллкино очное обучение и воспитание ребенка – было подвигом ее престарелых родителей.
Гости, переглядываясь, под столом потирали руки и, уважая друг друга за проницательность, думали каждый про себя: «Ай, да Чарли, ай да залетел!» Нет, немо возражал Наташке и всем гостям Чарли, используя бодливую голову и другие мимические средства. Однажды все же, значимо обводя собравшихся своим удивленно-уверенным взглядом, выдал тираду якобы в адрес невесты: «Са-су-со… Со-обственно, а что, собственно, необычного происходит? Ты останешься такой же, великолепной Натэллой. А я всего лишь продолжаю свой род. Кто за меня это будет делать? Я еще никогда не допускал ошибок, запомните. Не дождетесь!..» – Он нежно обнимал Натэллу левой рукой, правая оставалась под скатертью – друзья, близко знающие Чарли, догадывались, что она там вытворяла в их адрес.
Они снимали домик на окраине города. Конечно, далеко и мало комфорта, удобства на улице. Зато отдельное жилье – Чарли за ценой не постоял. Он изо всех сил старался следовать тому, что продекларировал на свадьбе: ничего особенного не происходит. Они продолжали регулярно посещать рестораны, именно те, завсегдатаями которых слыли по холостому делу. Даже когда родилась дочка, приходили втроем в ресторан, поближе к вечеру: Чарли, Натэлла, дочка в ползунках. Заказывали шампанское, ужинали, уходили, не допив и не доев, давали официанту на чай. Иногда, если удавалось оставить у кого-нибудь дочку, засиживались допоздна. Мало чего осталось от великолепной Натэллы – она после родов оборотилась деревенской девахой Наташкой, сдобной и наивной. Часто в ресторане, пригнувшись к столику, пугливо озиралась по сторонам, как истинная провинциалка, будто и не было пяти лет жизни в большом городе: «Чарка, давай будем, как нормальные люди… На нас смотрят, мне кажется, завидуют. Ведь так, как мы, не живут, нам не простят».
Чарли, совершенно неожиданно для окружающих ставший «обыкновенным» любящим и верным мужем и отцом, но в остальном – тот же Чарли, а не какой-нибудь заикающийся студент, успокаивал ее: «Ма-мо-мы… Мы-ы все делаем, как надо. Что из того, что мы везучие? Мы же не мешаем никому, не идем, так сказать, вразрез нормальному течению». – «Идем», – вздыхала Наташка.
Натэлла взяла академический отпуск, Чарли продолжал работать по ночам. Ближайшую перспективу Чарли уже наметил: он заканчивает институт, устраивается на хорошо оплачиваемую работу, продолжая подрабатывать грузчиком, они выкупают этот домишко, привозят из деревни сына Наташи. «Ой, ты бы не загадывал, – тихо, боясь спугнуть сказку, – говорила Наташа. – Ой, ты бы поберегся! Хоть бы по ночам меньше шастал. Нужны нам эти рестораны, пуп надрывать, кому чего доказываем!..»
На базе давали получку, плюс друзья отдали долг, получилось много. Чарли остался на разгрузку рефрижератора, закончили за полночь. Он доехал на дежурной машине до своего темного района, пошел вдоль бетонного забора к дому. Метрах в тридцати по ходу замаячили фигуры. Чарли замедлил шаг, осторожно вытащил из-за пазухи тугой бумажник и уронил под забор, стараясь запомнить место. Продолжая идти, снял часы и «печатку», проделал с ними то же самое.
– Ну что, супермен-заика, зарплату получил? – спросили, окружая.
Чарли кивнул.
– Сам отдашь, или как?
Чарли отрицательно покачал головой.
– Да ну!.. Руки бы вынул из карманов.
Чарли вытащил на свет луны две огромные дули и дал понюхать страждущему:
– Ра-ро-ра… Ра-аботать надо!..
Его долго били, повалив на землю. Выворачивали карманы, рвали в клочья куртку… Под утро он добрался домой, волоча ногу. Держась за грудь и прикашливая, сказал ахнувшей жене: «Под забором, третья и пятая плита от дороги. Бумажник, часы, перстень… Давай, пока не рассвело».
Когда Натэлла прибежала обратно, прижимая к груди пухлый бумажник, таща за собой сонную соседку-фельдшерицу, фартовый Чарли, похожий на великого клоуна с нарисованным лицом, с огромными белками вместо глаз, лежал на полу возле дочкиной кроватки – ступни разведены, изумленные брови высоко вздернуты, – чему-то в последний раз улыбался: может быть, девочке, невероятно похожей на отца, которая, держась за плетеную загородку и покачиваясь, смотрела на него сверху и удивленно «гулькала».
ЧЕРНЫЙ ДОКТОР
Живу я в Сибири, а отдыхать езжу, как и полагается, на Юг. В нынешний сезон заключительный этап отпуска, обратная дорога, проходил транзитом через город, в котором проживает мой армейский друг Михаил Ряженкин. Я решил воспользоваться случаем и порадовать приятеля сюрпризом – собственной персоной. Будучи уверенным, что доставлю себе и ему немалое удовольствие. Приехав в названный город рано утром, я позвонил с вокзала. Мишка обрадовался, объяснил, как к нему добраться. Признаться, в мечтаниях о первых минутах моего неожиданного появления здесь, следовали другие слова: подожди, не беспокойся, примчу за тобой на машине. Но, видно, колесами Мишка еще не обзавелся. А пора бы, ведь прошло уже семь лет со дня начала вольной самостоятельной жизни.
Сам я скопил немного денег, и год назад приобрел подержанную «шестерку», которой вполне хватает для моей пока небольшой ячейки общества – мы с женой и трехлетняя дочка. С момента, как у меня появился личный автомобиль, я, к моему стыду, стал относиться к «безлошадной» части народа несколько снисходительно. Что касается Мишки, то здесь ощущения особые. Ведь я ожидал его увидеть в полной гармонии с той перспективой, которую он уверенно рисовал для себя в армии: коттедж в престижном береговом районе, катерок на речной пристани, машина-иномарка, белокурая длинноногая супруга из породы фотомодель… Крутой бизнес. Приемы, презентации и прочее. Я стал догадываться, что между теми грезами и реальностью – как между землей и небом. Но, в конце концов, это ничего не меняло: Мишка есть Мишка, и я приехал к другу, а не к супермену.
Поклажи немного – чемодан гостинцев для семьи и канистра с вином «Черный доктор», который я, соблазненный необычным названием, вез от южных виноградарей сибирским нефтяникам – моим коллегам по работе. Подарок бригаде получался весьма оригинальный. В прямом и переносном смысле – сногсшибательный. И я этим заранее гордился, представляя удивленно-радостные, уставшие от плохой дешевой водки лица своих друзей. Чемодан сдал в камеру хранения. Канистру, от греха подальше, решил оставить при себе. Вес немаленький, двадцать литров плюс сама металлическая емкость, но ничего. Конечно, придется угостить Мишку. Но я полагал, что до завтрашнего утра, когда отправляется мой следующий поезд, много мы с ним не выпьем. Тем более, что прямо на вокзале, больше для гарантии сохранения «Черного доктора», нежели для презента, я на весь остаток отпускных денег прикупил ноль семь «Смирновской». Мишка до утра не даст помереть с голоду, а билет уже в кармане.
Оказалось, Мишкины апартаменты – комната в малосемейке, удобства в коридоре. Перечень остальных измеримых достоинств моего друга на данный момент – телефон, чистый паспорт… Сам Мишка – верзила двухметрового роста, параметры баскетболиста. Тронутый ранней сединой, подернутый мужественными морщинами, потасканный женщинами. Я пошутил, что если через пару десятков лет ему обзавестись стареньким дорожным велосипедом и назвать его Росинант, то из Дон Жуана получится вполне современный Дон Кихот. Сам я сошел бы для роли Санчо Пансо, но мне некогда… Правда, для полноценного рыцарства нужно еще и свихнуться на женщинах, что, впрочем, с убежденными холостяками весьма нередко приключается.
– Сам знаю, что пора жениться, – оценил мою наблюдательность и витиеватое красноречие, рожденное радостью встречи, Мишка, – да все некогда. А если серьезно – что-то я перестал разбираться в женщинах. Чем больше с ними сплю, тем больше они сливаются в одно, вернее, в одну. Знаю, на что «она» способна, чего хочет… Не смейся. Быть уверенным, это и значит – не понимать. Философия. Сам ты, небось, как встретил, так и женился? Я этот момент упустил – когда ничего не понимаешь. – Он рассмеялся, не давая себе сойти на серьезный тон, что для нашего с ним общения было нетипичным. – Короче, как это, оказывается, скучно – все знать. Откупоривай!..
– …Вот так, значит, бизнес мой и не удался. Та стерва тут же отнырнула к своему первому – разбогател. И ведь знал, что не я ей нужен, а то, что у меня было. А все же держал возле себя, как красивую игрушку. Что поделаешь, друган, я не обижаюсь, это ведь соль жизни – расчет. Основа порядка в мире. Иначе – хаос. Ладно, ладно, о присутствующих не говорю. Но… не дай бог тебе обеднеть. Короче, долги отдал, купил эту клетушку. Пока ничем не занимаюсь, наелся, да и стимула нет, – закончил Мишка рассказ о послеармейских перипетиях. – Наливай!..
Я был не согласен с Мишкой. Стал рассказывать ему, что мы с моей будущей женой представляли собой, когда решили расписаться, – голы, как соколы. Уж какой там расчет! Он перебил, довольно тонко дав понять, что мир, конечно не без дураков, встречаются «экспонаты»:
– Кстати, неделю назад на одной вечеринке познакомился с одной подругой: во!.. Все при всем. Сидим рядом. Я клинья подбиваю, она только слушает, не успевает слово сказать, – ты же меня знаешь, если я заведусь… В общем, все по нормальной схеме. Танцуем… Тут, сам понимаешь, следующая фаза, ближе к телу – ближе к делу, когда подруга обязана любым способом дать знать – да или мимо денег… Ты знаешь – ни то, ни второе! Башку задрала, в глаза смотрит, как будто стенгазету читает. Что я запомнил, – вздохнула и говорит: «Эх, Миша, вам нужен доктор…» И все, слиняла куда-то. И там, на этом сабантуе, и после у друзей моих, хозяев, спрашиваю, кто такая? А они мне, как попугаи: ты о ком? не знаем. Ты о ком?? Не знаем!!!… Я им говорю: у вас тут что, в самом деле, в конце концов, – кто попало, что ли, заходит-выходит?.. Полнейший проходной двор! Ну, это, конечно, не мое дело, что я действительно… Да по мне, конечно, и черт бы с ней, но вот чисто спортивный интерес: дура или фригидная?..
– …Такая, знаешь… Ну, словом, сам знаешь, – во! И смуглая, как мулатка. Буквально черная. А волосы… Ну ворон! Смоляные. Серафима, кажется…
Я предположил, не влюбился ли мой армейский друг Мишка?
– Да ты что!.. – он смешно замахал на меня безобразными великанскими ладонями с разбухшими в суставах пальцами, фрагмент из фильма ужасов. – Хорошо, что напомнил. Сейчас к подругам поедем.
Я запротестовал, сказал, что не сдвинусь с места. А если Мишка их приведет сюда, то выпрыгну в окно. Из чего мой друг еще раз заключил, что мир не без дураков.
– Ладно. Я пошутил. Вообще-то у меня уже все запланировано с того момента, как ты позвонил. Сейчас едем к одной близкой подруге. У нее квартира как раз возле вокзала. Там и посидим по-человечески. Ванну примешь. Утром проводим к поезду. Идет?
Я обрадовался перспективе поесть по-человечески – у Мишки ничего не было, водку мы больше занюхивали, чем заедали.
Он позвонил по телефону:
– Ирэн! Все по прежнему плану. Минус подруга. Так надо, подробности письмом. Свистай ключ, и вниз. Мы идем. – Бросил трубку, пояснил: – Ирэн. Живет с родителями. Они для нее квартиру держат. Пустую. Условие: выйдешь замуж – ключи твои. Нет – сиди рядом. Из доверия вышла. Собирайся, канистру не забудь.
Еще бы я забыл канистру…
По дороге попытался уточнить относительно доверия, из которого вышла Мишкина знакомая. Мишка отмахнулся, лишь коротко охарактеризовав родителей Ирэн: держиморды.
В квартире Ирэн Мишка снял рубашку, остался в майке, надел большие комнатные тапочки. Вдруг сразу превратился в Мишку, которого я еще не видел. Стал похожим на солидного главу семьи, мужа, уставшего после работы. Может быть, даже слегка прибаливающего. Исчезла легковесность, бравада. Куда-то делся Мишка-балагур. В чем дело? Я мысленно представил его в прежней одежде – то же самое. Значит дело не в майке и тапочках. Он чувствовал себя здесь как дома. Тут ему, наверное, было спокойно и хорошо. Очевидно, пришла мне в голову рациональная мысль, скоро Мишка возьмется за ум и бросит якорь. Тогда у него появится стимул. Который родит цель… Ну и так далее.
Однокомнатная квартира на четвертом этаже. Ирэн с матерью приезжают сюда раз в неделю, делают уборку. К моему «Черному доктору» в работающем холодильнике нашлась кое-какая закуска: консервы, сыр, колбаса. Мне за время дороги такая пища изрядно надоела, но выбирать не приходилось. Вспомнилась супруга, фланелевый халат, запах борща… Однако очень скоро Ирэн отодвинула на задний план возникшие было в голодном мозгу образы, перебила знакомые запахи.
От нее вкусно пахло духами и сигаретами. Я едва удержался, чтобы не закурить, хоть никогда в жизни не курил. Скажи мне Ирэн: закури или, положим, научите меня курить, – и я, скорее всего, задымил бы. Что значит женское обаяние, подумал я, и вспомнил некогда услышанное о чарах прекрасной половины: не мы их выбираем, а это они все выстроят так, чтобы мы выбрали их.
Это была полноватая дева с мальчишеской челкой и пухлыми детскими губами. Пожалуй, на этом приметы, выдававшие почти школьный возраст, заканчивались. И вот почему… На первый взгляд, тело как тело: белое и наверняка мягкое, как сдобное тесто. Его было много для глаз наблюдателя. Даже если иметь в виду только обнаженные руки и ноги, демократично свободные от мини-халата, больше напоминавшего набедренную повязку. К слову, казалось, халат жил своей жизнью, которая полностью гармонировала с характером хозяйки. Нижние бахромчатые полы его раздвигались и приподнимались при малейшем движении Ирэн, даже когда она просто медленно опускала тяжелые крашеные ресницы, не говоря уже о том моменте, когда эти ресницы, как два крыла, вскидывались к самой челке. В глубоком вырезе, как будто с целью не давать дремать наблюдателю, появлялись, сменяя друг друга, половинки аккуратных белых дынек. Во время отпуска на море я на многое посмотрел и, как мне кажется, имел право на определенные выводы о качестве женских телес. Так вот, при всей привлекательности, это тело, по каким-то неявным слагаемым, в результате было лишено полагающейся возрасту свежести. И глаза, точнее, все то, что под ресницами фасона «Споткнись, прохожий!», – будто по ошибке ребенку прилепили старушечьи глаза…
Мы долго сидели на кухне. Много пили и разговаривали. В общем-то, ни о чем. Мои семейные новости компаньонов не интересовали, они вполне тактично, по принципу «а вот у моего знакомого был аналогичный прикол» переводили разговор в другое русло. Мишка немного ожил, когда вспомнили совместные армейские годы, но скоро махнул рукой:
– А, два года – вон из жизни, и все… Вы как хотите, а я пойду бай. Ирэн, ты смотри, нас не перепутай!
Ирэн ухмыльнулась:
– Ха!.. Невозможно – у вас параметры разные.
Признаться, мне было не совсем лестно это услышать. Я впервые серьезно пожалел, что в свое время не вырос больше своих метр семьдесят шесть. Но возможно, Ирэн имела в виду какой-то косвенный смысл? От предположения такого варианта стало еще неприятней. Однако нужно принять во внимание, что последние думы-комплексы рождались под праздничное благоухание паров «Черного доктора» и вряд ли были возможны в будни.
Когда Мишка ушел из кухни, Ирэн стала не то чтобы совсем серьезной, но очень усталой.
– Надоел мне твой друг Мишка. Из-за него приличные женихи не клеятся. А этот выпьет, закусит, поспит – и опять на две недели пропал. Зря хата стоит. Ни развлечься путем, ни устроиться как надо. Сама не знаю, почему все никак к черту его не пошлю. Он ведь пропащий человек – неудачник, нищета… У меня есть перспектива – возраст, извини за откровенность, все другое… Жилплощадь. А что еще женщина может предложить? И это много. Остальное – дело мужчины. Да. Ну так вот, Мишка – безнадежный ноль!..
Я попытался возразить. Мол в человеке не это главное, а… Ирэн меня очень даже бесцеремонно перебила:
– Пойдем спать, Павел Корчагин. Ляжешь на полу.
Утром меня разбудили нетерпеливые длинные звонки и требовательные удары в дверь. Я открыл глаза. Мишка с Ирэн, неодетые, сидели на диване и делали мне страшные глаза, приложив напряженные указательные пальцы замком поперек губ. Я понял, что должен молчать. Ситуация из разряда непонятных, ясно было одно – дело не шуточное. Из-за двери доносилось:
– Иринка, открой! Я видела с улицы – занавеска отодвинулась. Ты здесь. Открывай!
По дальнейшему монологу из-за двери стало понятно, что мамаша – это именно она сейчас стояла за дверью – рано утром обнаружила пропажу всех трех комплектов ключей (ай да Ирэн!) от квартиры и поняла, что ее дочь не ушла ночевать к подруге, а поехала на квартиру прежними делами заниматься. Какими делами, об этом явно не говорилось, но, судя по испуганному виду Ирэн и Мишки, они, эти самые дела, были весьма серьезные.
Все бы ничего. Даже в некоторой степени интересно. Детектив. Но через полтора часа, согласно железнодорожному расписанию, уходил мой поезд, и я забеспокоился, стал показывать на часы. Друзья мои только разводили руками: мол, ничем помочь не можем.
Мать то стучала, то продолжала возмущенный монолог, в котором угрозы сменялись словами прощения. То уходила медленно вниз по лестнице, то быстро и решительно поднималась опять.
В одной из пауз, когда можно было говорить, я, уже одетый, тихо сказал: ребята, у вас, конечно, свои проблемы, но у меня поезд уходит через двадцать минут. Если я прямо сейчас выйду, то еще успею добежать, несмотря на тяжесть своей ноши. В конце концов, я уже готов подарить ее, свою драгоценность, вам, только отпустите. На что Ирэн заметила, что если я выйду без канистры, то будет легче. Потому как в другом случае я непременно получу этой почти полной металлической емкостью по голове, что гораздо хуже. В любом случае, женщина, которая за дверью, ни за что не выпустит меня из своих невероятно когтистых лап, и поэтому спешка на паровоз уже совершенно напрасна. А если серьезно, вмешался Мишка, сегодня вариантов нет – сиди. Подумаешь, – уедешь завтра.
Мамаша ушла только к обеду. Ирэн сделала быструю уборку, и мы покинули квартиру, ставшую для нас неожиданным и бессмысленным пленом. С Ирэн расстались. Пошли с Мишкой в его родное общежитие коротать оставшееся время до следующего поезда, который шел рано утром следующего дня.
Я был потрясен случившимся, поэтому даже не мог, не хватало возмущенных слов, спрашивать, каков, собственно, сюжет этой абсурдной Мишкиной драмы, героем которой я так некстати и неинтересно стал. Я думал о том, как семья будет встречать меня на вокзале, согласно телеграмме, у соответствующего поезда, и как я должен буду объяснять опоздание жене. Ко всему сразу прояснилось, что Мишка абсолютно на мели, и денег мне на новый билет взять совершенно негде. И тогда я впервые за все время моего пребывания в этом абсурдном городе сказал такие высокие и обидные слова:
– Миша, честное слово, так жить нельзя… Найди покупателя, я продам «Черного доктора», чтобы поскорее уехать отсюда. Потому что ты мне надоел за сутки так, как не надоел за два года совместной службы, когда наши койки стояли рядом. Только маленькая просьба. Если позволит твоя жилка бизнесмена, то сторгуйся так, чтобы у меня осталась хотя бы пустая канистра. На память о нашей встрече.
Мой друг молча взял подарок виноградарей нефтяникам и вышел.
…Утром, еще было темно, мы пошли с ним на вокзал. У нас не было денег на такси. Мишка чувствовал себя виноватым, поэтому, по-детски, не уступая, нес как наказанье пустую канистру. Канистра стукалась об его выпуклые коленки, пугая гулким эхом полумрак пустых улиц. Он жестикулировал свободной рукой и, стараясь выглядеть веселым, рассказывал:
– Мы познакомились с Ирэн в КВД. Да-да, что вылупился? В кожно-венерическом диспансере. В одном корпусе лежали. Один диагноз. Ерунда, а не болезнь. Посему, не волнуйся. Мы тоже поэтому ничего не боялись ни тогда, ни сейчас… По причине КВД и всего остального поведения родители ее так стерегут. Убить готовы того, кто якобы совращает их дитя. Ничего себе дитя, да? Ну, и как устережешь такую… Нам с тобой еще повезло, что папаша в командировке. Бедные. Эх, Ирэн, Ирэн!..
Он ненадолго замолчал, понурив голову.
– Ты знаешь, сейчас почему-то вспомнил. Ну, я рассказывал про ту, смуглую. Считай, черную. Серафиму, кажется… Нет, так ничего, глупости, но все-таки, спортивный интерес… – Он необычно смутился, может быть мне показалось. Неожиданно посетовал, предложил: – Так мы с тобой и не попели, как в армии, под гитару, помнишь? Давай хоть поорем на прощанье, пусть просыпаются, все равно пора уже. А, давай?
За поворотом – вокзал. Мне стало гораздо легче, почти весело, черт с ним, с «Черным доктором», и вообще…
– Давай! А что?
Мишка мечтательно закрыл глаза, задрал голову, набрал воздуху, замер не дыша и, наконец, невольно потрясая канистрой, закричал зовуще и восторгаясь:
– Серафима! Се-ра-фи-ма!..
ЗЛАТОУСТ
Искусственные зубы у Бориса Матунова, а они у него почти все искусственные, – были необычны: старомодные, сейчас такие вряд ли увидишь – стальные, без желтого покрытия. При разговоре они не только серебряно посверкивали, но также скрипели с переходом в разбойничий посвист и копытный цокот – от своеобразной манеры разговаривать.
Лет Борису Матунову за пятьдесят, но среди коллег по работе зовется он Борей, а за глаза – Боря Мат, Матобор, Бормотун. А то и вовсе Обормот. Работает он на одном месте так давно, что неизвестно, чему обязан за прозвища – просто фамилии или все же весьма своеобразному характеру. Несмотря на определенно почтенный возраст – тяжелые бульдожьи морщины на крупном лице, сплошная седина, протезированный рот, – Боря Мат явно не желает мириться с тем, что уже объективно перешагнул грань, безвозвратно отделяющую его от части населения, к которой применимо – иным даже с большой натяжкой – словосочетание «молодой человек». Возраст обязывает говорить умные, наполненные смыслом, основанные на личном опыте, речи. Но явный недостаток ума лишает его такой возможности. Просто же молчать – тоже не годится, ибо данное категорически противно природе этого пожилого индивида, а самое главное – избыток беззвучия, изо дня в день, в относительно замкнутом коллективе непременно выдает истинный потенциал бесславно молчащего.
Пытаясь выйти из положения, Матобор тянется, как он иногда многозначительно подчеркивает, к молодежи: его темы для разговоров молоды, хоть и вечны, а потому – как он, вероятно, полагает, – речи содержательны по сути, но «оправданно» упрощены по форме. Однако источник якобы молодого звука выдает старого фюрера-краснобая: речи кричат максимализмом, но отнюдь не юношеским, – искушенным, замешанном на всеведающим цинизме человека трижды разведенного, крупного алиментщика, а ныне просто безнадежного вынужденного, или глубоко убежденного – что на поверку, как правило, одно и то же – холостяка.
Так думает тайный оппонент Обормота, коллега по работе, сорокалетний и уже «застрявший», бесперспективный инженер средней руки Юрий Сенин, у которого Обормот работает мастером.
Завуалированное соперничество – таковым его считает Сенин, и в которое он добровольно втянулся, – определено благородными принципами тонкой души инженера, которая травмируется безобидно пошлыми и бездарными, но при этом удивительно цепляющими похабными монологами мастера.
Глыба тем для монологов, которую ежедневно, с молодым задором – темпераментно, но в манере опытного волка – понемногу, Матобор обгладывает протезными зубами, – велика и на самом деле неразгрызаема: «Что нам мешает жить?» Система повествования отработана: начинает с себя, по методу индукции переходя от частного к общему, затем иезуитской петлей, изощренным бумерангом возвращается на драгоценное эго и, наконец, обрушивает весь бедовый пепельный дождь на железнозубую седую голову.
Грузный, он становится легок, воздушен телом, как толстозадый балерун. Подпрыгивает на кабинетных стульях и автобусных сиденьях. Вращает глазами, которые порой страшно лупятся мертвенно-меловыми белками. И, конечно, скрежещет зубами. Сиденья ходят ходуном, печально стонут. Голос – тоннельное гуденье, горный обвал. Цицерону явно не хватает трибуны, тоги и лаврового венка.
Это отвлекает разжалобленных наблюдателей спектакля от умственной ограниченности Матобора и заранее оправдывает его стилистические пассажи и явные орфографические проколы, – так раздраженно предполагает инженер Сенин.
…Всё кругом у Матобора виновато во всех его горестях. Почти все его несчастья, строго говоря, – часть общечеловеческих бед, а так как бед этих, разумеется, много, то виноватых – пруд пруди. Они, как микробы, кишат вокруг и отравляют всем, и особенно Мату, жизнь. Неприкасаемых нет – это очень удобно. Следование такому инквизиторскому принципу расширяет до возможного диапазон диалектического скандала, а главное – избавляет от последовательности в череде философских выкладок. То есть если сегодня Матобор ругает демократов, то это вовсе не значит, что завтра от него не достанется коммунистам, чью сторону он нынче, пусть пассивно, отстаивал. И так далее. Словом, постулат «единства и борьбы противоположностей» – в реализации.
Но непременный переход на избитый-перебитый, однако любимейший финал, на «библейское», как говорит Матобор, объяснение источников всех земных бед – женщину. Она у Матобора не просто «божья лохань», рядовая нечистая сила, – она синоним Сатаны, самого главного черта.
– «Лютики, незабудки!..» – простужено скрипит, ерничая, передразнивая неизвестно кого, возможно себя юного, Обормот. – Незабудка, мы ей говорим. Ля-ля, сю-сю!.. Да колючка ты верблюжья, – кричит он, задрав голову, как старый волк к лунному небу, неведомой женщине, – век бы тебя не знать, не помнить, только и думаешь, как бы зацепить человека, а потом как лиана его задушить и как глист все соки высосать!.. У-у-у, сволочи!.. Сучки!.. Да еще пасынка или падчерицу нам в придачу: корми, любимый! – Он пытается по-женски пищать, хотя трудно издать писк мартеновскому жерлу: – «Я тебе за это еще и рогов наставлю, красивый будешь, как северный олень!» Ух!.. – он бессильно отбрасывает большое тело на спинку сиденья и замокает. Моргания глаз на фиолетовом лице почти обморочные: редкие, «глубокие» – нижние и верхние веки плотно смеживаются на целую секунду. Широкая грудь высоко вздымается, внутри еще что-то булькает. Финал состоялся.
«Оргазм унитазного бачка», – очередной раз отмечает про себя Сенин и внутренне брезгливо морщится.
Иногда Сенин, выведенный из себя этими проявлениями агрессивного скудоумия, когда проблески человеческого интеллекта тонут в завалах непроходимой грубости, пытается невинной фразой защитить очередной объект словесного нападения Обормота. Например, женщину вообще: ведь женщина – это не только коварная любовница-кровопийца, но и мать, жена, сестра, дочь. Результат такой попытки – новый всплеск ярости Матобора, новые «доказательства» с более бурными «оргазмами». Которые ничего не прибавляют в принципе, но возводят утверждения аморальности объекта словесной агрессии в абсурд. Так перед словом «женщина» каждый раз, со сладострастным ударением, звучит слово «все», иногда, для усиления, дуплетом: «все-все». Все-все женщины!.. И тогда слушателям постепенно становится ясно, что «все» относится не только к бывшим женам Матобора, но и к секретарше директора, и к нормировщице, и к работницам бухгалтерии, и к женам всех мужчин, которые, к своему несчастью, невольно стали свидетелями попытки одного из них встать на защиту «божьей лохани».
Все это обычно происходит в маленьком ведомственном автобусе, который возит тружеников, как на подбор – только мужского полу, – небольшого асфальтового завода, расположенного за городом, с работы и на работу. Пятнадцать минут утром, пятнадцать вечером. Итого полчаса вынужденного непроизводственного общения с Борей Матом. В рабочие часы Сенин успешно мстит Мату за эту ежедневную получасовку, в которой на интеллектуального соперника не распространяется служебная власть инженера Сенина. Так как мстить подло Сенин не может, то это сказывается лишь в стремлении как можно полнее загрузить пожилого мастера, чтобы у того не оставалось времени на праздную болтовню в рабочее время.
Надо сказать, что на работе к Матунову не придраться. Слывет он исполнительным трудягой. Работает резво: шумит на подчиненных, в меру огрызается на начальство. Боится и тех, и других. Как и полагается мастеру. Но работу тянет, уверенно доводя дело до заслуженной пенсии.
…Сенин понял, что невозможно оппонировать логикой с отсутствием таковой. Но чем человек подчинил себе природу, покоряя огонь, побеждая превосходящих по силе мамонтов, став выше человекообразных обезьян – этих задержавшихся в развитии собратьев?.. Стоило однажды задать себе этот вопрос, чтобы обрадоваться – даже еще не зная буквального ответа на свою конкретную проблему. Ум – это и есть главное оружие в мире, это и есть власть. Не может безумие довлеть над умом, человекообразие – над хомо сапиенс. Если такое иногда происходит, то определенно является следствием нерешительности или лени носителей разума. Так возвышенно резюмировал сентиментальный Сенин в преддверии поиска анти-матоборовского противоядия.
И Сенин нашел выход. Не в силах заткнуть рот имеющему свободу слова гражданину, он стал «заводить» Обормота в нужном направлении. Это стало его своеобразной властью над ограниченным Матобором, успокоило ранимую душу инженера, заметно релаксировало до этого напряженные автобусные пятнадцатиминутки – он даже стал получать от них определенное удовольствие. Правда, Сенин иногда отмечал, что это удовольствие, вероятно, имеет животную, садистскую природу – наслаждение уязвленностью поверженного врага, но довольно быстро прощал своим генам эту наклонность, доставшуюся от далеких предков: «враг» заслужил такого к себе отношения.
Итак, теперь Сенину удается небольшой фразой, наивным вопросом «заводить» Мата, а затем маленькими вставками-замечаниями манипулировать сальными потоками похабного обормотского сознания. Сенин тайно потирает руки и даже успокоено закрывает глаза, упиваясь покоем и властью: стоит всего лишь сказать слово (главное – какое!) и бурная струя бульдожьего лая повернет в нужную сторону. Он отдыхает, ему уже даже немного смешно за себя прошлого, ранящегося о колючие монологи Обормота.
Коллегам Матобора однажды выдалось разделить с ним, из вежливости, счастье долговременного алиментщика – один из оплачиваемых отпрысков, к которому, наряду с двумя другими, ежемесячно уходила часть заработной платы опаленного годами и законом Дон-Жуана, достиг восемнадцатилетия. Все вспомнили одну из матоборских аксиом: «Не ребенок пользуется нашими алиментами, а сучки на них жируют!» Матобор со счастливой усталостью объявил утреннему автобусу, что на «вырученные» деньги решил поменять себе зубы. Железные – на золотые. Ну, не совсем золотые, а, как принято говорить, с напылением. «Из самоварного золота», – уточнил про себя инженер Сенин.
Через три месяца после знаменательной даты объявленное свершилось – у Матобора вынули старые протезы. «Плавят новые… Через неделю…», – с трудом поняли коллеги, когда однажды утром, улыбаясь – просто растворяя пустой черный зев – и широко раскрывая глаза под лохматыми бровями, взлетевшими к седому чубу, смяв «в ничто» и без того узкий лоб, прошамкал клиент и временная жертва платного дантиста.
Первая пятнадцатиминутка: «Шам, шам!..» – недовольно, но – редко. А потом и вовсе замолчал, вполне по-людски щурясь как бы от хороших человеколюбивых мыслей, которые переполняют теплую душу. Наверное, думает о том, что скоро и остальные «спиногрызы» достигнут совершеннолетия, и тогда можно будет справить себе следующие обновы, – бранчливо и недоверчиво предположил Юрий Сенин. Впрочем, отходчивость натуры Сенина вскоре сказалась: Обормот стал смотреться дедушкой, которому не хватает мягкой седой окладистой бороды, внука (хотя бы от «прожорливого пасынка»), сладкоречивой классической сказки. Неужели так будет вечно…
К концу дня стали прорываться знакомые скрипы и хрипы, задвигались, норовя в кучу, суровеющие брови. «Идет настройка», – автобусные попутчики забеспокоились: забрали у коровы рога, так учится голым лбом бодаться. А завтра – то ли еще будет!..
…Наутро сюжетное равновесие автобусной скучной «мыльной» пьесы, и без того потревоженное внезапной беззубостью одного из главных персонажей, было окончательно нарушено. В салон, обычно абсолютно мужской, вошла молоденькая девушка. («Бабец», «мокрощелка», «двустволка» – как сказал бы в иной ситуации Бормотун.) Как выяснилось – практикантка, присланная на асфальтовый завод для сбора материалов на курсовую работу по гидроизоляционным материалам.
Практикантка – заурядной пробы, но симпатяга девушка, на взгляд Сенина: крепко сбитая – под Мону Лизу. Круглолицая, с крупными губами, с огромной русой челкой, дающей шарм большому зеленому оку, пикантно и обещающе высверкивающему как бы из-за приоткрытой чадры. При том, что второй глаз, «явный», демонстративно наивен, невинен, скромен. «Расцветет» только с молодыми, подумал Сенин, здесь будет держать марку. Сорокалетний инженер повидал практиканток на своем веку, да и сам, в общем-то еще недавно, был студентом. Чутье его не обмануло: через день Мону Лизу в коридоре заводоуправления «окучивали» два слесаря, прыщавые ровесники молоденькой двустволки, блеск интеллекта, через каждое слово – «бля». Я, бля, пошел, бля. Ты знаешь, бля… Мокрощелка, соответствуя этому самому неопределенному артиклю «бля», заливисто, запрокидывая голову смеется. «Вырождение нации», – сварливо подумал проницательный Сенин, проходя мимо, и даже, пользуясь минутами свободного времени, пока шел на планерку, посвятил, пропитанный отеческим сочувствием, небольшой внутренний монолог Моне-мокрощелке: «Через пять лет ты будешь иметь пару ребятишек, и тогда, в самый неподходящий и неожиданный момент, тебя, откровенно потолстевшую, бросит какой-нибудь „обормот“ ради стройной и более внутренне интересной. Попутно украсив тебя „верблюжьей колючкой“ вместо „незабудки“. Сама виновата».
Мир автобусного салона треснул и разделился на две части: наблюдаемые и наблюдатели. Наблюдатели – ничего интересного, к этому сектору относился и инженер Сенин. Наблюдаемые – юная практикантка и пожилой Обормот.
Практикантка ездила такой же, какой и вошла: пышность, скромность, недоступность, пикантность, челка, поблескивающий глаз: Мона Лиза; иногда – соответствующая улыбка.
Боря Мат стал садиться исключительно на первое сиденье – лицом к салону. Все это сразу подметили. Мат обернулся немым гоголем, скрывающим старого алиментщика. «Жених», – по-новому окрестил его Сенин, отметив для себя, что вряд ли когда ни будь в жизни наступит предел удивлениям. Бормотун молчал – с работы и на работу – даже не шамкал. Но – весь светился. Свет был неподвластен физическим приборам, но его видели все наблюдатели. Он был особенно ярок, когда Боря Мат, якобы равнодушно, окидывал взглядом салон, лишь на секунду задерживаясь на практикантке. Было такое впечатление, что он фотографировал ее всей силой своего небольшого мозга, стараясь как можно больше саккумулировать в себе от этого молодого свежего тела, губ, челки, глаз… Так казалось, потому что сразу после секундного фотографирования Боря закрывал глаза – якобы: глубоко моргал, защищаясь от света салонного фонаря, бьющего прямо в лицо, – поворачивал голову в сторону (унося запечатленный образ в заповедные углы памяти) и только там, ни на кого не глядя, медленно размыкал веки. Почему он молчал и на что надеялся? Сенин, упражняясь в психоанализе, предполагал, о чем Обормот мечтает, на что имеет виды: вот поставят мне новые зубы, почти золотые, красивые, тогда и скажу веское и красивое слово, и сражу, и покорю!.. Сенин нарочито упрощал предполагаемый ход мыслей бывшего оппонента, желая видеть эти мысли и их хозяина еще более несимпатично и карикатурно. Ему это с успехом удавалось. Соперник был повержен, пусть не Сениным, здесь нет его заслуги, но степень обнаженности Бормотуна была так велика, а неприязнь к нему – так глубока, что невозможно было не порадоваться этому беззащитному состоянию некогда грозного и громогласного Цицерона.
…Но вот утром Матобор заходит, радостно блестя желтыми зубами. Заметно, что они ему еще не приелись, теснятся, стучат не там, где бы следовало. Все замерли в ожидании: что выйдет из этих разверзнутых золотых уст – золото, добро?.. Он окидывает глазами салон и не находя девушки (практика закончилась), глубоко вздыхает. Надолго замолкает – так кажется, потому что на самом деле он еще не сказал ни слова. Все думают: вот стоило сменить корове (метафора, адресованная еще беззубому Матобору, уже устарела, но лучшего сравнения никому на ум так и не приходит), – заменить корове рога, простые на золотые, и сменился ее характер. …Ведь вот нет уже той, которую Мат, обожая, стеснялся, а он – молчит.
Но все ошибались… Через пять минут (Сенин уже было прикрыл глаза, думая о том, что так все хорошо складывается – Матобор изменился, стал, как говорится, человеком) – хрип, кряк, тресь!.. Салон – подъем, как от будильника, внимание. В ненавистном жерле сверкнуло, скрипнуло на весь салон, и понеслось знакомое: «У-у-у! Незабудки!.. Сволочи!.. Сучки! Все!.. Все-все!..» – тот же самый вулканный гул и бедовый пепел, но с лучшим, более красочным оформлением, прямо-таки с золотым фейерверком.
Не все то золото, – огорченно думает инженер Сенин, – что блестит…
ИМИДЖ
1
Свеча оплывала, медленно и спокойно плача на дне большого аквариума с розовыми тюльпанами. Воск таял, время от времени перекатываясь густыми струйками через похожие на мозолины, набрякшие окаемки мраморного столбика. Чтобы увидеть это, нужно было надолго вмяться в базарную грязь, чавкающую от полуденного солнца и десятков подошв, еще утром бывшую снегом и мерзлой землей; стоять крепко, не обращая внимания на человеческие потоки, не отдавая себе отчета в нелепости картины, которой ты – главный персонаж: лохматые унты, дубленый полушубок, щедро отороченный свалявшейся в кисть овчиной, огромная собачья шапка рыжего колера, в которой теряется вся верхняя часть могучего туловища. Все это инопланетно – паче, чем тюльпановый южанин на подмосковном снегу, – не сезон, и зовут тебя Андерсон.
– Э, земляк! Выбирай любой, которая на тебя смотрит!.. – добродушно пророкотал кавказец, гортанными децибелами возвещая о…
…О, это было точно здесь и почти так же. «Дорогой! Бери гвоздики! Девушка будет рада. Это, наверное, за девушку воевал?» – пожилая шустрая торговка показала на себе, имея в виду лиловую гематому вокруг пиратского глаза с розовой медузкой из лопнувших капилляров.
Тогда, шесть весен назад, Андерсон сбежал из нейрохирургического отделения, чтобы сделать Барби подарок. Он стоял здесь, тараща выпуклый фиолетово-красный глаз, дико озирая цветочный ряд, как небритый безумец, в длинном плаще, который час назад нашел в раздевалке санитаров, и в больничных тапочках, мокрых от весенней жидкой грязи. Плащ был без пуговиц – одной рукой Андерсон сжимал вместе парусиновые борта на груди, скрывая полосатую пижаму, а другой мял бумажные деньги – словно клок газеты перед запалом. Он держал голову прямо, боясь наклониться, – недавнее сотрясение серого вещества иногда сказывалось кратковременным головокружением, птичьим клеванием головой и предательским подгибанием коленей.
Гвоздики даме, принесенные полуживым поклонником, пострадавшим из-за этой же дамы. Это уже подвиг. Но, впрочем… Для этого совсем не обязательно быть Андерсоном.
– За девушку воевал, – подтвердил Андерсон, удивляясь собственному голосу, который он слышал только одним, здоровым ухом, и впервые после того, как первый раз Барби навестила его в больнице, ощущение сумасшедшей детской, прямо песьей радости сменилось донкихотовой гордостью: он победитель! Раненый, но победитель.
А началось все это… Когда же это все началось. А ведь, черт побери, все началось со Светланы – а он уже и думать об этом забыл, приписывая только себе все свои пороки и добродетели, от которых закрутилась эта дьявольская карусель! Бог ты мой, неужели Светлана, подруга Светка, надежная шалава Светик, с которой можно было целоваться или сидеть в баре, просто так, от скуки, без всяких последующих взаимных претензий… Неужели она, – всего какой-то парой фраз! – могла так круто вывернуть его жизнь.
…Чего ему не хватало? А Светлане? Четыре курса института позади, еще бы год – и все разлетелись кто куда. Часть однокашников уже определилась, создав семьи де юре или хотя бы де факто. А он был вольная птица и искренне этому радовался: молодость впереди, не стоит стареть раньше времени. Светлана, в отличие от своих сверстниц, озабоченных к пятому курсу, как бы не улететь к черту на кулички не закольцованными, казалось, относилась к своему будущему сообразно настоящей разбитной жизни – никак. С чего вдруг она ляпнула тогда, в тот вечер…
И вечер был для них как вечер, каких уже минуло сотни: томно грустящая осень, тягучий запад необремененного заботами дня. Он взял Светлану, благо она тоже слонялась без дела, и вышел с ней в парк. Как обычно присели на открытую скамейку, спиной к умирающему солнцу. Говорить было не о чем, – просто курили. Помнится, он случайно повернул голову и вдруг загляделся на закатное эхо, которое таяло за липовыми кронами. Шуршащие звуки окраинного микрорайона, поздний закат и горьковатый запах желтеющей листвы внушали такое безотчетное счастье, наверное, определенное молодостью, здоровьем и неясной перспективой – чуть сладкой и чуть тревожной, что можно было заплакать рядом с такой же, родственной Светкиной душой. Он перевел взгляд на свою подругу. И удивился, по-новому выхватив ее профиль, отдавая себе отчет в том, что видел это уже много раз: прямой греческий нос над красивым, всегда красным и без помады, ртом с чуть выдающейся вперед рельефной верхней губой – при поцелуях нижнюю, якобы несмелую, приходилось отыскивать. Под детским, трогательно тяжеловатым подбородком, по белой гусиной шее, вверх и вниз, плавает нежный подкожный шарик. А какие у его подруги волосы: хлопковый пук, как будто на голову навалили белоснежной пожарной пены, – все это сейчас, в закатных волнах, играющих желтыми зайчиками в Светкиных клипсах, выглядит гигантским, пропитанным янтарным светом, одуванчиком.
Они приехали сюда из одного маленького городишки, до этого закончив одну школу, где все десять лет не обращали друг на друга никакого внимания. Однако ничего необычного в том, что в студенческом общежитии земляки стали не разлей вода. Ходили вместе в столовые, в кино, на танцы. Он научил ее красиво курить, она его – правильно целоваться. Это совершенно органично стало обыкновенным и бесстрастным их занятием – курить и целоваться. Они никуда не спешили, поэтому, как водится, незаметно прошли годы. Только иногда, сдувая с сигареты пепел, который целеустремленно летел в выпуклый вырез кофточки, чтобы нежным комочком уютно устроиться в тесной ложбинке, Светлана усмехалась:
– Андрюша, тебе пора бы влюбиться, а то и меня замуж никто не возьмет.
– А зачем! – искренне и эгоистично набрасывался Андрей на первую часть сложного Светкиного предложения, в котором уже имелся и ответ на этот вопрос. – Куда мне спешить?
Он потом иногда думал, что, возможно, тогдашнее его чудесное открытие образа вечернего «одуванчика» могло придать иное направление жизни, согласно закону «ветвистости» судьбы – «если бы»… Однако… это могло иметь значение для «того» Андрея, но не теперешнего Андерсона. Сейчас он, осознавая сложности своего современного бытия, все же ни о чем не жалел, а если точнее, гнал от себя все сомнения.
– Какая ты, Светик, оказывается, красивая, – как принцесса!.. – вырвалось у него тогда.
– Оказывается… – Светлана сдула пепел, как обычно, на себя, в этот раз он рассыпался серой пудрой по светлой, Андрею показалось, чуть дрогнувшей коже, и грустно продолжила, глядя в сторону: – Андрей, ты знаешь, как меня девчонки в комнате прозвали? Леди Холидей. Твоя, Андрей, леди выходного дня или, точнее, свободного дня. Мне обидно, Андрюша, меня это перестало устраивать… Пятый курс…
– Что ты предлагаешь? – Андрей автоматически произнес эту фразу, которая могла означать начало обороны, или, наоборот, капитуляции на каких-то взаимовыгодных условиях, но на самом деле ничего тогда не обозначала. Осознанно же, пользуясь повисшей паузой, вызревала паническая мысль, похожая на катастрофически тяжелеющую каплю: все пропало: спокойная жизнь, ощущение надежности, предсказуемости… То, что давалось целые годы легко, и поэтому, казалось, ничего не значило, – на глазах разрушаясь, обретало меркантильный, дорогой смысл. Да, Светлана порой неделями пропадала, в основном, по безразличной воле Андрея, в каких-то кампаниях, общежитиях, квартирах. Но, тем не менее, оставалась близко, нужно было только, не открывая от лени и уверенности глаз, пошарить рядом рукой.
Она ответила ему словами, которые не попадали в следы его мыслей, но имели то же самое направление – они были о драгоценном Андрее, единственно о нем и ни о ком больше. Эту жертвенную адресность он тогда стыдливо заметил, и ему даже стало впервые жалко Светлану.
– Тебе нужно менять имидж, Андрей, – она сказала это несколько легковесно, даже развязно, но в то же время по-матерински напутственно. – Кому ты такой нужен, кроме меня идиотки? Посмотри на себя в зеркало. Трын-трава – рохля!.. – Ее явно понесло, но Андрей, как оглушенный горем и при этом загипнотизированный обаянием ее многолетней, бескорыстной дружбы, внимал совершенно серьезно всеми уровнями своего молодого, еще гибкого, еще восприимчивого сознания. – Стань более решительным и отчаянным, стань орел-мужчиной. Понаблюдай за болгарами с транспортного – отбою от наших дур нет!.. Ладно, – она встала, лихо отщелкнула окурок в кусты, а потом нарисовала в воздухе аналогичный, но нежный, падающим кузнечиком, щелчок по носу Андрея, от чего он даже зажмурился, – короче, стань, к примеру… Ну, что ли, – Андерсоном: имя Андрей, имидж – Андерсон.
И она ушла тогда – не насовсем, не исчезнув. Просто резко и бесповоротно трансформировалась ее суть. Под воздействием такой метаморфозы, а также сказанных последних фраз еще «той», до превращения, Светланой, а потому значимых, как заклинание, – Андрей, подобно удачно закодированному, стал быстро превращаться в Андерсона.
2
Одна из самых дорогих фотографий в родительском альбоме: лихой офицер царской армии, с кудрявым чубом из-под форменной фуражки, усы черными кольцами, смелый, слегка ироничный взгляд, – жених; одна рука покоится на резном стуле с высокой спинкой, на которой сидит красивая грустная невеста с веером, тонкие руки в высоких белых перчатках. Это прапрадедушка и прапрабабушка Андрея по линии матери. О них почти ничего не известно. Были – и все. Начало века… Какая-то нерусская фамилия… Кажется, он, этот, наверное, если судить только по запечатленному фото-мгновению, неулыбчивый поручик, ушел добровольцем в армию барона Врангеля, где сгинул в безвестности… Очень хотелось, чтобы «пра» были какими-нибудь известными людьми – дворянского происхождения или артисты… Тогда бы к Андрею, их потомку, было другое отношение, да и сам он ощущал бы себя по-иному – более уверенно, внимательнее бы относился к своим корням. А так: бабушки-дедушки, дяди-тети – ни спортсменов, ни дипломатов, ни-ни… Поэтому – что его держало в родном городе после одиннадцатого класса? Ничего: сорвался, как перекати-поле, и уехал без всякого сожаления. Кем уехал? Просто Андреем, плюс среднерусская фамилия, плюс «средний балл» в аттестате, плюс еще несколько формальных параметров…
…Он принял предложенную, возможно, в шутку, великовозрастной баловницей Светланой формулу: имя – имидж.
Нет, дело, конечно, было не в том, кому он такой нужен, посмотри на себя в зеркало и так далее. С этим, как раз-таки, все обстояло нормально. После разговора со Светланой Андрей впервые серьезно задумался над своим образом, который, как показалось после недолгих размышлений, и определял его место, как и место каждого, в среде обитания: не имеет значения, что у тебя внутри – тебя принимают согласно твоему поведению, которое есть зримая форма образа. Ты можешь совершать видимое другому глазу действие легко, с большим запасом, экономя ресурсы, и наоборот – с великим напряжением сил, на грани возможностей, либо даже имитируя, всего лишь рисуя его, – но именно увиденное, или воображенное увиденным, «от и до» будут границами, очерками твоего образа. Андрей был откровенен сам с собой, поэтому понимал, что ему больше подходит английское слово «имидж» – в котором для русского человека больше маскировки, это как бы подделка под реальный образ. Что ж… Говорят, иногда способ становится сутью – посеешь привычку, пожнешь характер. Впрочем, как он уже вывел для себя, это не является важным. Главное во всей его намеченной «перековке» – добиться определенного отношения окружающих. Ведь впереди еще целая жизнь, в которой нужны острые локти, боксерский нос без костей и крепкие зубы. И он слепит, воспитает себя таким, как сказала Светка, – орел-мужчиной!.. Тем более, что кое-какая база имеется: здоровье – дай бог каждому, метр восемьдесят пять росту плюс третий, правда еще детский, со школы, разряд по вольной борьбе.
Он набросал стиль поведения: уверенный, смелый, решительный. Все поступки – наотмашь, до конца, без остатка, чего бы не стоило. Смотрел на себя со стороны – сошедший с древней пожелтевшей фотографии царский офицер. То ли немецкая, то ли французская фамилия. Но – русский. Рано или поздно гены дадут о себе знать… Он заметил, к радости, что многое стало удаваться неожиданно быстро, и, что самое приятное, ему показалось, он стал внутренне изменяться. Поначалу было жалко тех людей, которые на себе стали испытывать его крутость, которые раньше знали его другим, более мягким, более терпеливым и терпимым человеком. Его изменения до боли неожиданны для них, но Андерсон, понимая это, топил свою жалость, как топят «из гуманности» нежелательного котенка, в глубине души надеясь, что люди скоро привыкнут к новому имиджу и перестанут страдать от его проявлений, которые усугубляются предыдущими знаниями – о прежнем Андрее.
Светлана так и не прибилась ни к какому надежному острову и «доплывала» пятый курс рядом с… Андерсоном – с Андреем, осененным свежим имиджем. Для окружающих в их отношениях ничего не поменялось. Сами же они знали, что стали более чем друзья – они стали компаньонами, отношения которых зиждутся не на чувствах, ненадежных в силу своей воздушной, капризной сути, а на договорном фундаменте, трезво заложенном: мы нужны друг другу, но при этом абсолютно свободны. Светлана шутила, применяя формулу из диамата: свобода – это осознанная необходимость… И грустно добавляла, что после защиты диплома придется ехать вслед за Андерсоном, куда он, туда и она, – в силу этой самой заносчивой, но порой такой беспомощной, «осознанной» мадам.
Да, все началось со Светика, все-таки чудной, необычной девчонки. Но перелом произошел в ресторане – центральном кабаке города, куда они со Светланой стали частенько наведываться, следуя настойчивым пожеланиям нового имиджа.
…Тот визит с самого начала был несколько необычен по сравнению с предыдущими. Весь зал как бы вращался вокруг двух центров, что было странно для заведения. Первый центр состоял из группы городского криминала: столик на шестерых мужчин, стрижки-ежики, втянутые в острые плечи, лица с показной угрюмостью… Официанты мелькали кометами, ансамбль оплачен на весь вечер вперед, посторонние заказы не принимаются. Бородатый электроорганист, он же сидячий конферансье, блистал, кроме потной лысины, эзоповой, как ему казалось, речью, сквозящей безвкусицей, угодливостью и елеем: «А теперь для уважаемого Шуры из нашего центрального собора, только вчера покинувшего жестокие и несправедливые места, звучит эта песня!..» Тягучий скрежет бас-струны, фоновый свист микрофона и: «Меж высоких хлебов затеряла-ася небогатое на-аше село, горе горькое по свету шлялося…» или: «Были мы карманнички, были мы домушнички, корешок мой Симочка и я!..»
Второй центр неброско, но с достоинством закрутила группа кавказцев: два стола вместе на дюжину крупных человеков, среди которых всего одна маленькая розовая дамка. Свободное, без комплексов и оглядки на «авторитетов», гортанное общение, стол ломится от жареного мяса и цветастых бутылок. Музыка заказана, говоришь, «дарагой»? Грустно, жаль, опоздали, ничего, бывает, Илларион, давай, генацвали, нашу: «Шемтвалули!..» Песня, аккуратно и грамотно разложенная на два, три голоса, рокот и эхо гор. Ансамбль безмолвствует в вынужденной паузе, не смея перебить, «авторитеты» делают вид, что это их не интересует, с великодушным видом посматривают на альтернативный центр. Им не нужны разборки, не нужен шум в людной точке, подмечает Андерсон, их авторитет в данный вечер, в данном месте держится не на прямой угрозе немедленной возможной расправы, а на имидже, который, впрочем, имеет вполне реальную основу. Вес же кавказцев – образ раскованных горцев, который является манерой их повседневного поведения, посему легко им дается. Горцы отдыхают, криминалы – напряжены. Однако суть расстановки сил это не меняет – вполне могло быть и наоборот: в том и другом случае сумма векторов равна нулю.
Они со Светланой сели за столик-малышку у окна. Чтобы не было рядом посторонних, Андерсон попросил официанта убрать два оставшихся свободными кресла: приятель, нужно с невестой поговорить, проблемы, понимаешь… Официант кивнул – скорее, кинул поклон: как прикажите. Понял, что перед ним не лох, подумал Андерсон и огляделся: с чего начать?
Нет, он сегодня не хотел играть собой и Светланой, как клиенты остальных полутора десятков столиков, роль наполнителя, среды, подставки, на которой, как шумные юлы, вращаются чужие центры. Андерсон решил стать… третьим «центром», таким образом нарушить векторную гармонию. Для этого решения ему пришлось внутренне зажмуриться и приподнять планку своей уже каждодневной наглости немного выше обычного: на величину приращения «дельта», – как он математически выражался. Этих «дельт» было уже много позади, поэтому от высоты планки порой захватывало дух. Но ни разу еще Андерсон не отступил, хоть это стоило ему уже потери нескольких друзей, обиды многих малознакомых и, еще больше, совсем незнакомых людей, сбитых в хроническое растяжение больших пальцев обеих рук, шатающегося зуба и красивого, но трудно обриваемого шрама на подбородке.
Светлана ушла танцевать со студентом-африканцем. Неплохой получился дуэт для танго, отметил Андерсон не без гордости: его роскошная женщина с гигантским сиреневым бантом на гибкой талии умеет танцевать, таскает негра только так. Да и он, видать, способный бой. Тарам-та-ра-рам!.. Раз-два!.. Черное-белое, черное-белое! Длинная белая юбка не успевает за танцующими и, как бы боясь отстать, то и дело обхватывает черный смокинг по узким брючинам, залетая то справа, то слева. Пробегающий мимо официант смотрит на Андерсона удивленно-сочувственно, Андерсон пожимает плечами: мол, я же говорил, проблемы…
Светлана подсела к интернациональному столику, оттуда донеслись английские слова. Это в ее стиле: тренинг английского – превыше всего, не упустит случая. Что ж, самый удобный момент для начала. Андерсон еще раз оценил объекты для своего возможного нападения и еще раз оправдался перед собой: дело не в симпатиях или антипатиях, просто «третий центр» нужен ему лично, Андерсону, а всякое самоутверждение быстрее всего проходит через конфликт. Итак, приоритеты. «Криминалы» – разумеется, ничего хорошего, но все же более свои, чем грузины. Хотя бы потому, что местные. Значит, решено, – грузины. И тут же выявил самое уязвимое место в кампании горцев: женщина. Он представил этот и без того говорливый улей растревоженным: вах, слушай, зачем себя так ведешь, ты мужчина – я мужчина, ладони к небу, палец в твою грудь, в свою – кулак, клянусь мамой!.. Вмешаются криминалы, вступятся за «своего», все закончится миром, но Андерсона здесь запомнят, следующий раз швейцар с орденской планкой встретит его «элитно»: поклон-поклон, ладонь к фуражке, здрасс-сь… ждем! Ждем!..
Он пригласил ее на медленный танец… Компаньоны почти не обратили на это внимания, ну ничего… Она оказалась худенькой девочкой в коротком, но пышном, под балерину, розовом платье, с незамысловатой прической из гладких темно-русых волос, в которой самой заметной деталью был непослушный пружинистый завиток на виске, словно спиралька серпантина, украшающего перламутровое маленькое ушко. По тому, как она держала голову на тонкой шее, чуть набок, можно было предположить, что волосы в обычные дни жили аккуратной мягкой косичкой, уютно мостящейся на хрупком плече и теребимой тонкими смуглыми пальцами, которые сейчас лежали, как крошечные усталые балеринки, почти без прикосновения, на предплечьях Андерсона.
– Меня зовут Андерсон. А вас, извините, наверное, величают Ниной или Тамарой. Или Наной?..
– Я Варвара, – просто ответила девушка, – очень приятно. – Глянула внимательно и добавила: – Варя.
– Ва-ря… – растягивая, повторил Андерсон, вслушиваясь, как будто оценивая на звук собственного голоса необычное слово. – Редкое имя… Тем более, для грузинки.
Варя усмехнулась:
– Так же, как и ваш «форин нейм» – для, наверное, русского. Кстати, с чего вы взяли, что я – грузинка?
– А разве нет? Вы что, не с Кавказа? – в его голосе просквозили неприязненные нотки. Он не любил, когда местные девушки ходили под руку с выходцами из Кавказа, Средней Азии, с болгарами, африканцами – которых полно училось в местных институтах. Он обернулся, нашел глазами Светку, уже, казалось, хохочущую по-английски. «Оу, йес!.. Оу, ноу!..» Нет, все-таки правильно, что он выбрал сегодня объектом для нападения иноземцев.
– С Кавказа, – подтвердила Варя, проследив направление его взгляда, – с Кавказа. Красивая у вас девушка.
– А… эта! – Андерсона застали врасплох. – Это сестра. Как сестра, друг. А вы тоже не одна? Я не имею в виду всю вашу кампанию…
– Да, я пришла с Володей Беридзе, – она вывернула голову, указывая на свой стол. – Вон тот, он отличается от всех. Огненные волосы.
– Рыжий?
– Огненный, – без эмоций поправила Варя.
«Оу!.. Кис ми, плиз!» – завизжала Светка, барахтаясь на коленях у африканца.
Андерсон обеспокоено завертел головой:
– Варя, вы какой язык изучали? Я, например, немецкий… Что она там глаголет?
Варя лукаво улыбнулась, состроив вопросительную паузу.
– Это сестра, сестра. Это сестра! – успокоил ее Андерсон.
– Ничего особенного, мистер Андерсон. Ваша сестра говорит: «Поцелуй меня, пожалуйста».
– А!.. – Андерсон выдал хриплое междометие, смесь разочарования и облегченности. – А я-то думал… А, скажите, Варвара, Барбара, Барби… – можно я буду вас так называть?..
– Нет.
– Спасибо. Скажите, все-таки. Ваш этот… Володя – грузин?
– Возможно, – ответила Варя. – Спасибо.
– Что значит «возможно» и за что спасибо? – не понял Андерсон.
– За танец, – Варя мягко отделилась от него, – музыка, мистер Андерсон, умолкла шестьдесят секунд тому назад.
Воспоминания о последнем часе пребывания в ресторане зыбки и неуверенны. Не только в силу того, что природа предусмотрела автоматически вытирать из памяти болевые сектора, имеющие способность бесконечно, цикл за циклом, травмировать прошлым выздоравливающее настоящее. Скорее всего, еще и оттого, что в какое-то мгновение в ресторане Андерсон ощутил себя бесконечно, непоправимо обманутым. Такое бывает с разочарованно пробудившимся человеком: только что там, за порогом сна, в руках была какая-то прохладная розовая сказка – он соприкасался с нею, слышал ее мятное дыханье, чистый ровный голос… И тогда утреннее настоящее, отрицающее сон, которое наплывает всеми обычными радостными красками и звуками, – раздражающе, неприятно, вероломно…
Именно такое пробуждение стушевало, лучше коньяка, ресторанную картину, смутило ее осмысленную палитру. Куда подевалась логика (осталась одна решительность, став отчаянной), которая уверенно прописывала последовательность действий? Туда же, куда вдруг провалилась цель – имидж?..
…Андерсон косвенной походкой, трогая для устойчивости все попутные предметы – кресла, спины, – подошел к столику, где смеялась Варя, окинул дерзким долгим взглядом кампанию. Заиграла какая-то идиотская музыка. Он неумело имитировал светский поклон. Варя, перестав смеяться, вопросительно посмотрела на Огненного, тот отрицательно покачал головой. Варя, кротко глянув на Андерсона, повторила движения. Андерсон молча протянул девушке руку, нетерпеливо вздрогнула напряженная кисть. За столом перестали разговаривать, Огненный освободил свои ладони от предметов и жестов и выложил их кулаками на стол перед собой. Андерсон усмехнулся. Варя, не поднимая глаз, медленно встала и пошла с ним в центр танцевального пятачка. Музыка закончилась, но он ее не выпустил из рук, отчаянно сцепленных на тонкой розовой талии борцовским замком, – боялся проснуться… Далее все произошло быстро и не так, как предполагал Андерсон. Как сквозь туман он увидел быстро встающих и гуськом устремляющихся к выходу «криминалов»… Решительно отстраняясь от причитающей Светки и жестикулирующего африканца, подошел Огненный-Рыжий-Беридзе, вырвал сказку из рук уже теряющего сознание Андерсона, левой рукой зацепил его челюсть, легко выворачивая послушную голову в нелепый вздернутый профиль, а затем правой, высоко размахнувшись, ударил…
3
…Жила-была девочка. С того самого времени, когда она начала понимать, что она – Варя, у нее было много братишек и сестренок, много теть и один дядя, – он был один на всех, он был самым главным, – его называли Директором. Позже она узнала, что у детей, которые живут за стенами этого большого дома, в котором жила она, есть не только братья и сестры, но папы и мамы – такие особые дяди и тети…
…Ему приятно слышать этот прохладный, мятный, розовый голос. Он – Андрей, ему не желательно волноваться, но скоро это кончится и все будет хорошо, как прежде… Андрей – такое славное имя, зачем ему понадобилось скрываться за личиной какого-то американца или шведа? Нет-нет, не беспокойся, как хочешь, я больше не буду… Смуглые балеринки отрываются от маленьких круглых колен, вспархивают над головой, опускаются невесомыми мотыльками на горячие веки, – темнота с тающим отпечатком оконного проема, все, поспи немного – хочешь воды? – поспи…
…Они пришли к нему в палату все четверо – все такие разные по цвету. Как раз-таки их разноцветие и было той задоринкой, за которую впервые после провала, зацепилось сознание, и начало пульсировать, восстанавливая обратным порядком предыдущие события, попутно сопоставляя их с больничной койкой и неприятными ощущениями – звон в голове, полуглухота и онемевшая, как деревянная, левая половина лица.
Иссиня-черный африканец, высокий и худой, словно на дипломатическом приеме, счастливо улыбался и безостановочно совершал утвердительные кивки, больше походившие на безотчетные подергивания замшевой головой. «Кис ми плиз», – вежливо проскрипел Андерсон. Африканец слегка притушил толстогубую улыбку и вопросительно повернул голову-фломастер к Светлане. Пассия, алебастровая на его фоне, ослепительно просияла мстительной веселостью, – пухлая рука демонстративно нырнула в прозор локтевого изгиба африканца, повисла, как белая рыбина хвостом вниз на черной перекладине, – и с преувеличенной нежностью представила нового друга: «Фердинанд!..» И, не отводя взгляда от Андерсона, громко пояснила Фердинанду поведение «больного брата»: «Нет, Федя, у него все нормально в этом плане, просто он дубина… в английском. Хотел сказать: хау ду ю ду?..»
Огненный Беридзе – бескровная кожа, покрытая мелкими коричневыми веснушками, красные волосы, голубые глаза, – у него оказались неожиданно тонкие черты лица. Он возник перед блуждающим взглядом – точнее, до него, неподвижно стоящего, дошла очередь, – возник скромным, но гордым юношей, ровесником Андерсона, не раскаявшимся, не извиняющимся, без поправок на ситуацию – в этом было его мужское уважение к горизонтальному сопернику. Но и это являлось только первой половиной его присутствующей перед больным сути… В небесных очах с гневными, колкими агатовыми точками посредине читалось: «По делам – воздастся!» – и это относилось не только к прошлому: показалось, он почти вытолкнул вперед, к больничной койке, хрупкую девочку – на самом деле только снял руку с ее плеча, и, повернувшись, вышел.
…Да, все были такие до смешного цветные: черный, белая, огненный… и розовая девочка Варя. Он улыбнулся и слабо произнес: «Барби… Можно?» Она кивнула.
Варя согласилась стать Барби. Зачем ему нужна была смена чужого имени, ведь он не собирался ее переделывать, ее, которая поразила его в одно мгновение – своим естеством. Почему – Барби? Наверное, потому, что так она становилась ближе к «Андерсону», принимая правила игры, в которую Андрей уже, казалось, безвозвратно погрузился? Поначалу Андерсон отнес ее быстрое согласие в счет жалости к нему. Но, как оказалось, это было верно лишь отчасти…
Барби интересно рассказывала, как они жили в детском доме на Северном Кавказе. Все были очень разные: смуглые и белые, рыжие и вороные, но все говорили на одном языке – по-русски и считали себя, наверное, русскими. Впрочем, это не вопрос… Это вопрос-мнимость, он из ничего, – да-да, из ничего! Ведь тогда, в том детском мире об этом не задумывались – потому что это было вторично. Да, каждый из них знал, что может стать грузином, осетином, ингушом… если… Если за ним приедут какие-нибудь папа и мама. Какие-нибудь, любые. Это, наверное, самое важное – понимать, что главное в жизни не то, как называться… Барби умолкала и с грустным молчанием что-то искала в его глазах. Однажды, после такого разглядывания, она вздохнула и сказала, как будто найдя что-то: «Ты – Андрей!..» Андерсон не придал этому значения, как и многому из того, что она говорила, тогда и потом. Как порой не вслушиваются в смысл слов полюбившейся песни, полюбившейся – больше за музыку…
У нее был друг Вовка. Он часто дрался: за то, что его дразнили рыжим, за то, что Варю – цыганкой, ему это было неприятно, и за то, что их вдвоем вместе называли «жених и невеста». Потом его усыновила грузинская семья, – у них погиб сын в армии, говорят, был с красными волосами, а Вовка походил на него маленького, – так он сделался Беридзе. Володя, став «семейным», не забыл про Варю, как мог, опекал, пока она жила в детдоме. Вообще, они с Володей, будучи еще совсем маленькими, поклялись, что когда станут взрослыми, ни за что, никогда в жизни не бросят своих детей, не допустят, чтобы они стали сиротами… После окончания школы-интерната ее направили в этот подмосковный город, она окончила училище, стала работать. Недавно приехал Володя с друзьями и сделал ей предложение. Они устроили в ресторане что-то наподобие помолвки, хотя она не давала согласие на свадьбу, ведь Володя – как брат… Правда, если быть до конца точной, то нет никакой ясности… Все перепуталось, она просила время подумать, разобраться в себе. Но друзья не могли просто уехать, поэтому все пошли в ресторан…
4
Третье или четвертое утро в больнице было необычным. Оно разбудило не привычной капелью, а уже только солнцем, теплым и стреляющим фотовспышками из-за частых, плотных, но маленьких облаков, коротко печатающим на белой стене копии приоконных предметов: занавески, цветок в горшке, березовые прутья.
Мысли скакали и путались, но логика побеждала… Хватит лежать! Пора вставать и делать поступки. Ведь чем он ее поразил? Если коротко: ее поразил «Андерсон». В этом суть и в этом ключ. К будущему в том числе. А Варя – она станет Барби, – только для того, чтобы забыть прошлое… Нельзя останавливаться. Если остановишься, Андерсон, – Светлана, вот твой удел (дело не в конкретной Светлане – это типаж…). Хотя, и она уже вроде – отрезанный ломоть. Засияла ее быстрая стремительная звезда, прямо метеор, в образе принца Сахарского. Да не принц он, – раздраженно закипает Светка, – папа мелкий дипломат, а Федя… Фердинанд – будущий врач. Сказал, что она, его будущая жена, может там и не работать… – скорее всего так, там у них с женским равноправием небольшие проблемы… Ладно, соглашается Андерсон, благословляю, только с фотографией оттуда не медлить, и чтобы как положено: на фоне пирамид, в парандже, в окружении старших и младших жен… Светлана дует красивые губы, не спеша встает боком, еще раз демонстрируя новый джинсовый костюм, качнув тяжелой золотой сережкой, формой и величиной – колесо африканской арбы… «Фараониха», – вслед ей весело думает Андерсон. Он доволен: за себя – прояснялся смысл его дальнейшей жизни, который он не собирается терять, чего бы ему не стоило; за Светлану – экзотическая, но определенность; еще раз за себя – личная, дружеская, земляческая ответственность в образе неприкаянной Светланы – в прошлом… Все устраивается как нельзя лучше, никаких помех. Итак, вперед!..
– Это за девушку воевал!.. – гордо и радостно произнес Андерсон. Да, помнится, он дважды повторил одну и ту же фразу, наслаждаясь уважительным удивлением продавщицы гвоздик. Развернулся, под мокрыми тапочками зачавкала грязь, и пошел прочь, натыкаясь на прохожих, небрежно засовывая бумажные деньги, символ тривиальности, в глубокий карман санитарского плаща. Гвоздики, для дамы, за деньги – пресно до пошлости, не достойно Андерсона.
Он сошел на конечной остановке, где выгружали свои рюкзаки, ведра и корзины с пучками зеленой рассады пестрые дачники. Быстро, насколько позволяло здоровье, двинулся в редкий березняк.
Вечером он вновь появился на той же остановке, по колена мокрый, с грязным полиэтиленовым пакетом, полным подснежников, испугав одинокую бабулю с козой, видимо, из соседней деревни.
– Да вот, – кивая на рогатую питомицу, запричитала бабушка, таким образом беря себя в руки, – по травку ходили по свеженькую, кое-где на опушках уже повылазила. Автобус-то твой недавно полон ушел, а ты либо хвораешь, милый?.. – она еще раз оглядела его с ног до головы, остановившись на пакете, из которого топорщились силосом короткие стебли и лепестки замученных белых цветов.
– Нет, мать! – устало улыбнулся Андерсон, у него кружилась голова, – это у меня имидж такой.
– Что – такой?..
– Имидж.
– А это чего?
– Долго объяснять. Но это – ничего плохого, только не всегда комфортно… Когда следующий транспорт?
– Через час. Ничего плохого, говоришь?.. – бабушка, недовольно дернув за веревку покорно стоящую козу, еще раз критически осмотрела Андерсона. – Дай я тебе вместо пуговиц-то хоть нитками наживлю, а то полосатый… – Она вынула откуда-то из байкового платка иголку с готовой ниткой и ловко сшила в трех местах борта парусинового плаща. Подергала, проверяя на прочность: – Ну вот, красивый. А то – холодно, и в вытрезвитель могут забрать. Ты больно-то не слоняйся, сразу домой.
– Спасибо, мать, – чуть не прослезился Андерсон, клюнув головой, – вот тебе букетик на память… О нашей встрече. – Он поставил пакет на землю, осторожно, стараясь не наклонять голову, чтобы избежать сильного головокружения, запустил туда обе ладони, как фотограф, заряжающий пленку, выхватил на свет добрую половину снопа, протянул бабушке.
– Да что ты, что ты!.. – бабушка, смущаясь, прижала подарок к груди, роняя стебли. – Да зачем мне столько-то, рази только Машке, – она показала глазами на козу, – можно было небольшой букетик, два три цветочка, – она кокетливо хихикнула.
– Не могу, мать: два-три – имидж не позволяет.
– А-а… – понимающе кивая головой, – чё ж не понять-то.
Вахтерша камвольно-суконного комбината не рискнула встать поперек дороги здоровенного бомжа, который рвался на второй этаж к какой-то Барби. Она отпрянула, боясь быть зарезанной или испачканной, пропустила хулигана на лестничную площадку и сразу же вызвала милицию.
Варя открыла дверь и увидела страшного грязного человека с охапкой вялых цветов, который несколько секунд молча мученически улыбался, а затем, закатив глаза, могуче рухнул к ее ногам.
Нос Светланы – как таящая сосулька: безостановочная капель. Однако, в отличие от ледяного стручка, он не сходил на влажное «нет», а увеличивался, разбухал вместе с носовым платком. Можно было подумать, что сама Светлана – неиссякаемый генератор горючей влаги. Да что там, вся она дремлющий источник, носитель какой-то потенциальной энергии, тайной мощности… Андерсон не мог ясно оформить ассоциацию, которую навевала Светлана, сейчас – красиво страдающая на общежитской койке: ноги под себя, белое ресторанное платье, широко распластанное вокруг, – опрокинутая лилия; лицо – мокрое под белым… Невостребованная, нерасщепленная энергия – вот! За пять лет пристегнулись к «кому-никому» факультетские тихони, повыскакивали замуж подружки-замухрыжки, а ты, янтарный одуванчик с чувственной бомбой внутри, которая могла бы разорвать в клочья любого, наградив последней женщиной в жизни, из-за которой – если теряют – потом до самой смерти не живут и не веселятся – только похмеляются и вспоминают!..
Закатилась твоя египетская планида: что-то там у них не только с женским равноправием, но и с мужской самостоятельностью. «Федя хороший, он не виноват! Его отец сказал: прокляну!.. Фердинанд говорит: надо ждать. Он уговорит отца… Ждать, может быть, полгода, может, год… Он пришлет весточку, приедет!..» Может быть, Светик… Но ведь в твоих слезах и я виноват: «Леди Холидей…» Растянулись эти «холидейзы» на пять непоправимых лет – и сам не гам, и другим не дам. А может быть, ты сама не хотела иного?! Нет, ерунда – я просто друг, ты сама всегда так говорила. Друзья не бросают, Светик, поехали с нами. Мы с Барби – на Север, я туда добился направления. Почему Север? Эх, Светка, волосы длинные – память куриная: я ведь Андерсон. А тебе – какая разница, где ждать, на западе или на востоке? Север, Светка, это место, где люди себя ищут. И находят…
5
И вот теперь, через шесть быстрых лет, он стоит, Андерсон, бравый северянин шестьдесят пятой параллели, но здесь – нелепый нордоман, режиссер и жертва трансконтинентальной драмы, по уши в подмосковной грязи, с загустевшей кровью в жилах, с раскрытым пересохшим ртом – влага ушла горячим потом в собачью и овчинную шерсть. Снежный человек: могучий и страшный в лесу, но уязвимый на площадном асфальте. Он смотрит на оплывающую свечу в стеклянном кубе, согревающую солнцелюбивые тюльпаны, и вспоминает южную девочку Барби, которой чего-то не хватило – тепла, жара или еще чего-то, – недавнюю жену, розовую рыбку из его аквариума…
…Он долго не давал ей опомниться: лихие поступки, дерзкие реакции на внешнее, необычные подарки, стремительная смена декораций, неистовые проявления любви… – все быстрое, сильное, веселое, все праздник и кураж. Феерический ореол, абсолютно довлеющий, с крепкими границами, без права на отрицательные эмоции, на то, что «за» и «вне»… Подспудно понимал: пока крутится карусель, Барби прижата, притиснута, придавлена к тому, кто служит ей единственной опорой, кто может быть фокусом для зрения в беспорядочном оптическом мелькании, – к нему, Андерсону. Позже понял, что не имеет права расслабляться: чем дальше, тем опаснее, – стоит ослабнуть креплениям, и центробежные силы вытолкнут, разобьют, покалечат… Вспомнил услышанную от Светланы африканскую пословицу (память о навеки канувшем в прошлое чернокожем «принце»): «Не хватай леопарда за хвост, а если схватил, – не отпускай».
Путь к Полярному кругу был чудесным движением, сам Север стал фантастической землей, но, как показала последующая жизнь, он же оказался конечной станцией, может быть, тупиком: исчезла динамика, романтические события стали буднями, и Барби время от времени стала становиться Варей, Варварой. И став окончательно прежней, она уехала.
Так думал усталый несезонный Андерсон: одежда под минус сорок, на сердце тридцать семь, вокруг – ноль…
После того, как Барби уехала от него, оставив жалкую записку: «Прости, так надо… Я должна. Не ищи, – всем будет легче…» – которая ничего не объясняла, Андерсон поймал себя на мысли – его осенило, – что, к этому моменту, он ни разу не подумал о Беридзе, как о своем неприятеле. Никогда! Наградной платой за сотрясение мозга – пустяк, обычные издержки мужественности – стала Барби. (Хотя он всегда, с мучительной отчетливостью, помнил, как Беридзе ударил его тогда, в ресторане, – не кулаком в челюсть, а обидно, с демонстративной презрительностью – раскрытой ладонью по щеке. Сотрясение мозга получилось от удара затылком об бетонный пол.) Тем более, что Огненный, сразу после ресторанной истории, отошел от своей бывшей подруги, женился. И вот, когда Барби не стало рядом, да вдобавок, она не умерла, не растворилась в огромном мире, уехала не куда-либо, а к своему детдомовскому защитнику – да, да, в тот самый город студенчества Андерсона, где теперь его нет, но где проживает с семьей эта красноволосая сволочь!.. В считанные минуты, как только Андерсону стало известно, что это так, в нем закипела великая, пожирающая, сводящую на нет покой, самообладание, планирование перспектив, логику, – ненависть, зарезервированная, неистраченная, залежавшаяся, удвоенная предательством Барби, утроенная вероломством Беридзе, удесятеренная имиджем Андерсона, который стал сутью Андрея. Этот рыжий кавказец – кто: «утешитель» Барби, ее любовник? – с синими глазами стал лютым врагом. А это ох, как не просто – быть врагом Андерсона, многие об этом знают, и ты, желтокожий «инкубаторский» горец, тоже узнаешь об этом, узнаешь, что это – не только состояние, это начало неотвратимого движения: пусть день, пусть неделя, пусть месяц – но Андерсон идет к тебе!
В один из долгих бессмысленных межвахтовых вечеров ром ухнул не как обычно для последнего времени: в ноги, в унитаз… В голову. Он сгреб документы, деньги, влез в повседневную одежду – унты, полушубок, шапку – вышел на трассу, остановил машину. «Аэропорт?.. – боднул головой, – я с тобой!» Утром он был уже во «Внуково», к обеду – здесь… Еще час – через адресный стол, – и он, Андерсон, станет у дверей своего врага, и он, именно он, Андерсон, поставит точку в этой истории. Тот, кто думал, что с ним можно обойтись многоточием, жестоко ошибался!..
Но почему он, зигзагом, оказался здесь, в цветочном ряду? Ноги привели сами. Точнее – воспоминания о светлых мгновениях прошлого? Которые – словно золотые блески в серой породе, которые кричат поверженному рациональными буднями из безвозвратного прошлого: жизнь – не сказка, но сказочные минуты – были, были!.. Но: не возвращайтесь туда, где было хорошо. И вправду: вместо продавщицы гвоздик с уважительными, восхищенными глазами – наглый кавказец, перелетный грач, с насмешливым взглядом.
– Ну, ты что, дорогой, заснул? Бери тюльпаны. На Северный полюс повезешь, девушке подаришь. Выберу который почти бутон – там раскроется…
Андерсон очнулся, подумал: в другой раз, наверное, взял бы весь аквариум, но сейчас у него другие задачи. И все-таки он не может просто так уйти, он должен повергнуть, хотя бы на мгновение, этого нахального торгаша, помидорного рыцаря, земляка ненавистного Беридзе. Он перевел взгляд с аквариума на хозяина тюльпанов, вколол два смелых глаза в смуглый лоб, под козырь огромной, анекдотической каракулевой фуражки «аэропорт». Через минуту насмешливость и стопроцентная уверенность напротив сменилась на фрагментарное, почти неуловимое сомнение, мелькнула тень испуга, которую малоуспешно пытались скрыть небрежными словами:
– Я заплатил за место, еще утром. Спроси у Нукзара… – и опустил глаза, даже наклонился под прилавок, якобы что-то разыскивая.
Достаточно. Андерсон усмехнулся. Подошел поближе, постучал по аквариуму. Торговец вынырнул из-под прилавка.
– Я беру. Все… Нет: все – только розовые.
Каракулевая фуражка облегченно улыбнулась:
– Давно бы так!.. А то – смотрит, смотрит!.. Розовых штук тридцать будет. Денег хватит? Понял, понял – дурацкий вопрос задаю, извини…
Торговец, довольный, пересчитал купюры, новые, только что из свежей пачки – как будто из другого мира, или из-под станка, – пару бумажек посмотрел на свет. Опять радостно поцокал языком. Нашел глазами «полярника», который только что купил у него почти дневную норму. Редкая удача! Загадал на будущее везенье: надо смотреть на эту шубу, пока она не скроется за воротами рынка. «Шуба» медленно дошла до ворот, остановилась, опять долгий монументальный статус, как недавно перед аквариумом. Наконец, что-то происходит: розовый букет, провожаемый рукой, улетает от шубы и падает по-басктбольному точно в большую урну. «Полярник» скрывается за воротами, а счастливый «помидорный рыцарь» спешит к урне – две удачи за день. Еще одним человеком, до конца жизни верящим в приметы, больше.
Восьмой этаж… Он остановился, шумно прислонился к стене, чиркнул спичкой: пустой подъезд – гулкий короб, отозвался выстрелом. Закурил, затянувшись несколько раз, бросил окурок под ноги. Еще раз сверил номер на дерматиновой двери с цифрами на клочке бумаги. Осмотрел ладони, сжал в костистые кулаки, расправил. Еще раз… Глубоко вздохнул, решительно вмял красный шарик в стену.
Взгляд уперся не в напуганные лица застигнутых врасплох заговорщиков, что ожидала возбужденная мстительностью несложная фантазия, – провалился в розовый дверной просвет: бахромчатый абажур, обои…
– Вам кого?
Андерсон опустил голову – на звук. За порогом стояла красноволосая девочка и, запрокинув головку, спокойно смотрела на пришельца большими синими глазами. Он оторвал руку от кнопки, отпрянул. Приснял, откинул на плечи полушубок, поправил шапку. Горло выдало безотчетный звук, затем язык почти автоматически сложил слово:
– А-а… Бе-ридзе…
– Правильно, это квартира Беридзе.
– А из взрослых кто-нибудь есть?
Девочка медленно покачала отрицательно головой и, пристально глядя на Андрея, спросила:
– А вы кто? Вы с Севера?
Андрей рукавом дубленки с силой провел ото лба к подбородку, стирая пот, присел на корточки, сравнялся ростом с девочкой.
– С чего ты взяла?
– У вас шапка собачья. Собачья? А вы кто? Может быть, мне дверь закрыть?
– Неправильно, – Андрей устало улыбнулся. – Вообще не надо было открывать. Но ты, наверное, очень-очень смелая?
– Да. Я даже мертвых не боюсь.
– Ух ты. И давно? Тебе сколько лет?
– С тех пор, как мама-Варя приехала. После того, как у нас с папой мама умерла – под машину попала и умерла… Мне пять лет. Скоро. Она с Севера приехала. Вот в такой вот шапке. Осень, еще не холодно, а она в такой вот шапке. Смешно, да? Там всегда холодно. Мне вот столько, – она подняла ладошку на уровень лица, повернула к себе, пошевелила пальцами и выставила вперед, – пять.
– А как тебя зовут?
– Меня зовут Варя…
Андерсон почувствовал головокружение, которое несколько лет назад часто напоминало о знаменитой ресторанной баталии. Он заслонил лицо руками и, борясь со слабостью, глухо, уродуя слова сдавленными губами, спросил из-за ладоней:
– А как же вы… Как вы с новой мамой… У вас же одинаковые имена…
– Да, – оживилась девочка. – Вот так случайно получилась! Папа меня в честь какой-то девочки так назвал. Но мама-Варя сразу придумала. Она сразу сказала: давай, я останусь Варя, а ты, пока маленькая, будешь Барби, это то же самое по-иностранному. – Она обратилась к Андерсону: – Смешное имя, правда? Как у куклы… Я сказала: ладно…
…Андерсон никогда не приезжал с трассы с пустыми руками. Он привозил Барби то оленьи рога, то засушенный кустик тундрового ягеля, похожего на кораллы… Весь их жилой вагончик, «балок» – так он называется на Севере, был заполнен подобными безделушками. Он не разрешал ей работать – не желал, чтобы она, хрупкая девочка, изнашивалась в работе. Так он говорил ей. На самом деле, хотел, чтобы Барби всегда, когда это возможно, была с ним – ждала, встречала и находилась рядом. Так и было – Барби слыла хорошей женой. Вокруг имелись другие примеры: жены, зарабатывая почти наравне с мужчинами, становились независимыми – требовали «равноправия»; или, вовсе не работая, «портились» от безделья – подавались на сторону. И то, и другое приводило к разводам. Барби жила особой жизнью: «Святая», – иной раз с удовольствием и обожанием думал Андерсон… Однако, время показало, – тот же результат. «Все они одинаковые!..» – часто доводилось слышать подобное от отвергнутых мужиков в состоянии беспомощной пьяной сопливости. Но это – ущербное самооправдание, чушь, так примитивно Андерсон никогда не думал, ни «до», ни «после».
Отпускную неделю он «закручивал» как мог: походы за грибами, ягодами, на рыбалку, на охоту, на шашлыки… Друзья, ресторан – единственный в вахтовом поселке – через вечер. Вместе с ними развлекалась и Светлана – куда же без нее, они с Барби стали почти подружками. Светлана, «фараонова вдова» – как она себя называла, – старший диспетчер нефтеналивной станции, за эти годы разбила несколько мужских сердец, но как только дело доходило до разрушения семьи, без колебаний уходила в сторону, не позволяя себе, как она говорила, сиротить семьи. «А если правда, – часто объясняла, смеясь, – кроме Андерсона и Фердинанда мужиков не доводилось встречать!..» Барби воскресала из грусти, становилась веселой, как живая игрушка. «Завода», полагал Андерсон, хватало на всю следующую неделю, пока он был в отъезде. Значит, он ошибался. Во многом… Зачем он здесь? Можно ли так завести машину времени, чтобы воскресить прошлое? Так не бывает. Он устал…
– Извини, Барби, ошибся… – Андерсон медленно поднялся. – Мне пора. Рад был случайной встрече, малыш… До свидания, подосиновик, будь здорова. – Он улыбнулся, поясняя: – Есть такие грибы на Севере – подосиновики, их еще называют красноголовиками. Ты – красноголовик. Жаль, но мне нужны другие Беридзе. Еще раз, извини, ошибся…
Он тяжело шагнул вниз, понурив голову.
– Ничего, – успокоила девочка. – Меня во дворе рыжей называют. Я им скажу: я – красноголовик. Вы идите. Я дверь не буду закрывать.
– Почему? – спросил Андерсон не оборачиваясь.
– А вон, слышите. Это мама поднимается. С покупками. Я ее по шагам узнаю. У нас лифт не работает. Вы идите.
Андрей остановился, как будто натолкнулся на стену. Быстро вернулся, наклонился, приставил палец к губам и торопливо, горячо зашептал:
– Нет, так не пойдет. Она расстроится. Дверь открыта, ты босиком. Ты лучше, знаешь, что? Сделай сюрприз. Она подходит к двери, то-о-олько за звонок, а ты – раз! – открываешь. Давай-давай!..
Он потянул за дверную ручку, девочка с заговорщицкой улыбкой молча подчинилась.
Знакомые – может быть, немного отчужденные необычной, едва уловимой тяжестью, как, наверное, у состарившейся балерины, – шаги приближались, становились громче и отчетливей.
Андрей панически огляделся, взгляд заметался по лестничной клетке… Шаги совсем рядом… Он решился и большими бесшумными шагами в мягких унтах быстро ушел на девятый, последний этаж. Там зашатался в обморочной волне, сел на ступеньки, уронил голову на высоко задранные коленки. Шапка, лохматым рыжим зверем, мягко скатилась по бетонному маршу, улеглась на промежуточной площадке.
Разговор в приоткрытую внизу дверь: «…Ну, я же говорю, в шапке! Как у тебя! Ты его разве не встретила? А может быть, он наверх пошел? Он же ищет людей с такой же фамилией…» – «Нет, нет, ты права – действительно, кто-то прошел мимо, я не разглядела… Иди на кухню, Барби. Разбирай покупки. Я сейчас, только посмотрю почту. Я сейчас…»
Вышла на площадку. Несколько минут тишины.
Мимо сверху по ступенькам прошла женщина – Андерсон углом глаза увидел полные ноги в резиновых сапожках. Послышался ее нарочито громкий голос внизу:
– Здравствуйте, Варенька. У вас запоры крепкие? Смотрите, не открывайте кому попало. А то ходят разные, дедами Морозами прикидываются. В март-то месяц. Потом вещи пропадают… Аферисты проклятые. – И, удаляясь, совсем громко: – В наш подъезд, между прочим, сегодня участковый собирался заглянуть!.. А у меня зрительная память о-о-очень хорошая!..
Андерсон знает, как Барби сейчас стоит: прислонившись спиной к стене, запрокинув голову, пальцы-балеринки трут крашеную панель… Одна из ее обычных поз. Но в настоящий момент он вспомнил конкретное – так она стояла однажды, получив раздраженный ответ: «Нет!..» – на ее очередное навязчивое предложение завести ребенка. Через секунду последовали его обычные шутки, веселые отговорки: «Рано… Вот подзаработаем, уедем с Севера на «Землю»… и т.д.…», примиряющие объятия… Но это мгновение – было: глаза, наполненные сиротливой тоской, смуглые пальчики, отчаянно растирающие стенку… Если она сейчас произнесет слово, у него прострелит сердце…
Дверь закрылась медленно. С ровным скрипом. С шорохом трущейся об косяк дерматиновой обивки. С последним хрустом.
Через долгую минуту щелкнул замок. Потом еще.
6
Дверь балка оказалась открытой. Светлана, вся белая от муки и разметавшихся волос, испуганно застыла около самодельной электрической плитки. На столе лежал противень с сырыми пельменями. Из форточки залетал и таял парной морозный воздух, пахло духами и тестом.
Андерсон медленно разделся и сел на стул у входа, оглядел чистую комнату.
– Не узнаю своей норы. Я туда ли попал?
– Туда, Андрюша. Это я вот… У меня был Варин ключ, ты не знал? Она, когда уезжала, занесла мне – вон я на гвоздик повесила. Я знала, что ты сегодня вернешься. Завтра ведь на вахту. Я ставлю воду, будем варить пельмешки?
Она отвернулась, примостила кастрюлю на плитку, вставила вилку в розетку. Долго стояла спиной к Андерсону, приподнимала и возвращала на место большую, не по размеру кастрюли, эмалированную крышку. Он отметил: его старая верная подруга, его «одуванчик», в последнее время перестала краситься – русые волосы, начиная от корней, медленно вытесняли хлопковый цвет. Впрочем, от этого она не становилась менее красивой.
Светлана, не оборачиваясь, заговорила:
– Георгий Иванович ушел от жены, совсем. Пришел ко мне, с чемоданом. Я как была, ключ схватила, пальто накинула, и сюда. У тебя ночевала… Что делать?
Она повернулась. Они встретились глазами.
Он опустил голову.
Она вздохнула. Медленно сняла фартук.
– Пойду, темно уже. Завтра на работу. Не провожай, ты с дороги, устал.
– Останься, рано еще…
– Нет, Андрюша. Не рано и не поздно. Просто пора.
Задребезжала крышка.
Он подошел, наклонил голову, прикоснулся щекой к упругим душистым волосам, прижался лбом к плечу и, цепляя губами пуговицы на мягком домашнем платье, опустился на колени.
– Я даже цветов тебе не привез, что ли… Прости…
Обнял, сцепил ладони за ее спиной, глубоко уткнулся сморщившимся лицом в мягкий живот, со стоном потянул в себя воздух и – загудел, забухал, затрясся в мокрых рыданиях.
«Андерсон, Андерсон, – гладя по свалявшимся волосам. – Какой же ты Андерсон».
Потомок царского офицера, сгинувшего от нежелания менять высокий природный образ ради нового, придуманного кем-то, бытия, – Андрей, не справившийся с имиджем, изобретенным ради необычной жизни, – стоя на коленях, уже почти успокоившись и лишь изредка вздыхая и всхлипывая, еще долго не отпускал Светлану.
Пока на его лице не стянула кожу горькая сухая соль…
Пока ее горячее тело не высушило тонкую фланель…
Пока не перестала дребезжать крышка…
Пока не застреляла раскаленной эмалью притихшая было кастрюля.
И отпустил.
ЧУБЧИК
Приятель мой и одноклассник Пашка, в отличие от меня, всегда был лысым. В семье у них, кроме Пашки, бегало еще четверо сыновей. И все они, сколько я их помнил, всегда были стриженными налысо. Этим они очень походили друг на друга, их можно было перепутать с затылков. Хотя, все были, разумеется, разного возраста и характера. Я всегда подозревал, что причина их затылочной универсальности в том, что отец Пашки, дядя Володя, родился, как он сам говорил, безволосым. Очевидно, подтверждал мой папа эту версию, дядя Володя не хотел, чтобы наследники хоть в чем-то его опережали, пока он жив, – настолько ревниво относился к лидерству в семье. Наверное, думал я, развивая папину шутку, если б было возможно, сосед остриг бы и тетю Галю, Пашкину мать, под ручную машинку – его любимый инструмент, который он прятал от семьи в платяном шкафу под ключ. Но сделать такое – неудобно перед соседями. Хотя вполне приемлемо было иной раз, по пьяной лавочке, громко, на всю улицу – открытым концертом, «погонять» тетю Галю, в результате чего она, бывало, убегала к соседям и пережидала, пока дядя Володя не успокоится и не заснет.
Сосед зорко следил за прическами своих отпрысков. Обычно, периодически, пряча за спиной ручную машинку, он подкрадывался к играющей во дворе ватаге, отлавливал кого-нибудь из своих «ку» (Пашку, Мишку, Ваську…), каждый раз с удовольствием преодолевая неактивное сопротивление взрослеющего пацана. В этом, вероятно, был какой-то охотничий азарт. Ловко выстригал спереди, ото лба к затылку, дорожку. После чего сын, покорной жертвой, шел к табуретке, чтобы очередной раз быть обработанным «под Котовского». Все было со слезами, переходящими в смех, и, как будто, никто по-серьезному не страдал.
Мне казалось, что дядя Володя всегда был пьяненький. Меня, соседского мальчишку, непременно с аккуратным гладким чубчиком вполовину лба, в виде равнобедренной трапеции, когда я приходил к Кольке, он встречал неравнодушно: редкозубо улыбался, слегка приседал и, переваливаясь на широко расставленных ногах, подавался навстречу. Одной рукой поглаживал свою большую, чуть приплюснутую лысую голову, а другой, похожей на раковую клешню, совершал хватательные движения, имитируя работу своей адской машинки, и в такт пальцевым жимам напевал: «Чубчик, чубчик, чубчик кучеравый!.. Разве можно чубчик не любить!.. Ах, ты, кучера-а-авый!» Именно так: через «ра». (Иногда говорил своим пацанам, тыча в меня пальцем: «Демократ с чубчиком!.. Куда его папа партейный глядит! Не-е-ет, распустились!..» Из неоправданной высокопарности следовало, что дело не в чубчике: чубчик – знак чего-то, символ.) Я улыбался и отступал. Мне было жутко от мысли оказаться пойманным и обманным путем остриженным наголо. Причем, так: когда сначала на самом видном месте коварно выстригают клок, после чего сопротивление бесполезно, и остается только, снизу-вверх, в ужасе наблюдать за творящимся над тобой насилием и мечтать об одном – чтобы все это поскорее закончилось. Про себя я называл дядю Володю «Кучеравым» – незримая и наивная месть за вечно оболваненных Пашкиных братьев и тетю Галю, которую было жалко также и за то, что она ежевечерне через всю улицу, горбясь под тяжестью, несла из столовой ведро котлет с гарниром и бидон сметаны, чтобы прокормить маленького, но весьма прожорливого мужа и пятерых, постоянно желающих чего-нибудь погрызть, «ку». «Не в коней корм», – иногда жаловалась она. Соседи называли эту семью «несунами» (дядя Володя, работая плотником, также носил домой, как пчелка: дощечки разных размеров, всякие деревянные поделки: табуретки, рамы, двери… Затем все это сбывал соседям за «пузырьки»). «Завидуют», – говорил про соседей Пашка, оправдывая «пчелиное» поведение родителей.
В нормальных условиях стрижка налысо являлась для меня нереальным актом. Это было невозможно в нашей семье. Отец периодически водил меня стричься «под чубчик» к одному и тому же пожилому парикмахеру корейцу, стригся сам под модный тогда «полубокс».
Для мастера единственной парикмахерской нашего рабочего микрорайона у меня сложился трудно передаваемый зрительно-морфологический синоним: без имени-отчества, но с большой буквы – Парикмахер; широкие плечи в белом халате – заглавная буква «П».
…Кореец работал по большей части молча, могло показаться, что он нелюдим или угрюм. Но с отцом, как и с другими постоянными клиентами, разговаривал, мне представлялось, с удовольствием, впрочем, в основном отвечал на вопросы. Лицо виделось строгим, но не хмурым, а просто неагрессивно серьезным – отношение ко всему окружающему с полным отсутствием легкомыслия. Несмотря на тотальную серьезность, Парикмахер довольно часто улыбался – движения губ были реакцией на шутку, окрашивали фразу, иногда заменяли слово. Но не более того, а именно – улыбка была функциональна: не блуждала по лицу, «на всякий случай», как у угодливых, хитрых или, наоборот, просто добрых людей, не зная к чему приткнуться, что разукрасить. В глазах, обычно устремленных на голову клиента, сверху, поэтому как бы прикрытых – плюс к монголоидному разрезу, – скорее, в их уголках, доступных мне, как стороннему наблюдателю, в том числе через зеркало, не находилось блесток высокомерия, кичливости мастерством. Его вид как бы говорил: все, что Парикмахер делал, делает и будет делать – правильно, качественно, основательно. Но декларация «звучала» именно так – отстранено, от третьего лица: перечень положительных качеств олицетворял плакатную бесспорность, претендуя только на конкретную деятельность – бритье, стрижка, – и при этом словно отмежевывался от «я»: мнилось некое подобие прозрачной, но непреодолимой границы, старательно, больше обычного, отделяющей внутреннюю суть от внешности. В такой интуитивно отчетливой и вместе с тем неуловимой, необъяснимой словами двухмерности мною предполагался корень странной таинственности, внушающей уважение и желание наблюдать за корейцем. Хотелось намазать этот стеклянный, прозрачный барьер чем-то видимым: гуашью или пластилином – строительный материал детского творчества, – чтобы преграда стала осязаема, доступна зрению.
Чем больше я наблюдал, тем сильнее утверждался в своем первичном детском, по преобладанию инстинктивном, мнении, что Парикмахер – носитель секрета, персонаж некоего приключенческого сюжета, какой-то судьбы из неведомой жизни, о которой я еще никогда не читал, не смотрел фильмов, не слышал. Взятие первой логической ступени в расшифровке неясного, но притягательного образа – промежуточный вывод, основанный на скудном багаже личного жизненного опыта: то, чем Парикмахер занимается с утра до вечера в своей маленькой мастерской, обслуживая за день несколько десятков людей, – не самое главное в его жизни, оно даже не занимает его мысли… Это притом, что свое дело Парикмахер ладил хорошо. И при том также, что труд, говорили нам в школе, – самое главное для человека. А если не «самое главное», то очень плохо, – это не наш человек. В рассогласовании, которое рождалось из данного правила и личных впечатлений о Парикмахере, было нечто не совсем приятное, как колкие ворсинки за шиворотом после стрижки с «модельным» результатом, отраженном в хмуром обмане старого зеркала с матовыми углами (именно такое висело в этой старенькой цирюльне): положительное боролось с не очень хорошим, ненадежным, сомнительным; ясное – с незримым.
Все остальные мои взрослые знакомые, среди которых много родственников и соседей, были более-менее понятны. Пашкины родители – как на ладони. Мои папа и мама – передовики производства, их огромные фотографии постоянно, до привычности, висели на доске почета, длинно вытянувшейся вдоль стены хлопкового завода, где работал весь микрорайон, по дороге в школу. Или взять другого нашего соседа Освальда Генриховича, инженера конструкторского бюро, который тоже хорошо работал на этом же заводе, но просто не мог висеть на доске почета ввиду того, что был немцем, сосланным к нам в Среднюю Азию из Поволжья в начале войны. Об этом, почему-то понижая голос, как будто нас могли подслушать, говорил мне папа. Все понятно – не повезло Освальду Генриховичу: старайся не старайся, а на «доске» не висеть. Я немножко жалел его, но понимал, что так надо и что данное положение дел совершенно естественно.
Волосы мои на голове отрастали очень быстро («Оттого, что мозгов больно много», – шутил папа, с явным удовольствием намекая на мою отличную, без напряжения – порой до скуки, учебу в школе), поэтому довольно часто приходилось посещать Парикмахера.
Повторялось одно и то же. Я взгромождался на высокое кожаное кресло. Ерзал, усаживаясь поудобнее. Парикмахер туго повязывал мне салфетку, готовил инструмент. При этом только единожды за весь процесс стрижки я удостаивался его прямого умного взгляда из зеркала, когда он вполголоса спрашивал: «Как?» Я говорил: «Чубчик». Он принимался за мою голову, я разглядывал его, Парикмахера.
Лицо – толстые складки. Волосы абсолютно седые, серебряные, зачесанные назад. Интересно, кто его стрижет, всегда думалось мне. Прокуренные желтые пальцы, которые иногда мягко захватывали остригаемую голову, деликатно придавая ей нужное положение. В мой гудящий от электрической машинки затылок – тяжеловатое (оказывается!), с грудной хрипотцой дыхание, в ноздри – характерный запах, смесь одеколона и табака. Только вблизи было понятно, насколько много ему лет.
Вокруг старого зеркала были наклеены несколько пожелтевших вырезок из газет на космическую тему и две черно-белые фотографии цветочных букетов (позже я узнал, что это икебана). Отрывной календарь рядом с полкой, заставленной разнокалиберными флаконами, сообщал о датах, днях недели, фазах солнца и луны. Справа, на глухой стене, висел приемник с понятным названием «Москва» – округлые формы, металлический корпус, обтянутая шелковой материей фальшпанель с темным пятном динамика, – который был всегда включен: гимны сменялись голосом дикторов, вещающих о новостях страны, следом шли прогноз погоды, музыкальные передачи по заявкам и без таковых. Трудно было даже представить саму парикмахерскую, само слово «стрижка» без звучания этого радио. Звук как из пионерского горна – направленный, сконцентрированный: он не отражался от стенок комнаты, не заполнял ее всю, а вел себя «адресно» – выходил из одного отверстия – динамика, входил в другое – в мое правое ухо и там оставался. Что с ним происходило дальше внутри меня, я не знал. Наверное, он усваивался особым образом, превращаясь во что-то необходимое для организма. Как воздух, утренняя зарядка, занятия в школе, субботники, первомайские и октябрьские демонстрации… Иногда чудилось, что этот радиоприемник «Москва» и есть самый город Москва, прикинувшийся металлическим ящичком, говорящим и поющим мне в ухо необходимые вещи. Или хотя бы так: приемник – столица, громко и полезно присутствующая в этой комнате своей вполне материальной, видимой частичкой, а не какими-то прозрачными радиоволнами, о которых рассказывал папа. (Отсюда – ретроспективно – можно сделать вывод, что все необъяснимое на самом деле жутко меня раздражало, хотелось определенности, а если ее не было, то этот пробел занимали изобретенные мной логические образы.)
С противоположной стороны располагалось маленькое окошко, с открытой в любое время года форточкой, в которую вплывали запахи улицы: мокрого или раскаленного асфальта, пыли хлопкового завода (душное свежее одеяло), бензина и выхлопного дыма; сюда же залетал тополиный пух, мокрые, обессилевшие среднеазиатские снежинки, мухи, которые, постукавшись по стенкам, неизменно прилипали на липкую желтую бумагу-ловушку. С запахами и звуками из окна все было более ясно, чем с приемником, – понятный мир. Хотя самого окна в оригинале мне видно не было – лишь часть его, и то в отражении зеркала: участок дороги, подвижный кусок автомобиля, пестрые дольки прохожих – обращенное, в логическом негативе.
Иногда я заставал в парикмахерской Освальда Генриховича, который бывал здесь, как он сам выражался, пожалуй, дольше меня: не только стригся, но и брился по субботам, а то и чаще. Существовала между Парикмахером и Освальдом какая-то невидимая, но пронзительная связь, в которую, будучи рядом, вступали эти внешне совершенно разные люди, – то, что было вряд ли понятно взрослым, каким-то природным, детским, звериным чутьем было доступно мне.
Освальд, полный и рыхлый, с толстыми очками на остром с горбинкой носу, заходил в парикмахерскую, кивал в сторону зеркала: там отражалась вся комната вместе с Парикмахером и посетителями, – громко говорил «здравствуйте». Кивал в ответ Парикмахер. Натягивались струны, или, используя лексику папы-инженера, между двумя телами появлялись силовые линии. Очередь доходила до Освальда, Парикмахер его «обрабатывал». Они перебрасывались несколькими фразами: о погоде, об урожае хлопка; Освальд шутил на какие-нибудь тривиальные, не запоминающиеся темы, парикмахер «функционально» улыбался – не больше и не меньше, чем с остальными. Пели струны. Освальд вставал, отряхивалась простыня, расплата, сдачи, спасибо. Шел к выходу, затем неизменно останавливался, смотрел на часы, махал рукой: ладно, выкурю папироску, еще время есть. Парикмахер, занятый следующим клиентом, не глядя кивал. Освальд выкуривал папиросу, уже практически не участвуя в разговоре, в коем ведущую роль начинал играть следующий клиент, глядя в окно с особым выражением лица, которое совершенно не вязалось с его предыдущими шутками. В это время мне казалось, что струны начинали громко звенеть – не радостно, а с каким-то трагическим достоинством. Стеклянная пепельница, часто ополаскиваемая Парикмахером в рукомойнике, оттого всегда чистая, стояла на маленьком журнальном столике, который, покорной старой коровкой среди четырех скрипучих козлов, располагался в углу перед сбитыми в две пары стульями. Освальд делал языком мокрое пятнышко в середине своей большой ладони, осторожно, с долгим пошипыванием гасил папиросу, вставал, мял уже мертвый окурок в пепельнице, говорил всем «до свидания». Парикмахер кивал, не поворачивая головы. Или слегка обозначив поворот, бросал короткий взгляд куда-то под ноги Освальду.
Дверной скрип – звяканье рвущейся струны.
Обычно, когда я возвращался из школы, парикмахерская была уже открыта. Еще с конца улицы я ставил очередную промежуточную цель – парикмахерская. Это было в моей тогдашней манере, проходить любое расстояние этапами, от объекта к объекту. Тогда весь путь превращался из серой скучной череды в разноцветные динамические отрезки, по-своему интересные и, что самое главное, определенным образом подвластные мне. Я шел, изменяя своей волей предметы очередной цели – с разных расстояний они приобретали для меня разные свойства. Экспериментировал: шел быстрее, предметы росли быстрее, медленнее – медленнее. Останавливался – предметы прекращали рост. Дверь парикмахерской летом открывалась нараспашку. Все, что внутри этого помещения, хорошо фронтально просматривалось с тротуара. Итак, все, что было в парикмахерской, по мере моего приближения, увеличивалось, набирало объемы, цвет, ясность. О том, что внутри, я знал наизусть, но, отгоняя знание, каждый раз «проявлял» эти кадры по-новому, искусственно умножая череду каждодневных открытий: лоснящееся бесформенное пятно – зеркало; белая буква «г» – Парикмахер, могуче довлеющий с вытянутыми вперед руками над черной, рыжей, русой головой, издали похожий на стоячего пианиста. Иногда, если не было посетителей, Парикмахер выходил, облокачивался на косяк двери и курил, глядя куда-то в конец улицы, получалось – в мою сторону, но слишком далеко, мне за спину, сильно подняв подбородок. Я невольно оборачивался – сзади не было ничего необычного, лишь затылки моих предыдущих открытий. Это лишний раз напоминало мне, на будущее, что все мои находки, в том числе и последних минут, имеют обратную сторону. Это прибавляло уважения к Парикмахеру. Но мне никогда не везло в данный момент оказаться вблизи, чтобы «распечатать» этот взгляд, порожденный какой-то невидимой далью.
…Я чувствовал, что-то произошло в нашей семье. Причем, события, которые привели к нарушению размеренной жизни, имели, в моем представлении, какой-то внешний, возможно, всемирный, а значит – стихийный, неуправляемый характер. Однако нежелательных последствий можно было избежать, если бы мои родители успели пригнуться или хотя бы отвернуть свои лица от тех, кто нас окружает, – так я смоделировал для себя возникшую ситуацию. Причем, эта умозрительная конструкция появилась гораздо позже, когда все плохое уже произошло, – только осенью, точнее – седьмого ноября, когда выяснилось, что мой папа не идет на демонстрацию. Представить такое раньше было просто невозможно. Еще с вечера, ложась спать, я видел, как он разбудит меня утром, уже приведший себя в порядок: в костюме с бардовым галстуком, гладко выбритый, пахнущий «Шипром», веселый. От него веет свежестью и бодростью. Обращаясь ко мне, он будет напевать на какой-то ритмичный мотив то ли итальянской, то ли испанской песни: «Чина-чина!.. Слабачина!..», – с переходом на «нормальную» шутливую речь: «Вставай, слабак, вставай!.. Утро красит ясным светом – я пришел к тебе с приветом… На полтинничек, гуляй!..» Они уйдут с мамой под ручку раньше меня, в окрашенную праздником перспективу теплого осеннего утра, чтобы протечь под духовую музыку и крики «Ура!» заводской колонной мимо городской трибуны, встроенной в памятник Ленину. Чтобы затем встретиться на центральной площади с друзьями, а потом «активно отдохнуть» в веселой кампании на природе за городом или в центральном парке.
…Утром отец сказал, что болен и на демонстрацию не пойдет. Он действительно плохо выглядел: похудел, лицо – как будто в тени, которую он последнее время носил вместе с собой. Ни прежнего румянца, ни привычной бодрости. Мама еще не пришла с ночной смены. Папа сказал мне, что я пойду до площади с соседом Освальдом Генриховичам, там присоединюсь к школьным колоннам. А может быть, и мне тоже остаться, чувствуя неладное, спросил я. (По правде сказать, на демонстрацию в школьных рядах мы ходить не любили. Другое дело пройти свободным образом, без транспарантов и огромных портретов в руках, которые потом, после прохода под трибунами, приходилось неинтересно и непродуктивно нести за два квартала к бортовым машинам – аксессуары увозили обратно в школу, чтобы свалить кучей в подсобках до следующего праздника. Жаль было времени, не терпелось оказаться в пестрой парковой толпе, вкусить праздничное изобилие: шашлыки, мороженное, лимонад…) «Нет, – раздраженно отреагировал папа, – надо, надо, иди!.. Ты пойдешь».
Тут я вспомнил, что накануне, первого сентября, когда шел после каникул в школу, не обнаружил фотографий своих родителей на «стене почета». Тогда мне подумалось: все, наверное, правильно – достойных людей много, а стена ограниченна. Одни повисели – уступили место другим. Сейчас это тревожным образом связалось с нынешним поведением и обликом папы. Уже сам собой всплыл неясный эпизод, произошедший еще раньше, недели за две до моего открытия у доски почета: папа пришел сильно выпивший, чего за ним раньше не наблюдалось. Он почему-то давил ладонью грудь и приговаривал мокрыми пьяными губами: «Пражская весна!.. Э-эх!..» Мама долго укладывала его спать. Из спальни доносились сдавленные голоса: «Как мы могли?!..», «Идейный, будь как все!..», «Нет, ну как же теперь!.. Вот тебе и весна!» Надо же так напиться, – думал я, отгоняя от себя безотчетное волнение, – и перепутать времена года: сейчас лето, причем, август.
Освальд Генрихович взял меня, как маленького, за руку. Я протестовал – он настоял: «Так надо. Мне надо. Сделай мне приятное! Пусть видят, сколько можно трястись, а? Давай…» Пропустив непонятые слова мимо ушей, я подчинился. У Освальда не было детей, вернее были когда-то, но во время войны жена развелась с ним и, забрав двух сыновей, уехала обратно в Россию, он их разыскивал – бесполезно. Возможно, в этом, в вынужденной, насильной бездетности, в воспоминаниях о сыновьях, причина его нежности ко мне, – объяснил я его сегодняшнее суетливое поведение. Проходя мимо Пашкиного дома, мы покивали, приветствуя, вышедшему за ворота семейству «Кучеравого». Глава семьи снисходительно прижал тупой подбородок с невыбритой ямочкой к узкой высокой груди, обернулся к своему выводку, кивнул на нас, все засмеялись. Я знал, что «Кучеравый» вполголоса сказал своим «ку» – что обычно: «Иж, фашист-то, вырядился!..» Это он об Освальде Генриховиче, с нелогичным расположением «мундирных» знаков: почти на «солнечном сплетении» алела шелковая ленточка, сделанная из пионерского галстука, длинным концом для аккуратности приколотая к нагрудному карману, напоминая аксельбант с картины о декабристах, а три значка – «ВОИР», «Почетный донор», «Фидель Кастро» и «Пахтакор», – грудились у левого плеча, издали смахивая на единый карикатурный орден.
Мы пошли по направлению к центру города, где в близлежащих переулках выстраивались, готовясь к маршу, школьные колонны. Из узбекских домов выходили группы школьников: темные брюки и юбки, белые рубашки, красные галстуки. В некоторых дворах детей было так много, что семейства, каждые в отдельности, представляли собой маленькие демонстрации. Усиливались звуки городского праздника: музыка, речевки, команды… Нарастала шумовая лавина, пропитывая густеющие людские потоки – красное на белом. В одном месте, где маленький духовой оркестр «продувал» небольшие маршевые фрагменты, Освальд Генрихович поднял свой кулак с моей взмокшей ладошкой, ткнул этой тяжелой связкой в сторону низкой зеленой калитки: «А здесь живет Алексей Иванович, наш с тобой парикмахер. Он сейчас дома, да». Мы продолжали поход, и Освальд Генрихович говорил, не глядя на меня, как будто сам с собой. Привычная, несколько виноватая улыбка, которая обычно близоруко, светлыми тенями блуждала по его лицу – то поднимая бровь, то щуря глаз, то растягивая губы, – сменялась непривычной решительной серьезностью.
– Их привезли сюда раньше, чем меня, чем, тем более, крымских татар… В тридцать девятом, с Дальнего Востока. Сосед наш, Володя – дядя Володя – до сих пор зовет их «самураями», «собакоедами», «косоглазыми». Отца твоего, я слышал, нынче «белочехом» прозвал. Никчемный он человек, дядя Володя, да, честно тебе скажу. Нехорошо, конечно, так про взрослых… А вот среди них много умных людей, не чета некоторым… Многие пошли учителями. Физика, химия, математика. Точные предметы, аналитика – это их. А Алексей Иванович, ты знаешь, – доктор технических наук, между нами, конечно… А тоже ведь, как скотину… Ему предлагали потом, из Ташкента приезжали, из Академии Уз-эс-эс-эр… Отказался. Даже в наше кабэ не пошел. Обида. Гордыня. Я, ты знаешь, – заяц, а он!.. Уважаю, честное слово. Хоть кому скажу – уважаю!.. Чесслово… Вот и школа твоя…
Выпроставший ладошку из влажного плена, в школьной колонне я сразу же был взят в иной оборот: мне предназначалось определенное место, в передних шеренгах, и один из флагов союзных республик, которые, я знал – пятнадцать, незначительно отличались друг от друга: расположением и цветом вторичных (неглавных: зеленых, голубых, синих) полос на красном поле с особенной, но жидкой орнаментной (национальное отличие) оторочкой.
Необычайно тронутый гранями разнообразия мира, которое вдруг больно царапнуло меня некоторое время назад, на минуту выпрыгнув из взволнованной речи Освальда Генриховича, – на самом деле промежуточный результат, очередной финал постепенного набора жизненной информации одиннадцати лет, – я оказался захваченным навязчивой идеей: сейчас же, немедленно увидеть объект моего теперь уже почти объяснимого интереса – Парикмахера, как воплощение жизненной реальности, парадоксально фантастической, таинственной и при этом, оказывается, вполне объяснимой и доступной – стоит внимательнее посмотреть, больше расслышать, ближе потрогать.
Затеряться – отдаться на задворки переминающихся шеренг, с переходом на суетливый многолюдный тротуар, ничего не стоило. Оставалось избавиться от флага. Я решил действовать общеизвестным, знакомым по предыдущим демонстрациям методом. «Подержи, я сейчас», – обратился к первокласснику. «Ты не обманешь?» – спросил первоклассник, беззащитно поднимая розовые бровки и выворачивая пухлую губёшку. Я вспомнил где-то услышанное: когда говоришь неправду, нужно верить в то, что говоришь. Я попробовал: честно глядя в глаза, торжественно сказал «нет» и протянул крашенное древко к игрушечным доверчивым ладошкам. Получилось. Пацан взял флаг. Я быстро пошел прочь, стараясь не думать, что маленький человек смотрит мне в спину. «За все нужно платить, иногда – совестью: это очень быстро, но…», – вспомнилась папина фраза.
Я остановился возле зеленой калитки. Оставалось преодолеть еще один нравственный барьер – вторгнуться в чужой мир: незвано открыть калитку или тайно заглянуть через дувал. Но я устал: день, еще по-настоящему не начавшись, уже был долог – я слишком много узнал. Присел на синюю скамейку у палисадника, подперев ладошкой голову, – маленький старичок с чубчиком.
«Процесс познания родил науки: совершенно не обязательно трогать, обжигаться – повторять длинный цикл познания. Не хватит жизни. Наука создает качественную модель, формулу: подставляешь цифру – видишь результат». Это из популярных папиных объяснений относительно пользы наук.
«Ура!.. Да здравствует!.. Хурматли уртоклар! – дорогие товарищи!.. Претворим в жизнь исторические решения!..» В центре города началась демонстрация. Мимо проходили колонны и, блок за блоком, исчезали в нереальности перпендикулярного поворота, очерченной мозаичным углом высокого здания. Получая апатичное удовлетворение от осознанного владения знанием – результатом подстановки в знакомую модель: каждая колонна повторит движения и звуки предыдущей, став пронумерованной единицей масштабного действа, – я научно оправдывал свою неподвижность, параллельно напитываясь идеей будущего эксперимента, которому предстояло подтвердить или опровергнуть формулу-догадку, еще непорочную, в которую я еще ни разу не подставлял цифры. Закрыл глаза, выждал время, пока не угас красный цвет… Что возникнет сейчас – это и есть моя «субъективная реальность» (в противовес папиным «объективным реальностям» – частый фрагмент рассуждений на научные и социальные темы), мое понимание жизни.
Немного стыдясь своей «ясновидческой» власти над тем, за кем предстояло наблюдать, я представил Парикмахера на резной веранде, обвитой коричневыми лозовыми жгутиками молодого виноградника. В руках – свежая газета. Сейчас ему не шел белый халат, и он был одет в полосатую пижаму – символ обычности выходного, свободного дня. Тушуя опасность громких звуков улицы, способных внести тревожную ноту в спокойствие настроечного лада, я для верности заменил газету на художественную книгу, которая скоро приняла геометрию и цвет научно-популярного журнала, а затем окончательно трансформировалась в толстый справочник на технические темы. Да, чуть не забыл: папиросы, большая чистая пепельница, крупные комочки пепла.
А вот теперь на все это я накладываю звук, прибавляю громкость.
…Из-за дувала, с улицы, долетает – через усилители, «колокола»: «Да здравствует!.. Ура!» эти звуки смешиваются с аналогичными звуками из соседних дворов: от громко включенных радиоприемников, телевизоров – сливаясь в единое. И не поймешь, где реальность, а где искусственное. Если по научной букве: в центре города – настоящее, в «Москве» и других радио- и телеприемниках – искусственное. И все вместе дает ощущение абсурда или тщательно спланированного притворства: в науке есть модели, но в природе не бывает копий – все разное. Пашка не похож на меня, папа – на Кучеравого, мамы между собой разные, и все всегда говорят и ведут себя по-разному. А тут все одинаково: далеко-далеко, везде-везде, и рядом – одно и то же. И универсальное объяснение (насилие, наложенное на покорность): так надо.
…Парикмахер вздрогнул, поднял седую голову от книги и увидел ряд наблюдающих за ним разных, совершенно не похожих друг на друга людей: я, папа, Освальд Генрихович, Кучеравый и сын его Пашка, обманутый мальчик с флагом… Мне стало стыдно перед Парикмахером за всех, и я открыл глаза.
Я пошел домой, сэкономив полтинник, который, как всегда в день праздника, сегодня дал мне папа.
В следующую субботу, прогуливаясь с Колькой в районе хлопкового завода, я спросил:
«Коль, только честно, я не обижусь: как меня твой папа называет?»
Пашка хлюпнув носом и чуть подумав, видимо, вспоминая:
– Как, да считай никак… Кто ты? – мелочь! Ну, иногда, бывает – вундеркиндом паршивым, а иногда – блаженным, ну, ненормальным. Не обижаешься?.. Он ведь всегда правду говорит. Смотри: ты хоть и отличник, а дружить-то с тобой больно никто не разбежится, кроме меня…
Нет, я не обижался. Можно ли обижаться на того, кому не доверяешь – я имел в виду Пашкиного отца. Я решил проверить себя внешним насилием на собственную непокорность (могу ли я быть «нормальным»? ) и реакцией на все это Парикмахера – уже знакомым, собственно разработанным и испытанным методом.
…Пашка сел у входа, я взгромоздился на кожаный трон перед старым зеркалом, недоверчиво, но вместе с тем равнодушно отразившем мое притворство – мнимое согласие с грядущим.
«Как?» – спросил Парикмахер, коротко взглянув. Я пошевелил губами, но поняв, что ничего не сказал, качнул головой назад. Парикмахер посмотрел на Пашку: «Как друга? Хорошо».
Авансом – сжигая мосты: высунув руку из-под салфетки, похожей на белый саван, я аккуратно положил на стол сэкономленные накануне пятьдесят копеек одной монетой.
Словно завороженный я смотрел на свое отражение, видел, как машинка подбирается к чубчику. В один из моментов Парикмахер, не в характере предыдущих стрижек, внимательно посмотрел через зеркало на меня, прямо в глаза, как бы в последний раз спрашивая: «Точно?» Возможно, мне так показалось. Он медленно слизывал дорожку за дорожкой, оставляя от чубчика все меньше и меньше. Слезы сами выкатывались и тонкими серебряными стежками сбегали по обветренным щекам. Парикмахер: что, больно? Ах, машинка старая, дергает, ножи точить надо. Ну, ничего, не стоит из-за этого плакать, неужели так больно?
Мы вышли из парикмахерской. Мир померк. Я представлял себя со стороны: нелепым, униженным, как будто голым, который не в силах скрыть свою наготу. Пашка как всегда улыбался, он был счастливым человеком, хоть и лысым. Он спросил: есть три копейки? Я кивнул. Он взял монетку, купил в киоске «Союзпечати» газету (какую-то «Правду»: «Правду Востока», «Ташкентскую правду» или просто «Правду»), мы сделали из нее две пилотки, надели (я почувствовал себя несколько лучше: в конце концов, жизнь не заканчивается – отрастут) и пошли домой. По дороге Пашка рассказывал о своих жизненных открытиях на заданную тему: оказывается, еще из небольших газет можно делать тюбетейки, а из больших – сомбреро.
ГОУ-ГОУ
1.
Многоопытный и пресыщенный, – в той мере, когда новые стимулы уже маловероятны в тактических уловках типа легких союзов и разводов, скитаний по горячим стежкам окружающего пространства, но еще теоретически возможны в стратегических решениях и затратах, – этим летом Никита решил не напрягать себя курортными изысками, а провести отпуск там, где был когда-то непорочно счастлив, – в городе своего студенчества.
Пять студенческих лет жили в памяти светлой полосой, отдельным регионом, суверенной страной. С годами истаивали в неожиданных всплесках памяти вторичные события и предметы, но оставались, сладкими уколами, отполированные волнами лет, как обмылки янтаря – броско и драгоценно на галечном пляже, – солнечные клавиши воспоминаний. Их немного, они поддавались счету – в осеннем парке зрелости, объятом шорохом, но еще не скрипом.
Категоричность знаменитого постулата – «Не возвращайтесь туда, где было хорошо» – уже давно принималась Никитой только предупреждением: ничто не повторяется. К нынешним летам из прописной истины выхолостился предостерегающий элемент, в «теоретической» молодости, как ни парадоксально, полагавшийся основным. Это отнюдь не говорило о том, что, вопреки природе, в молодости он был менее безрассуден, – просто суеверность, если таковым можно назвать невинную веру в приметы, едва ли не покинула его в зрелости. Сейчас он рассуждал, как ему казалось, трезво: что могло, при попытке «возврата», грозить ему в году, который настал через четверть века после того, когда было действительно хорошо? Разочарование в том, чего уже нет? Обветшалость некогда упругих образов? Это притом, что уже и вместо него прежнего есть только угасающее эхо, блефующее былой звонкостью? Мнимые угрозы!.. Эхо пожаловало в гости к эху! – какая непорочная забава!
Это был тот случай, когда его природная импульсивность пробила кольчугу рациональности, сотканную из опыта предыдущих побед и поражений, в которой он спокойно пребывал последнее время, чувствуя себя довольно уверенно. Но образовавшаяся брешь не принесла большого ущерба благоразумию. Приняв, в целом, трудное решение, Никита не строил конкретных планов своего пребывания в городе, в котором прошла, как сейчас казалось, лучшая часть жизни. Категоричность была только в одном: не могло быть и мысли о том, чтобы разыскивать кого-нибудь из друзей, однокашников, знакомых, хотя сделать это с помощью того же телефонного справочника, вероятно, совсем нетрудно. Он, теперешний, ехал не к людям, которых нет. Он ехал к местам и предметам, к воздуху и солнцу, которые, возможно, освежат его дыхание; а если ему уже недоступно подобное восстановление, то пусть этот визит будет утолительной данью ностальгии и своеобразным прощанием с… С чем? Этот вопрос был из того множества жизненных вопросов, которые Никита сознательно обходил, понимая, что ответов на них пока еще нет, а поиск – удел времени, в течение которого ему предстоит, как ни уважай он собственную самостоятельность, роль щепки, управляемой потоками и дуновениями. Выходит так, что наступил возраст, в котором радует то, что еще не всем вопросам готов ответ. Значит, не совсем он стар, значит, еще будет чему удивиться.
Он всегда полагал, что основным залогом грядущих удивлений является его личная свобода – то, что он последние годы строжайше оберегает, жертвуя многим. Любая обязанность будет помехой чистоте эксперимента, на который он решился. Там, куда он завтра направляется рядовым авиарейсом, оставив дома мобильный телефон, его ждет только одиночный номер-люкс, заказанный в центральной гостинице, некогда лучшей в городе. И все же он изобрел для себя еще одну уловку, призванную усилить ощущения: его возвращение состоится как бы не из настоящего, а из… прошлого. Чтобы знание, плод времени, не лишало повода для удивлений. Как бы проснуться после летаргического сна. Дистиллированная схема, – но Никита нисколько не сомневался в ее жизненности: ведь вкушает человек плоды искусства, понимая условность форм – от абстракции до абсурда, от аллюзий до сюрреализма. Мало того, такое вкушение не извращенная блажь единиц, а жизненная потребность каждого. И он, Никита, в этом смысле не оригинален.
Волнение от грядущего свидания с молодостью сказалось своеобразно: удобно устроившись, Никита быстро заснул в самолетном кресле. Пробуждение состоялось, когда застучали колеса о бетон взлетной полосы, крупно задребезжало металлическое тело лайнера.
Аэропорт назначения встретил душным воздухом теплого летнего вечера и обрывками воспоминаний, связанных с многочисленными перелетами щемящей давности: каникулы, практики, стройотряды…
Никита выходил в числе первых. Едва он ступил на трап, его ослепило снопом света. У подножья лестницы на спускающихся пассажиров была направлена телекамера, вокруг которой грудились несколько репортеров с микрофонами и фотоаппаратами. Видимо, встречали какую-то знаменитость. Один из репортеров обратился к Никите: «Как погода в Москве? Что вы думаете по поводу…» – возможно, его приняли за человека, причастного к этой массовке. «О`кей!» – перебил Никита, подтверждая возглас улыбкой и соответствующим пальцевым знаком, и проскользнул мимо.
Однажды, перед самым началом занятий, Никита возвращался сюда с северного стройотряда: в защитной униформе, украшенной всевозможными значками и нашивками, с рюкзаком за крепкими плечами, загорелый, с обритым черепом, но обросшими щеками, которых два месяца не касалось лезвие, покусанный комарами и мошкарой. Карманы пузырились от большого количества трудовых рублей в мелкой купюре. Помнится, он немного припадал на левую ногу: виной был поврежденный палец ноги, героически поломанный в погрузочно-разгрузочных работах на одном из обских товарных пирсов. Типичный образ романтического трудового бродяги, отряды каковых весело, под нестройные хоры и гитарные звоны, полонили летние аэропорты гудящей от «нефтегазовых», «железнодорожных» строек страны. Было прохладное светлое утро. В непродуктивную паузу между прилетом и часом, когда идут первые автобусы, Никита, пользуясь одной из заборных прорех беспечного аэропорта, вышел на взлетную полосу с фотоаппаратом и произвел несколько снимков аэродромной панорамы с крупными планами самолетов и вертолетов. Фотографии, связанные с авиацией, он уже несколько лет делал для отца-инвалида, служившего когда-то в дальневосточной эскадрилье и после армии не только с интересом следившего за развитием авиационной промышленности, но и трепетно воспринимавшим все, что связано с настроением и духом «неба». Никита недооценил бдительность аэродромных стражей: фото-любознательность была замечена, и его настойчиво препроводили в диспетчерскую. Оценка, за возмущенными речами старшего смены, поглядывающего с подозрительным гневом на пухлые карманы хромого, небритого нарушителя, просматривалась соответствующая, в духе времени: шпион. Вскоре прибыл представитель комитета госбезопасности, который, быстро разобравшись, что за лазутчик перед ним, для порядка засветил пленку и отпустил легкомысленного фотографа восвояси. Никита, в сердцах, не стал ждать автобуса и поехал в общежитие на такси, удивляясь, как ему это сразу не пришло в голову при наличии долгожданного богатства, уже оформленного из строчек ведомости в хрустящий эквивалент. А между тем самая пора для шика! – то, ради чего тратились силы и время на отечественном Клондайке. По пути, воспользовавшись распространенным тогда таксистским сервисом, он купил у «шефа» две бутылки водки и блок «Мальборо», заплатив традиционную тройную цену. Теперь имелось, пожалуй, все для того, чтобы войти в «общагу» суперменом: господа, я устал от дорог; пусть вас не смущает хромота левого ботфорта, – издержки романтического столетия, но я ушел от погони; надеюсь, в заведении найдется бутылка фруктового сока к двум фляжкам огненной воды? – я требую пунша!..
«Раньше реестр услуг, которые оказывали местные таксисты, включал достаточно много предложений, причем разнообразных: спиртное, табак, запись дефицитной музыки на магнитофонные кассеты, устройство на ночлег, дамы, а для особо азартных даже карточные шулеры… А что сейчас?»
Эти слова, правда, в более сумбурной последовательности (сказывалось нахлынувшее вдруг волнение), были обращены к водителю такси, едва только Никита разместился в сиденье.
Вопросы нисколько не смутили молодого «шефа», тот ответил бодро, как парировал:
– Возить водку – это, конечно, каменный век. Насчет шулеров – обижаете! Но в принципе сейчас реестр ограничен только возможностями клиента: что угодно, то и будет выполнено на высшем уровне! Итак?
– Гостиница «Восток».
Водитель включил скорость и критически оглядел респектабельного клиента:
– Отель «Восток»… И все? Стоило так многообещающе спрашивать!
– Извини, приятель, разминка! – Никита засмеялся. – С меня чаевые!
В гостинице, вместе с ключами, Никита получил отпечатанный реестр, в котором перечислялось все, чем мог воспользоваться уважаемый постоялец: спутниковая связь, интернет-салон, покупка билетов на все виды транспорта, ресторан, бары, буфеты и многое прочее, что находится за пределами гостиницы, но доступно с помощью телефона в номере.
Войдя в номер на шестом этаже, Никита первым делом проследовал к широкому окну, раздвинул портьеры и открыл створки. Ночной город обдал его запахами проспекта, большей частью утаенного густыми кронами старых деревьев, гулом и шорохом проносящихся автомобилей. Все как будто внове, а ведь эти звуки и запахи до мелочей знакомого города никогда не исчезали, исчезал только он, Никита, на целых долгих для него двадцать пять лет. А для города – долгих ли? Скорее всего, это станет понятно уже в ближайшее время.
2.
Утром его разбудил телефонный звонок.
Звонили из телерадиокомпании и, как показалось, взволнованно просили о встрече.
– Наверное, вы меня с кем-то путаете? – Никита не мог взять в толк, откуда звонивший знал его имя, отчество и фамилию.
– Простите, – на том конце трубки мужской голос выказал некоторое замешательство, – нашей компании важно только то, что вы москвич и то, что вы, по всей видимости, довольно скоро отбудете обратно в столицу. Наш выбор совершенно случаен!..
Никита был уже достаточно бодр, поэтому сообразил, что его анкетные данные и информация о планируемой длительности пребывания в гостинице есть у внизу администратора. Такое разоблачительное начало было не самой лучшей приметой. Что ж, в любом случае нужно сосредоточиться.
– Допустим. Но в чем суть вашего ко мне интереса?
– О, ничего такого, что могло бы вас существенно затруднить! – интонация голоса сменилась на удовлетворенно радостную: – Дело в том, что нам нужно перегнать видеопленку в центральный офис компании, но неожиданно возникла проблема с курьером… Это совсем несложно, в Москве вас встретят, прямо в аэропорту. Все займет у вас буквально две минуты в общей сумме – минута здесь, минута там. Очень надеемся, что вы нам не откажете. Мы заплатим…
У Никиты начинало портиться настроение. Не хватало ему только гостей с утра. И все это именно тогда, когда он намерился побыть наедине со своим прошлым. В первый же день! Но что-то удерживало его от того, чтобы просто вежливо отказаться. Рожденный и выросший в провинции, Никита знал, насколько ранимы провинциалы в коллизиях со столичной публикой и столичными структурами. В конце концов, ничего не случиться, если он поможет людям. Возможно, ему за это воздастся. Дело, разумеется, не в оплате, которую сулят телевизионщики, – их просьбу он выполнит безвозмездно. Главное, не вляпаться в историю, связанную с содержимым пленки. Мелькнуло воспоминание об истории с фотографированием аэродромных объектов. Нужно будет потребовать у них документы и что-то типа расписки.
– Не смеем беспокоить вас в номере, – продолжала трубка. – Если вы согласны, назначьте удобное для вас время, мы подъедем во внутренний двор отеля.
Никита посмотрел на часы. Совсем не хотелось растягивать нежданное удовольствие надолго. Спуститься, забрать пленку, и он полностью свободен!
– Хорошо, – Никита постарался, чтобы его голос звучал как можно строже, – только из уважения к вашей компании. Через час во дворе. И позвольте надеяться, что эта просьба будет последней.
– Клянемся, что это именно так! – в трубке послышался смех. – Договорились. Мы подойдем к вам сами.
Никите показалось, что характер звуков, доносившихся из трубки, был свойственен ситуации, когда на другом конце вокруг переговорщика находится группа заинтересованных и активно принимающих участие в разговоре слушателей, и переговорщик – не дирижер, а лишь солист в хоре. Что ж, все закономерно – компания. Положив трубку, он с удивлением отметил, что мужчина даже не спросил, как его визави будет выглядеть, во что будет одет, чтобы можно было определить, что это действительно тот, кто им нужен. Ладно, – гостиничный двор не Красная площадь!
Никита, в своем стиле, постарался максимально облагородить пока еще неясную ситуацию, вылущить из нее если не в полной мере рациональное зерно, то хотя бы свести ее загадочность к плюсу. Итак, с одной стороны, если учитывать поверье в то, что как начинается какой-либо период жизни, так и пойдет дальше, то неприятные минуты после пробуждения не сулили особенно радужной перспективы. С другой стороны, если уже с первых минут пребывания здесь он уделяет столько внимания приметам, что было характерно для него в молодости, то это явный признак начавшегося омоложения. Никита глянул на себя в зеркало и рассмеялся. Так-то оно лучше. К тому же, еще вчера он определенно не знал, чем займется с утра, а тут такая удача!
Ровно через час Никита спустился во внутренний двор, который был загорожен от проспектовой суеты не только отелем, но и несколькими домами, расположенными к отелю перпендикулярно. Через вековые кроны едва пробивалось солнце – только несколько прогалин, светлыми пятнами на сером асфальте. Мимо струилась тихая улочка, по всей видимости, с односторонним движением – настолько она была узка.
Во дворе и в смежной улочке, казалось, остановилось всякое движение, если не считать его потенциальных признаков – припаркованный почти на тротуаре одинокий «Мерседес», возле которого флегматично курили двое мужчин, не обративших на Никиту никакого внимания, и миниатюрная женщина изящной позы в солнцезащитных очках, которая сидела с явно праздным видом на одной из двух, стоящих друг напротив друга скамейках.
Никита глянул на часы, удостоверившись, что явился вовремя. Он решил не нервничать. В конце концов, – отдых; весь день впереди, который, так или иначе, нужно с чего-то начинать. Хотя бы со скамейки в этом уютном дворике, лицом к тихой улочке, больше похожей на заросшую аллею, где можно немного собраться с мыслями.
Он сел на свободную скамейку. Таким образом, женщина оказалась против него. Вряд ли она помешает, несмотря на то, что Никите никогда не нравились слишком темные очки тех, кто оказывался напротив, – какой-то врожденный неуют от чужой возможности скрытого за ним наблюдения. Но Никита научился отключаться от ситуации настолько, что, если необходимо, мог буквально спать с открытыми глазами.
Итак, он может начать первый день с посещения своего студенческого общежития. Потом институт…
Никита вздрогнул от стороннего хохота. Возмущающее действие смеха было в откровенной направленности – в сторону Никиты. Выдержав паузу, он медленно повернул голову к «Мерседесу». Капот машины был поднят, мужчины о чем-то увлеченно беседовали. Вслед за этим ему показалось, что женщина глубоко вздохнула, точно была взволнована, между тем как поначалу ее вид представился откровенно досужим и лишенным намека на какое-либо внутреннее переживание. Если она даже разглядывает мужчину напротив, то, наверное, это не повод для такого напряженного смятения, которое читалось сейчас во всем ее облике.
Между тем ее облик, случись это в другом месте и с другим настроением, весьма заслуживал бы настойчивого интереса. Причем, отсутствие подобного внимания, в шутливом комментарии к событию, являлось бы сущим грехом. Чего стоили одни, сотворенные для вечной улыбки, ямочки на белых щеках с розовыми пятнышками былого, наверняка пылающего румянца. Женщине на вид тридцать пять, а лет десять назад эти ланиты, очевидно, были половинками упругого персика, который сводил с ума не одного почитателя садовых чудес. Мелированые волосы не казались большой оригинальностью, но, струясь серебристыми волнами от своих основ к прямым тонким плечам, они подчеркивали стать, которая, в решающей степени, утверждалась прямой рельефной шеей, увенчанной небольшой головкой с чуть вздернутым кверху точеным подбородком. Типичная балерина! Подобное уже было. Где и когда? Разве все упомнишь! К сожалению, картина перед ним была неполной из-за того, что очки закрывали глаза и брови… Да, еще губы… О, губы!.. Они еле уловимо вздрагивают, как перед улыбкой, которую хотят скрыть до поры! Впрочем, очнулся Никита, какое это имеет значение? Гораздо важнее, что с того момента, как он вышел во двор, прошло добрых полчаса. Явка провалена; пожалуй, пора!..
– Бонжур, Ник! Ты совсем не изменился. – Женщина откровенно улыбнулась и грациозным движением сняла очки. – А я?..
…С ударением на втором слоге: ОлЯ!
Есть кто? – Оля. Нет кого? – Оля. Вижу кого? – Оля. Доволен кем? – Оля.
Несклоняемое чудо!
…Он шептал нежные слова – волшебные эпитеты, улыбаясь в темноте – своему ласковому, безгрешному обману и девчонке, чья удачливость и красота в то время совсем не нуждалась в правде. Что говорила она? Или, если угодно: как звучал ее обман? Только и помниться: «Ай лав ю!..» Так ей было удобно: ночной (британский) бриз свевал греховные пылинки с губ, ладоней, вздохов и фраз.
В полнейшей темноте он переводил вполне русские звуки, слетавшие со сладких, улыбающихся – он чувствовал это своими губами – губ Оля, в зримые образы. «I love You»… Трогательное «Ай!..», с непременным восклицанием, в исполнении влажного ротика Оля, превращалось сначала в стройную палочку «I», потом в гибкую лозу этой прописной буквы – талия Оля, волосы волной в сторону. «Лав» – прижатый устами смятенный вдох, за которым следовал горячий свисточек – «Ю!..».
Ровно стучало безмятежное сердце. Сильно, неистово, но ровно.
Оля выпроводила его утром, легонько пошлепывая выше поясницы: давай-давай, «Гоу-гоу!..» (зевая), скоро на занятия. Вполне по-сестрински или даже по-матерински. Очень скоро забылись подробности ночи, но вот утреннее пошлепывание и «гоу-гоу» осталось в памяти образом жизнерадостного расставания, которое ни к чему не обязывает, когда обоим легко – от молодости, от силы, оттого, что все впереди.
Сейчас, в довершение, вспомнилось, что пустоту утреннего коридора нарушала фигура студента, в торце, у окна. Студент курил возле фикуса и, отвернувшись, смотрел в окно. Никита с трудом угадал его со спины: пригляделся, узнал и… усмехнулся, потому что это был не Гарри, а… Удав.
3
Гарри и Филимон, которого все в общежитии за глаза называли Удавом, любили Оля по-разному.
В этом, на беглый взгляд, типичном треугольнике, когда он еще существовал, был нарушен стереотип первичности любовной, условно говоря, конструкции. Условность в том, что каждый из рыцарей, имея определенную власть над Оля, не мог в достаточной для себя мере обрести ее любовь, – что само по себе еще не оригинальность для схожих ситуаций. Нарушение же классики было в том, что первичным, отправным персонажем была не Оля, а… Удав.
…Будто именно Удав возник, подобно Адаму, в неком абсолютном начале, этим обусловив появление Оля, – женщины, которую он изобрел и воплотил для собственной потребности, то есть с самого начала – как неотъемлемую и подчиненную часть собственного эго. По мнению Оля, именно так Филимон воспринял ее появление во втором классе школы, куда она, в один прекрасный день, зашла в качестве обворожительной куколки-новичка. С этого дня, благодаря упорству Филимона, они всюду вместе: в одной школе, в одном институте, в одной группе, в одном общежитии, на одном этаже. Оля, подчиняясь присутствию Филимона как стихии, очень скоро ощутила свою власть над ним. Это позволяло ей жить как бы под защитным куполом и в собственное удовольствие, зная, что рядом находится страж, раб и даже, при скучливом желании, шут в одном лице. Она знала, что Удав всегда был готов прийти к ней на помощь, исполнить любое ее желание. В частности, в период учебы в институте, обладая высокой успеваемостью по всем предметам, Удав изо всех сил тянул за собой и Оля, не слишком усердствовавшую в этом аспекте студенческой жизни. Оля знала, что ей позволено все, ибо Филимон, заслужив прозвище Удав, с самого детства избрал в отношении Оля, – которая, согласно его внутреннему номиналу, принадлежала ему, а в реальности всячески противилась своему назначению, – тактику не наступления, но тихого, неназойливого преследования и внешне покорного выжидания. Он просто ждал своего часа.
В институте Оля вольна была де-факто иметь других, более активных поклонников, флиртовать, влюбляться. Филимон во всех случаях находился рядом и даже, если возникала необходимость, исполнял мелкие поручения Оля и ее обожателей, играя роль камердинера, а то и чуть ли не евнуха при ложе госпожи. Поначалу в общежитии он снискал себе славу какого-то низшего существа, которым крутит, публично унижая и находя в этом изуверское удовольствие, очаровательная кокотка. Потом к этому все привыкли, как привыкают к любой странности любого человека в любом сообществе.
Возможно, именно исступленная любовь, присутствуя болезненной константой в формуле судьбы, учреждала не только внутренний характер, но даже фигуру, голос и мимику Удава. Казалось, что единственное, за чем он следил, что касалось внешнего вида, была одежда и обувь: тут все было безупречно – костюм-двойка, белая сорочка, галстук, чистые туфли. От природы он обладал средним ростом, который, при пожизненной худощавости, мог делать его вполне стройным юношей, если бы не вечная привычка к согбенности, как от задумчивой всегдашней сосредоточенности. У него стали рано выпадать волосы, и крупные залысины на светлой голове придавали ему, в студенческом понимании, блеклый вид великовозрастного зубрилы. Настороженный взгляд через очки в безвкусной пластмассовой оправе завершали образ успевающего студента, чье будущее невнятно, но зато окончательно определено настоящее, не очень высокое, место в иерархии дамского успеха. Поговаривали, что он страдает каким-то тайным недугом, который сказывается припадками с судорогами. Но в таком состоянии его никто не видел.
Только искушенный и пристрастный наблюдатель мог узреть в Филимоне-Удаве, за его травоядным обликом, – коварного хищника, люто ненавидящего всякого, кто приближался к его госпоже, которая относится ему первородным правом. Его челюсти не выдавали крепости и остроты клыков за демонстративно близорукой улыбкой, а гибельная сила когтей пряталась за вялым рукопожатием. Временная же его безопасность для окружающих была в том, что, будучи внешне неагрессивным, он надеялся без явной войны овладеть Оля. В конце концов, Оля должна оценить его верность и надежность, – слишком велик был контраст между ним и смазливыми ловеласами, чей интерес к этой девушке ограничен ее преходящей привлекательностью. В конце концов, она устанет от любовных взлетов и падений, радостей и горь, предпочтений и измен и остановит свой выбор на надежном покое рядом с человеком, чья верность доказана годами: чего он ей еще не прощал? И ради их будущего, судя по всему, еще немало придется простить. Но Удав понимал, что всепрощение конечно, как и вся их жизнь: он не готов умереть старым воздыхателем у ног дряхлой, так и не принявшей его госпожи. Он и Оля должны прожить полноценную супружескую жизнь, в которой будут все полагающиеся периоды: молодость, зрелость, старость, а также непременно – дети и внуки. То есть, начиная с определенного момента, Удав уже не будет делить ее ни с кем. И тогда, если понадобится, – пойдут в ход спрятанные когти и клыки!
Гарри… – рослый и плечистый, украшенный волнами смоляных кудрей, что само по себе внушало нечаянное, первичное уважение, был симпатичен своей открытостью и сентиментальностью, которая проявлялась в категоричных, но замешанных на доброте суждениях, и в трогательной ранимости, странно уживающейся с философским всепрощением. Не блестя в рутине учебы, он обладал свойством глубокого сосредоточения, что позволяло ему успешно миновать сессионные рифы и мели. Все свободное время он посвящал игре на гитаре, в чем немало преуспел. Его активность на этом поприще поражала: он выступал в городском танцевальном зале, подряжался на ресторанных свадьбах, исполнял романсы на творческих вечерах популярной в городе общественной организации «Те, кому за сорок». В последнем месте он имел не только особенный успех, но и несколько влиятельных поклонниц, ввиду чего студенческая когорта предрекала ему блестящее будущее, в том числе на ниве науки, определенное высокими стартовыми возможностями. Но Гарри был слишком утонченной натурой, чтобы потребительски относится к своим творческим удачам, – а именно так он оценивал свой успех у поклонниц, отвергая даже намек на чувственный интерес к себе. Наверное, причиной такого, на первый взгляд, наивного внимания к своему творчеству, непонятному для окружающих, было в том, что Гарри в основном исполнял песни собственного сочинения, являясь автором музыки и стихов. Его называли бардом, на что он реагировал протестующе, полагая себя не достойным, во всяком случае, пока, такого высокого звания. На легковесный вопрос: что же в барде такого высокого, что не доступно тебе? – он отвечал известной фразой современника: «Поэт в России – больше, чем поэт». Он был ярким представителем плеяды романтиков – наивным и неисправимым в своих взглядах и устремлениях.
Мужской круг его знакомых полагал грехом не использовать подобные «творческие» успехи, залогом которых, на взгляд однокашников, были виртуозная игра на гитаре и блистательное задушевное пение, сопряженные с внешними данными Гарри. Женские души просто не могут не плениться таковым воплощением оптимистической грусти и любви. Многие сверстники по-хорошему завидовали Гарри, чая за счастье себя видеть исполнителями гитарных серенад, открывающих многочисленные и, главное, короткие дороги к дамским сердцам. Таким завистником был в свое время и Никита.
Именно на почве интереса к гитаре Никита (для друзей просто Ник) сошелся с Гарри. «Старик, – сказал ему Гарри, выслушав просительную речь по поводу желания освоить струнную волшебницу, – я готов тебя научить нотной грамоте, но думать и творить будешь сам. Не надейся, что я научу тебя задушевности…» Но, пожалуй, Гарри недооценивал силу своего обаяния. Дружа с ним, невозможно было оставаться прежним. Впрочем, самоуверенного Ника эта сторона вопроса тогда попросту не интересовала. Будучи не слишком высокого мнения о сокурсницах, в плане их душевной сложности и щедрости, в «гитарном» общении с ними он полагал достаточным знаний основ музыкального мастерства и не явно фальшивого пения.
Ник оказался способным учеником, во всяком случае, так считал он сам. Два десятка быстро покорившихся аккордов новоявленный гитарист ловко приспособил для многих песен, притом, что запоминание слов давались ему и вовсе без всякого напряжения. Палитра песенных жанров, которыми оперировал Ник, была для того времени достаточно распространенной: Есенин, Высоцкий, студенческие и «лагерные» «страдания», «плачи» о безответной любви… Исполняя, он сопереживал с песенными героями, но зачастую старался вложить в известные слова свой смысл, свое видение того, о чем пел, – для самодеятельного артиста все это было более чем неплохо, и вскоре Ник стал пользоваться не меньшей, чем Гарри, популярностью у студенческой публики. Но они не стали соперниками.
Ник и Гарри, крепко подружившись, стали завсегдатаями вечеринок, для которых в общежитии всегда найдется стоящий повод. Дуэтом они никогда не пели, но и без этого отменно справлялись со своими обязанностями: все празднество с их участием шлягеры чередовались с авторскими песнями, обеспечивая музыкальное постоянство и разнообразие.
В это время на сцене их дружбы появилась девчонка, в которую по уши влюбился Гарри.
Этой счастливицей была очаровательная пустышка (на взгляд Ника) Оля, которую на факультете почему-то называли «Ой-ля-ля».
«Бонжур!» – типичное приветствие Оли. Это единственное французское слово, которое она употребляла. Вообще же любила английский, который изучала по программе. При разговоре в глубинке смешливого влажного рта высверкивал золотой зубик, что было, опять же, на взгляд Ника, единственной драгоценностью внутри ее блондинистой черепушки. Ник давно замечал эту девчонку, стоящей где-нибудь под коридорным фикусом с очередным ухажером: когда Оля не знала, что говорить или ловила на себе задумчивый взгляд воздыхателя, она вытягивала пухлые губки для поцелуя и подавалась вперед (не думай, лучше поцелуй). На пальце перстенек, на шее изумрудный кулон о золотой цепочке. В махровом чистом халатике Оля напоминала маленькую балерину после выступлений. Ее трудно было назвать красивой, но обаяние от нее исходило неописуемое: вечная улыбка с выразительными ямочками на щеках, жемчужный смех, – и еще много из того, чем славится юность, не замечающая своей свежести и стати.
Гарри влюбился в нее в стиле классического рыцаря: явно, неистово. Как и положено влюбленному художнику, он дал ей оригинальное имя. Имя было «несклоняемым» – ОлЯ, с ударением на втором слоге, на «я»: где был – у Оля, подарил кому – Оля, обожаешь кого – Оля… Так он выделил ее из всех девчонок – меняя акцент и одновременно «замораживая» флексию любимого имени, он делал Оля частицей собственного «я», величая несклоняемым чудом. Таким образом, с определенного момента он сотворил из «Ой-ля-ля» другую девчонку, у которой уже не было прошлого – в том смысле, что «обнулялись» ее легкомысленные былые связи с многочисленными поклонниками. Оставался только Гарри – непререкаемый настоящий поклонник и господин. Считала ли так Оля, – не было известно даже ей самой. Во всяком случае, на тот момент это был наилучший для нее вариант, и она внешне не протестовала. Ведь Гарри – недосягаемая мечта для многих подруг. В такой ситуации Оля становилась одной из звезд общежития.
Ник заметил, как пожелтел и еще более согнулся Удав. Казалось, взгляд его совсем потух. Удав стал чаще курить на лестничной площадке, становясь ее неотъемлемым элементом, – как урна, как плакат «Курить здесь»… Временами бывало жалко этого человека, согнутого безответной, панорамной, унизительной любовью. Глядя на него, и понимая, что он стоит и курит не просто так, а, наверняка, рой мыслей гудит в его неглупой голове, – невозможно было поверить, что и это очередное и уже явное поражение оставит его бездеятельным. Ник, довольно легкомысленно относившийся ко многому из того, что его окружало, был не чужд обыкновенного человеческого сострадания (иначе, откуда было взяться задушевности в его песнях?) Что касается Удава, то Ник старался быть к нему в меру благосклонным, хотя слабо представлял, где такая мера, и собственно в чем можно было проявить эту самую благосклонность. Назови сейчас Удав любую просьбу – вряд ли Ник смог бы ему отказать. Чутье подсказывало Нику, что Удав прекрасно чувствовал его своеобразное сострадание, и этого, опять же, по мнению Ника, обоим было достаточно.
Это случилось, когда Гарри отсутствовал в общежитии, находясь где-то на очередной гастроли за городом. Ник, выйдя покурить на лестничную площадку, как всегда в последнее время, обнаружил там Удава. В тот раз Удав был немного возбужден, но прятал волнение за небрежной речью:
– Ник! Гарри в отъезде, нужно развлечь девчонок. Скучают.
Было понятно, о чем речь. Удав, оставаясь другом Оля, неожиданно для всех, приударил за девчонкой, проживавшей вместе с Оля. Возможно, таким образом Удав решил вопрос своего присутствия в комнате Оля. Во всяком случае, против такого статус-кво не могли возражать ни Гарри, ни Оля. Мало того, вся четверка определенно сдружилась: они вместе трапезничали, посещали места развлечений. Можно было только порадоваться такой идиллии, на которую иногда забредал всегда желанным гостем, по словам Гарри, «неисправимый ловелас и холостяк» Ник.
Разумеется, Ник ответил:
– Нет проблем, Филимон, возьму гитару и скоро буду. Ставь чайник.
В комнате у девчонок Ник весь вечер играл на гитаре, иногда, к великой радости Оля, пародируя лирическую серьезность Гарри. Долго пили чай. Потом куда-то удалился Удав со своей пассией. В час ночи, как и полагалось, для успокоения учащегося народа во всем общежитии, исключая коридоры, погасили свет. Оказывается, Ник недооценивал научные способности Оля: она была докой в астрономии. Тыча через раскрытое окно в темное небо маленьким пальчиком, Оля уверенно обозначала созвездия, рассказывая соответствующие каждой звездной загогулине легенды… Во всем этом трогательном шепотке, исходящим от теплого, пахнущего свежестью живого существа, в череде тихих смешков, когда в лунном свете проявлялись и таяли трогательные ямочки на щеках, и прозвучало:
«Ай лав ю!..» – могло ли быть иначе!
Утром: «Гоу-гоу!..»
Выйдя в коридор, Ник увидел только спину Удава.
На следующий день он встретил в том же коридоре Гарри.
– Закрой глаза, – обыденно сказал Гарри, не подавая руки, – сейчас я тебя ударю.
Ник только приподнял подбородок и заложил руки за спину:
– Стреляй! – что он еще мог сказать? Но глаз не закрыл.
Гарри опустил голову, как бы раздумывая, затем вытянул руку, столкнул Ника с дороги и прошел мимо.
«Один подонок хотел спросить другого подонка: кто же тот подонок, который выдал тайну?» – формула, пришедшая на ум Нику, когда он вслед за этим, пойдя покурить, встретил на лестничной площадке Удава. Они, молча и сосредоточенно, не глядя друг на друга, прикончили по сигарете и разошлись.
Целый месяц Гарри не было видно ни в институте, ни в общежитии: то ли гастролировал, то ли уезжал домой. Ник, Оля и Удав делали вид, что ничего не произошло, хотя каждый переживал по-своему. Оля была показательно беспечна, показывая посвященным и доказывая себе, что ничего не выходило и не выходит за те нормы, которые она вольна себе устанавливать: свободное время проводила в каких-то веселых кампаниях с других этажей – пирушки, походы в кино и на природу. Ник также нашел иных временных приятелей, к тому же, он увлекся боксом и очень много времени проводил в спортзале. И только Удав, казалось, не изменил стилю своего примитивного поведения, продолжая жить так, чтобы Оля оставалась в поле его зрения. Иногда, встречаясь с Удавом, Ник пытался разглядеть в его близоруких глазах то, что выдало бы в нем коварного победителя тайной интриги. Напрасно.
Потом пришло шокирующее известие: Гарри вскрыл себе вены. Это произошло на квартире одной из его сорокалетних поклонниц, в ванной. Суицид оказался неудачным, но Гарри потерял много крови. Его спасали всем общежитием, выстраивая очереди в донорский пункт. В реабилитационном центре у постели любимца всей институтской публики, вплоть до выздоровления, дежурила Оля. Где-то недалеко, естественно, пребывал и Удав, покорно выполняя поручения своей подопечной.
В апреле, когда суицидник окончательно воскреснул, когда оживала, пела и пьянила природа, Гарри и Оля перешли жить из общежития в квартирку, которую, по слухам, снял для них Удав. А в мае Гарри с Оля справили свадьбу в соседнем со студенческим общежитием кафе. Ника, естественно, в числе приглашенных не было. И все же тот свадебный вечер навсегда запомнился Нику, который, возвращаясь в общежитие из спортзала, стал не только свидетелем, но и участником сцены, связанной с Удавом. (Позже эту сцену Ник окрестил коротко, но веско: «Закат мании». )
Итак, Удав, в галстуке-бабочке, с белой розой на лацкане пиджака, освещенный фонарем, стоял на противоположной стороне дороги, недалеко от кафе, в котором уже, видимо, догорала свадьба, и выглядел совершенно пьяным. Он покачивался прямо у проезжей части, как будто ловящий такси припозднившийся гуляка. В том месте, где он находился, буквально перед ним обитала, постоянно колышась, играя жирными бликами, грязная лужа: ему доставались от щедрых на брызги проезжающих машин. Периодически Удав, оставаясь прямым, как будто проглотил кол, наклонялся всем корпусом к плоскости дороги, и затем, когда угол превышал состояние устойчивости, вынуждался входить в эту лужу, делая по инерции два-три шага, с риском быть задавленным. Постояв так недолго, не обращая внимания на объезжавшие его автомобили, как будто о чем-то крепко подумав, обстоятельно поворачивался, и возвращался на место. «Уж, не под машину ли собрался с горя, клоун?» – шутливо подумал Ник. И в ту же минуту случилось совсем невероятное: Удав, немыслимо выкрутившись телом, рухнул в лужу навзничь и забился в крупных судорогах, не давая воде успокоиться от волн. Из-за поворота к тому месту, где лежал и трепыхался Удав, блестя фарами, понеслась грузовая машина. Никита в несколько рискованных прыжков преодолел расстояние, разделявшее его и Удава, и стал, растопырив руки, на дороге, загораживая от автомобиля лужу и лежавшего в ней эпилептика. Послышался страшный визг тормозов… В самом конце тормозного пути Никите все же досталось бампером по бедру. Он не устоял и сел в лужу рядом с Удавом. «Приплыли!» – первое, что он сказал подбежавшим людям, когда опасность миновала.
4
– Бонжур, Оля!.. – Никита взял себя в руки. – Если ты и изменилась, то совсем немного!
– О, Ник, ты всегда был мастером по части комплиментов! – Оля, улыбаясь, провела тыльной стороной ладони по своему лубу – туда и обратно, как будто выправляя морщинки.
– Честное слово, Оля! Ты выглядишь моложе своих лет. Это удивительно. Впрочем, – Никита развел руками, – удивительнее всего то, что я встретил тебя… Здесь…
Оля перебила, лукаво уронив голову на плечо:
– В первое же утро своего пребывания в этом городе!..
К Никите возвратилась возможность не только удивляться, но и рассуждать. Он кинул взгляд на «Мерседес», возле которого по-прежнему стояли двое мужчин, на этот раз дружелюбно ему улыбающихся. Он автоматически кивнул им, получив такой же ответ.
– Извини, Ник! Пришлось разыграть небольшой спектакль. Хотя, конечно, можно было обойтись и без него. Но случай, согласись, более чем редкий, и я не удержалась от того, чтобы не сделать нашу встречу как можно более романтичной.
Оля, не вставая, протянула ладонь, открытой пригоршней вверх: то ли отдавала, то ли хотела взять. Ни для рукопожатия, ни для поцелуя. Никита резко встал, затем, как подкошенный, припал на одно колено, наклонился. Несколько раз поцеловал пальцы – сначала подушечки, затем, перевернув ладонь, и костяшки. Пытался узнать формы ладони и линии изгибов на ней – и не узнавал. Потянул в себя воздух, как будто нюхал цветок, – и…
– Парфюм, Ник, парфюм! Увы! – Оля отняла руку и потрепала Никиту по голове: – А ты еще не сдаешься! – наверное, имея в виду густоту еще темных волос.
– Здравствуй, Оля! Приятно здороваться со своей молодостью в твоем лице. И все же, признайся, почему это все происходит? У меня голова идет кругом, это просто невероятно!
– Ник!.. – Оля засмеялась, разглядывая Никиту и ничего не говоря. Наконец, вздохнув, вынуждена была продолжить: – Ну, Ник, так приятно видеть тебя удивленным, а не серьезным, какой ты, наверное, есть на самом деле. Ты сейчас кажешься тем, молодым, Ник. Мне доставляет удовольствие произносить твое имя – это действительно возвращение в молодость! Я сейчас все тебе расскажу, – и ты опять станешь взрослым, а? Фу, как неинтересно!
– Рядом с тобой? Взрослым? Никогда! Рассказывай!
– Хорошо, Ник! – Оля повертела перед лицом ладонью, потерла пальцами: – покажи, как ты делаешь, когда говоришь: «О` кей!»
Никита показал, не понимая, куда клонит Оля.
– Ник, ты словно телезвезда, Ник. Ты умудрился в первую же секунду появления в нашем городе, прямо на трапе, влезть крупным планом в экраны наших телевизоров.
– Ах, вот оно что! – Никита даже закрыл глаза, качая в удивлении головой. – И меня кто-то узнал? Прямо вот так сразу? Да неужели кто-то смотрит эти встречи-проводы, тем более на случайные лица? Да что за город у вас такой?
– Не все вопросы сразу, Ник. Я тебя узнала, – я! Это было как выстрел, понимаешь? Если бы просто лик, а то вся твоя мимика и голос… Трудно передать. Во всяком случае, это зародило во мне сомнение, положительное сомнение. Пришлось подключать Осеннего… – Оля помахала рукой мужчинам у «Мерседеса»: «Ребята, подойдите!» – Так вот, пришлось подключать Осеннего, он сотрудничает с телерадиокомпанией. Он привез мне пленку, которая прошла по ти-ви. Мы посмотрели всей семьей, и сомнения отпали: Ник! Дальше, ты понимаешь, дело техники, найти человека в гостиницах не проблема. А версия с телерадиокомпанией навеялась сама собой, так сказать, первопричинностью темы. Нам повезло, что ты поселился в гостинице, а не, скажем, у знакомых.
– К счастью, у меня нет таких знакомых!
– Как тебе не стыдно, Ник, – они у тебя есть!..
Оля не успела договорить: подошел один из мужчин, и Никита поднялся ему навстречу. Встала и Оля.
– Это Вадим Осенний, – представила подошедшего Оля, – мой друг, писатель. Он читает свои стихи и рассказы по местному радио. Надеемся, что скоро его творчество станет известным и у вас в столице.
– Моя поклонница как всегда гиперболизирует, – шутливо морщась, сказал Осенний хорошо поставленным голосом, протягивая руку, – а вас Ольга представила уже многократно. Надеюсь, в этом случае, – без преувеличений! – В последних словах просквозило подобие ревности. Вне всякого сомнения, именно этим голосом назначалось Никите состоявшееся свидание.
Внешность писателя оправдывала его фамилию (или псевдоним). Природная темнота пышной шевелюры боролась с сединой, поэтому волосы выглядели снежной шапкой, обильно пересыпанной черным перцем. Песочная кудель с грустным завитком, спадавшая на широкий, иссеченный морщинами лоб, не столько молодила, сколько знаменовала зрелость и даже подчеркивала увядание. Ясный взор широко распахнутых глаз мог говорить как о показной непорочности, так и о подлинной наивности в восприятии мира, свойственной творцам, в особенности поэтам, когда они, заглядывая глубоко в чужое, невольно рафинируют собственные чувства. Против наивности и сопутствующей ей уязвимости не работали ни большое круглое лицо с вздернутым носом, ни высокий рост, ни крупное рыхловатое туловище, ни, тем более, активное в своей продолжительности, но слабое рукопожатие мягкой руки.
– А это мой сын, Артур. – Оля указывала за спину писателя, где ждал своей очереди следующий представленец. – Он только что окончил наш университет, в данный момент аспирант.
– Здравствуйте!
Голос принадлежал Гарри. Это было так неожиданно, что Никита вздрогнул и напрягся. Из-за глыбы Осеннего вышел невысокий молодой человек с иронично-виноватой улыбкой. Видимо, участие в компанейском розыгрыше призывало его к ощущению собственной, пусть шутливой, греховности. Он кланялся, как вежливый японец, ожидая, когда ему, по праву старшинства, подаст руку великовозрастный господин. Без сомнений, Артур был умножением Гарри на Оля. Или, точнее, это получился почти Гарри, но утонченный изящной и хрупкой Оля. Пожалуй, степень утончения получилась излишней для мужчины, подумал Никита и мысленно добавил сюда гитару, получив неожиданный результат, который был осуждающим удивлением: как у Оля, при наличии Гарри, может быть фаворит, подобный Осеннему!..
– Ник, мы все прямо сейчас едем к нам домой! – решительно возвестила Оля.
События напоминали снежный обвал, инициированный Оля, в котором Никите отводилась безнадежно подчиненная роль, и он решительно запротестовал, жестикулируя обеими руками:
– Нет, Оленька, прости, но мне нужно немного прийти в себя. Все настолько неожиданно и быстро. Дай мне хотя бы небольшой срок!
В голосе Никиты послышался если не металл, то твердая уверенность, достаточная для того, чтобы Оля, припомнив вольнолюбивого Ника, сразу же согласилась:
– Хорошо, Ник! Ты гость, и твое желание закон. Скажи, когда за тобой заехать?
Никита замялся:
– Ребята, уважаемые телевизионщики и им сочувствовавшие!.. Может, обойдемся как-то без этого? Давайте зайдем в кафешку, отметим… – Он был в настоящем смятении, и не знал, как выпутаться из такой неловкой для него ситуации.
Оля сделала знак мужчинам, и те покорно пошли к машине. Ник, глядя им в спины, попытался пошутить:
– Узнаю школу Оля!
Оля шутку не поддержала, но, сменив в себе лидера на парламентера, принялась развеивать, как ей казалось, основные сомнения собеседника:
– Ник! Мой супруг будет очень рад тебе. Честное слово! Если хочешь знать, то он наказал мне, чтобы я без тебя не возвращалась. Хотя, разумеется, эту пальму первенства я никому не собираюсь отдавать.
– Какую пальму? – не понял Никита.
– Ник! Ник! Какой ты тугодум: это я тебя нашла, и я решила, что ты обязательно станешь моим гостем, понятно? Муж поддержал. Причем, поддержал не из простой вежливости, а всей душой. Итак, Ник, когда за тобой заехать? Сегодня вечером – тебя устроит?
– Устроит, – сдался Никита, хотя еще не представлял, как все, связанное с его визитом к Гарри, будет выглядеть.
– Ну, вот, наконец-то! – радостно почти прокричала Оля и торопливой скороговоркой, многозначительной ремаркой, завершила: – Ты, разумеется, остаешься в нашем доме абсолютно свободным и покинешь его при малейшем желании, если оно возникнет, без всяких объяснений. – Она неожиданно обхватила шею Никиты, притянула непокорную голову к себе и громко чмокнула в щеку, нечаянно задев углы его губ. – В шесть часов вот эта машина будет стоять в этом же месте. Выйдешь, когда посчитаешь нужным. Бай!
Сразу после того, как Оля с провожатыми уехала, Никита пошел туда, где некогда располагалось его общежитие. Идти было недалеко, всего три автобусные остановки.
Пеший путь, против ожидания, не приносил радости встречи, не пьянил никакими открытиями. Действительно, что изменилось? По сути, только фасады старых зданий – за счет бесчисленной рекламы, которая надоела в Москве, и только. Те же улицы, те же тротуары, повороты. Все то же! Нет, он не там ищет удивления.
Определенно, утренние события выбили его из колеи, стушевали гармонический настрой, который, казалось, уверенно присутствовал в нем накануне.
Конечно, он не ожидал, что вхождение в прошлое будет столь грубым и прямолинейным, – через встречу пусть не с самыми яркими, но знаменитыми персонажами былого. Порой раньше он удивлялся и даже завидовал подобным встречам, когда посторонние ему люди находили друг друга случайно или намеренно. А сейчас то, что произошло с ним, вызывало растерянность и чувство неудобства. И дело даже не в том, что он уже стал кому-то обязан. И даже не в том, что предстоит встреча с Гарри, чьи дружеские ожидания он когда-то нарушил…
Впрочем, Никита никогда не чувствовал себя по-настоящему виноватым перед Гарри и полагал, что солидарна в этом с ним была и Оля. Он убеждал себя, и тогда и сейчас, что произошедшее с Оля, останься тайной, ничего и никого бы не изменило. Потому что, во-первых, по большому счету, молодость безгрешна. А во-вторых, потому, что Оля в то время всей своей сутью еще не принадлежала Гарри. Скорее всего, она и сейчас ему не принадлежит в полной мере. Она вообще никому не принадлежит, и вряд ли кому-либо принадлежала с рождения. Определенно, Осенний – это ее фаворит, который спокойно себя чувствует и в присутствии мужа Оля. Так же спокойно, как чувствует себя в этом треугольнике, пусть с одной слабой стороной (Осенний), и Оля. Чутье подсказывало Никите, что все, касающееся Гарри, Оля и ее фаворитов, прошлых и настоящих, обстоит именно так.
Все, что сейчас происходило с Никитой, напоминало испорченный праздник.
Посещение общежития логично добавило к «празднику». Лето – мертвый сезон для подобных заведений. Вялый ремонт: несколько хмурых строителей, горстка обслуживающего персонала, бестолково суетящегося в грязных, сумрачных коридорах, пахнущих краской, известью и газом сварки. Это было, по сути, то же студенческое общежитие, только состарившееся и несущественно сменившее вывеску (институт, в духе последнего времени, стал университетом). Нашлась даже пожилая женщина, пенсионерка, которая, на правах заслуженного ветерана, дотягивала тут, а не в доме престарелых, свой долгий век. Тетя Тася (так ее называли студенты) и тогда, в пору Никитиного студенчества, жила здесь, работая вахтером, имея одну комнату на всю свою семью. Никита хорошо помнил ее домочадцев: сожитель-пьяница и красавица дочь. Сейчас из всей семьи в живых оказалась только эта ветхая старушка, которая так и не узнала Никиту, сказав на прощание, что двадцать пять лет назад ребята были хорошие, не то, что нынешние, у которых в головах одна музыка, больше ничего, – поговорить не с кем; да и о чем говорить…
Увы, воспоминания не нахлынули со щемящей, слезной радостью. А те картинки из прошлого, которые, идя по коридорам, Никита насильно накладывал на физическое и моральное запустение студенческого дома, вызывали тоску, переходящую в тупую боль невозвратности. От чего умерла дочка вахтерши, которую Никита никогда за эти годы не вспоминал? Такая красавица, – а вот не мелькала в пестрых картинах прошлого. Между тем, ведь белокурая неимущая дева принципиально отличалась от окружения сравнительно благополучных студенток (сама она не училась, а работала вместе с матерью: мыла полы и мела двор). Помнится, если Никита иногда задерживал на ней праздное внимание, то ее странная красота немного тревожила его. Тем, пожалуй, что девушка была, в его неосознанном тогдашнем понимании, – никем: красота, соответственно, казалась нарисованной, неживой – без будущего (сейчас ретроспективная проницательность Никиты его даже не испугала). По ее независимому и где-то величавому, в особом роде, поведению, когда она не отвечала на знаки внимания жильцов мужского рода, Никита читал тайную великую надежду, скрытую под нищенской оболочкой. Надежду, что она, дочка простой вахтерши, – Золушка, то есть сказочно обреченная на счастье, и главным ее богатством является трудолюбие, внутренняя интеллигентность и, конечно, красота. В чем был ее конец? Болезнь или несчастный случай, – возможно. Но навязчивая закономерная версия иного, жуткого финала, отбрасывала все случайно допустимое: скорее всего, виной ранней кончины были люди. Безответная любовь? Безвольный муж? Волевое окружение? Все то, что неправедно именуется обстоятельствами? – «жизнью»? Внезапно Никита осознал себя частью вины за судьбу оригинальной девушки. Причем, частью, не обезличенной и безответственной в сонме, а законченной, граненой долей, наносящей конкретную рану своими гранями и вершинами. И, с другой стороны, та же девушка с несчастной судьбой воплощала его вину перед всеми, мимо кого прошел, не протянув руки, в которой нуждались; и перед теми, кого близоруко миновал, не заметив утонченного благолепия…
Вот его комната, в которой он прожил несколько лет. Дверь оказалась закрытой – пусть так. Возможно, это к лучшему: вряд ли он увидел бы там то, что оставил. Одним разочарованием меньше. А вот комната Оля, которую однажды утром он тайно покидал. «Гоу-гоу!..» А там маячила спина Удава… Больше не хотелось насиловать память ненужными воспоминаниями, – если бы не сегодняшняя встреча с Оля, он и об этом не вспоминал. Развернулся бы, вот так, и ушел. Вот-так, вот-так… – ступени те же, только стали покатыми. В фойе, заметив стенное зеркало, Никита невольно остановился: действительно, как он и предполагал, – эхо пришло здороваться с эхом: некогда прямые и даже чуть вздернутые плечи стали похожие на старые ступени.
5
– Я не опоздал? – бодрым, веселым голосом спросил Никита, когда Оля буквально выпорхнула из машины к нему навстречу.
– Что ты, Ник! Такие гости, как ты, не опаздывают, потому что ожидать их – неописуемое удовольствие!
– Оля, честное слово, меня смущают твои признания!.. – Ник огляделся, но утренних попутчиков Оля не заметил.
Оля подошла вплотную и положила ладошки ему на грудь, чем еще больше смутила:
– Ничего, Ник! Вот уедешь… Надеюсь, уже не навсегда… – Оля сделала, вернее, откровенно сыграла паузу: – Вот уедешь, и будешь помнить… До следующего приезда… Садись вперед, я по пути, насколько возможно, буду объяснять тебе, что у нас тут понастроили за твое отсутствие.
Никита вместился в кабину, и вдруг перед ним возникла страховитая физиономия, нос от которой почти уперся ему в лицо, как грозящий пистолет. Никита содрогнулся, – показалось, что взъерошилась, как кошка, и отпрыгнула в тень какая-то опасность. Его замешательство заметили: в водянистых крокодильих глазах, лупящихся над основанием носа, мелькнул злорадный огонек. Показалось? Такое бывает, когда в гулком темном коридоре вдруг шумно наталкиваешься на что-то живое… «Кто это?!» – нелепый вопрос, маскирующий подобное смятение.
– Никита! – он почти непроизвольно, оборонительно-предостерегающе, протянул руку.
Человек оскалился, сморщив непомерных размеров нос, и, неестественно преклонив голову, как будто потешаясь, вдруг поймал только кончики пальцев доверчивой ладони Никиты и проделал характерные движения жернов, как будто что-то перетирал в своей волосатой длани.
– Вано, поехали! – властно прерывая затянувшееся рукопожатие, приказала Оля водителю.
Странный человек, подумал Никита, пытаясь избавиться от неприятного впечатления.
Кроме мощного клюва, у незнакомца были и другие достоинства. Он был крепкого телосложения, с коричневым лицом, изборожденным рубцами, иногда остающимися от юношеских угрей, и явными шрамами от ран. Коротко стриженные седые волосы топорщились на его голове, имевшей форму дыни, ориентированной острым концом (носом, надменно сморщенным) вперед, к лобовому стеклу. Все это делало необычного субъекта похожим на ежика-альбиноса, с карикатурными глазами навыкат, битого и общипанного жизнью, и загоревшего, по случаю, на южной каторге. Так Никита мысленно отомстил носатому за свое неожиданное смятение, но полностью восстановить утреннее настроение все же не удавалось. Ему казалось, что водитель читает его мысли. Оля что-то рассказывала с заднего сиденья, Никита кивал, не понимая смысла. Вано? Напоминает что-то занятное, из прошлой жизни… Вот ресторан, возле которого Никиту ударила машина.