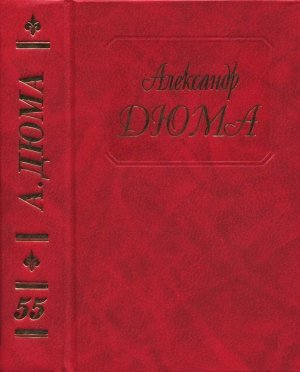
Александр Дюма
Охотник
водоплавающую
дичь
ПРЕДИСЛОВИЕ
Лорд Байрон восклицает в своей поэме «Дон Жуан»:
О море, единственная любовь, которой я не изменял!
Эта строка английского поэта весьма часто всплывает в моей памяти в часы тихой грусти, когда человек чувствует, что его влечет к себе нечто неведомое.
Самые прекрасные стихи Гюго, самые прекрасные стихи Ламартина посвящены морю.
Я знаю, что если бы мне, подобно этим мужам, выпало счастье родиться лирическим поэтом, вместо того чтобы быть всего лишь драматическим поэтом, каким стал я, то мои наиболее страстные строфы были бы посвящены морю — Средиземному морю в голубой мантии волн либо Океану в зеленой тунике безбрежных вод.
Однако следует уточнить, что Средиземное море представляется нам не настоящим морем: это просто красивое озеро с восхитительными берегами.
Между тем Океан со своими приливами и отливами, а также с волнами, которые, отделяясь от американского материка, под неусыпным взором Всевышнего преодолевают расстояние в тысячу восемьсот льё, прежде чем достичь берегов Европы; Океан, разделенный надвое экватором и ограниченный двумя полюсами, — вот единственная подлинная стихия и единственное достаточно большое зеркало, способное отразить лик Господа.
Вот почему я отдаю предпочтение Океану.
Не вызвано ли это тем, что мне пришлось увидеть Океан раньше моря?
Возможно.
Так что я повторяю: сколь благозвучно бы ни пел прилив в заливе Байи либо в бухте Агригента, сколь нежно бы ни ворковали волны, ласкающие Палермо или лагуну, которая омывает Венецию, глухой рев необузданной стихии в бухте Дуарнене или жалобный рокот Ла-Манша, бьющегося о скалы Кальвадоса, милее моему сердцу, чем лепет изнеженной Амфитриты.
Дело в том, что все это побережье — от Остенде до Бреста — мне хорошо знакомо. Я оставил здесь лучшие дни своей молодости и унес отсюда самые отрадные воспоминания.
Взморье Бланкенберге, развалины Арка, скалы Этрета, утесы Гавра, дюны Курсёля, рифы Сен-Мало и ланды Плугерно известны мне не хуже, чем равнины и леса моего родного края. С ружьем в руках я исследовал волнистые очертания здешних берегов, то гоняясь за чайками и поморниками в какой-нибудь утлой лодке, качавшей меня по волнам, то охотясь на суше, где мне попадались гаршнепы и турпаны.
О мои дни в Трувиле, где я писал «Карла VII» и «Ричарда Дарлингтона»!
О мои ночи в Люке, где я любовался огнями гаврских маяков, сверкающих, словно две звезды, по другую сторону моря!
Воспоминания молодости, воспоминания о счастье, всякий раз, когда я оглядываюсь назад, вы сияете во мгле былого более ярким светом, чем маяки Гавра. Увы! Как часто я возвращался к вам, разуверившись в настоящем, пребывая в неведении относительно будущего, и сколько еще раз мне предстоит искать в вас утешения!
Люди, занятые умственным трудом, исповедуют религию, совершенно чуждую обывателям; время от времени они ощущают потребность почерпнуть в ней новые душевные силы и освежить в ней свое воображение.
Это религия одиночества и безмолвия.
Однажды я прочел на стенах кельи Шартрёзской обители следующее изречение:
«Когда человек пребывает в одиночестве, Бог говорит с его сердцем; когда человек пребывает в безмолвии, он говорит с сердцем Бога».
Кто, как не поэт, испытывает неодолимую потребность в этих сокровенных беседах?
Какое же одиночество является самым таинственным?
Одиночество волн.
Какое безмолвие является самым красноречивым?
Безмолвие моря.
Поэтому мне не раз доводилось без сколько-нибудь очевидной причины, без явного повода, не сумев придумать благовидный предлог для своего отъезда, внезапно покидать Париж, бросаясь в почтовую карету, в дилижанс или в вагон поезда и восклицая:
— В Дьеп! В Гавр! В Трувиль! В Ла-Деливранду!
Я стремился обрести у кромки прилива свое излюбленное одиночество; я спешил разделить с морем его поэтическое безмолвие, именно там я молил Бога выслушать то, что мне нужно было ему поведать, и спрашивал у него, не желает ли он сказать мне что-нибудь в ответ.
Всякий раз я возвращался домой окрепшим, ощущая бесконечные душевные силы и неиссякаемое воображение.
Дело было как-то вечером, в Брюсселе.
Мы сидели за столом втроем: Шервиль, Ноэль Парфе и я.
На столе лежала развернутая карта Франции.
Накануне за тем же самым столом нас было четверо.
Этим четвертым, которого нам не доставало, был Виктор Г юго.
Утром мы проводили его в Антверпен, в час дня обнялись с ним на прощание, и он сел на английский пакетбот; четверть часа спустя судно скрылось из вида за излучиной Эско.
Прочтите в сборнике «Созерцания» чудесные стихи, которые поэт посвятил мне в память об этом мгновении, когда мы расставались…
Мы вернулись в Брюссель, изнывая от смертельной тоски.
Неисповедимы пути изгнанника. Как только он исчезает за холмом, за поворотом дороги или изгибом реки, никто не может сказать, куда скиталец отправится, и никому не известно, суждено ли ему вернуться.
Итак, нас осталось только трое за тем же столом, где еще вчера мы сидели вчетвером, и теперь мы пытались отыскать на карте остров Джерси.
Именно туда отправился наш друг.
Я долго не отрывал пальца от одной из трех точек, образующих треугольник английских островов, а затем провел им через департамент Манш и остановился на линии, отделяющей его от департамента Кальвадос.
И тут внезапно в моей памяти ожило одно из тех самых воспоминаний, — я перенесся лет на двенадцать в прошлое.
— Лишь бы нашему дорогому Виктору, — сказал я, — благоприятствовала погода на пути из Лондона в Джерси, с чем не повезло мне на пути с островов Сен-Маркуф в Гран-Кан.
— С островов Сен-Маркуф в Гран-Кан? — переспросил Шервиль. — Неужели вы проделали путь от островов Сен-Маркуф до Гран-Кана? Вы?
— Да, я.
— И когда же это случилось?
— Подождите… По-моему, в тысяча восемьсот сорок втором году.
— Каким ветром вас туда занесло?
— Пожалуй, крайне трудно вам на это ответить… Порой, когда меня охватывает грусть и усталость, я отправляюсь в одно из таких бесцельных и бессмысленных путешествий. Правда, это едва не стало для меня последним…
— Вы попали в шторм?
— Да, между Вейской отмелью и устьем Виры.
— Местечко не из приятных: там коварное течение!..
— Оно вам знакомо?
— Это мой личный враг: я раз десять пересекал там реку вплавь.
— Да, течение там едва не выбрасывает на берег, а нас оно и в самом деле выбросило; признаться, если бы один добрый малый не приютил нас в своей хижине, мне пришлось бы ночевать под открытым небом. Я был настолько обессилен, что не рискнул бы добираться ни до Мези, ни до Жефосса, ни до Кардонвиля.
— В таком случае, я знаю, где вы провели ночь: вы заночевали в Шалаше.
— Именно так!.. Стало быть, вам доводилось жить в той местности, раз вы знаете там каждый камушек?
— Мой отец владел угодьями в нескольких льё оттуда, между Тревьером и Бальруа. У доброго малого, о котором вы упомянули, должно быть, жил в ту пору мальчик лет десяти — двенадцати.
— Да, и вы мне о нем напомнили: это бедное маленькое создание было хрупким и бледным и казалось слишком хилым для той суровой обстановки, в какой он рос.
— Да, его звали Жан Мари… Зато с вашим хозяином дело обстояло иначе: этот охотник на водоплавающую дичь был крепкий парень!
— В самом деле, когда мы спросили хозяина, каким ремеслом он занимается, ибо нам никак не удавалось понять это по окружающим его предметам, он назвал себя охотником на водоплавающую дичь. Опасаясь показаться невеждой — притом, что я сам охотник, — я не решился попросить у него более подробных разъяснений относительно этого вида охоты. К тому же невозможно было в бедном доме с большим радушием оказать прием гостю. Хозяин хотел уступить мне свое убогое ложе или, по моему выбору, подвесную койку своего парнишки; я отказался, и охапка свежего сена заменила мне кровать, и я выспался как никогда в жизни, несмотря на то что большая собака, видимо признавшая во мне друга, бесцеремонно разделила со мной постель.
— Да, я знавал эту собаку, как и ее хозяина. То был отважный пес по кличке Флажок.
— А как же звали хозяина?
— В округе, как он вам сам сказал, его называли не иначе как охотником на водоплавающую дичь, но его настоящее имя — Ален Монпле. История этого человека — подлинный роман.
— Я так и подумал, когда увидел его. В нем проглядывало нечто дикое, страшное и одновременно доброе — все это свидетельствовало о незаурядной натуре. Будь я решительнее, я бы попросил его рассказать мне свою историю.
— В ту пору, когда вы с ним встретились, эта история была только на полпути к завершению — она представляла бы для вас лишь частичный интерес, как книга без развязки. С тех пор события получили развитие, и роман Алена Монпле завершился.
— Итак, вы снова повторяете слово «роман»!
— О, любезный друг, если под словом «роман» вы подразумеваете нечто вроде сплетения приключений, лежащего в основе сюжетов «Королевы Марго», «Графа Монте-Кристо» или «Трех мушкетеров», то мы, конечно, далеки от желаемого. Но если вы признаете, что в «Полине», «Консьянсе блаженном» и «Ашборнском пасторе» есть нечто романическое, то мы начнем понимать друг друга.
— Голубчик, в этом вопросе мы всегда сможем договориться. На мой взгляд, любой роман предполагает взаимную борьбу людей и конфликт страстей. Я писал однотомные романы, книги объемом в пятьдесят страниц, а также в одну главу, и, возможно, это не худшие из моих произведений.
— Мне бы хотелось приобрести привычку писать: тогда в одно прекрасное утро я прислал бы вам историю Алена Монпле от «А» до «Я» — от «Отче наш» до «Аминь», и вы увидели бы, что я вас не обманул.
— Сделайте это.
— Может быть.
— Итак, когда же я смогу получить вашу рукопись?
— О милый друг, мне до вас далеко: я не сочиняю книги томами. Составление одного лишь счета для прачки отнимает у меня два часа каждую неделю. Придет время, я со свежей головой сяду за эту повесть и, когда она будет полностью завершена, аккуратно пронумерована, а все точки и запятые в ней тщательно расставлены…
— … и что же?
— Тогда, по всей вероятности, я брошу рукопись в огонь и напишу вам всего пару строк: «Мой дорогой Дюма, я определенно не создан для творчества».
— Не вздумайте сделать такую глупость, Шервиль, а не то я предъявлю вам иск и потребую возмещения убытков. Я даю вам неделю, месяц, год или два, но знайте: я рассчитываю получить от вас историю Алена Монпле.
Шервиль с улыбкой склонил голову на грудь, а затем, после недолгой паузы, приподнял ее и сказал:
— Клянусь честью, я над этим подумаю.
Было одиннадцать часов.
Одиннадцать часов — это позднее время для Брюсселя.
Сосчитав количество ударов стенных часов, Шервиль бросил взгляд на циферблат своих часов.
Ручные и стенные часы не спорили друг с другом.
— Одиннадцать часов! — воскликнул мой друг, почти не скрывая испуга. — Что скажет моя хозяйка?.. Она скажет, что я пустился в разгул.
Подхватив свою шляпу, он пожал мне и Ноэлю Парфе руку и удалился.
С того вечера как Шервиль взял на себя обязательство предоставить мне книгу об Алене Монпле, я почти всякий раз осведомлялся при встрече с ним:
— Как там мой роман?
В ответ на этот вопрос Шервиль всякий раз невозмутимо говорил:
— Я работаю.
К сожалению, в одно прекрасное утро, когда на мои книги — «Мемуары», «Исаак Лакедем», «Юность Людовика XIV», «Юность Людовика XV» и Бог весть еще какие — наложили арест, мне пришлось покинуть Брюссель и уехать в Париж, чтобы удостовериться, не задержат ли меня самого.
Мои книги и пьесы по-прежнему пребывали в плену, а меня оставили на свободе.
Вследствие этого я вернулся к своему ремеслу романиста и драматурга; признаться, это трудное ремесло, гораздо труднее всех известных мне профессий! В этом деле необходимо, чтобы фантазия, эта дочь Творца, всегда была к вашим услугам, а она, напротив, имеет склонность служить себе самой.
И вот как-то утром я проснулся с совершенно пустой головой.
Фантазия… — Глупец! Я так крепко спал прошлой ночью!.. — фантазия воспользовалась моим и сном и исчезла.
Впрочем, фантазия имела на это право. Накануне она исполнила свой долг, поставив слово «Конец» под первой частью тридцатитомного романа.
И что же тогда я сотворил, вор по сути своей?
Я припомнил историю под названием «Заяц моего деда», которую однажды вечером, вернувшись из Сент-Юбера, поведал мне Шервиль, и в свою очередь пересказал ее. По правде сказать, так получился еще один том.
Тем не менее одна мысль не давала мне покоя: я ожидал каких-нибудь возражений со стороны Шервиля.
Столько людей, которых я одаривал, предъявляют мне претензии; с тем большим основанием должен был возражать тот, у которого я что-то взял.
Через пять-шесть дней, после того как была опубликована последняя глава этой повести, я получил письмо с бельгийским штемпелем.
Узнав почерк Шервиля, я вздрогнул.
«Что ж, — подумал я, — за преступлением следует наказание».
Я опустил голову, поскольку на этот раз в самом деле был виноват, и распечатал письмо.
Признаться, я чрезвычайно обрадовался, прочитав следующие строки:
«Мой дорогой Дюма!
Я получил от Ноэля Парфе небольшой томик, и мне стало ужасно стыдно, когда, закрыв книгу, я припомнил Ваше благожелательное предисловие к ней. Сравнивая сочинение, к которому Вы изволили меня приобщить, с нескладной историей, рассказанной мной в Вашем присутствии однажды вечером, поверьте, я не узнал самого себя и воскликнул, как незадачливый путешественник, которого, пока он спал, вымазали черной краской:
„Ба! Они думали, что будят меня, а разбудили негра!“
Но в моем случае все наоборот: из негра я превратился в белого человека.
Короче говоря, прочитав „Заяц моего деда“, я почувствовал себя Вашим должником и отважусь обратиться к Вам с просьбой.
Я начну с долга, ибо, в отличие от обычных долгов, эта ноша для меня приятна и легка.
Прежде всего, спасибо, мой дорогой Дюма; я благодарю Вас очень горячо, очень искренне и, позвольте добавить, с бесконечной любовью!
Вам доводилось встречать на своем пути множество неблагодарных людей. Сколь самонадеянным ни казался бы тот, кто уверен в своих будущих чувствах, я полагаю, что моя признательность в состоянии возрасти, и она сделает это. На мой взгляд, она слишком глубока и горяча, чтобы позволить себе охладиться с годами или пойти на корм червям, и я смею обещать Вам, что благодаря лучу солнца, каким Вы обогрели весьма скудную почву, она, даже если и не принесет прекрасных и обильных плодов, то, по крайней мере, не умножит количество шипов и колючек, которые, как правило, при подобных обстоятельствах вонзаются в Ваши пальцы, обагряя их кровью.
А теперь вот в чем состоит моя просьба: мой дорогой Дюма, продолжайте оказывать Вашему верному другу-изгнаннику ту же великодушную поддержку, которую он ни в коей мере не заслужил, но которой ныне по многим причинам желает быть достойным.
В заключение примите, дорогой Дюма, мои наилучшие пожелания.
Г. де Шервиль.
P.S. Вы, конечно, помните Шалаш, в котором Вы провели грозовую ночь в 1842 году; Вы не можете не помнить Алена Монпле, оказавшего Вам гостеприимство, а также его парнишку Жана Мари и собаку по кличке Флажок; наконец, Вы прекрасно помните, что я обещал Вам написать историю об этих простых людях, книгу об этом скромном уголке земли? Так вот… берегитесь лавины!..»
И действительно, три-четыре дня спустя на меня обрушилась лавина.
Это была рукопись, написанная тем же изящным аристократическим почерком, который я узнал на конверте адресованного мне письма.
Она была озаглавлена «Охотник на водоплавающую дичь»; не хватало только точки над буквой «I>, и я ее поставил.
Вот и все, к чему я приложил руку в этом сочинении. Любезные читатели, вы должны признать, что невозможно быть более скромным, чем ваш покорный слуга.
Алекс. Дюма.
15 ноября 1857 года.
I
СТИХИЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Сколь щедро бы ни одарила природа наши французские реки, если сравнивать их не с реками Америки или Индии, а с другими водными путями Европы; сколь щедро бы, повторяем, ни одарила природа наши французские реки прозрачными волнами и полноводным течением, живописными берегами и дивными извилистыми излучинами, — я полагаю, что ни Сена, надменно омывающая стопы столицы мира, ни Луара, радостно орошающая сад Франции, ни Гаронна, гордо несущая такое же количество кораблей, как и море, ни Рона, изумленно отражающая в своих водах древние развалины, которые принимают за римские руины, не могут сравниться с Вирой, куда более скромным потоком, который жители Нижней Нормандии, чью жажду он утоляет наравне с сидром, испокон веков называют не иначе как ничтожной речкой.
Им не известно, что, с точки зрения лексики и географии, всякий водный поток, каким бы мелким и пересохшим он ни был, вправе именоваться рекой, если только он впадает в море.
Итальянцы не позволили бы так опошлить Арно или Себето.
Они называют любую реку, будь она большой или малой, одним словом: "Пите", если это крупная река, или "fiumicello", если это небольшая речка.
Стало быть, Вира — река, как считают географы, а не речка, как утверждают нормандцы.
Невзирая на всю мою приязнь к Вире, которой я пытаюсь с помощью этих строк вернуть положение, на какое она имеет право (как и многое другое на этом свете, как множество красивых женщин и выдающихся мужчин, революций и трагедий, как, наконец, ее великие собратья Рейн и Рона), Вира, я вынужден признать, в конце своего пути ведет себя куда менее достойно, чем в начале.
Река, зародившаяся в тех же местах, где, если верить археологическим изысканиям братьев Парфе, появился на свет водевиль, то есть в долине Виры, река, осененная в истоках тенистой листвой прелестного Сен-Северского леса, на протяжении двадцати пяти льё катит свои кристально чистые воды по дну, усеянному бурыми камнями, и по золотисто-песчаному руслу, устланному зелеными водорослями. Явив взору в двадцати местах, где поток ниспадает каскадом, тысячи буасо сверкающих на солнце жемчужин и, заставив вертеться поэтичную мельницу Оливье Баслена, неожиданно, в нескольких льё вверх по течению от Сен-Ло, на уровне Исиньи, славящегося своим несравненным маслом, — Вира исчезает в топкой глади болот и становится неким подобием Уркского канала. Заливные луга не окаймляют ее больше зеленым цветистым поясом; венцы скал, обагренные наперстянкой, не украшают ее больше; кроны буков с гладкими стволами, этих могучих сыновей леса, не затеняют больше ее поверхности. Ничего подобного! Бедная речушка, униженная и посрамленная своими злоключениями, словно стремится повернуть вспять. Она уже не бежит, а едва плетется вперед. Ее резвые игривые воды, в которых береговые нимфы омывали свои нежно-розовые ноги и белокурые волосы; ее резвые игривые воды, которые напевали тысячи журчащих песенок, струясь по камням, в то время как птицы, прыгающие в кустах, распевали на тысячи голосов, — ее резвые игривые воды утрачивают свои пурпурно-лазурные тона (подобно тому как женщины из прованского Эг-Морта или итальянки из Понтийских болот лишаются яркого румянца от едких и острых поцелуев лихорадки) и, угрюмые, молчаливые, влачатся через торфяник, окрашивающий их в темные цвета, и не желают отражать желтоватый тростник, растущий на этих унылых берегах.
К счастью, вскоре Океан — отец всех рек, как называл его Гомер, этот иной океан, — к счастью, вскоре Океан, повторяем, встречает злополучную реку, раскрывает ей свои объятия, принимает ее в свое лоно и уносит вдаль, в бескрайние просторы: так Смерть, сжалившись над каким-нибудь хилым ребенком, забирает его в бесконечность.
Ныне на расстоянии одного-двух льё вверх по течению от устья Виры, на правом берегу реки, раскинулось селение, построенное, как и все деревни нормандского побережья, у самой кромки воды, вследствие чего волны во время высокого прилива омывают основания здешних домов.
Это селение называется Мези.
Примерно в километре от окраины Мези, если идти со стороны Исиньи, виднеется небольшая ферма, соломенные крыши и кирпичные стены которой наполовину скрыты за вязами и грабами; образованная этими деревьями роща, окрашенная в бурые тона зимой, зеленеющая весной и желтеющая летом, напоминает прекрасный оазис посреди голой равнины.
Эта ферма называется "Хрюшатник".
В 1818 году она принадлежала Жану Монпле.
Мы расскажем в нескольких словах, что представлял собой Жан Монпле, отец Алена Монпле.
Жан Монпле был обязан всем самому себе; он слыл богачом, и шепотом поговаривали, что его состояние составляло триста тысяч франков.
Жан Монпле начинал как погонщик скота. Затем он стал торговать коровами, после чего сделался фермером.
Скот, которым торговал Жан Монпле, обеспечивал его обильными удобрениями, что позволяло ему откармливать тучных коров, поэтому, занимаясь торговлей, он легко и быстро разбогател.
"Не в деньгах счастье", — утверждают миллионеры, чтобы слегка приглушить чувство зависти, которое, разумеется, они вызывают у бедняков.
Жан Монпле придерживался другого мнения.
Будучи самым состоятельным фермером в Мези, он в то же время был самым счастливым человеком в округе, разъезжая иноходью на превосходной лошадке по всем нормандским ярмаркам; он верховодил на здешних рынках, устанавливая цены на зерновые по своему усмотрению; всадника вместе с его лошадью радушно принимали на всех постоялых дворах, где человека потчевали лучшим сидром, а животному давали лучшую солому и лучший овес; фермер выступал на советах коммуны, где к его мнению прислушивались и следовали его указаниям. Жана Монпле любили бедняки, с которыми он выпивал так же охотно, как и раньше, когда ему приходилось бродить по дорогам пешком, подгоняя чужих коров; его уважали богачи, которым он умел вовремя выставить для обозрения край золоченой подкладки своей грубой рабочей блузы, — таким образом, фермер и сам признавал, что он процветает, ни в чем не испытывая нужды.
Мы ошиблись: в 1818 году — мы забыли указать эту дату, — в 1818 году у Жана еще не было наследника и у г-жи Монпле, несмотря на ее явное желание подарить мужу ребенка и ее жалобы по поводу того, что такое желание оказалось столь трудно исполнимо, на протяжении двенадцати лет никак это не получалось.
Но, к счастью, Всевышний проявил милосердие и позволил бедной женщине осуществить ее желание.
В 1819 году у четы Монпле родился, наконец, долгожданный сын.
Однако он появился на свет в недобрый час.
Мать ребенка заплатила за его рождение жизнью.
Жан Монпле долго горевал, ибо он искренне любил жену. Затем он присмотрелся к мальчику и, как ему показалась, увидел в нем черты несчастной покойницы.
Фермер подумал, что раз уж он всю жизнь трудился, чтобы сколотить состояние для будущего наследника, то теперь, когда Бог послал ему столь желанного ребенка, не следует сидеть сложа руки.
Он оседлал свою лошадку и поехал на ярмарку в Байё, где, распродав партию котантенских коров, заработал целый мешок денег; благодаря чувству удовлетворения от удачной торговли, а также свежему воздуху и движению скорбь его начала ослабевать.
Время довершило остальное.
О время, крылатое дитя вечности, отнюдь не случайно поэты изображают тебя с косой в руке! Бесстрастный жнец, ты уносишь прочь и наши радости, и наши невзгоды, а человек, эта былинка, дрожащая от ветра при твоем приближении, с горечью убеждается, что ничто не вечно на земле, даже его скорбь!
Таким образом, время окончательно исцелило рану Жана Монпле.
Ален — это имя получил юный наследник Хрюшатника в крестильной купели — Ален стал для папаши Монпле одновременно и утешением, и стимулом к жизни.
Ради сына торговец скотом беспрестанно предпринимал все новые поездки, и, когда он возвращался домой, детские ласки были для него вознаграждением за труды.
И, надо сказать, бедный отец чувствовал себя вознагражденным так щедро, что он каждодневно воздавал хвалу Всевышнему.
А потому он так баловал маленького Алена, что на это было и больно, и приятно смотреть.
Когда мальчику исполнилось десять лет, Жан Монпле стал думать об образовании сына.
Подобно всем разбогатевшим крестьянам и многим невежественным ремесленникам, Жан гнушался своего занятия и желал для сына иной судьбы: почетного звания бакалавра и роскошной мантии выпускника коллежа.
Между тем он все еще пребывал в нерешительности, не зная, на какую почву привить свой саженец, чтобы тот поскорее расцвел в лучах науки, когда как-то раз один из его собратьев, разглагольствуя о дешевизне коров в Сен-Ло, в то же время упомянул о тамошнем коллеже. И тут Жан Монпле решил убить сразу двух зайцев: приобрести скот и определить своего сына на учение. Он надел краги, посадил Алена позади себя в седло и отвез его в коллеж; мальчик остался там с великой радостью, увидев множество сверстников, с которыми ему предстояло познакомиться, и прекрасный сад, где они играли.
Бедный Ален явился в коллеж во время перемены и решил, что учение — это бесконечная игра в салочки.
Что касается Жана Монпле, он удалился, предварительно раз десять повторив директору коллежа, в то же время позвякивая монетами, зашитыми в кожаном поясе, что он не постоит за деньгами, лишь бы только из его сына сделали Гиппократа или Демосфена.
Фермер слышал когда-то эти имена из уст кюре Мези, когда тот обедал в его доме.
Жан осведомился, что это за господа, и узнал, что один из них был выдающимся врачом, а другой — выдающимся оратором.
Однако он забыл спросить, в какое время жили оба великих человека. Впрочем, это ничего для него не значило, раз они достигли в своем искусстве того же положения, какое он сам занимал среди фермеров и торговцев скотом Манша и Кальвадоса.
Увы! Жан Монпле совершенно не брал в расчет характер своего собственного сына.
Как уже было сказано, мальчик, попавший в коллеж во время перемены, решил, что это чудесное место.
Но перемена вскоре закончилась, и ему пришлось идти в класс на урок.
Оказавшись перед пюпитром, стоящем на дубовом столе, Ален посмотрел на учение с другой стороны и увидел коллеж во всей его строгости.
С тех пор ему стало казаться, что время распределено неправильно: в расписании было недостаточно развлечений и слишком много работы. Суровая школьная дисциплина и педантские порядки вскоре отбили желание учиться у маленького неотесанного селянина, который до сих пор вел вольготную жизнь, вошедшую у него в привычку, и испытывал настоятельную потребность в прогулках по песчаным берегам, в свежем воздухе и в лазанье по отвесным прибрежным скалам.
Как только в душу мальчика закралась скука, он, впав в хандру, начал чахнуть: лишился яркого румянца, начал тосковать по дому, стал тщедушным и хилым, изнемогая в этой атмосфере, насыщенной латынью и греческим языком.
Преподаватели коллежа оповестили об этом Жана Монпле; он приехал повидать сына и ужаснулся тому, как быстро развивается болезнь мальчика. Поразмыслив, фермер пришел к выводу, что буржуа узнают по черному сюртуку, как адвоката и врача — по мантии, а также рассудил, что если Бог и в дальнейшем будет помогать ему так, как он делал раньше, то Ален Монпле в один прекрасный день получит свои славные двадцать пять тысяч ренты и, таким образом, станет достаточно богатым человеком, не нуждающимся в том, чтобы принимать больных и выписывать рецепты.
Поэтому отец забрал Алена из коллежа Сен-Ло и увез его обратно в Мези, к прежним друзьям.
Оказавшись на родной ферме, то есть в полукилометре от моря, в привычной обстановке, где даже воздух был живительным, мальчик быстро вернул себе жизнерадостность, смуглый цвет лица и прежнюю силу.
Вскоре он превзошел всех не только в Мези, но и в Гран-Кане, а также в Сен-Пьер-дю-Моне в искусстве лазать по отвесным скалам и разорять гнезда кайр и обогнал всех начинающих судостроителей в умении вырезать из дерева кораблики и пускать их по лужам, остающимся на песке после прилива.
Но прежде всего юный Ален добился поразительных успехов в плавании.
Казалось, море являлось для него столь же привычной, благоприятной средой, как и земля. Можно было подумать, что мальчик от природы наделен свойствами амфибии, настолько легко, словно дельфин, он скользил по волнам и мог бесконечно долго оставаться под водой, как будто у него был особый дыхательный аппарат. Ален не страшился ничего: ни бурь, ни шквалов, ни ливней, ни штормов; для местных рыбаков он стал своего рода барометром, подобно некоторым рыбам, которые выпрыгивают из воды, предвещая приближение сильного ветра.
Люди говорили, глядя, как мальчик резвится среди волн:
— Паренек Ален сегодня такой веселый — значит, жди волнения моря.
Отеческая гордость старого Монпле была вполне удовлетворена превосходством сына во всех детских играх; ежедневно округляя свое состояние, фермер все больше убеждался, что он сможет обеспечить своему наследнику безбедное будущее, и все сильнее верил в то, что всякий достаточно состоятельный человек выглядит в глазах окружающих достаточно образованным.
Следовательно, отец больше не заговаривал с Аленом ни о какой учебе, даже когда тот стал юношей, и оставил его на попечение лишь тех учителей, которые давали ему на берегу свои уроки бесплатно, и те взялись развивать упомянутые нами способности будущего владельца Хрюшатника, обучая его тому, как правильно держать весло, ставить верши и надлежащим образом насаживать на крючок наживку для всякого вида рыбы, от корюшки до макрели.
Но особенно преуспел Ален в искусстве охоты. Впрочем, он учился этому искусству у первоклассного наставника.
То был папаша Шалаш, охотник на водоплавающую дичь.
Сначала мы расскажем, что представлял собой папаша Шалаш, а затем поясним, кто такой охотник на водоплавающую дичь.
Папаша Шалаш — такое прозвище ему дали потому, что он жил в расположенной в устье Виры маленькой лачуге, которую назвали шалашом, — папаша Шалаш был высоким (его рост составлял почти шесть футов) и сухощавым стариком; он явно принадлежал не к человеческой породе, а к отряду голенастых. У него был острый нос, приплюснутый лоб и скошенный подбородок, что придавало ему сходство с пингвином; когда старик, чуть наклоняясь вперед, бегал вдоль берега реки или прыгал с камня на камень во время отлива, он напоминал одну из тех морских птиц на длинных ногах, что расхаживают вдоль взморья и перескакивают с утеса на утес в поисках мальков.
Вероятно, прибрежные птицы — утки и турпаны, бекасы и гаршнепы, кулики и кайры — с первого взгляда клюнули на это сходство и, принимая папашу Шалаша за гигантского аиста или какую-нибудь допотопную цаплю, совершенно не боялись его.
Но мало-помалу истина пролила свет на обманчивую внешность охотника и бедным птицам, наконец, стало ясно, что у них нет более лютого врага, чем папаша Шалаш.
Дело в том, что, как уже говорилось, папаша Шалаш был охотником на водоплавающую дичь.
Мы готовы выполнить свое обещание: рассказав, что представлял собой — хотя бы внешне — папаша Шалаш, следует пояснить, кто такой охотник на водоплавающую дичь.
Водоплавающей дичью называют всякую птицу, обитающую в болоте, на берегу реки или вдоль ее течения.
Утки, турпаны, водяные курочки, дикие гуси, зуйки, чирки и даже безобидные чеканы, которых столь беспощадно истребляют всякие нимроды из Сен-Дени и Буживаля, — все это водоплавающая дичь.
Отстрел этих птиц, если он ведется на морском берегу, по сей день остается единственным видом охоты, таящим в себе нешуточную угрозу; это единственный вид охоты, еще способный прельстить искателей приключений, тех, кого опасность притягивает как магнит, тех, кто жаждет острых ощущений, как другие — плотских утех, чувствуя себя скованно и неуютно среди благ легкой жизни, созданной цивилизацией даже для самых обездоленных.
Охотник на водоплавающую дичь должен искать добычу не только среди болот: скалы, отмели и рифы, которые встречаются главным образом в устье рек, также представляют для него весьма благодатное поле деятельности. Эти скалы и отмели служат пристанищем для множества водоплавающих. С наступлением ночи эти птицы, независимо от того, провели ли они день в морских просторах либо искали себе пропитание в реках или внутренних водоемах, — словом, где бы пернатые ни странствовали во время своих дневных скитаний, по вечерам они слетаются на скалы и отмели как на условленное место встречи, сбиваясь в огромные стаи и образуя колоритный птичий базар, где различные виды и породы перемешиваются между собой.
Но, сколь бы многочисленной ни была эта дичь, всегда трудно, а зачастую и рискованно гоняться за ней по прибрежным зыбучим пескам, перемещающимся с каждым приливом, и преследовать ее на склонах скал, столь же скользких, как поверхность ледников, и, подобно ледникам, скрывающих под собой бездну. К тому же все это происходит в темные и холодные ночи самого сурового времени года, ибо охота на водоплавающую дичь оказывается по-настоящему удачной лишь в период с октября по апрель.
Таким образом, из того, что мы сейчас рассказали, читатель легко может понять, скольким опасностям и лишениям подвергает себя охотник на водоплавающую дичь. Каким бы ловким, умелым, сильным и смелым ни был этот человек, ему ни на миг не следует забывать, что он находится на территории, принадлежащей морю, и что несколько часов спустя прибой вновь должен завладеть землей, ненадолго покинутой отливом. Стоит охотнику отвлечься, задуматься или заснуть всего на несколько минут, и он может заплатить за это жизнью, ибо его недюжинная сноровка, энергия и присутствие духа несомненно окажутся бессильными в борьбе с разъяренной стихией, возвращающейся в свои владения, неумолимой, как законный хозяин, на время лишенный своей собственности.
Эта опасность насильственной смерти сочетается с мелкими неприятностями в виде всяческих болезней: насморков, катаров, воспалений легких и ревматизмов — естественного следствия неподвижного положения, в котором вынужден пребывать охотник. Съежившись в каком-нибудь тесном укрытии поблизости от водного пространства, оглохнув от завывания ветра и рева волн, закоченев от промозглой сырости, постепенно проникающей в тело и пронизывающей его от кожного покрова до мозга костей, человек терпеливо ждет, когда свет луны, прячущейся за облаками, позволит ему взять на мушку дичь, спящую в нескольких шагах от него.
Откуда родом был папаша Шалаш? Никто этого не знал. Как его звали на самом деле? Никто об этом не ведал.
Однажды, двадцатью годами раньше, он явился в эти места из департамента Манш с дробовиком на плече, в сопровождении своего спаниеля.
Пришелец обосновался в хижине, которую люди называли Шалашом, и, словно какой-нибудь Монморанси или Куси, принял имя своего владения.
И вот, поскольку старик никогда не причинял никому вреда или зла, поскольку днем он спал, а ночью охотился, исправно относил добычу скупщику дичи из Исиньи, получал за нее деньги и расплачивался наличными за свои скудные покупки, люди не питали к папаше Шалашу ни расположения, ни неприязни; в конце концов, они позволили ему распоряжаться собственной жизнью по своему усмотрению, не замечая его, как и он не обращал внимания на них.
Вот какого учителя приобрел благодаря своему охотничьему чутью молодой Монпле; этот наставник быстро показал ему, как выслеживать утку, научил его брать на мушку кулика лишь после того, как птица опишет третий круг, и стрелять в любую морскую птицу не раньше чем он сможет отчетливо увидеть ее глаз.
II
ДЕРЕВЕНСКИЙ ШЕЙЛОК
Это исключительное физическое воспитание способствовало развитию в характере нашего героя и без того уже достаточно дикарских свойств; читатель, конечно, догадался, что наш герой не кто иной, как Ален Монпле.
Он воспылал к плаванию, рыбной ловле и охоте неистовой страстью — одной из тех, что крайне редко встречаются в наши дни.
Подросток посвящал этим занятиям не только часть дневного времени, но и ночные часы.
Для юного наследника Хрюшатника не существовало ни распорядка дня, ни традиционных привычек: он не придерживался каких-либо правил ни в отношении еды, ни в том, что касается сна. Ален садился за стол, когда испытывал чувство голода, и ложился в постель, когда ему хотелось спать; не считая минут, уходивших на три обильные трапезы в день, и нескольких часов сна — а спал охотник где придется, — все остальное время он предавался своим излюбленным занятиям.
Разумеется, ни о какой работе не могло быть и речи.
Ален умел читать и писать — вот и все его познания; он более или менее освоил два основных арифметических действия, но так и не сумел осилить таблицу умножения. Не стоит и говорить о том, что деление осталось для него совершенно неведомым и неисследованным материком.
Между тем три страстно любимых занятия, которые отнимали все время у молодого Монпле, неспособны были всецело поглотить эту необузданную натуру. Им завладели смутная тоска и беспричинная грусть; привычные развлечения больше его не радовали. Ален ощущал, что в его жизни чего-то не хватает. Он не смог бы точно сказать, чего именно, поскольку это состояние было ему совсем незнакомо.
Такое тягостное чувство посетило юношу, когда ему было лет шестнадцать-семнадцать, однако в этом возрасте он полностью преобразился.
Семнадцатилетний Ален благодаря своему высокому росту, крепкому телосложению и свежему цвету лица был по нормандским меркам видным малым. Так что девицы из Мези, Гран-Кана и Сен-Ло быстро просветили парня относительно причины мучившей его неясной тоски, поскольку теперь он созрел для того, чтобы это узнать.
В восемнадцатилетнем возрасте Ален Монпле уже был отъявленным ловеласом — он волочился за всеми красотками, щеголяющими в бесенских колпаках. Он также не стал замыкаться в кантональном кругу девиц Мези, Гран-Кана и Сен-Ло, а перекинулся на прелестниц из Ла-Камба, Форминьи и Тревьера, расширив фронт своих любовных атак до самой Ла-Деливранды.
Ален представлял собой тогда что-то неопределенное; он был одним из тех сельских франтов — полудеревенщина, полубуржуа, что встречаются порой в маленьких городках и больших деревнях; подобные субъекты слоняются без пиджаков, в рубашках или рабочих блузах по кабакам, кафе и улочкам своих населенных пунктов, подобно тому как отпрыски богатых парижских семейств расхаживают в желтых перчатках, с сигарами в зубах по тротуарам бульвара Итальянцев и будуарам квартала Бреда.
Услышав определение "ловелас" — ибо имя героя Ричардсона благодаря гибкости языка стало нарицательным, — итак, услышав определение "ловелас", которым мы наградили Алена, читатель не должен полагать, что любовь придала его внешнему виду лоск, облагородила его манеры и смягчила характер.
Нет, любовь, распространенная в кругах, в которых вращался Ален Монпле, не способна была преобразить его до такой степени; нет, молодой человек из Хрюшатника, в отличие от Фаона, отнюдь не получил от Венеры расслабляющего и благоухающего снадобья, которое свело с ума пылкую Сафо. Ален отличался какой-то дикой красотой и был силен, как титан; то, чего он искал, то чего он домогался, то, что он получал в результате своих поисков и домогательств, было вовсе не нежным чувством, не излиянием одного сердца в другое, а всего-навсего грубым удовлетворением низменных желаний.
Его жизнь протекала в плотских утехах, рыбной ловле совместно с папашей Эненом (в свое время мы расскажем об этом человеке), а также в охотничьих походах по болотам в окрестностях Виры и грядам скал Вейской бухты.
Разумеется, Жан Монпле, безгранично любивший сына, по мере растущих потребностей возмужавшего юноши все чаше развязывал свой денежный мешок.
Однако вскоре эти растущие потребности сына приобрели невиданный размах!
Прошло еще немного времени, и непомерные расходы стали пугать Жана Монпле. Он несколько раз принимался робко укорять сына, но молодой человек, с детства привыкший подчиняться лишь собственным прихотям, неспособен был прислушиваться к словам отца и, по сути, не обратил на них никакого внимания.
Таким образом, Ален отнюдь не перестал после купаний, поездок на охоту и рыбную ловлю, куда он приглашал всех своих дружков, изображать из себя амфитриона в здешних злачных местах, а также опустошать лавки всех окрестных ярмарок, чтобы не утратить расположения красоток департаментов Манша и Кальвадоса.
Поскольку товарищи Алена из Мези, Жефосса и Сен-Пьер-дю-Мона — а это были труженики, в поте лица добывавшие себе и своим близким средства к существованию, — не всегда соглашались пожертвовать работой в угоду прихотям бездельника и нередко отказывались разделить с ним бремя праздности, молодой Монпле, прежде рыскавший в поисках красивых подружек, теперь принялся искать веселых приятелей. Он прочесывал все окрестности, включая Исиньи, Бальруа и даже Байё, где в качестве собутыльников находил всяких писцов из контор нотариусов, а также чиновников и приказчиков, всегда готовых забросить службу, как только речь заходила о том, что в провинции называют пирушкой.
Но, каким бы приятным ни было общество этих господ, следует признать, что оно было разорительным для Алена. Угощая своих дружков, а затем играя с ними в бульот и экарте, он, как уже было сказано, нещадно злоупотреблял ради них отцовской щедростью и постепенно увяз в долгах, которые не спешил отдавать. Кредиторы некоторое время выжидали, зная, что папаша Монпле рано или поздно выручит сына, если тот не сможет расплатиться; но в конце концов им надоело бесконечно ждать милости со стороны должника и они нагрянули с жалобами в Хрюшатник.
Когда Жану Монпле предъявили первые счета, он не стал особенно возмущаться и погасил долги, не подозревая, какая лавина цифр грозит обрушиться на него.
Удовлетворенные кредиторы оповестили своих неудовлетворенных собратьев, каким образом им удалось вернуть деньги, после чего между Хрюшатником и близлежащими городами и деревнями потекли потоки заимодавцев.
Сколь бы нежно ни любил сына отец-нормандец, его нежная любовь почти всегда исчезает перед лицом финансового вопроса, уступая место холодному расчету.
Жан Монпле был настоящим нормандцем, и, чтобы навсегда покончить с претензиями кредиторов, повадившихся приезжать в Хрюшатник, он заявил через местную газету, что всякий волен открывать Алену Монпле кредит или ссужать его деньгами, но он, Жан Монпле, отныне отказывается признавать и тем более возвращать любые долги своего сына.
Это был героический способ сопротивления, но он не произвел на кредиторов должного впечатления.
Многие дальновидные малые, дающие взаймы детям богатых родителей, успокаивают себя мыслью, что сын, лишенный средств при жизни отца, несомненно получит после его смерти наследство; эти люди столь искусно умеют рассчитывать сложные проценты, что, чем дольше их заставляют ждать возвращения вложенной суммы, тем большую оказывают им услугу.
Ален, потребности которого за три года полного безделья возросли настолько, что денежное пособие, выдаваемое ему отцом, не могло уже их удовлетворить, не смирился со своей участью; напротив, он взбунтовался.
Юноша принялся искать какого-нибудь услужливого ростовщика, из числа тех, о которых мы говорили, и, к сожалению, его взору недолго пришлось блуждать по сторонам, прежде чем опуститься на того, кто был ему необходим.
Нужный человек обитал в самом Мези, то есть в непосредственной близости от Монпле.
Этого заимодавца-доброхота звали Тома Ланго, и он был главным бакалейщиком в деревне.
Следует рассказать, что представлял собой Тома Ланго, которому предстоит сыграть немаловажную роль в данном повествовании.
Тома Ланго был младший сын одной рыбацкой семьи из Сен-Пьер-дю-Мона. Природа, не слишком благоприятствовавшая ему в смысле происхождения, к тому же жестоко обделила его в смысле физических данных. Маленький Тома был слабым, рахитичным и хромым ребенком; его нога, вывернутая внутрь в области колена, неизменно создавала впечатление, что при ходьбе она собирается описать полукруг; ее владельцу лишь ценой неимоверных ухищрений удавалось придерживаться прямой линии и добираться до намеченной цели. Тщедушное телосложение в сочетании с увечьем предопределило трудное детство мальчика, ибо он жил среди людей, больше всего ценивших физическую силу.
Тома был вынужден сносить грубое обращение отца, видевшего в нем лишь бесполезного едока, и братьев, за которыми он шпионил, будучи не в силах стать их товарищем по играм; юный Ланго мог лишь издали наблюдать за своими маленькими приятелями, презрительно дразнившими его "Косолапый", и эта кличка пристала к нему навсегда. Вследствие того, что мальчику пришлось преждевременно изведать гнет страданий, его характер стал замкнутым, неискренним и завистливым; в то же время из-за этих страданий Ланго твердо решил разбогатеть и избавиться таким образом от притеснений, издевательств и стыда, казавшихся ему вечным уделом нищих и убогих на этом свете.
В пятнадцать лет калека, которого не пугали ни расстояние, ни собственное увечье, отправился в Париж с двумя пятифранковыми монетами в кармане.
Как он проделал такой путь?
Одному Богу это известно!
Тома шел пешком, ехал на пустых повозках и возвращающихся на почтовую станцию лошадях, питался одним хлебом и пил только воду, а ночлег вымаливал себе в качестве подаяния.
Путник столь бережно расходовал по дороге свои средства, что, когда он пришел в столицу, у него от двух пятифранковых монет еще оставалось восемь ливров и одиннадцать су.
Сменив множество занятий — он был разносчиком газет и рассыльным, чистильщиком сапог, подбирал с земли сигарные окурки и театральные контрамарки, — юный Ланго мало-помалу, лиард за лиардом, скопил сумму в сто франков, необходимую, по его мнению, для того, чтобы заложить основы состояния, о котором он мечтал.
Имея в запасе эту сумму, Тома нацепил бляху и принялся торговать старым тряпьем.
Жадность овернца, соединенная с коварством нормандца, столь исправно помогала ему в этом деле, что он быстро преуспел, обогнав всех своих собратьев по ремеслу.
Кроме того, ему пригодилось знание человеческой психологии.
Тома Ланго с поразительным чутьем мог распознать мучительную тревогу нищеты или страстную жажду наслаждений за напускным безразличием, с которым продавцы предлагали ему свой товар.
Он извлекал выгоду из всего — из нужды, из страстей. Торговец играл на тревогах своих клиентов, подобно тому как кошка играет с мышкой или ястреб — с жаворонком. Этот мелкотравчатый Шейлок, как и венецианский еврей, даже имени которого он никогда не слышал, порой ради забавы вытягивал из несчастных их сокровенные тайны, не набавляя при этом ни гроша сверх той цены, которую он устанавливал за предложенное ему тряпье. Напротив, обнаружив у человека больное место, обнажив его рану, Тома как бы случайно запускал туда свою тяжелую когтистую лапу, а затем слизывал кровь, оставшуюся на кончиках его пальцев.
Короче говоря, он ни разу не уходил с поля битвы, не заключив превосходной сделки.
Тома Ланго занимался этой торговлей десять лет.
В течение этого времени скупец вел в Париже такой же образ жизни, как и в своей родной деревне; в течение этого времени он продолжал ежедневно оказывать честь своим присутствием убогой харчевне под открытым небом, где когда-то, явившись в Париж, впервые отобедал за четыре су; за десять лет он ничего не изменил в своем привычном меню; на протяжении десяти лет ему хватало на питание пятнадцати су в день.
Уродство вместе с угрюмым нравом не позволяли калеке рассчитывать на безвозмездную и бескорыстную любовь к себе, а покупать подобие любви он не желал, считая себя недостаточно богатым.
Таким образом, Тома Ланго никогда никого не любил и не был любим.
С развлечениями дело обстояло так же, как и с любовью, — торговец посещал лишь народные гулянья, заседания суда присяжных и таможенную заставу Сен-Жак.
Энергия, с которой Тома Ланго стремился к одной-единственной цели, закалила его, и он жил отшельником среди осаждавших его искушений; соблазны современного Вавилона отскакивали от нормандской шкуры, не оставляя на ней царапин.
Как-то раз скупец, пересчитав свои кровные сбережения, счел их вполне достаточными; он улыбнулся деньгам, собрал веши и вернулся в родные края, проделав обратный путь с той же бережливостью, с какой он оттуда пришел.
Тома Ланго скопил пятнадцать тысяч франков.
Он не стал возвращаться в Мези, где решил обосноваться, с триумфом: нет, он вернулся туда тихо, в вечернее время, в ветхой одежде, на которую не польстился ни один покупатель. Тома попросил одного из своих братьев, который был одновременно ризничим и слугой здешнего приходского священника, найти для него пристанище.
Ризничий попросил кюре приютить Тома Ланго на два-три дня.
Кюре удовлетворил его просьбу.
В течение трех дней Тома Ланго вместе с братом обитал в скромном жилище священника.
За эти три дня скряга не истратил ни одного сантима.
Его возвращение осталось почти незамеченным, разве что две или три местные сплетницы мимоходом, в конце своей беседы промолвили:
— Знаете, Жанна (или: знаете, Жавотта), а ведь Тома Ланго, Косолапый из Сен-Пьер-дю-Мона, вернулся домой.
Родители скупца как раз недавно умерли.
Поскольку его братья и сестры могли догадаться о том, что калека разбогател, он, чтобы отбить у них охоту обращаться к нему за помощью, проявил требовательность, жадность и несговорчивость при дележе нескольких рыболовных снастей, составлявших все имущество покойных родителей; при этом Тома проявил себя настолько требовательным, жадным и несговорчивым, что даже поссорился с братом-ризничим, делившим с ним комнату.
Таким образом, он оказался на улице.
Тогда скупец отправился в Хрюшатник и попросил у Жана Монпле разрешения ночевать в одном из закутков его фермы до тех пор, пока он не подыщет себе подходящего жилья; затем он осведомился у хозяина, не наймет ли тот его на несколько дней батрачить за еду.
Жан Монпле, считавший Тома Ланго чуть беднее Иова, ответил, что если тот просит приюта на короткий срок, то он может поселиться либо в крытом амбаре, либо в пустующей хижине пастуха.
Фермер также позволил просителю бесплатно питаться вместе с пахарями и пастухами.
Разве можно было заставлять бедного калеку работать?
Тома Ланго прожил в Хрюшатнике две недели.
По истечении этого срока скупец поблагодарил Жана Монпле и, сообщив ему, что он собирается приобрести небольшую бакалейную лавку, попросил стать его постоянным клиентом.
Фермер пообещал это своему гостю.
Косолапый осыпал его благословениями и заверениями в признательности, а затем, пятясь, ушел.
В самом деле, за шестьсот франков — эта сумма должна была выплачиваться в три приема, с интервалами в полгода — скряга купил бакалейную лавочку у одной бедной вдовы, которой это заведение не приносило никакой прибыли, и она решила наняться к кому-нибудь в услужение; правда, когда пришло время делать первый взнос, Ланго предложил женщине выплатить всю сумму сразу в обмен на скидку в пятьдесят франков.
Вдова, вынужденная покинуть родное селение, согласилась; таким образом, бакалейная лавочка, в сущности, обошлось Тома Ланго в пятьсот пятьдесят франков.
Однако плата, которую вдова назначила за свое жилье, оказалась для скупца непомерно высокой. Он снял на площади Мези, напротив церкви, обветшалый безобразный дом и сам произвел в нем необходимый ремонт. Постепенно он увеличил круг своих торговых операций, вкладывая терпение дикаря в это расширение торговли, которое рано или поздно должно было стать явным. В конце концов, после десятилетних усилий, он избавился от всех своих конкурентов. Тесная убогая лавчонка превратилась в большой магазин, где имелось все, что пользовалось спросом у селян: хлопчатобумажные ткани и лемехи для плуга, пряники и деготь, чугунные сковороды и четки.
Однако, поскольку далеко не весь капитал Тома Ланго был вложен в торговлю, он решил заняться тем видом финансовой деятельности, в которой стыдливость заемщика обычно соответствует скрытности заимодавца; таким образом, помимо законной патентованной торговли, он стал тайком промышлять в качестве ростовщика, почти ничем не рискуя и много выигрывая взамен.
Впрочем, юридические познания калеки были весьма ограниченными.
Он заключал лишь договоры о продаже с правом выкупа в установленные сроки, получая при этом надежный залог, втрое превышающий сумму кредита.
Так, если у крестьянина было поле, цена которого составляла тысячу пятьсот франков, то Косолапый ссужал ему пятьсот франков и заранее прибирал поле к рукам.
Если же крестьянин возвращал долг в назначенный срок, то скупец забирал свои деньги с процентами и отдавал землю, ворча при этом, подобно собаке, у которой отнимают кость.
Если же крестьянин не расплачивался в условленный день и час с точностью до минуты, то Ланго вцеплялся в свою добычу и тянул ее к себе.
Точно так же, когда какой-нибудь рыбак из простого матроса хотел стать капитаном, Тома Ланго, ценивший честолюбивых людей и всегда стремившийся им помочь, покупал ему баркас и брал в качестве залога все сбережения рыбака; затем он передавал судно просителю с условием, что остальная сумма будет выплачиваться ему по частям равномерно, в определенное время.
Если хотя бы одна дата платежа оказывалась просроченной, то по требованию кредитора судно снова становилось его собственностью, и предыдущие взносы также оставались у него. Одна такая трухлявая, латаная-перелатаная посудина принесла своему владельцу прибыль, на которую можно было построить прекрасный трехмачтовый корабль.
Разбогатев на этом промысле, Тома Ланго, в отличие от Жана Монпле, все же не чувствовал себя счастливым.
Чужой достаток, а также уважение, с которым люди относятся к состоянию, нажитому честным путем, оскорбляли его самолюбие.
Особенно сильно Косолапый завидовал хозяину Хрюшатника, которому он не мог простить, как тот предоставил ему на две недели в виде милостыни бесплатный кров и стол; проходя мимо фермы, калека всякий раз окидывал прекрасные поля с тесными рядами высоких колосьев алчным, полным ненависти взглядом.
Он неизменно вздыхал, глядя на яблони фруктового сада, гнущиеся под тяжестью плодов, и плакал от досады, видя, какая густая сочная трава выросла на лугах, где пасутся коровы и быки фермера: из зарослей выглядывали лишь головы животных с безобидными рогами и большими задумчивыми удивленными глазами.
Удаляясь от этого эдема, ростовщик десятки раз оглядывался назад и спрашивал себя, почему такое богатство принадлежит какому-то Жану Монпле, а не ему, Тома Ланго; скупцу казалось, что он стал жертвой грабителей, укравших у него и эти плодородные земли, и эту большую ферму, и этот тучный скот.
Однако Косолапый, как его называли — да простит нам читатель, что это прозвище появляется порой из-под нашего пера, — быстро уловил своим удивительным нюхом, что Ален с его легкомысленным нравом, с его скверным воспитанием и, как следствие, с его беспорядочным поведением может помочь ему, ростовщику, воплотить свое заветное желание в жизнь.
Несмотря на то что два столь разных человека вряд ли были способны проникнуться друг к другу приязнью, ростовщик действовал так искусно, что вскоре снискал расположение молодого бездельника.
Тома старался вызвать приятеля на откровенность и, проведав о том, что тому нужны деньги, забыл ради него о своей извечной подозрительности и скаредности: одному лишь Алену он стал выдавать беспроцентные кредиты, не требуя от него взамен векселей; как следует подцепив жертву на крючок, ростовщик постепенно умерил свою щедрость и, в конце концов, когда юнец в очередной раз стал настойчиво просить деньги, заявил, что его касса пуста.
Тем не менее Косолапый раздобыл для приятеля необходимую сумму, но, по его словам, сам был вынужден ее одолжить; кабальные условия мнимого кредитора вскоре начали с избытком окупать бескорыстие, которое первоначально разыгрывал Тома Ланго.
Кончики пальцев Алена Монпле оказались зажатыми в вальцы.
III
БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ АЛЕНА МОНПЛЕ
Вступив однажды на путь безрассудного мотовства и кабальных займов, Ален Монпле уже не мог остановиться.
Когда у него появлялась очередная из беспрестанно возникающих потребностей, он обращался к Тома Ланго.
Просьбы такого рода возобновлялись так часто, что в один прекрасный день, то ли действительно исчерпав все средства, то ли руководствуясь расчетом, ростовщик как бы между прочим намекнул клиенту, что тот напрасно не требует от Жана Монпле своей доли материнского наследства.
И тут Ален вздрогнул, как будто его укусила гадюка.
Молодой человек ненадолго задумался, а затем ответил, что его мать, будучи простой крестьянкой, не принесла своему мужу никакого дохода и потому было бы нечестно с его стороны требовать от отца раздела имущества.
Как ростовщик ни прельщал должника более чем кругленькой суммой, которая должна была ему достаться после дележа, как ни старался внушить ему желание увидеть Париж и отведать имеющихся там бесчисленных развлечений, доступных бравому парню с туго набитым кошельком, Ален продолжал отвечать отказом на эти блестящие предложения.
Дело в том, что наш герой, несмотря на все свое легкомыслие, в сущности, был неплохим парнем. Он любил отца и не мог умышленно, не будучи в угаре какого-нибудь страстного чувства, причинить ему столь большое горе.
Однако вопреки воле Алена обстоятельства заставили его катиться вниз по наклонной плоскости, на которую его толкал Ланго.
Как-то раз к Жану Монпле явился еще один кредитор и стал грубо требовать от фермера денег, пригрозив ему судебным уведомлением, наложением ареста на имущество и его продажей, а тот рассмеялся в лицо просителю, заявив, что его сын Ален — оборванец без гроша за душой, ради которого он не даст обобрать себя догола; будущий владелец Хрюшатника, случайно услышав эти слова, был жестоко уязвлен; как только кредитор удалился, он, в свою очередь, вошел к Жану Монпле и прямо сказал, что он, Ален, не настолько беден, как хотел его представить отец, раз у него еще осталось материнское наследство, о котором ему никогда не говорили.
Услышав столь неожиданное требование, в котором сквозили одновременно укор и угроза, и без того распаленный Жан Монпле окончательно рассвирепел.
Ален, возможно и не лишенный чувства сыновней любви, но не умевший его выразить, ответил на приступ отцовского гнева неуместной грубостью, и старый земледелец, выведенный из себя такой неблагодарностью, проклял сына и выгнал его из дома.
И тогда Ален Монпле отправился к Тома Ланго, чтобы поведать ему о своих невзгодах.
Он застал ростовщика в состоянии крайней досады.
Косолапый не сумел как следует припрятать свое богатство, и его блеск просочился сквозь щербатые стены и закопченные окна его жилища.
Поскольку оконные стекла и стены проявили неспособность сохранить тайну, на скупца посыпались просьбы его бедных родственников.
До сих пор Ланго доблестно противостоял домогательствам подлинной нужды, вполне оправданным в глазах общества, но вовсе неоправданным в его более проницательных и более придирчивых глазах, однако неожиданно муж одной из его племянниц, местный бедный рыбак, погиб во время шторма, оставив жену вдовой без всяких средств и с семи-восьмилетним ребенком на руках. Мэр Мези, тронутый этим страшным горем, самолично явился в лавку Ланго и призвал его во имя родственных уз и христианского милосердия сделать что-нибудь для несчастной Жанны Мари (так звали вдову).
Бакалейщик, рассчитывавший в это время занять какое-нибудь место в здешнем муниципалитете, не посмел отказаться, как ему этого ни хотелось, но постарался, чтобы милосердие оказалось для него как можно менее убыточным.
До сих пор Ланго один управлялся со своим небольшим хозяйством и многочисленными торговыми хлопотами, и можно было лишь гадать, как ему это удавалось, ведь он не умел ни читать, ни писать, и знал только, как поставить свою подпись.
Так, к примеру, обладая удивительной памятью, Тома Ланго производил все вычисления в уме.
Впрочем, он никогда не отпускал жителям Мези повседневные товары в кредит, и поэтому ему не нужны были приходно-расходные книги, а векселя и заемные письма подписывали те, кто их составлял.
И все же, как нетрудно понять, по мере того как дела ростовщика шли в гору, все эти расчеты становились страшной головоломкой.
К тому же Тома Ланго старел; он чувствовал, что ему требуется помощь по домашнему хозяйству, и, когда мэр обратился к скупцу с просьбой, тот уже почти решился позволить себе роскошь завести служанку.
Итак, бакалейщик торжественно объявил представителю власти, что приютит у себя племянницу Жанну Мари с ее осиротевшим ребенком.
То были два лишних едока; правда, им не надо было платить жалованье, но этот довод, исходящий из-под нашего пера, был, вероятно, плохо осознан ростовщиком: он, несомненно, считал сделку не особенно выгодной, ибо, как уже было сказано, пребывал в скверном расположении духа, когда Ален Монпле отворил дверь его магазина.
Лавка бакалейщика была убогой: справа от входа размещался прилавок, за ним — камин, который не топили ни зимой ни летом; в глубине, скрытая полутьмой, стояла кровать, а остальное пространство вдоль стен занимали полки и ящики, снабженные ярлыками.
В этом заведении и обретался Тома Ланго, округляясь, как гриб, и словно покрываясь плесенью.
Впрочем, клиент Ален принес Ланго добрую весть: он сообщил, что поссорился с отцом.
Этого было достаточно, чтобы скверное настроение ростовщика полностью развеялось.
Тома заставил юношу дважды рассказать обо всех обстоятельствах ссоры, а затем беззвучно стал потирать руки, гримасничая и повторяя:
— Как обидно… Как жаль… Прискорбно видеть, что отец и сын дошли до такой крайности…
Однако эта крайность вполне устраивала Косолапого; имея уже долговые обязательства и рассчитывая их еще приумножить, он уже грезил, что сидит в Хрюшатнике у большого камина, потягивая маленькими глотками сидр из плодов знаменитого фруктового сада; чтобы осуществить эту мечту, ростовщик, притворно сожалея о случившемся, принялся подстрекать сына к войне с отцом.
Как все люди с сангвиническим темпераментом (а они, как правило, вспыльчивы и отходчивы), Жан Монпле, едва его ярость утихла, пожалел о том, что он совершил в порыве гнева. Спохватившись, старик взял назад свои слова прежде чем Господь Бог — по крайней мере, он на это надеялся — успел запечатлеть их на скрижалях правосудия; отозвав свое проклятие и уверовав, будто сын должен был почувствовать, что оно не висит больше над его головой, Жан Монпле принялся ждать Алена, чтобы раскрыть ему свои объятия, прижать к своей груди и попросить у него прощение за обиды, которые непослушный ребенок нанес отцу.
Если бы не Тома Ланго, отец, возможно, принял бы сына в свои раскрытые объятия и все было бы забыто!
Однако вместо Алена к ограде плодового сада, окружавшего Хрюшатник, явился судебный пристав.
Этот человек, к которому юноше посоветовал обратиться Тома Ланго, принес фермеру судебное уведомление и исковое заявление о разделе имущества, составленное по всем правилам.
Жан Монпле был потрясен. Он, не проронивший ни единой слезинки со дня смерти жены, заплакал. Затем, когда его слезы иссякли, старик два часа сидел перед этим жалким клочком бумаги, испещренным безобразными каракулями, вертя его в руках, и был подобен заключенному, которому вручили смертный приговор: он недоумевал, каким образом столько неблагодарности могут вместить какие-то несколько строчек.
О! Я готов поклясться, что при виде этого клочка бумаги Жана Монпле пронзила сильная и глубокая боль! Эта боль была столь сильной и глубокой, что она заглушила дух алчности, присущий всем землякам фермера.
Несчастный отец забыл, что он — нормандец, и, покачав головой как бы в ответ на свои мысли, решил не судиться с собственным отпрыском.
Старик разделил свою собственность на две части, обратил одну из них в деньги и отнес их поверенному Алена, мелкому адвокату из Исиньи по имени Ришар, поручив ему передать сыну, что он, Жан Монпле, так долго берег этот капитал лишь потому, что надеялся его приумножить, чтобы в будущем передать своему наследнику.
Окончательно осиротев, ибо теперь Жан Монпле потерял и жену и ребенка, он уединился в Хрюшатнике, утратившем свой прежний облик после ухода неблагодарного сына — души родного дома и отрады отцовского сердца.
И вот, еще недавно веселый и жизнерадостный человек с неизменной улыбкой на лице, а ныне столь же печальный, угрюмый и отчаявшийся, бедняга стал жить в уединении, а вернее — в одиночестве.
Весть о том, что Ален отправился в Париж, усугубила страдания отца.
В самом деле, сын фермера уехал, ибо Тома Ланго полагал, что жизнь в провинции недостаточно быстро доводит до разорения.
Для этого нужен был Париж, подобный водовороту и пучине одновременно, Париж, опьяняющий человека и засасывающий его в свою бездну.
Таким образом, Ален оказался в Париже и весело зажил там на деньги отца.
Мы не станем описывать его парижскую жизнь; к тому же суть нашей книги состоит отнюдь не в этом, а мы все еще пребываем в предисловии к ней, от силы — во вступлении.
История всех блудных детей одинакова: бесконечные пиры, игра и женщины.
Ален Монпле провел в Париже один год; отведите четыре месяца на Золотой дом, четыре месяца на Фраскати, четыре месяца на квартал Бреда, и вы получите более или менее полное представление обо всех местах его пребывания за истекший период.
Грубый, нетерпимый и вдобавок невежественный, Ален не мог не навлечь на себя неприятностей, то и дело ввязываясь в опасные ссоры.
У него произошли две серьезные стычки.
Первая — на балу в Опере.
Будучи пьяным, наш герой оскорбил молодого человека, в спутнице которого, как ему показалось, он узнал свою любовницу.
Ален Монпле умел только одно: драться. Поэтому он ринулся в бой.
Нормандец был силен, как бык. Юноша, на которого он набросился, согнулся под тяжестью его удара и даже не попытался дать обидчику сдачи.
Однако на следующий день, около семи часов утра, двое неизвестных нашему герою молодых людей передали ему свои визитные карточки.
Ален Монпле поднялся с постели, недовольно ворча.
Оба незнакомца оказались секундантами юноши, которого он оскорбил на балу в Опере.
Ален Монпле, отправившийся после этого происшествия ужинать в Золотой дом, уже забыл и о бале в Опере, и о женщине в маске, и о недавней ссоре.
Молодые люди вежливо ему обо всем этом напомнили, и в голове его мало-помалу прояснилось. Затем ему объяснили, что в Париже все обстоит отнюдь не так, как в Мези, где достаточно быть самым сильным, чтобы все признали твою правоту; что между порядочными людьми приняты иные правила поведения, и их следует соблюдать, а для устранения неравенства сил цивилизация изобрела нехитрые орудия (одни из них называются шпагами, другие — пистолетами), благодаря которым пигмей ни в чем не уступает великану, а слабый — сильному.
Вследствие этого г-н Эктор де Равенн, признававший превосходство молодого крестьянина в силе и не желавший сражаться с ним в кулачном бою, отстаивал свое право отплатить обидчику другим способом.
Таким образом, Алену Монпле предложили выбрать себе двух секундантов и явиться на следующий день в девять часов утра на аллею Ла-Мюэтт.
Он мог захватить с собой шпаги; его противник собирался принести свои.
Жребий должен был решить, чьим оружием воспользуются дуэлянты.
Во время этих разъяснений Ален Монпле понял, что попал в серьезное положение и что речь шла о его жизни.
В Мези все было проще, особенно для него.
Когда там случалась ссора, спорщики дрались на кулаках и отделывались либо сломанным зубом, либо подбитым глазом. Этим все и ограничивалось.
В Париже, как видно, дело обстояло иначе.
Между тем Ален находился в Париже, а не в Мези, в департаменте Сена, а не в департаменте Кальвадос.
Стало быть, ему следовало смириться со здешними обычаями.
Молодой селянин был храбр.
Он и не подумал отказаться от предложенного ему поединка.
Однако Ален никогда не брался за шпагу, и ему даже в голову не приходило, что когда-нибудь представится случай воспользоваться этим оружием.
Он также никогда не брался за пистолет, но зато весьма крепко держал в руках ружье и превосходно им владел.
Таким образом, сын фермера понимал, что между ружьем и пистолетом довольно много общего, и по крайней мере с помощью пистолета он мог бы защитить свою жизнь.
Поэтому Ален заявил, что он хочет биться на пистолетах, а не на шпагах.
Но и связи с этим ему изложили второе правило, которое было столь же логично, как и первое.
Вот в чем оно состояло: тот, кто оскорбляет другого или первым пускает в ход кулаки, оказывается из-за причиненной обиды или примененной силы в полном подчинении у своего соперника; в противном случае тот, кто чувствует свое превосходство в каком-нибудь виде оружия, мог бы безбоязненно оскорблять или бить кого угодно, а затем предлагать свое оружие.
Таким образом, шпаги и пистолеты — чудесное изобретение, уравнивающее наши физические возможности, — стали бы в этом случае совершенно бесполезными.
Ален Монпле был до этого в выгодном положении по двум причинам: он нанес г-ну Экторуде Равенну оскорбление и первым его ударил. Стало быть, обидчик присвоил себе два преимущества, а у его противника оставалось только одно преимущество — выбор оружия.
Господин Эктор де Равенн решил воспользоваться своим преимуществом и выбрал шпагу.
Ален Монпле попытался было высказать несколько соображений, но пришедшие заявили в ответ, что им поручено потребовать у обидчика сатисфакции, а не заниматься его воспитанием; если молодой человек сомневается в правильности сказанного ими, он может обратиться за разъяснениями к своим секундантам; если же ему и этого окажется недостаточно, он волен познакомиться с "Дуэльным кодексом" — превосходной книгой, изданной при содействии графа де Шато-Виллара, безупречного дворянина по происхождению, чести и отваге.
Оставался еще один способ уладить дело.
Молодому провинциалу было предложено принести свои извинения г-ну барону Экторуде Равенну в письменной форме и отнести все случившееся на счет состояния опьянения, в котором он, г-н Ален Монпле, пребывал в момент, когда им было нанесено оскорбление.
Однако при этих дерзких словах, произнесенных одним из секундантов г-на барона Эктора де Равенна, Ален Монпле поднялся с достоинством, которого от него не ожидали, и с улыбкой объявил друзьям своего противника, что он согласен драться на шпагах, и на следующее утро, в назначенный час, явится с двумя приятелями на аллею Ла-Мюэтт.
Двое молодых людей, уже начинавших посмеиваться над Аленом Монпле из-за его невежества, увидели, что за этим невежеством таится отвага, и, перед тем как уйти, попрощались с нашим героем с учтивым почтением, которое неизменно внушают людям мужественные натуры.
В это самое время Ален Монпле ждал двух приятелей к завтраку.
Приятели пришли в урочный час.
Гостеприимный хозяин поведал им свою историю.
Это были довольно вульгарные люди, как и прочие знакомые, которыми Ален обзавелся в Париже, но у них все же был опыт в такого рода делах, и они подтвердили своему подопечному — Ален Монпле попросил их быть его секундантами, — что секунданты его противника сказали ему чистую правду.
Оставалось выяснить, что представляет собой Алан Монпле со шпагой в руке.
Некий учитель фехтования прославился в Париже своими уроками самозащиты, как он сам их называл; благодаря этим урокам он, возможно, спас жизнь двум десяткам дуэлянтов, плохо владевших шпагой или еще не державших ее в руках.
Этого учителя фехтования звали Гризье.
После завтрака друзья отправились на улицу Предместья Монмартр, в дом № 4.
Именно там известный мастер проводил свои занятия.
Один из секундантов Монпле был учеником Гризье.
Он рассказал учителю о том, что произошло.
— О! — вскричал тот. — А вот и наш молодой человек!
— Да, это я, — сказал Монпле.
— И вы никогда не держали в руках рапиру?
— Никогда!
— Вы боитесь?
— Чего?
— Что вас ранят?
— Да мне, — щелкая пальцами, ответил Ален, — мне на это наплевать.
(Впрочем, мы не вполне уверены, что он сказал: "Мне на это наплевать").
Учителю доводилось видеть столько юнцов, готовых ринуться в бой, что он мог делать психологические заключения об особенностях различных характеров.
Гризье признал, что любая опасность, сколь бы грозной она ни была, нисколько не пугает этого дикаря, как тот и сам утверждал.
— Вы желаете, — спросил мастер, — научиться у меня владеть шпагой так, чтобы вас не убили или чтобы вы отделались легкой царапиной?
— Я сомневаюсь, что мне удастся отделаться легкой царапиной, — ответил Ален, — ведь я ударил человека.
Гризье покачал головой.
— Скверная привычка, сударь! — заявил он. — Вообще-то воспитанные люди обмениваются лишь ударами шпаги.
— Да, я узнал об этом вчера. Но дело в том, что я не воспитанный человек, а простой крестьянин.
— Черт побери!.. Ну, и чего же вы хотите? Мне сказали, что вы собираетесь драться с господином Эктором де Равенном, а это известный фехтовальщик, один из лучших в Париже; вы же не станете требовать, чтобы я за один день подготовил вас настолько, что вы сумеете его убить, ранить или обезоружить?
— Я ничего не требую, кроме одного: не быть посмешищем во время дуэли. Поставьте меня быстрее в боевую позицию, больше я ничего у вас не прошу.
— Известно ли вам, что то, о чем вы просите — это верное средство ускорить вашу гибель?..
— Почему?
— Если господин Эктор де Равенн увидит по вашей неумелой стойке, что вы ничего не смыслите в фехтовании, он не захочет взять на себя грех убийства и ограничится тем, что ранит или обезоружит вас.
— Черт возьми! Именно этого я и не хочу. Пусть барон меня убьет, лишь бы он не выставил меня в смешном виде. Научите меня вставать в боевую позицию и больше ни о чем не беспокойтесь. Я не желаю держать шпагу, как палку или рукоятку метлы; остальное — дело хирурга, если барон меня ранит, или гробовщика, если он меня убьет.
— Было бы жаль, если бы он вас убил, — заметил Гризье, — ибо, сдается мне, что вы отважный малый!.. Что ж, берите рапиру и давайте учиться.
Четверть часа спустя Ален Монпле уже стоял в боевой позиции так, словно он провел в фехтовальном зале десяток лет.
Добившись столь блестящего результата, преподаватель перешел к искусству самозащиты.
Оно заключалось в умении отбивать атаки противника, отражать выпады и наносить ему ответные прямые удары.
Благодаря своим стальным мускулам Ален Монпле смог выдержать занятия в течение двух-трех часов.
— Следуйте моим указаниям, — сказал Гризье, — и вы отделаетесь несколькими царапинами.
Затем, повернувшись к секундантам, он произнес:
— Господа, ваше дело — прекратить бой, как только вы сочтете, что он может закончиться достойно.
Ален предложил учителю фехтования деньги.
— Сударь, — ответил тот, — я даю вам эти уроки бесплатно или, по крайней мере, не обязываю вас платить, пока вы не вернетесь с дуэли.
Ален взял руку мастера и крепко пожал ее.
— Прекрасная хватка! — воскликнул Гризье. — Какая досада, что с подобной хваткой вас не начали учить фехтованию в десять — двенадцать лет.
Выйдя от Гризье, Ален Монпле приобрел пару шпаг в магазине Девима.
Девим, будучи превосходным фехтовальщиком, придал этому оружию, обычно именуемому колишемардой, замысловатый изгиб и снабдил его рукоятку защитной чашкой.
Один лишь факт обладания подобным оружием свидетельствовал о том, что их владелец умеет обращаться с ним.
Вернувшись домой, Ален Монпле встал перед зеркалом в боевую позицию и остался весьма доволен собой.
На следующий день, в восемь часов утра, он уже был на ногах в ожидании своих секундантов.
Они прибыли с опозданием и привезли с собой юного студента-хирурга — знакомого своих друзей.
Без четверти девять Монпле, двое его секундантов и молодой хирург вступили на аллею Ла-Мюэтт.
Дуэль, как уже было сказано, была назначена на девять часов.
Без пяти девять в конце аллеи показался экипаж.
Он быстро приближался.
Из экипажа вышли трое молодых людей.
Это были г-н Эктор де Равенн и два его секунданта, явившихся накануне к Алену Монпле от имени своего друга.
Секунданты и противники учтиво раскланялись.
Затем секунданты сошлись, осмотрели шпаги дуэлянтов, признали их подходящими и подбросили в воздух луидор, чтобы выяснить, чье оружие первым будет пущено в ход.
Право выбора было предоставлено секундантам Алена Монпле.
Разумеется, они выбрали шпаги, приобретенные накануне у Девима.
Один из секундантов поднес их барону с перекрещенными клинками.
Эктор де Равенн взял одну из шпаг; другую же вручили Алену Монпле.
Барон приставил оружие к своему сапогу и взмахнул клинком, рассекая воздух.
Затем он заявил, обращаясь к своим секундантам:
— Какое превосходное оружие, оно изготовлено на редкость искусно: я считаю, что оно лучше моих шпаг.
— В таком случае окажите мне честь, господин барон, — произнес Ален Монпле, — прежде чем мы узнаем, как каждый из нас распорядится этим оружием, примите обе эти шпаги в подарок.
Барон молча поклонился в ответ. Воспоминание о пощечине, полученной им от Монпле, все еще сильно удручало его, и он не считал себя обязанным рассыпаться перед противником в любезностях.
После того как дуэлянты были самым тщательным образом поставлены в одинаково выгодные позиции по отношению к местности и солнцу, один из секундантов скрестил концы обеих шпаг, сделал шаг назад и сказал:
— Начинайте, господа!
Противники приняли положение "к бою".
Ален Монпле, помнивший наставления своего учителя, встал в позицию столь уверенно, словно он был не менее первоклассным фехтовальщиком, чем барон де Равенн.
Как и предсказывал Гризье, эта классическая поза погубила его.
Барон де Равенн отступил назад.
— Черт возьми! — воскликнул он, обращаясь к своим секундантам. — Почему вы сказали мне, что этот господин никогда не держал шпаги? Он защищается, как святой Георгий!
Затем, снова вставая в позицию, он заявил:
— Это сулит ему неприятности: я собирался только ранить его, а теперь мне придется его убить.
Послышался звон металла; все смотрели, как шпага барона крадется, словно уж, подбираясь к противнику; не давая ему опомниться, Эктор де Равенн согнулся, сделал выпад и выпрямился быстрее молнии, вспыхивающей и гаснущей на небе.
Рубаха Алена Монпле обагрилась кровью; некоторое время он держался на ногах, и казалось, что один-единственный удар был не в состоянии повергнуть силача на землю. Но в конце концов он зашатался, вытянул руки, уронил шпагу, на его губах выступила красноватая пена, и он рухнул на землю, подобно могучему дубу, срубленному под корень топором дровосека.
Секунданты смотрели на падение юноши с волнением, которое неизменно вызывает подобное зрелище.
Обернувшись к четырем секундантам, барон спросил:
— Господа, я вел себя как человек чести?
— Да, — ответили четверо секундантов в один голос.
— Мог ли я поступить иначе в силу нанесенного мне оскорбления?
— Нет, — последовал столь же единодушный ответ.
— В таком случае, я надеюсь, что пролитая кровь останется на совести виновника этой ссоры.
Секунданты сделали знак, говоривший о том, что это пожелание, очевидно, уже исполнилось; барон сел в экипаж вместе со своими секундантами, оставляя неподвижного, как труп, Алена на попечении двух его друзей и молодого врача.
IV
ВЗЯТЬ РЕВАНШ ЕЩЕ НЕ ЗНАЧИТ УЛАДИТЬ СВОИ ДЕЛА
Между тем Аден не умер.
Клинок шпаги наткнулся на ребро и слегка отклонился в сторону.
Пройдя сквозь грудные мышцы, он задел край правого легкого и вышел наружу под лопаткой. Это был прекрасный удар — четкий и прямой, но отнюдь не смертельный.
Однако раненый задыхался.
Следовало опасаться кровотечения.
Молодой доктор приподнял рукав Алена, обнажил его богатырскую руку и широко вскрыл ему вену, чтобы произвести обильное кровопускание.
Ален открыл глаза и стал дышать легче.
Но, как только он попытался пошевелиться, силы его покинули и он снова потерял сознание.
Рядом находился Мадридский павильон, и раненого отнесли туда.
В этом павильоне жил смотритель; он привык к таким визитам и в подобных случаях всегда готов был предоставить нуждающимся комнату.
Это приносило славному малому дополнительный доход.
К счастью, комната была свободной — последняя дуэль состоялась поблизости от павильона неделю назад, и раненый скончался тогда по истечении четверти часа.
Постель застелили чистым бельем и положили на нее Монпле.
Студент-хирург, у которого еще не было пациентов, мог всецело посвятить себя раненому.
Благодаря постоянному уходу и на редкость крепкому телосложению Алена его исцеление происходило с поразительной быстротой, особенно в глазах тех, кто не подозревает, как скоро заживают некоторые раны.
Через три недели после того, как его грудь была пробита насквозь, он встал на ноги.
Неделю спустя Ален щедро заплатил доброму смотрителю за месячный пансион.
Затем он вернулся домой, чувствуя себя столь же здоровым, как и вдень, когда отправился на дуэль.
Между тем одна мысль не давала молодому человеку покоя.
Ален думал, что если он не отплатит какому-нибудь парижанину той же монетой, то окажется последним, как говорили в коллеже.
А наш герой гордился тем, что никогда не был последним.
Он решил навестить своего учителя.
Гризье уже догадался о несчастье, постигшем его подопечного, так как тот долго не возвращался.
Воскресший из мертвых подробно рассказал ему обо всем, что произошло; совесть Гризье была чиста, ибо он предупреждал своего ученика, что, глядя на его превосходную боевую позицию, его соперник несомненно решит, будто за этим что-то таится.
Барон не ошибся: за этой позицией таилась собственная персона Алена Монпле.
Затем юноша напомнил учителю о том, что тот говорил о его способностях к фехтованию, и спросил Гризье, сколько, по его мнению, понадобилось бы времени, чтобы он, Ален, сравнялся с бароном Эктором в мастерстве.
Гризье как честный человек не хотел вводить ученика в заблуждение.
— Два года, — ответил он, — если усердно трудиться.
Ален Монпле не способен был в течение двух лет заниматься одним и тем же делом, что бы оно собой ни представляло.
— Что ж! — воскликнул он. — Я очень рад, что вы мне это сказали. Я лучше займусь стрельбой из пистолета: через неделю я буду знать в этом толк.
Гризье попытался отговорить молодого человека от занятий столь неблагодарным и грубым делом, как стрельба из пистолета.
— Шпага, — сказал прославленный мастер, — вот истинное оружие дворянина.
— О! Это меня не волнует, — ответил Монпле, — ведь я не дворянин, а крестьянин.
— А что если тот, с кем вам придется сразиться в будущем, выберет шпагу? — спросил Гризье.
— Пусть так! — воскликнул Ален. — Теперь я знаю, как это делается: оружие выбирает тот, кого оскорбили. Я подожду, пока оскорбят меня.
— Зачем?
— Чтобы драться, черт побери!
— Значит, вы все еще сердитесь на вашего противника?
— На господина Эктора де Равенна? Нисколько! Это славный парень; когда я был прикован к постели, он каждый день присылал слугу, чтобы справиться о моем здоровье. Я совершенно на него не сержусь; как раз наоборот: если бы мы были людьми одного круга, я предложил бы ему свою дружбу.
— Стало быть, вы затаили обиду на кого-то другого?
— Ни на одного человека! Вот только, как вы сами понимаете, я не желаю оставаться последним.
Ален ошибался: Гризье его не понимал.
Молодой человек и мастер сердечно пожали друг другу руки.
Затем Ален вскочил в кабриолет и велел отвезти его в тир Госсе.
Наш охотник рассуждал правильно: одно огнестрельное оружие похоже на другое, и вследствие этого сходства после первых выстрелов, когда пуля Алена слегка отклонилась от мишени, его рука приспособилась к пистолету, и с двадцать пятого раза он уже стрелял безупречно.
Неделю спустя молодой человек проделывал те же сложные фокусы, что и опытные посетители тира: одним выстрелом ломал курительные трубки, разбивал прыгающие яйца, дважды и трижды попадал в одну и ту же в цель.
Уверовав в свою меткость — на это потребовалось всего неделя, — Ален больше не появлялся в тире.
Всякое однообразие угнетало его.
Эту неуемную натуру привлекала беспорядочная бродячая жизнь праздного гуляки, завсегдатая кафе, театров и игорных домов.
Однако во время всех этих бурных развлечений Алену никак не представлялся случай взять реванш.
Он уже начинал склоняться к мысли, что ему придется вернуться в Мези, так и оставшись последним.
Наследство матери подходило к концу.
За неполных полтора года молодой человек растратил более ста пятидесяти тысяч франков.
Когда последние экю растаяли за очередным ужином, Ален снова обратился за помощью к Тома Ланго.
В обмен на вексель, выписанный по всем правилам, ростовщик одолжил юноше еще тридцать тысяч франков.
Однако денежные переводы Ланго становились все более скудными.
Предпоследний перевод составлял всего тысячу франков, а последний лишь пятьсот франков.
Кроме того, в письме, приложенном к последнему переводу, Тома Ланго просил передать своему клиенту (бакалейщик ведь был неграмотным), чтобы Ален больше на него не рассчитывал; таким образом, полученные пятьсот франков были последними, какие он получил.
Ален вертел в руках эти двадцать пять луидоров, размышляя, что с ними делать.
Как правило, ему хватало таких денег надень или, самое большое, на двое суток.
И тут он подумал, что если ему хоть немного улыбнется удача, то можно будет удвоить или утроить эту сумму, а то и умножить ее в десять раз.
Сын фермера знал четыре-пять заведений, где каждый день шла игра.
Когда настал вечер, он не стал утруждать себя долгим выбором и отправился в ближайший игорный дом.
Алена видели там уже не раз.
Поэтому к его появлению отнеслись спокойно; он был там лишь одним из азартных завсегдатаев, играющих по-крупному.
Молодой человек сел за первый попавшийся стол и сделал ставку.
Волею случая противником Алена оказался иностранный офицер, полуитальянец, полуполяк, уже неоднократно игравший с ним и обыгрывавший его с неизменным успехом.
Пока у Алена Монпле карманы были полны луидорами и банкнотами, он не придавал большого значения тому, как уплывают его деньги, но теперь, когда пришла пора выложить последние пятьсот франков, чтобы извлечь из них прибыль, либо проиграть и распрощаться с Парижем, молодой человек стал играть более осмотрительно.
Поэтому он заметил, что офицер как будто не совсем честно снимает колоду.
К тому времени у Алена оставалось только пятнадцать луидоров от прежних двадцати пяти, и ему предстояло поставить их на кон.
Офицер открыл трефового короля.
Между тем ни он, ни его противник еще не разобрали карты.
Ален Монпле положил руку на карты офицера.
— Карты трогать нельзя, — сказал игрок.
— Простите, сударь, — ответил Ален, — если среди ваших пяти карт меньше трех козырей, я признаю свою вину и заранее приношу вам извинения.
— А если у меня три козыря на пять карт? — спросил офицер надменным тоном.
— Тогда я не только не принесу вам извинений, — чрезвычайно вежливо продолжал Ален Монпле, — но вдобавок скажу… скажу…
— Что же вы скажете? — проворчал его противник.
Ален открыл карты офицера — среди них оказалось три козыря: дама, валет и десятка треф.
— … я скажу, — произнес молодой человек, — что вы плутовали, когда снимали колоду, и что вы шулер.
Офицер взял несколько карт и бросил их Алену в лицо.
— Вот как! — воскликнул Ален. — Я читал в "Кодексе" господина Шато-Виллара, что любое прикосновение приравнивается к удару. Мне придется вернуться в Мези, но, кажется, я вернусь туда не с позором.
Это происшествие наделало много шума.
Прежде чем расстаться, противники назначили поединок на следующий день, в восемь часов.
Ален, которого ударил офицер, был вправе выбирать оружие.
Он выбрал пистолеты.
Офицер отнюдь не возражал: он сам слыл отменным стрелком.
Ален хотел, чтобы дуэль состоялась на аллее Ла-Мюэтт.
Он должен был взять реванш на том самом месте, где в первый раз потерпел поражение.
Его противник согласился и на это.
Они условились, что секунданты принесут из тира пистолеты, в которых нет двойного спуска и из которых еще ни разу не стреляли.
Служитель из тира должен был сопровождать секундантов, чтобы заряжать оружие.
В восемь утра все были на месте дуэли.
Осмотрев пистолеты, секунданты признали, что они отвечают всем необходимым требованиям.
Затем было решено, что противники встанут в сорока шагах друг от друга и двинутся навстречу.
Пройдя десять шагов, каждый из них должен был остановиться. Таким образом, истинное расстояние между ними составляло бы двадцать метров. (Как известно, в вопросах дуэлей шаг приравнивается к трем футам.)
Соперники встали на свои места с учетом оговоренной дистанции.
Каждому из них вручили по пистолету, который зарядил служитель тира.
Затем два секунданта, подававшие оружие дуэлянтам, отошли назад и одновременно вскричали:
— Вперед!
По этой команде Ален и офицер начали сближаться.
Сделав два шага, оба подняли пистолеты и выстрелили.
Выстрелы прозвучали одновременно.
Монпле покачнулся, но удержался на ногах.
Офицер дважды повернулся вокруг своей оси и упал на землю лицом вниз.
Секунданты подбежали к своим подопечным.
Пуля попала Алену в середину подбородка и сплющилась, как от удара о щит с мишенью.
Кость оголилась, но осталась цела.
Удар был настолько сильным, что Ален еле устоял на ногах.
Сердце офицера оказалось пробито, он был сражен наповал.
— Невелика беда! — дружно сказали четверо секундантов. — Одним мошенником меньше, только и всего.
Такими словами проводили в последний путь человека, чье имя я безуспешно пытался выяснить, чтобы сообщить его читателям: никто не смог мне его назвать.
Все звали его офицером, не зная его настоящего имени.
— Черт возьми! — воскликнул Ален, вытирая подбородок носовым платком. — У меня не осталось ни гроша, но зато я не буду последним.
Вернувшись в Париж, молодой человек продал свои часы.
Вечером он уже сидел на балконе в Опере, и его подбородок украшала мушка из пластыря.
Это было единственное воспоминание, не считая некоторой тяжести в голове, оставшееся у него от утреннего поединка.
На другой день он занял место в дилижансе, следующем в Сен-Мало.
Ален Монпле провел в Париже два года, и за это время он истратил более двухсот тысяч франков!
V
ПО ДОЛГАМ ПРИХОДИТСЯ ПЛАТИТЬ
Существует традиция трехтысячелетней давности, дошедшая до нас благодаря Библии и, таким образом, вызывающая у людей почитание, которое овеяно величием столетий, — блудные сыновья, какими бы они ни были блудными, находят в отчем доме радушный прием, едва только они соизволяют туда вернуться.
Жан Монпле подтвердил эту древнюю истину: он встретил сына с распростертыми объятиями, и потоки слез заструились по его опаленным солнцем щекам, когда неожиданно появившийся Ален бросился к ногам старика и стал просить у него прошение.
Несчастный отец нежно расцеловал сына и, не говоря ни слова о прошлых обидах, вернул ему прежнее место в доме.
Что касается места в отцовском сердце, скверный мальчишка, где бы он ни был, никогда его не терял.
К тому же пресыщение удовольствиями, которое испытывал Ален, оказало на него столь благотворное воздействие, что упрекать его было бы бесполезно.
Несмотря на то что лишь нужда заставила блудного сына вернуться в Мези, он с чувством глубокого удовлетворения обозрел родные места и с трогательным волнением предался любимым занятиям: рыбной ловле, плаванию и охоте, утрату которых так и не смогли полностью возместить ему безудержные столичные увеселения.
После того как Ален провел в Хрюшатнике несколько дней, воскресив в памяти годы своей юности, он стал недоумевать, как можно было променять эту столь естественную счастливую жизнь на фальшивые городские развлечения, не оставляющие ничего, кроме пустоты в душе и угрызений совести в сердце.
Тем не менее папаша Монпле был не прочь наложить на чувства сына, буйную силу которых ему довелось узнать, более надежную узду, чем раскаяние.
Поэтому он заговорил с Аленом о женитьбе.
В первый раз Ален дал отрицательный ответ.
Во второй раз он побагровел от досады.
Живя в Париже, молодой человек вращался в обществе безнравственных людей, не признававших никаких стеснений и принуждений, и распущенность, вошедшая у него в привычку, усилила его дикую неприязнь к тем, кого он называл "публикой" — то есть смирных и честных людей; падшие же женщины, с которыми он встречался, внушили ему неодолимое презрение к женскому полу. Ален приписывал пороки отдельных личностей — и каких личностей, о Господи! — всему человеческому роду.
Он отказался от всех прежних связей и проклинал даже воспоминания об этих отношениях. Но, как ни странно, Ален Монпле был робким от природы: он дерзко и развязно вел себя с некоторыми женщинами, или, вернее, с доступными девицами, но краснел, опускал глаза и терялся в присутствии порядочных дам. Из-за вполне понятного недовольства собой наш герой досадовал на женщин за то, что, находясь рядом с ним, он испытывал неуверенность; между тем, если бы он захотел жениться, ему пришлось бы искать себе спутницу жизни среди девушек безупречного поведения, поэтому Ален дал себе слово жить и умереть холостяком.
Кроме того, хотя он был счастлив, вновь обретя отчий дом, порой на него находила тоска.
С неизменным страхом он думал о своих обязательствах перед Ланго. Молодой повеса так безалаберно вел свои дела, что он не мог даже приблизительно сказать, насколько велика сумма его долга.
Он знал лишь, что эта сумма весьма внушительна и к тому же постоянно растет, подобно лавине, низвергаюшейся с вершины горы; если бы однажды эта лавина обрушилась на его голову, то непременно бы его раздавила.
Время от времени Ален спрашивал себя, не следует ли ему признаться во всем папаше Монпле, который уже простил ему столько всего, что молодому человеку не хотелось больше пользоваться его снисходительностью. И Ален постоянно откладывал тягостную исповедь до лучших времен.
Папаша Монпле слишком сильно любил сына, чтобы не замечать снедавшей его тоски.
Эта тоска его пугала, так как он принимал ее за скуку.
Отеи снова заговорил с Аленом о своем замысле женить его; приготовления к свадьбе казались старику необходимыми и неотложными, ибо смутные предчувствия внушали ему опасение, что смерть вскоре разлучит его с сыном.
Однако на этот раз, наученный на собственном опыте, Жан Монпле поостерегся хватать быка за рога.
У фермера был в деревне старый друг по имени Жусслен, торговавший сливочным маслом. (Масло из Исиньи славится на всю Францию.)
Благодаря этому занятию Жусслен разбогател.
Его единственная дочь была столь необычайно красива, ч го молва о ней шла до самого Кана. Когда об этой девушке говорили, ее называли не иначе как "красотка Жусслина". (В этой переделке мужской фамилии в женскую сказались провинциальные обычаи.)
Нежная любовь к сыну была для Жана Монпле единственным источником, в котором он черпал мужество для борьбы с подагрой, причинявшей ему немало страданий. Ему удалось с трудом забраться на свою старую лошадку, которая уже три года отдыхала от былых трудов на своей подстилке, как и ее хозяин в кресле.
Лошадка затрусила рысью, свидетельствующей о том, сколь резвой она когда-то была, и несколько часов спустя двое друзей договорились поженить своих детей — без их согласия, разумеется.
И вот однажды Ален возвращался с охоты. Он промок с головы до ног и вдобавок был по пояс в тине, так как охотился на болоте. Молодой человек снял галстук, чтобы обвязать им свой ягдташ, полный дичи; таким образом, ворот его рубашки был расстегнут и шея оставалась голой.
Когда охотник подошел к ферме, его собака, как обычно, встала на задние лапы, уперлась передними лапами в дверь, толкнула ее и, как только дверь отворилась, без всяких церемоний первой ворвалась в дом.
Ален вошел вслед за ней, прижимая к плечу ружье; на его ствол он повесил свою войлочную шляпу, с которой стекали капли дождя.
Но, едва лишь переступив порог комнаты, охотник попятился, словно ему показали голову Медузы.
Возле кресла отца он увидел двух посторонних людей.
Один из них — старик с довольно заурядной внешностью — не мог произвести на молодого человека столь сильного впечатления.
Следовательно, приписать его следовало второму гостю, точнее гостье.
Действительно, незнакомая девушка была такой красивой, что, невзирая на свое смущение, Ален, продолжавший отступать назад, был не в силах оторвать глаз от той, что привела его в полное замешательство.
Наконец он замер на месте, словно его пригвоздили к полу.
Через некоторое время, сочтя, что нельзя больше стоять молча, не двигаясь ни вперед, ни назад, молодой человек рискнул пошевелиться, угрюмо поклонился гостям и неловко извинился за свой небрежный вид.
Девушка улыбнулась в ответ, показав свои прекрасные зубы.
Ален решил, что сделал достаточно, чтобы заслужить право на уход, и поспешил уйти под предлогом того, что он должен переодеться.
Он был зол на отца за то, что тот сыграл с ним злую шутку, и им овладело неистовое желание бросить старика одного вместе с гостями и отправиться ужинать в трактир.
Но несколькими днями раньше у старика был сильный приступ подагры, едва не стоивший ему жизни, и сын отказался от своей затеи, опасаясь причинить отцу лишнюю боль.
Ален поспешно натянул на себя первую попавшуюся одежду и, бранясь про себя, спустился вниз; когда его рука коснулась ручки двери, он снова оробел, но, немного помедлив, резко толкнул дверь, словно внезапно приняв решение, и вошел в комнату, утешая себя мыслью: "Не съедят же они меня, в самом деле".
Несмотря на это здравое суждение и умоляющие взгляды отца, Ален явно пребывал в мрачном настроении.
Это нисколько не испугало мадемуазель Жусслен, которую предупреждали, что ей придется приручать сущего медведя.
После пребывания в Париже, где, как уже было сказано, Ален вращался в сомнительном обществе, он приобрел развязные манеры и бесцеремонную речь, не свойственные жителям Исиньи; несмотря на это, девушка весьма охотно согласилась взяться на возложенную на нее задачу и отважно приступила к ее выполнению.
Впрочем, она могла справиться с этой задачей куда легче, чем любая другая, ибо наш медведь чрезвычайно ценил красоту, а мадемуазель Жусслен была поразительно хороша.
Лизе уже исполнилось двадцать два года; ее роскошные волосы на редкость приятного пепельного цвета обрамляли несколько низкий лоб, но большие черные глаза, выделявшиеся на ее молочно-белой коже, как два кусочка бархата, скрашивали этот недостаток.
Она была высокого роста; ее ноги и руки, как и у всех обитательниц сельской местности, небыли безупречными, но зато великолепная пышная грудь и резко очерченные округлые бедра подчеркивали достоинства ее гибкого стана.
Кроме того, она выделялась своим нарядом из круга девушек Мези, подобно тому как Ален после возвращения из Парижа отличался одеждой от парней Мези и Гран-Кана.
Девушка отказалась от колпаков — не от остроконечных колпаков (этот безобразный мужской головной убор никогда, даже в раннем детстве, не осквернял ее лба), но от высоких колпаков с кружевами, как у Изабеллы Баварской, а также от узких платьев и алансонских косынок с вышивкой. Мадемуазель Жусслен была городской просвещенной барышней: она покупала шляпы у лучших модисток Кана или, в худшем случае, Сен-Ло, носила французские кашемировые шали и, наконец, щеголяла в платьях с оборками, придававшими ее туалетам еще более впечатляющий вид.
Всецело оценив красоту Лизы Жусслен, Ален почувствовал себя еще более неуверенно.
Но, несмотря на ее полуаристократические манеры, дочь торговца маслом казалась такой доброй, что мало-помалу Ален стал держаться более непринужденно; не успел закончиться ужин, как дурное настроение этого человека с непостоянными чувствами и необузданными желаниями сменилось страстной жаждой обладать прекрасной нормандкой — он решил овладеть ею любой ценой, даже если бы ему пришлось ради этого на ней жениться.
Привлекательная, как ловушка с зеркальцами, которой приманивают жаворонков, Лиза все же не принадлежала к разряду легкодоступных женщин; не встречая с ее стороны никаких ободряющих знаков, обычно позволяющих мужчине быстро продвигаться к цели, Ален был вынужден умерить свои притязания.
В результате начавшейся в душе молодого человека борьбы между зарождающейся страстью и почтительной сдержанностью, которую девушка сумела столь своевременно ему внушить, когда он уже готов был забыться, ему мало-помалу удалось обуздать свою грубую похоть.
В его сердце стало развиваться чувство, носившее полуплатонический характер; по прошествии двух недель он, как неопытный юнец, питал по отношению к той, которую отец выбрал ему в жены, чистую и невинную любовь.
Поскольку Лиза Жусслен чрезвычайно гордилась своей победой и, кроме того, Ален был ей отнюдь не безразличен, то по истечении этих двух недель ничто не препятствовало союзу двух влюбленных.
Месяцем позже было объявлено об их бракосочетании, а день свадьбы был обозначен белым мелом, как у древних римлян, но тут сильный приступ подагры неожиданно свел в могилу старого Жана Монпле.
Если любезные читатели не сразу представили себе, сколь велико было отчаяние Алена, значит, мы плохо обрисовали его характер.
Услышав печальную весть, г-н Жусслен тотчас же помчался в Хрюшатник и застал своего будущего зятя стоящим на коленях у смертного одра отца; молодой человек рыдал, уткнувшись лицом в его постель.
Торговец помог Алену отдать покойному последний долг; затем, желая не только угодить юной паре, но и удовлетворить собственное стремление поскорее увидеть дочь хозяйкой прекрасной усадьбы, он согласился на то, чтобы в связи со скорбным событием свадьбу отложили лишь на месяц.
Однако страшное видение омрачало надежды бедного жениха и заставляло его содрогаться даже во сне.
Когда Ален Монпле вышел из церкви и последовал за гробом своего бедного отца, он не удержался, проходя мимо лавки Тома Ланго, и украдкой бросил взгляд на мрачное и унылое, как грозовые облака, заведение.
Лавка была закрыта; лишь в одном окне виднелось маленькое отверстие наподобие фрамуги; его размеры не превышали величины крошечных окошек с непрозрачными стеклами, еще украшающих стены некоторых старинных домов в забытых Богом селениях старой Франции.
Фрамуга была приподнята, и под стеклом, словно под зеленоватым листком болотного растения, виднелась невыразительная и отталкивающая физиономия Тома Ланго: ростовщик следил за проходящей мимо траурной процессией с радостным и алчным блеском в глазах.
Алену показалось, что он видит голову гигантской гадюки.
И теперь, представляя эту голову, молодой человек неожиданно вздрагивал, а когда жутко блестящие глаза являлись ему во сне, он внезапно просыпался.
Алену и в самом деле было чего опасаться.
Это видение, каким бы фантастическим, вероятно, оно ни представлялось читателям, вскоре обрело реальное воплощение.
Не получив извещения о смерти фермера, Тома Ланго прикинулся обиженным и в одно прекрасное утро предъявил то ли тридцать четыре, то ли тридцать пять безупречно составленных документов, подтверждающих, что он предоставил Алену Монпле ссуду на восемьдесят семь тысяч франков.
Я не знаю ничего страшнее оскорбленного заимодавца.
Это просто-напросто грозит должнику разорением.
Бакалейщик же был оскорблен страшно. Ален не только не пригласил его на похороны папаши Монпле, которого он, Тома Ланго, так сильно любил и глубоко чтил, но к тому же, с тех пор как неблагодарный должник вернулся домой из Парижа, он ни разу не навестил своего благодетеля, хотя тот был бы рад его видеть; негодник даже обходил бакалейщика стороной, когда они случайно встречались на улице, и приближался к нему, лишь когда не мог этого избежать.
Увы! Так оно все и было. Ален, знавший, что он задолжал Косолапому значительную сумму, хотя и не подозревавший о величине этой суммы, невольно испытывал при виде бакалейщика чувство неловкости, которое всякий должник испытывает при виде своего кредитора.
И вот, после того как Ален столь долго пребывал в неведении, он, наконец, узнал, сколько именно он должен Тома Ланго.
Эта сумма достигала восьмидесяти семи тысяч франков!
Каким образом Ален Монпле сумел взять взаймы у лавочника Ланго такие баснословные деньги?
Сын фермера не смог бы этого объяснить.
Но факт был налицо, о чем свидетельствовали многочисленные векселя; все они были просрочены и опротестованы — оставалось только передать их в суд.
Вскоре суд сказал свое слово, невзирая на противодействие мелкого адвоката из Исиньи по имени Ришар, бывшего приятеля и сотрапезника Алена в пору его юношеской разгульной жизни. Согласно постановлению суда, подтвержденному в ходе обжалования, Хрюшатник был подвергнут аресту и продан; после того как судейские, подобно туче саранчи, пронеслись над фермой, полями и плодовым садом, у бедного Алена от богатства старика Монпле, которое тот по грошам с такой любовью собирал для сына, осталось лишь немного одежды, кровать и ружье.
Пора было искать утешения у прекрасной Лизы.
И Ален поспешил в Исиньи.
Однако, как ни быстро мчался наш герой к своей невесте на крыльях любви, весть о его полном разорении долетела до нее раньше, и папаша Жусслен заявил молодому человеку, что муж-транжира никоим образом не подходит его дочери.
В заключение, выразив удовлетворение тем, что старик, покоящийся в могиле, не видит, в какую пропасть угодил его непутевый сын, торговец попросил Алена никогда больше не появляться в их доме.
Молодой человек пришел в отчаяние.
Но то, что он услышал, исходило от себялюбивого отца.
Оставалось выяснить, что думает по этому поводу дочь.
И тогда Монпле решил притвориться, что он уезжает из Исиньи.
Он притаился в одной из комнат гостиницы "Крестовый Лебедь" и с наступлением темноты принялся бродить вокруг дома Лизы Жусслен.
Чувствительной нормандке, очевидно, во всем следовавшей велению сердца, трудно было решиться на разрыв с женихом, каким бы бедным он теперь ни был; дождавшись, когда г-н Жусслен отправился в кафе Малерб, где он ежедневно играл в домино, девушка, догадывавшаяся, что ее возлюбленный ходит где-то рядом, открыла ему дверь.
Ален поведал ей о встрече с папашей Жуссленом и о том, как плачевно закончилась эта встреча.
Лиза попыталась растолковать своему избраннику различие между расчетливым умом шестидесятилетнего старца и сострадательным сердцем двадцатидвухлетней девушки. Невеста всячески утешала Алена, пытаясь убедить его, но лишь на словах, в том, что постигшее его несчастье нисколько не охладило ее пылких чувств; девушка поклялась жениху всеми праведниками и даже Богоматерью Деливрандской, что выйдет замуж только за него, и в подтверждение своих слов назначила ему свидание через день, чтобы завершить дело утешения, на которое ее обрекла любовь к несчастному Алену.
Разумеется, через день влюбленный явился на свидание в условленное время.
В восемь часов вечера он уже стоял перед лавкой торговца маслом; дверь дома была наглухо заперта, и молодой человек расценил это как дополнительную меру предосторожности со стороны Лизы.
Он прождал до девяти и даже до половины десятого, надеясь, что дверь откроется, как и в прошлый раз, но все было тщетно.
Обеспокоенный Ален стал наводить справки у соседей.
И тут ему сообщили, что его очаровательная возлюбленная вместе с отцом еще утром уехала в Париж.
Несчастный жених отказывался поверить в это удручающее известие. Он вернулся к дому г-на Жусслена и на всякий случай, рискуя навлечь на себя гнев хозяина, принялся неистово стучать в дверь.
Дверь открылась, но перед Аленом Монпле предстало вовсе не насупленное лицо папаши Жусслена и не прелестное личико его дочери.
Он увидел багровую физиономию толстой служанки по прозвищу Болтунья, которая, как ему было известно, прислуживала Лизе.
Болтунье было поручено передать Алену послание.
Молодой человек отошел к фонарю, чтобы легче было читать письмо.
С неистово бьющимся сердцем и дрожащими руками он вскрыл конверт.
В начале послания прекрасная Лиза заверяла друга в неизменности своих чувств, но в то же время признавалась, что она не смогла ослушаться недвусмысленно выраженной воли отца, который, как новоявленный Агамемнон, вознамерился принести дочь в жертву на алтарь Гименея, даже если новый брак, который он замышлял, стоил бы ей жизни.
Тем не менее Лиза обещала, что, кем бы она ни была — ничем ни связанной девушкой или женщиной, обязанной подчиняться мужу, — она никогда не перестанет, по крайней мере в душе, принадлежать Алену — первому, кого она полюбила, и единственному, кого она поклялась любить вечно.
Будучи не в силах поручиться за физическую верность, она гарантировала молодому человеку преданность чувств, которую превыше всего ценят благородные люди и, надо сказать, ни во что не ставят низменные души.
Прочитав заключительные слова письма, Ален был совершенно ошеломлен.
Смерть отца и потеря состояния оказались для него весьма чувствительными ударами, но нежное чувство и жалость любимой женщины, а также уверенность в том, что ее любовь, способная выдержать подобные испытания, никогда ему не изменит, смягчали горечь его страданий.
Теперь же, когда несчастного покинул Бог, забрав у него отца, обманула судьба, отняв у него его состояние, забыла возлюбленная, лишив его своей любви, слегка утихшая боль двух предыдущих утрат овладела Аленом с прежней силой; едва зарубцевавшиеся язвы снова открылись, и кровь разбитого сердца хлынула из трех разверстых ран.
VI
НАСЛЕДСТВО ПАПАШИ ШАЛАША
Молодой человек скомкал в руках письмо Лизы, а затем, испытывая потребность дышать полной грудью, кричать во весь голос и неистово кататься по земле, он поспешил за город и, подобно Роланду, принялся бегать взад и вперед по полям, не отдавая себе отчет в том, что он делает.
Несчастный не владел собой: необузданные чувства мчали его неизвестно куда, словно упряжка взбесившихся лошадей. Гнев и ревность воспламенили его кровь. Ален перебирал в памяти достоинства своей возлюбленной и грезил о тех ее прелестях, которые ему не довелось увидеть; он представлял женщину, являвшуюся для него идеалом творения, в объятиях другого мужчины, и ему казалось, что она смеется над ним вместе с этим другим. Молодой человек был охвачен лихорадочным возбуждением; словно безумец, он брел наугад, терзаемый горестными раздумьями; бесконечный круговорот мыслей вызывал у него сильное головокружение.
В конце концов, когда мучения Алена достигли предела, его легкие почувствовали недостаток воздуха. Несчастный упал и принялся с диким воем кататься по земле; скупые слезы пробились сквозь его сухие пылающие веки, и он заплакал — эти слезы облегчили боль страдальца, и он немного успокоился.
Встав на колени, юноша стал громко звать неверную подругу, заклиная ее не предавать свою любовь и не изменять своим клятвам. Он обращался к возлюбленной с самыми горячими мольбами, а затем впал в какое-то оцепенение, вскоре сменившееся новым приступом бешеной ярости.
Ален пребывал в состоянии, граничившем с безумием, несколько часов, но в конце концов это отчаянное исступление, слишком сильное, чтобы быть продолжительным, утихло, и он немного пришел в себя.
Между тем наступила ночь, и беднягу, одежда которого промокла оттого, что он так долго катался по земле, стал бить сильный озноб.
Ален попытался понять, где он находится, но не потому, что стремился к людям (сейчас ему было невыносимо видеть людей, а особенно женщин): он чувствовал, что должен найти какой-нибудь приют.
Судьба направила его в сторону устья Виры.
Вокруг виднелись только заросли камыша и небольшие водоемы, мерцавшие в свете луны, когда она ненадолго выходила из-за туч, застилавших лазурный лик небосвода.
Внезапно Ален услышал заунывный вой собаки, раздававшийся не более чем в пятистах — шестистах шагах от него, и понял, где он оказался.
Завывавшая собака, очевидно, принадлежала папаше Шалашу, его первому наставнику в охотничьем деле.
Ален не видел старика с тех пор, как вернулся домой из Парижа.
Он вспомнил, что лачуга добряка расположена по соседству, и больше не сомневался, что слышит вой Флажка, своего давнего друга.
То был голос, который взывал к нему, одинокому страннику, блуждавшему в глуши: "Иди ко мне!"
Мрачный скорбный вой был созвучен состоянию души Алена.
Если бы это был человеческий голос, то молодой человек, возненавидевший весь род людской, скорее всего повернул бы в другую сторону.
Но то был зов собаки, и Ален пошел на него.
Не успел он пройти и сотню шагов, как увидел на горизонте темный бугорок, возвышавшийся над равниной.
Это была лачуга папаши Шалаша.
Ален направился к жилищу охотника.
Чем ближе к нему он подходил, тем более жалобным становился вой собаки.
Он доносился из запертой хижины.
Ален подошел к двери и приподнял щеколду.
Дверь поддалась.
Как только она открылась, молодой человек ощутил две собачьи лапы на своей груди и горячее влажное дыхание на своем лице.
Тотчас же Флажок снова завыл и побежал в соседнюю комнату, где находилась постель его хозяина.
Комната была окутана непроглядным мраком.
Ален дважды окликнул папашу Шалаша.
Никто не отозвался, а если ответ и прозвучал, он был сродни легкому дуновению или слабому вздоху, и Ален решил, что это ему почудилось.
Молодой человек ориентировался в жилище папаши Шалаша не хуже, чем в своем доме. Он ощупью добрался до очага, поискал спички и стал ворошить золу.
Зола была еще теплой, но огонь уже погас.
Ален был курильщиком и охотником. По той и по другой причине у него всегда имелось при себе все необходимое, чтобы развести огонь.
Химическая спичка, которой он чиркнул о стену, вспыхнула и, вспыхнув, осветила комнату.
Словно в проблеске молнии, Ален увидел, что Флажок сидит возле постели хозяина и воет, задрав голову.
На этом ложе, состоявшем из одного лишь расстеленного на полу матраса, смутно виднелся человеческий силуэт.
Молодой человек зажег вторую спичку, такую же недолговечную, как и первая, и подошел к постели.
Ален не ошибся: на матрасе лежал папаша Шалаш, он или спал, или был мертв.
Вторая спичка догорела, когда Ален поднес ее к лицу старого охотника.
Наш герой вернулся к камину, принялся искать лампу и в конце концов нашел ее на скамье.
Он попытался ее зажечь, но масло в лампе иссякло.
Молодой человек бросил в очаг немного папоротника и тростника, а также несколько щепок, и поднес к ним пламя третьей спички.
Огонь быстро охватил сложенное в очаге топливо и, вспыхнув, дрожащим светом озарил комнату, вплоть до самых дальних ее уголков.
Собака сидела на том же месте, а лежащий на полу человек оставался таким же неподвижным.
Однако теперь Флажок не выл, а молча лизал лицо своего хозяина.
Ален подошел к человеку и собаке, не понимая, что происходит.
Все было по-прежнему.
Тем не менее Алену показалось, что Шалаш лежит с закрытыми глазами, в то время как минуту назад глаза его были открыты.
Молодой человек склонился над постелью старика и пощупал его руку.
Он понял, что это рука мертвеца, но она еще не была холодной.
Было очевидно, что человек только что испустил дух.
Слабое дуновение, почудившееся Алену, когда он вошел, было последним вздохом умирающего.
Завывание Флажка было прощальным напутствием своему другу.
Облизывая лицо хозяина, бедное животное закрыло ему глаза.
Ален невольно встал на колени.
Всякой смерти присуще величие, перед которым склоняются самые мятежные головы и сгибаются самые непокорные колени: это величие непостижимого.
Что за странная судьба была уготована этому человеку! Однажды этот охотник объявился в здешних краях, придя неизвестно откуда; он жил вдали от людей, общаясь только со скупщиком дичи из Исиньи, через день забиравшим у него добычу и приносившим деньги, и умер так же, как жил, в одиночестве, не обращаясь ни за помощью к друзьям, ни за последним причастием к священнику.
Старик ушел в мир иной, не оставив после себя ничего, кроме оплакивавшей его собаки; он лишь развел напоследок огонь, зажег лампу и лег на свой матрас.
Вскоре огонь догорел, а лампа потухла.
Человек тоже угас, подобно огню и лампе.
Осталось ли от него что-нибудь, кроме пепла, как от огня в очаге, или засохшего фитиля, как от лампы?
Об этом не ведал никто, даже сам умерший.
Мысленно произнеся молитву, Ален поднялся и присел у камина на дубовую скамью, где ему не раз доводилось сидеть.
Молодой человек провел ночь в доме покойного, ни на миг не смыкая глаз и поддерживая огонь всякий раз, когда тот был готов угаснуть; он предавался мрачным философским раздумьям, порхающим, словно ночные птицы вокруг одра покойного, пытаясь таким образом приглушить терзавшие его душу страдания.
Собака же неподвижно лежала на животе, подобно сфинксу, и не сводила глаз со своего хозяина.
Она словно искала ответ на великую тайму, которую никогда не постичь людям: "Что такое смерть?"
Но вот стало светать; тусклые серые лучи просочились сквозь щели в дверях и оконные стекла.
На столе белел лист бумаги с несколькими строками, написанными карандашом.
Ален взял эту бумагу и прочел:
"Я ложусь, чтобы уже никогда не встать.
Я жил вдали от людей и умираю вдали от них.
За всю свою жизнь я ничего ни у кого не просил, а после смерти прошу только об одном.
Я прошу человека, который войдет сюда и найдет меня мертвым, не говорить о моей смерти кому бы то ни было.
Моя смерть никого не касается.
Если у этого человека благочестивая душа, он вожмет в углу заступ, выроет в песке на берегу моря яму, завернет мое тело в простыню, опустит меня в могилу, засыплет ее землей и поставит сверху крест.
Я умираю христианином.
Если у этого человека нет крова, он может остаться в моей хижине. Лом неказист, но в течение восемнадцати лет он защищал меня от дождя, ветра и холода.
Если это охотник, я советую ему заняться тем же промыслом, каким занимался и я. Он не приносит человеку большого дохода, но способен его прокормить. Я мог бы откладывать по тысяче франков в год, если бы знал, кому оставить деньги.
Я предпочитал убивать ровно столько дичи, сколько мне требовалось для повседневных нужд, и не трогать остальных Божьих тварей.
Я должен восемнадцать франков скупщику дичи из Исиньи, который на протяжении недели, пока я болел, постоянно приносил мне все необходимое, хотя у меня уже не было для него добычи.
Я прошу того, кто останется жить в моей хижине, если он решится продолжить мое дело, дичью вернуть этому доброму человеку долг в восемнадцать франков. Кроме того, я желаю моему преемнику в знак благодарности за то, что он похоронил меня и поставил крест на моей могиле, тем самым оказав мне услугу, такой же тихой и спокойной смерти, как и та, что вскоре ожидает меня.
27 сентября 1841 года.
Папаша Шалаш".
Ален повернулся к ложу покойного и простер к нему руку с торжественным жестом, как бы говоря: "Спи спокойно, бедная душа, твои последние указания будут соблюдены, твои последние желания будут исполнены".
Видя, что уже совсем рассвело, молодой человек огляделся.
Заступ, о котором упоминалось в завещании умершего, стоял в углу комнаты.
Ален взял этот заступ и, выйдя из дома, отправился на поиски подходящего места для последнего приюта старого охотника.
Он остановился у подножия скалы, о которую разбивались даже самые высокие волны.
Эта скала образовывала углубление, и в юности Ален нередко вместе с папашей Шалашом подстерегал там дичь.
Это был излюбленный наблюдательный пост старого охотника.
Алену подумалось, что если бы папаше Шалашу пришла в голову мысль искать себе могилу, то он непременно выбрал бы это место.
Ален выкопал глубокую яму: следовало уберечь труп от поползновений собак и волков.
Затем, набрав как можно больше камней и гальки, он принес все это к могиле.
Покончив с подготовительными хлопотами, он вернулся к хижине, завернул труп в простыню, взвалил его на плечо и направился к месту погребения.
И только тогда собака поднялась и последовала за телом хозяина.
Старый охотник был похоронен согласно его желанию без церковного пения, без надгробных речей и поминальных молитв.
Крест, сооруженный из обломков двух лодок, которые выбросило на берег во время шторма, был водружен над холмиком из земли, песка, камней и гальки.
После погребения Ален, с опустошенной душой, безвольно повисшими руками и поникшей головой, вернулся в осиротевший дом.
Собака посидела немного на могиле, в последний раз протяжно и жалобно завыла, как бы прощаясь с хозяином, а затем побрела за Аленом.
Флажок признал в благочестивом человеке, отдавшем его бывшему владельцу последний долг, своего нового хозяина.
Подходя к дому, Ален еще издали увидел силуэт человека, топтавшегося на пороге.
Это был скупщик дичи из Исиньи.
— Похоже, все кончено, — сказал он. — Я пришел, чтобы проводить беднягу в последний путь, так как чувствовал, что он не переживет этой ночи. Но вы, господин Монпле, меня опередили.
— Дружище, — сказал Ален, — покойный остался вам должен восемнадцать франков; он поручил мне вернуть вам деньги: вот они.
— Стало быть, папаша Шалаш назначил вас своим наследником? — спросил скупщик дичи.
— Да, — ответил Ален, — а в качестве доказательства вы можете сказать первому встречному бедняку, который попадется вам по дороге, чтобы он пришел сюда и забрал любые вещи, какие ему приглянутся.
Скупщик дичи взял восемнадцать франков, попрощался с Монпле и пошел обратно.
Но, не успел он сделать и пяти шагов, как услышал, что молодой человек зовет его.
Мужчина обернулся.
— Что вам угодно? — спросил он.
— Когда вам теперь понадобится дичь, обращайтесь ко мне, — сказал Ален, — я прошу вас оказывать мне предпочтение.
— Как это? — с удивлением спросил скупщик дичи.
— Я становлюсь охотником на водоплавающую дичь.
— Без шуток? — спросил мужчина.
— Это сущая правда… Я разорен, ничего не умею и не могу покончить с собой, будучи слишком добрым христианином. Раз уж Провидение сделало меня наследником бедняка, жившего в этой лачуге, я последую по пути, указанному мне Провидением.
Скупщик дичи удалился, пообещав Алену Монпле стать его постоянным клиентом.
VII
НА ВЗМОРЬЕ
Ален Монпле не был ни мечтателем, ни философом; он совсем не умел анализировать свои чувства, разбираться в причинах этих чувств и увязывать их с последующими событиями.
Молодой человек не собирался, как он и сказал скупщику дичи из Исиньи, сводить счеты с жизнью, хотя эта жизнь стала ему ненавистной, ибо распутство, отвратившее его от религиозных обрядов, так и не смогло истребить веру, глубоко укоренившуюся в его душе благодаря воспитанию, полученному в деревне.
В какой-то миг Ален задумался, не пойти ли ему в солдаты.
Но едва лишь эта мысль мелькнула в его голове, как он своевременно вспомнил, что всякая дисциплина неизменно внушала ему отвращение.
Преисполненный решимости сохранить свою независимость, Ален Монпле понимал, что может рассчитывать только на физический труд.
Какой именно?
Он не владел никаким ремеслом.
И все же само Провидение, как сказал наш герой, привело его в хижину папаши Шалаша, когда старик навсегда закрыл глаза, а он, Ален, остался без состояния, родных, друзей и возлюбленной.
Таким образом, Ален Монпле, страстный охотник и отменный стрелок, решил стать охотником на водоплавающую дичь.
Как только скупщик дичи удалился, молодой человек сказал себе:
"Да, сам Господь Бог привел меня сюда, именно его перст указал мне на этот приют и промысел, призванный обеспечить мне пропитание, подобно тому, как он кормил моего предшественника. Значит, я смогу жить в одиночестве, вдали от людей, не рассчитывая на их сострадание, и, быть может, однажды я сумею отомстить им за все то зло, что они мне причинили…"
По правде сказать, Ален Монпле, предававший проклятию весь человеческий род, имел в виду, главным образом, его женскую половину.
В самом деле, молодой человек торжественно поклялся никогда не жениться и, если удастся, отплатить когда-нибудь за предательство Лизы Жусслен всей той части общества, которую именуют прекрасным полом, или отдельным ее представительницам.
Как и в случае с дуэлью, Ален Монпле не хотел оказаться последним.
Несмотря на то что Ален дал эту клятву в минуту ярости и его не слышал никто, кроме Бога, на глазах у которого он боролся со смертью, тем не менее данная им клятва казалась ему священной, и он обещал себе никогда не изменять ей, что бы с ним ни случилось.
Решение было принято, и теперь следовало как можно скорее привести его в исполнение.
Ален Монпле обладал всем необходимым для охотничьего промысла: превосходным ружьем и отличной собакой; таким образом, ему предстояло лишь обзавестись хозяйством.
У молодого человека оставались только шесть луидоров и несколько украшений.
Он отправился в Исиньи, чтобы продать эти украшения и купить кровать, стол, четыре стула, кухонную утварь и полный костюм охотника на водоплавающую дичь.
По дороге он повстречал семейство бедняков — их послал к нему скупщик дичи, чтобы они забрали вещи папаши Шалаша.
По прошествии часа пребывания Алена в Исиньи его украшения были проданы, все покупки были сделаны, и в лачугу охотника был отправлен каменщик с заданием побелить известью внутреннюю часть дома и заделать в ней щели.
Молодой человек вернулся в хижину около пяти часов вечера.
На четыреста франков, вырученных за проданные украшения, и несколько остававшихся у него луидоров он приобрел все предметы первой необходимости.
Правда, Ален вернулся в Шалаш без единого су.
Однако у него был хлеб на вечер и на следующий день, а также имелось вдоволь пороха и свинца — этого запаса должно было хватить на всю зиму.
Теперь следовало начать новую жизнь.
Ален начал ее в тот же вечер.
Мы уже рассказывали, что значит охота на водоплавающую дичь и какие трудности и опасности подстерегают охотника.
Благодаря проявляемой Аленом страстной любви ко всякой охоте, все эти трудности и опасности должны были лишь придать новые силы нашему герою.
Молодой человек с азартом предался любимому делу, поскольку усиленное движение, острые ощущения и постоянные заботы избавляли его от грустных мыслей; поскольку физическая усталость заглушала душевные треволнения; поскольку это увлечение, приносившее истинное облегчение человеку, чье сердце рас крылось только раз и снова замкнулось в себе после нанесенной ему раны, вскоре переросло у Алена Монпле в неистовую страсть. Он неделями не покидал песчаных отмелей устья Виры, где в избытке водится водоплавающая дичь, — и жил там, и спал, и ел, днем отстреливая здешних больших и малых голенастых и ночью подстерегая перелетных птиц. Несмотря на то что охотник убивал множество дичи, которую через день забирал у него торговец из Исиньи, принося деньги за добычу, полученную им в предыдущий раз, он никак не мог насытиться своей жестокой забавой.
Между тем Ален лишь наполовину претворил в жизнь свою угрозу человеческому роду, хотя, размышляя об этом (а наш герой нередко предавался таким раздумьям), он чувствовал боль обид, которые причинили ему люди, столь же остро, как и прежде.
Поскольку ему недоставало силы духа какого-нибудь Тимона или Альцеста, он не мог полностью отказаться от общества себе подобных: случайно сталкиваясь с бывшими друзьями, рыбаками из Гран-Кана, Мези и Сен-Пьер-дю-Мона, он время от времени вступал с ними в разговор.
Правда, эти люди никогда не причиняли Алену Монпле никакого вреда и, вероятно, уважали его как охотника на водоплавающую дичь не меньше, а то и больше, чем когда ему предстояло стать наследником Хрюшатника.
Тем не менее Ален упорно и непреклонно стремился выполнить вторую часть своего замысла.
Он затаил злобу на всех сестер Лизы Жусслен; он избегал женского общества и, хотя его ненависть к прекрасному полу пока что выражалась лишь на словах, тем не менее это чувство было сильным, глубоким и искренним.
В один из ноябрьских дней 1841 года Ален собрался на восточную отмель, расположенную в двух льё от Мези, чтобы дожидаться там вечернего перелета птиц.
Он надел высокие сапоги, доходившие ему до пояса, натянул поверх рубахи матросский бушлат из промасленной парусины, взял ружье, одеяло, окликнул Флажка — 3-272 своего товарища по одиночеству и бессловесного утешителя (собака, продолжавшая ежедневно ходить на могилу бывшего хозяина, невольно наводила Алена на мыс л, о бренности бытия) — и направился в сторону селения.
По дороге охотник заметил, что погода предвещает шторм.
Большие волны бились о берег, а еще более грозные валы вставали на горизонте.
Северный ветер, внезапно сменившийся юго-западным, крепчал с каждой минутой, и на небе рдели широкие полосы кровавого багрянца.
Охотник не успел проделать и половины пути, как буря разразилась со всей своей неистовой силой.
Гигантские волны наступали подобно движущимся горам и обрушивались на берег, дробя гальку.
Ветер вздымал в воздух такие плотные вихри песка, что путнику в конце концов пришлось укрыться за насыпью, устроенной со стороны поля и предназначенной для таможенных чиновников.
Подходя к деревне, Ален увидел, что все население Мези собралось на берегу: женщины стояли на коленях на мокром песке, окаймленном бахромой пены, и страстно молились; мужчины озабоченно наблюдали за тем, как моряки готовят шлюпку к спуску на воду, подкладывая весла под киль, чтобы легче было ее двигать.
Ален тотчас же узнал о причине этого необычного волнения.
После полуденного отлива три рыбацких баркаса из Мези отправились на ловлю устриц, и местные жители опасались, как бы буря, разразившаяся прежде чем рыбаки успели выйти в открытое море, не прибила их к берегу.
Монпле присоединился к мужчинам, вглядывавшимся в горизонт, окутанный плотной завесой дождя, и принялся взвешивать вместе с ними шансы рыбаков на спасение.
Тома Ланго, как и другие обитатели селения, тоже вышел на берег, но, казалось, бакалейщик был обеспокоен даже больше остальных.
Прочие опасались за жизнь родных и друзей, а ростовщик дрожал за свое добро: два или три судна, которым грозила гибель, принадлежали ему.
Впрочем, панический страх овладел не только лавочником.
Жанна Мари, бедная вдова, которую скупец превратил в свою служанку, якобы желая ее поддержать, сопровождала его и, подобно ему, не находила себе места от тревоги.
Всякий, кто видел, как тревожатся ростовщик и его племянница, приходил к выводу, что, вероятно, страх Тома Ланго был неимоверно велик, раз он допустил, чтобы несчастная женщина, которую он обычно сурово наказывал за малейшую отлучку из лавки, покинула ее вместе с ним.
Охваченный волнением, он тем не менее заметил охотника и подумал, что встреча с человеком, внушающим ему чувство вины, предвещает несчастье: под влиянием страха Ланго стал суеверен; скупец захотел убедиться, что Ален, которого он не видел после смерти Жана Монпле и продажи Хрюшатника, не затаил на него злобы: он надеялся таким образом хотя бы отчасти отвести от своих судов угрозу.
И вот лавочник стал потихоньку подбираться к группе моряков, среди которых находился Ален.
Но тот, также не спускавший глаз со своего недруга, вовремя заметил его приближение, отошел на несколько шагов и сел на каменную глыбу.
Однако Косолапый хотел ясности.
Он сделал вид, что отказался от мысли заговорить с Аленом, но, описав круг, подкрался к молодому человеку, прежде чем тот успел его заметить.
— Скверная погода, до чего же скверная погода, мой мальчик, — произнес он внезапно, не позволяя Монпле избежать ответа.
— Вы так считаете, господин Ланго? — холодно отозвался охотник.
— Разумеется, я так считаю.
— Ну а я так не считаю.
— И все же, — пролепетал Ланго, не на шутку встревоженный гоном, которым ему ответили, — вы, очевидно, понимаете, что такая погода не особенно радует тех, кому она может причинить ущерб.
— По той же причине, господин Ланго, вы, с вашим недюжинным умом, должно быть, понимаете, что такая погода кажется как нельзя более приятной тем, кому она может принести удачу.
— Господи Иисусе! — вскричал ростовщик, воздевая к Небу свои крючковатые руки. — На какую удачу вы рассчитываете при подобной буре?..
— Мне это принесет удачу потому, что, во-первых, ветер прогонит водоплавающую дичь с моря и с отмелей, птицы слетятся на берег, и мне не придется мочить ноги, охотясь на них; во-вторых, дичь будет занята только поисками укрытия и позабудет о моем ружье, так что мой ягдташ наполнится столь же легко, как если бы я охотился, сидя в кресле-каталке. Наконец, возможно, непогода принесет мне еще кое-что, чего я страстно желаю, хотя ради этого надо молиться самому дьяволу.
Произнося эти слова, Ален смотрел на старого ростовщика с усмешкой.
Тот прекрасно понял, на что намекает молодой человек и содрогнулся от ужаса при мысли о том, что Бог или дьявол услышат мольбы жертвы ростовщика и покарают его, Ланго, отняв у него баркасы.
— Значит, вы не христианин, раз высказываете подобные желания?! — возопил ростовщик.
— Ну уж извините, не христианин! Поистине, господин Ланго, это обвинение чертовски подходит вам! Кому, как не вам, господин Тома Ланго, подобает рассуждать о милосердии! "Самым хитрым — пуховые перины", — говорили вы, прибрав к рукам Хрюшатник. Не справедливо ли было бы ответить вам сегодня: "Самым невезучим — наибольшие убытки?"
— Ты этого не скажешь, Ален, — промолвил Тома Ланго, трепеща от страха, — ты же знаешь, мой мальчик, что я всегда тебя любил!
— Да, от такой любви остается лишь плакать.
— Возможно, возможно, ведь мне было отнюдь не просто так обойтись с тобой, но ты же прекрасно понимаешь: дела есть дела, нельзя все время только получать и никогда ничего не отдавать.
— В таком случае, почему вы не предложили мне уладить дело миром? Отвечайте! Увидев, до чего я докатился, какая страшная опасность мне грозит, я бы вмиг излечился от своей лени. Я взялся бы за дело, женился бы и постепенно рассчитался бы со своими долгами.
— Виной тому моя излишняя щепетильность, мой мальчик, да, излишняя щепетильность. Я не хотел участвовать в обмане славного господина Жусслена: мне и так пришлось упрекать себя за то, что я так долго злоупотреблял доверием твоего отца! Да простит меня за это его добрая душа!
Монпле, возмущенный подобным лицемерием, пожал плечами.
— Ты сердишься на меня, — продолжал Тома Ланго, — ты сердишься, ноты не прав; я докажу тебе это. Послушай, раз ты не прочь взяться за дело, воспользуйся этим: распрощайся с болотами и лягушками и отправляйся в Париж. Клянусь честью, Ален: как только ты там окажешься, я обеспечу тебя средствами, чтобы ты разбогател, подобно мне.
— Нуда, конечно! — воскликнул молодой человек. — И в придачу вы дадите мне свою жадность, свое коварство и лживое, черствое сердце, господин Ланго? Нравится вам или нет, но знайте: я останусь здесь, чтобы вас ненавидеть, ибо я вас ненавижу, слышите?
Ален бросил эти слова в лицо ростовщику с такой неистовой силой, что тот отступил на шаг назад.
— Любой другой ненавидел бы вас тайком, не так ли? — продолжал молодой охотник. — Но я не такой как все, и потому с особенной радостью снова и снова говорю вам в лицо: я вас ненавижу! Вы напускаете на себя сейчас милосердие и добродушие, потому что боитесь за свои жалкие посудины. Так вот, послушайте, что я вам скажу: это ужасно, но это правда. Будь оба ваших баркаса здесь, и мне было бы достаточно всего лишь раз выстрелить из ружья для их спасения, я бы скорее разбил свое ружье, нежели нажал на курок, так и знайте!
При этих словах Монпле послышался вопль, исходивший из горла или точнее из сердца женщины, которая со скрещенными руками и тревогой на лице слушала разговор мужчин.
Это была Жанна Мари — племянница ростовщика.
— О господин Ален, — воскликнула она, — как же нехорошо так говорить! Ведь в этих лодках — люди и дети, чьи родители не сделали вам ничего плохого.
Услышав вполне справедливый упрек, Ален вздрогнул.
— Женщина права, я об этом не подумал! — вскричал Ланго, обрадованный поддержкой. — Да, в этих баркасах — чада Господа Бога, человеческие существа, да хранит нас всех Всевышний! Вы желаете им смерти, господин Монпле, накликая гибель на мои суда.
— Я никому не желаю ни беды, ни ущерба, — отвечал Ален, — но если все же этих несчастных постигнет беда и они потерпят ущерб, пусть меня не судят за то, что я не жалею людей, которые никогда не жалели меня.
— Увы! — вздохнула вдова. — Это далеко не одно и то же, господин Ален, ведь вы сами навлекли на себя несчастье, гоняясь за удовольствиями, а те, кто сейчас в море, рискуют жизнью ради того, чтобы прокормить своих детей и облегчить участь их матерей.
Говоря это, бедняжка имела в виду своего сына, которого Ланго неделей раньше заставил сесть в один из баркасов, чтобы мальчик приучался к делу, как говорил ростовщик, а в сущности, чтобы он съедал в другом месте кусок хлеба, необходимый ему для каждодневного пропитания, тот самый жалкий кусок хлеба насущного, о котором мы просим Бога в молитве "Отче наш".
Жанна Мари, не решаясь выказывать никакого волнения, была ни жива ни мертва при мысли об опасности, которой подвергался в эту минуту ее любимый сын, ее единственное утешение на земле.
Но, как ни старалась племянница Ланго скрыть свою тревогу, она не могла справиться с обуревавшими ее чувствами.
Женщина отвернулась, чтобы никто не увидел ее слез.
Ален не заметил или притворился, что не заметил этого движения.
Жанна Мари была женщиной, то есть одним из тех существ, кого Ален поклялся ненавидеть и карать, и, преисполненный злобы к бакалейщику, он воскликнул:
— О Жанна Мари, спросите у вашего дядюшки, один ли я виновен в своем разорении, и не следует ли мне, прежде чем бить себя в грудь со словами: "Меа culpa![1]", изобличить ложных друзей, чьи советы ускорили смерть моего отца, а меня самого довели до нищеты! Полно, полно, женщина! Ты защищаешь далеко не праведника! Моли же Господа Бога, чтобы он не наказал тебя за такое родство и, пытаясь встать между нами, не усиливай жажду мести, которую возбуждает во мне вид этого человека.
При последних словах глаза Алена Монпле засверкали столь же грозно, как и проблески молнии, вспыхивавшие на горизонте.
Затем, не дождавшись ответа, молодой охотник оборвал разговор, вскинул на плечо ружье и пошел прочь, держа курс на восток.
VIII
ПОТЕРПЕВШИЕ КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ СО СВЯТОЙ ТЕРЕЗЫ"
В последующие полчаса в Мези царило столь же сильное смятение.
Чтобы получить представление об этом смятении, которое мы даже не пытаемся описать, следует самим оказаться на северном или западном взморье и провести там те тревожные часы, когда один и тот же страх в одно и то же время охватывает души двух-трех тысяч человек и заставляет учащенно биться их сердца.
Наконец, по истечении получаса, по-прежнему ничего не видя в тумане, жители Мези решили, что баркасам удалось выйти в открытое море, лавируя между волнами, пока ветер позволял нести на мачтах хотя бы клочок парусов; почти успокоившись, все постепенно разошлись по домам.
На берегу остались только Ланго с племянницей и несколько женщин — матерей, сестер или жен, чья тревога не могла утихнуть, пока еще оставались сомнения.
Тома Ланго, переживавший за свои суда не меньше, чем матери, жены и сестры за судьбу детей, мужей и братьев, шагал взад и вперед по взморью, припадая на свою скрюченную ногу и не обращая внимание на то, что дождевая и морская вода промочила на нем все до нитки.
Лавочник то и дело замирал на каком-нибудь бугорке и направлял свою подзорную трубу на море; затем он складывал ее, с жестом нетерпения убирал в карман и бормотал:
— Ничего! По-прежнему ничего! В конце концов, они правильно делают, что держатся вдали от берега. При таком волнении моря лучше быть подальше от берега.
Но затем он добавлял, поскольку в нем снова брала верх скупость:
— И все же мне не терпится увидеть мои бедные лодки.
Обернувшись, Ланго увидел племянницу и затопал ногами, крича:
— Боже праведный! Ты все еще здесь? Слоняешься по берегу, вместо того чтобы обслуживать клиентов, продавая им водку и свечи? Ах, вот что значит родня, вот как она благодарит нас за то, что мы ее кормим!
Бедная Жанна Мари, чье сердце и взоры были обращены к стихии, грозившей отнять у нее сына, умоляюще сложила руки и сказала в ответ:
— Я заклинаю вас, дядя, позвольте мне еще немного побыть здесь возле вас.
— Возле меня! Возле меня! — возмущенно вскричал Ланго. — Да что тебе здесь делать?!
И не замечая, в какое смятение повергало несчастную вдову томительное ожидание, не обращая внимания на ее глаза, полные слез, и на судорожную дрожь, сотрясавшую ее тело, скупец продолжал:
— Я еще понимаю, если бы от твоих жалоб, нытья и плача немного утих ветер, так нет же: он дует так, что вот-вот опрокинет скалу. О! Мои бедные лодки! Они не выдержат, они не могут выдержать!
Эти причитания были для женщины равносильны смертному приговору, и она разразилась душераздирающим криком:
— Мое дитя! Мое милое дитя! Мой бедный маленький Жан Мари! О Господь наш Иисус Христос! О пресвятая Богородица Деливрандская, неужели вы не пощадите моего дорогого сына?
— Черт возьми, ты увидишь его, своего щенка! — проворчал в ответ лавочник, державшийся грубее обычного из-за злившей его непогоды. — Человек, будь-то мужчина или ребенок, всегда возвращается на берег живым или мертвым, это же не судно.
Бедная мать зажала уши, чтобы не слышать этих слов, прозвучавших как кощунство, и преклонила колени на песке.
В этот миг вдали показался человек, широко шагавший вдоль берега и отчаянно размахивавший руками.
Тома Ланго побежал навстречу мужчине, забыв о племяннице, готовой упасть в обморок.
Этот человек, показавшийся лавочнику вестником несчастья, был не кто иной, как Ален Монпле.
Несмотря на то что молодой охотник находился слишком далеко и его трудно было расслышать, он кричал, пытаясь перекрыть голосом ветер и бурю:
— Созывайте людей! Все — на спасение! Судно село на Пленсевскую отмель!
Ноги Тома Ланго подкосились, в глазах у него потемнело, и он почувствовал, что теряет сознание.
Прежде чем лавочник пришел в себя, Ален пробежал мимо; добравшись до главной улицы, он стал кричать так, что его услышала вся деревня:
— На помощь, люди, на помощь! Их выбросило на Пленсевскую отмель!
Услышав этот крик, казавшийся гласом морского духа, все обитатели селения — мужчины и женщины, дети и старики — выскочили из своих домов и побежали к указанному месту, где произошло несчастье.
Жанна Мари по первому же зову устремилась к Пленсевской отмели; отчаяние придавало женщине сил, и она обогнала даже самых проворных мужчин. Задыхаясь и чувствуя стеснение в груди, вдова с растрепанными от ветра волосами и безумным блуждающим взглядом первая обогнула выступ скалы и первой смогла обозреть небольшую бухту, в которой раскинулась Пленсевская отмель.
По широкой белой полосе, окаймлявшей вельс баркаса, она узнала "Святую Терезу", то есть судно, на борту которого находился ее сын.
Это зрелище так потрясло несчастную мать, вдобавок обессилевшую от быстрого бега, что она рухнула на песок с криком:
— О Боже, Боже! Мой бедный малыш!
Вслед за ней на берег прибежали другие, и некоторое время в бухте царили неописуемый шум и суета.
Мужчины говорили одновременно, наперебой обсуждая способы спасения потерпевших кораблекрушение, и, таким образом, теряли драгоценное время в бесплодных спорах.
Женщины отчаянно кричали, и их рыдания смешивались с рыданиями детей, начинавших плакать, глядя на плачущих матерей.
Одному лишь Алену и нескольким матросам удавалось сохранять некоторое спокойствие посреди этой суматохи.
Жак Энен — читатель, очевидно, помнит, что мы упоминали имя этого моряка в начале нашего повествования, обещая, что встретимся с ним позже — Жак Энен, пользовавшийся определенным авторитетом среди односельчан как бывший боцман, плававший на государственном корабле, приказал всем замолчать.
Заставив женщин и детей отойти к скалам, он послал нескольких молодых людей за шлюпкой, приготовленной к спуску на воду в Мези: они должны были погрузить ее на телегу, запряженную лошадьми, и как можно быстрее доставить к месту бедствия.
В самом деле, положение "Святой Терезы" было критическим, и для спасения судна требовались быстрые и решительные действия. Оно налетело на мель всем корпусом и врезалось в нее достаточно далеко, чтобы терять плавучесть, когда волна откатывалась назад. Весь экипаж баркаса состоял лишь из трех матросов и юнги — юнгой был маленький Жан Мари; не в силах удержаться на палубе, на которую беспрестанно обрушивались волны, люди укрылись на мачте, привязав себя к ней тросами. Время от времени особенно могучий вал захлестывал судно, заставляя его ложиться на бок, и тогда все — киль баркаса, его мачта и люди — исчезало в чудовищном водовороте; на обратном же пути волна возвращала баркас в вертикальное положение. Юнга, привязанный к верхней оконечности мачты, показывался первым; за ним появлялись матросы и корпус судна, после чего оно некоторое время оставалось в горизонтальном положении, пока море снова не опрокидывало его.
Всякий раз, когда баркас скрывался под водой, это жуткое зрелище исторгало из груди наблюдателей крики ужаса, сливавшиеся с дикими воплями потерпевших кораблекрушение, чьи голоса были отчетливо слышны на берегу.
Вслед за этим толпа на суше ненадолго замирала и замолкала.
Короткие мгновения ожидания казались всем вечностью.
Наконец из уст собравшихся одновременно, как и вопль отчаяния, вырывался крик надежды — так люди на берегу встречали возвращение экипажа судна к свету и жизни.
В этот миг тысяча двести — полторы тысячи людей одновременно вздыхали с облегчением и дружно восклицали:
— Слава Богу! Их по-прежнему четверо!
Однако примерно через четверть часа, прежде чем вернулись мужчины, посланные за спасательной шлюпкой, один из матросов "Святой Терезы" не вынес постоянных погружений в воду.
Теперь на мачте баркаса оставалось только трое живых.
Четвертый, находившийся ближе всех к палубе, висел на оттяжке мачты, перегнувшись вдвое.
Он был мертв!
Крики и рыдания разразились снова.
Не было никаких сомнений, что такая же участь ожидает и других несчастных матросов — одного за другим.
Жители деревни единодушно потребовали от Жака Энена принять меры для спасения уцелевших людей.
Бывшему боцману пришлось отталкивать женщин, заходивших далеко в воду и протягивавших навстречу потерпевшим кораблекрушение свои беспомощные руки.
В это время громкие возгласы возвестили о прибытии спасательной шлюпки.
Толпа ринулась к ней, ее стали волочить и толкать к берегу.
И тут боцман Жак грозно, как адмирал, обратился к собравшимся со словами:
— Эй вы, слушайте меня и повинуйтесь!
Все умолкли.
— Требуется восемь добровольцев! — вскричал боцман.
Желающих оказалось пятьдесят человек.
В подобных случаях французы всегда проявляют поразительное мужество: чтобы спасти одного несчастного, десять смельчаков готовы пожертвовать собой, рискуя ничуть не меньше, чем тот, кого они собираются спасти.
Жак Энен выбрал восьмерых из числа самых сильных и решительных мужчин.
Ни одна из женщин, будь то мать, жена или сестра добровольца, не проронила ни слова, не сделала ни малейшей попытки удержать сына, мужа или брата, рвавшихся навстречу опасности.
Каждая из них понимала, что мужчины с Божьей помощью собираются исполнить священный долг.
Никто, кроме Бога, не был вправе судить тех, кто приносил себя в жертву.
Жак Энен указал каждому гребцу его место в шлюпке, посоветовал всем внимательно слушать приказы и ждать, когда волнение немного ослабнет, чтобы преодолеть пространство, отделявшее их от открытого моря.
По его команде восемь смельчаков подтолкнули лодку и, как только она заскользила по волнам, заняли свои места и согнулись, дружно работая веслами.
Но не успели они отойти на десять саженей от берега, как волна накрыла их с головой и, опрокинувшись, перевернула шлюпку.
Сидевшим в ней мужчинам удалось спастись, уцепившись за стальные тросы, которые Жак Энен предусмотрительно приказал натянуть вдоль обоих бортов.
Шлюпку трижды спускали на воду, и трижды волны переворачивали ее.
После третьей попытки спустить шлюпку на воду Жак Энен устало прислонился к лодке, лежавшей на песке вверх килем, и вскричал с тоской и яростной досадой в голосе:
— Довольно, ребята, довольно! Господь Бог не на нашей стороне.
Затем он проворчал, грозя Небу кулаком:
— Вовсе не смешно смотреть, как в ста саженях от берега твои товарищи дергаются, словно акулы на крючке! Если трос якоря натянут отвесно, он обязательно порвется! Сегодня — их черед, завтра — наш! Давайте помолимся за наших друзей, матросы! "De profundis"1 — вот и все, что им остается от нас ждать.
Подкрепляя эту просьбу жестом, старый морской волк обнажил свою седую голову, встал на колени и принялся молиться вслух.
Но ему не суждено было закончить начатую молитву.
Одна из женщин, пробившись сквозь толпу с яростью львицы, схватила боцмана за руку и встряхнула его с такой силой, что он был вынужден подняться.
Это была Жанна Мари.
— Трус! — воскликнула она. — Ты же видишь, что эти люди еще живы, а вы отказываетесь спасать своих ближних, хотя они всего лишь в двухстах шагах от вас и могут в любую минуту погибнуть! Ко мне, матери! Ко мне, жены! Давайте сделаем то, на что не решаются мужчины!
Несколько женщин обступили Жанну Мари с возгласами:
— Пошли! Пошли! Мы жены моряков, и мы знаем, как обращаться с веслами.
— Несчастная! — воскликнул Жак Энен, обращаясь к Жанне Мари. — Ты решила умереть сама и хочешь погубить других?
— Я хочу спасти моего сына… Мальчик протягивает ко мне руки, он там, видишь? Это мой сын!.. Да, да! — закричала женщина. — Да, я иду туда! Если я не смогу его спасти, то, по крайней мере, мы умрем вместе.
И тут, как будто стихия решила, пока люди молчали, дать за них ответ, чудовищная волна с грохотом обрушилась на берег; она сбила с ног несколько человек, а остальных окатила пеной.
Крики пострадавших смешались с возгласами других 1 "Из бездн [взываю]" (лат.).
наблюдателей, стоявших на большем удалении от моря и не спускавших со "Святой Терезы" глаз.
Эти возгласы означали, что число потерпевших кораблекрушение, еще остававшихся в живых, сократилось до двух.
Теперь на мачте над первым трупом болтался еще один мертвец.
Таким образом, смерть поднималась вверх шаг за шагом.
— Видишь, Жанна Мари, — сказал старый боцман, — сила и мужество людей бессильны перед стихией, когда Господь Бог своим дыханием поднимает такие волны. Ни одна лодка, даже принадлежи она самому дьяволу, не перенесется через эту пучину, разве что вверх килем! Умелый пловец мог бы, пожалуй, покрыть расстояние в сто саженей, но я бы не советовал никому из Мези, каким бы сильным ни был этот человек, пытаться такое сделать.
— Пловец! Пловец! — твердила Жанна Мари, ломая себе руки. — Но я не умею плавать! О! Господь Бог, дающий матерям любящее сердце, должен был бы наделять нас мужской силой.
И тут она заметила охотника на водоплавающую дичь; он стоял рядом и хмуро смотрел на трагедию, разворачивавшуюся на его глазах.
С быстротой молнии женщина бросилась к его ногам.
— Господин Ален! — возопила она. — Господин Ален! Говорят, что вы лучший пловец не только в Мези, но и на всем побережье. Господин Ален, ради Бога, во имя вашего отца и вашей матери, покоящихся в христианской земле, спасите моего малютку!
— Даже не вздумайте, Монпле, — вмешался Энен, — даже не вздумайте! Иначе вас ждет жуткая смерть!
Жанна Мари поднялась на ноги и вскричала:
— Замолчите, Жак! Молчите и не мешайте этому смелому парню вернуть матери сына. О, если бы вы только знали, как я его люблю, добрый господин Ален! — продолжала несчастная женщина. — Если бы вы только знали, как он меня любит, мой бедный милый сыночек!.. Если бы вы знали, сколько притеснений я вынесла ради него!.. Если бы видели, с каким мужеством он согласился сесть в этот баркас, чтобы мы не лишились куска хлеба у дяди. О, тогда вы бы поняли, что мне нельзя терять его!.. Теперь, когда вы знаете это, я могу поклясться, что, спасая моего сына, вы спасаете жизнь сразу двух людей, ведь, кроме него, у меня никого нет! Но Бог, добрый, милосердный Бог — при этом вдова воздела руки к Небу, — Бог не станет отнимать у меня единственное утешение, которое он оставил мне на этом свете! Если же Господь заберет Жана Мари, то, значит, он не хочет, чтобы я пережила сына! О Боже, Боже! Ты ведь знаешь, что мать не может пережить свое дитя, не так ли?!
Эти слова потрясли собравшихся.
Даже Ален, питавший неприязнь к людям, был взволнован не меньше других.
Как уже было сказано, наш герой был лишен материнской любви с самого детства; сила и самоотверженность этого чувства, свидетелем которого он оказался впервые, привели его в неописуемый восторг.
— Что ж, да будет так! — внезапно воскликнул молодой человек. — Пусть не говорят, что Алена Монпле попросили спасти жизнь ребенка, никому еще не причинившего зла, а Ален Монпле отказался из страха за свою шкуру. Эй, вы! — крикнул он толпе и, скинув с себя бушлат и рубаху, бросил их на мокрый песчаный берег. — Я поплыву туда! Обвяжите меня тросом.
Раздевшись в мгновение ока, обнаженный охотник походил на великолепную мраморную статую Геркулеса Фарнезского, разве что его запястья не были столь же тонкими.
Тело молодого человека обвязали тросом.
— Господин Ален! Господин Ален! — отчаянно кричала вдова, в то же время протягивая руки к затонувшему судну.
В эту минуту волны накрыли баркас, и он скрылся из вида в двадцатый раз.
Мучительное беспокойство людей достигло предела.
Героический поступок охотника мог оказаться бесполезным, если последние двое несчастных на борту уже испустили дух.
Наконец, баркас вновь принял вертикальное положение.
Все увидели, что третий матрос висит, перегнувшись вдвое, — он был мертв, как и двое его товарищей.
В живых остался только маленький юнга, привязанный к оконечности мачты, — при каждом ударе стихии он погружался в воду менее глубоко, чем другие.
— Ах! — с облегчением вздохнула вдова. — Он жив, он жив, Ален! Да хранит вас Бог!
— Мужайся, Ален, мужайся! — послышалось со всех сторон.
Охотник покрепче завязал трос, которым было обмотано его тело, и передал его конец боцману Энену, сказав:
— Держите, вы будете осторожно травить трос, а когда я доплыву туда, привяжете к нему крепкий канат. Я подтащу канат к себе, мы натянем его между судном и берегом, и, если Богу угодно, я вернусь вместе с мальчиком.
— Тысяча чертей! — вскричал Энен. — Ты безумец, но славный малый! Я не стану прохлаждаться, пока ты так отважно рискуешь жизнью; если хочешь, Ален, мы поплывем туда вместе.
— Не стоит, не стоит, — ответил молодой охотник, удерживая старого моряка, собиравшегося скинуть с себя рубаху. — Если мальчика можно спасти, Жак, то одного человека вполне достаточно; если же невозможно, хватит и одной жертвы… У вас тоже есть дети, — прибавил он тихо, чтобы его не услышала вдова, — что с ними станет, если они вас потеряют?..
— По правде сказать, это так! — пробормотал старый моряк, печально опуская руки. — Ах, эти окаянные карапузы, я о них совсем забыл! Ступай же, смельчак Ален! Плыви один, а насчет каната — положись на меня. Главное — не давай волне оглушить тебя, от нее часто больше шума, чем вреда.
— Будьте покойны, — отвечал Ален, — мы с ней старые приятели. А вы следите за канатом, чтобы он не был слишком сильно или слабо натянут… Ну, вот и все, прощайте!
— Вот и все, смельчак Ален. Позволь мне пожать тебе руку, за себя и за моих товарищей.
Молодой человек и старый моряк сжали друг друга в объятиях.
После этого трогательного прощания Ален устремился вперед.
И тут настала очередь Жанны Мари.
Бедная вдова бросилась в его объятия со словами:
— А я! Вы забыли меня, господин Ален!
Женщина поцеловала охотника целомудренно и в то же время страстно.
Ей казалось, что, таким образом, она передает поцелуй своему сыну.
Ален зашел в воду по колено, готовясь к сражению со стихией, как силач к бою.
Он стал ждать очередной волны.
И вот, наконец, она накатилась — огромная, яростно ревущая, грозная.
Вместо того чтобы броситься от нее вспять, человек ринулся навстречу стихии, решительно нырнул под волну и, увлекаемый отливом, всплыл в двадцати саженях от берега.
— Браво! Браво! — вскричал Энен. — Парень знает свое дело. Теперь, когда я увидел его за работой, я готов поспорить, что он доплывет, и ставлю об заклад свою жизнь против понюшки табаку.
— Мужайся, Ален, мужайся! — кричали все.
Лишь одна вдова хранила молчание.
Она молилась, стоя на коленях, и плакала; изнемогая под бременем страданий, слишком непосильным для ее хрупкого немощного тела, женщина была не в состоянии даже наблюдать за происходящим.
Рыбаки же следили за продвижением Алена с тревогой, смешанной с гордостью.
Когда человек становится свидетелем подвига, это поразительным образом возвеличивает его самого в собственных глазах.
Впрочем, можно было просто любоваться молодым человеком, ибо на него было приятно смотреть.
Он двигался невероятно энергично, при каждом удобном случае ныряя под волны, как и в начале заплыва.
Расстояние между пловцом и севшим на рифы судном постепенно сокращалось, и вскоре все увидели, как молодой человек цепляется за скалы, на которые налетел баркас.
Ален протянул руку, чтобы ухватиться за борт судна.
Но тут его захлестнули волны, и все исчезло из вида — пловец, "Святая Тереза" и маленький юнга на мачте.
Последовало очередное томительное ожидание, одно из тех, что мы уже пытались описать.
Однако на этот раз всеобщее волнение было особенно велико, так как оно усугублялось страхом за Алена и появившейся было надеждой.
Наконец баркас выпрямился.
Мальчик был еще жив!
Благодаря высоте, на которой он находился, Жан Мари во время ужасной килевой качки оставался под водой меньше остальных, как уже было сказано, и потому самый слабый пережил всех других.
Успокоившись за ребенка, люди пытались разглядеть в воде Алена.
Все затаили дыхание, у всех перестало биться сердце.
Вдова выпрямилась во весь свой рост и протягивала к морю руки; она тяжело дышала и не говорила ни слова, ибо у нее не осталось сил даже на молитву.
Внезапно по другую сторону баркаса, со стороны моря появилась темная фигура.
Это был Ален.
Он снова плыл к судну, от которого его отбросило волной.
Во второй раз молодому человеку повезло больше: он ухватился за борт баркаса, поднялся на палубу и привязал к основанию мачты канат, который, как было условлено, переправил ему Жак Энен.
При помощи снастей Ален добрался до мальчика, который совсем окоченел и не мог самостоятельно избавиться от своих пут.
Монпле отвязал ребенка от спасительной мачты, посадил его к себе на плечи, спустился на палубу и, держась за канат, стал возвращаться к берегу.
На суше воцарилось гробовое молчание — не было слышно ни биения сердец, ни вздохов, ни одобряющих слов, ни молитв.
Возвращение было долгим, трудным, опасным.
Жан Мари раз десять выпускал из рук канат, и волны неминуемо унесли бы его в море, но Ален предусмотрительно обвязал мальчика веревкой, соединенной с канатом мертвой петлей.
По мере того как пловец с ребенком приближались к берегу, несчастная мать машинально двигалась им навстречу.
Когда Ален оказался в двадцати шагах от нее, она не смогла удержаться и вступила в воду, чтобы поскорее встретить его и своего сына.
К счастью, женщина не потеряла дно под ногами.
Ален передал ей сына.
Как только мать завладела мальчиком, она обернулась к людям с радостным воплем, напоминавшим звериный рев, и, никого не поблагодарив, не выразив Алену признательности, бросилась бежать в сторону Мези; при этом она так крепко прижимала к себе ребенка и так спешила, словно море гналось за ней по пятам.
— Ну-ну, натягивай свое тряпье, — промолвил боцман Энен, пожимая руку отважного пловца, — я полагаю, что ты, как и я, не намерен присутствовать при разрушении этой посудины. Пойдем-ка лучше повеселимся в харчевню "Королевский якорь".
— Спасибо, Энен, — отвечал молодой человек, одеваясь, как советовал ему славный боцман, — но я дал себе несколько клятв, в том числе обещание никогда больше не заходить в трактир.
— Черт подери! В таком случае пойдем ко мне, ведь нам не следует вот так расставаться в подобный день. К тому же ты сейчас слишком далеко от своего камбуза, чтобы отправиться туда за похлебкой.
— И все же я должен туда вернуться, боцман Жак, — возразил Ален, — так как уже темнеет, и я пропустил вечерний перелет птиц. К счастью, луна всходит в одиннадцать часов и я смогу наверстать упущенное.
— Что ж, черт возьми! Если надо, я помогу тебе истреблять уток, хотя это не мое дело, и я лучше управляюсь с веслом или румпелем, чем с ружьем. Но прежде ты бросишь якорь в моей гавани, и это так же верно, что ты отчаянный парень и лихой пловец.
Таким образом, боцман Жак насильно затащил к себе Алена.
Страшная драма завершилась.
Большинство жителей Мези вернулись в деревню.
В Пленсевской бухте остались только родственники погибших и Том Ланго; первые ждали, когда море разнесет "Святую Терезу" в щепки и вернет им три трупа, чтобы можно было позаботиться об их погребении, а лавочник хотел лично увидеть обломки, которые волны начали прибивать к берегу.
Показавшаяся на небе луна озаряла эту скорбную картину.
Художнику бы взяться теперь за кисть: перо бессильно передать мрачное величие пустынного моря, бури и ночи.
IX
СЕМЬЯ БОЦМАНА
Боцман Энен жил в побеленном известью маленьком домике с зелеными ставнями и красной черепичной крышей; этот домик с садиком, окруженный красивой изгородью из утесника, сверкал, словно карбункул, посреди темных и убогих соседних построек.
Внутреннее убранство дома своей чистотой гармонировало с его внешним щеголеватым видом.
В нем было две комнаты.
Одна из них служила складом для рыболовных снастей, зерна, садового инвентаря, а также детской; другая была одновременно кухней, столовой, семейной гостиной и спальней Энена и его жены.
Несмотря на то что эта комната имела множество назначений, она содержалась в безупречном порядке. Красный плиточный пол был надраен до блеска. В створки больших шкафов орехового дерева с отделкой из резной меди, начищенной до такой степени, словно на нее каждое утро, как на корабле, наводили глянец, можно было смотреться как в зеркало; невозможно было отыскать хотя бы одну пылинку ни на зеленых саржевых занавесках, обрамлявших кровать с балдахином, ни на многочисленных кораллах и раковинах, напоминавших о моряцком прошлом хозяина дома и аккуратно разложенных на камине и мебели.
Едва лишь боцман Жак, указывавший дорогу Алену, приподнял дверную щеколду, как изнутри дома донесся стук деревянных башмаков и ватага детей — белокурых и темноволосых, — свежих и румяных, как осенние яблоки, высыпала на порог.
Добродушная физиономия моряка прояснилась и расплылась в довольной улыбке.
Нетерпеливым жестом призвав детвору успокоиться, Жак Энен степенно вынул изо рта комок табака, вздувавший его щеку, выпустил изо рта длинную струю желтоватой слюны и вытер губы тыльной стороной руки; затем он начал поочередно приподнимать детей и трижды целовать каждого из них в круглые щечки.
Когда церемония была закончена, боцман сказал:
— Уф! Это потруднее, чем досмотр судна! Ну-ка, Луизон, подбрось в огонь охапку хвороста и выставляй на стол общий котел. А то из-за отсутствия балласта в моем желудке зверская качка.
— Неужели все это ваши дети? — спросил Ален.
— Девять моих и двое покойного брата, но все они записаны в судовые роли как мои собственные.
— Бедный Энен! — воскликнул охотник с сочувствием в голосе.
— Бедный? — удивился боцман. — Не стоит меня жалеть, сдается мне, что в моем нынешнем состоянии я побогаче самого короля.
— Почему?
— Черт побери! У короля шесть детей и, значит, по утрам и вечерам он может получить не более шести благословений, а я получаю целых одиннадцать.
С этими словами он взял двух самых маленьких детишек — своего и приемного — и стал подбрасывать их у себя на коленях.
Алену еще не доводилось вкушать прелестей семейной жизни, и ему казалось, что такое количество детей лишь умножает обязанности и заботы хозяина дома.
Между тем оживленная атмосфера дома боцмана разительно отличалась от мрачной и унылой обстановки его собственной лачуги.
Этот контраст заставил Алена задуматься.
— Значит, вы считаете себя счастливым, Жак? — спросил он.
— Тысяча чертей! Я уверен, что счастлив; я был бы привередливым, если бы думал иначе.
— Надо много работать, Жак, чтобы прокормить такую ораву.
— Ваша правда, но, когда у меня срубят мачты, эта орава тоже будет трудиться ради моего пропитания.
— Гм! — недоверчиво произнес Ален, вспомнивший не без сожаления о своем отношении к родному отцу. — Когда дети вырастают, Жак, заботы становятся другими, только и всего.
Моряк откинулся на спинку своего стула и сказал, глядя Алену в глаза:
— Послушай-ка, парень, что заставляет тебя оплевывать чужое счастье? Неужели ты думаешь, что таким образом можно внушить мне отвращение к семейной жизни? Нет уж, дудки! Как и тебе, мне нравилось гулять на воле, распустив паруса, но, знаешь, приходит время, когда чувствуешь потребность убрать парус и встать на якорь. Рано или поздно это должно случиться, и тогда, если тебе посчастливится встретить такую женщину, как моя жена, нежную, как жир, гибкую, как брам-стеньга, и завести мальцов, которые трутся своей мордочкой о твою щетину, не боясь уколоться, тогда ты заведешь себе мягкое гнездышко и не только ни о чем не будешь жалеть, но и будешь удивляться, что раньше тебе нравилась совсем другая жизнь.
— Пусть так! — вскричал Ален. — Если бы все женщины были похожи на вашу Луизон, в ваших словах был бы здравый смысл, но на одну приличную женщину приходится девять никудышних, не стоящих даже того, чтобы их выбросили за борт.
— Ах, да, — ответил Энен, — я забыл, что ты имеешь зуб на женщин. Господи, да что же тебе сделали эти несчастные создания?.. Не потому ли ты говоришь такое, что красотка Жусслина сбежала с твоего корабля, когда увидела, что ты отклонился от курса и тебя несет на мель? Бедняга Ален, ты сам в этом виноват. Если ты ловишь треску и отправляешься на Большую банку, не следует покрывать резьбой гальюн, заниматься раскрашиванием княвдигеда и прочей чепухой, а надо следить за обшивкой, оковкой и крепежными болтами. Разрази меня гром! Если тебе суждено жить, лавируя на мелководье, что ты будешь делать с женщиной, оснащенной, как герцогиня, даже если она — дочка старого торговца соленой мазью! Да слава Богу, и если пакостник Ланго навредил тебе лишь тем, что помешал жениться на Лизе, то по моему мнению, парень, тебе, вместо того чтобы злиться на него, тебе следовало бы поставить большую свечку за его здоровье в церкви Богоматери Деливрандской.
— Да я и не жалею о Лизе, боцман Энен, — отвечал молодой человек с натянутой улыбкой, опровергавшей его слова. — Но она навсегда отбила у меня охоту жениться, так что теперь, — прибавил он, указывая на свое охотничье ружье, сохнувшее возле большого камина, — вот моя жена и, клянусь, другой у меня не будет.
— Полно! Полно! — воскликнул Энен. — Если ты в первый раз отправляешься в дальнее плавание и в первый раз находишь бухту со скверным дном, это еще не значит, что следует вообще отказаться от поисков якорной стоянки. Ну, вот и похлебка, отведаем ее, а после ты мне скажешь, может ли женщина, которая так готовит бобы и фасоль, осчастливить мужчину в браке.
Все сели за стол.
Энен так проголодался, что за всю трапезу не произнес ни слова, разве что призывая гостя черпать из котла столь же часто, как он сам, — ну а Ален Монпле, надо сказать, следовал этому совету, не заставляя себя слишком долго упрашивать.
После того как бобовый суп с салом был съеден, Луизон поставила на стол водку, сидр и два стакана.
Дети заспорили, кто принесет трубку, которую попросил отец, и старый моряк, сев у очага, продолжил беседу, прерванную ужином.
— Ну что, мой мальчик, — спросил он, — у тебя сняли все снасти и срубили мачты, как на блокшиве?
— Да, боцман, у меня ничего не осталось.
— Ничего-ничего?
— Совсем ничего!
— Что касается имени того, кто посадил тебя на мель, я знаю и не уважаю его. Это Косолапый, не так ли?
— О Боже, он самый!
— Ну а теперь назови-ка мне — я должен это знать, а зачем, скажу позже — назови-ка мне имя этого никудышного пса-адвоката, которому ты поручил обделывать свои дела?
— Это Ришар.
— Ах, да, адвокат из Исиньи. Так вот, ты уверен, что эта канцелярская крыса не выдала тебя со связанными по-английски руками и ногами этому мерзавцу?
— Этого не может быть, Ришар насмерть разругался с Косолапым, который в свое время обманул его.
— Гм! — проворчал, как полярный медведь, Энен. — Неужели ты думаешь, что волки когда-нибудь ссорятся, если они чуют добычу? Слушай, как-то раз, бороздя Индийский океан, мы повстречали джонку из Кантона, отбивавшуюся от двух малайских судов. Мы бросаемся на пиратов, те отступают, мы гонимся за ними и налетаем на подводный камень. И вот, пока мы работали помпами и дубасили ласкаров, что же ты думаешь произошло? Китайская джонка в свою очередь напала на нас!
— Но позвольте мне тоже спросить, боцман Жак, почему вы задаете мне все эти вопросы?
— Ты думаешь, просто из любопытства?
— О! Вовсе нет.
— Ну что ж, я тебе отвечу: дело в том, что твое дело обсуждают в Мези, сплетничают о нем направо и налево; правда, люди говорят об этом шепотом, так как боятся проклятого Косолапого, которому все что-то должны — кто больше, кто меньше. Но, поверь, парень, все только об этом и судачат.
— А что говорят люди?
— Черт возьми! Люди говорят, что те двое сговорились, как мошенники на ярмарке, как малайцы и китайцы, чтобы обобрать тебя до нитки. Говорят, что ты занял далеко не все деньги, которые они требовали через суд; что не были вывешены объявления о продаже и не соблюдены все прочие формальности, необходимые для конфискации и продажи имущества. А я, — прибавил Энен, понизив голос, — я не то, что подозреваю, а уверен: за этим что-то кроется.
— Неужели?
— Слушай, это так же верно, как то, что мы сейчас заодно. Я уверен, что твой адвокат и Косолапый не так уж сильно сердятся друг на друга, как ты говоришь; я уверен, что Ланго снабжает Ришара деньгами, а Косолапый не станет давать деньги просто так, это не в его правилах. Я ручаюсь, что они состряпали какое-то дельце, а отдуваться пришлось тебе.
— Объясните яснее.
— Ладно! Ведь ты меня слушаешь, не так ли?
— Я весь внимание.
X
ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
— Позавчера вечером, возвращаясь из Сен-Ло, где я получил пенсию за полгода, — продолжал Энен, — неподалеку от Убо я заметил на дороге двух мужчин. Было десять часов вечера. Я сделал несколько лишних галсов в городских кабаках, и у меня были при себе деньги, что заставляет даже храбрецов соблюдать осторожность; поэтому, прежде чем продолжить путь, я решил выяснить, кто эти люди. И вот, я прячусь в канаве, спускаю флаг, убираю верхние паруса и жду… Двое мужчин проходят мимо в десяти шагах от меня. И тут я слышу, как тот, что помоложе, говорит другому:
"Чего вам бояться, ведь он сидит тихо, как краб под камнем?"
"Он сидит тихо, он сидит тихо, — проворчал тот, что постарше, — но все равно было бы лучше сжечь документы".
"Не стоит, не стоит, — отозвался первый, — пока они целы, вы в моей власти".
"Ну да, — отвечал старик, — зато и вы у меня в руках, пока я храню свои бумаги".
"Тем лучше, учитель, — сказал первый со смешком, — теперь мы уверены, что не угодим на каторгу порознь — вы без меня, а я без вас".
В эту минуту гуляющие поравнялись с двумя яблонями, на которые падал свет луны, и я увидел, что это мой Ланго и ваш Ришар.
— Ну и ну! — воскликнул Ален. — А вы не обознались?
— Не обознался ли я? — вскричал боцман Жак. — Ну и ну! Ты бы еще спросил, сумею ли я отличить акулу от палтуса. Разве эти бандиты похожи на прочих людей: Ришар с его желтой гривой да косым глазом и Косолапый, волочащий ногу? Это были они, тем более что адвокат держал под мышкой мешок с деньгами, казавшийся чертовски тяжелым, — я еще подумал, когда они прошли и можно было двигаться дальше, что дьявол платит за его услуги получше правительства.
— О! — воскликнул Ален. — Теперь, когда я стал нищим и узнал, что значит нужда, я готов заявить, что был бы сегодня гораздо счастливее, если бы обрел хотя бы малую долю тех денег, что так глупо были мною растрачены.
— Что ж, хочешь знать мое мнение? Я думаю, что не так уж невозможно вернуть твоему трехмачтовому судну немного рангоута.
— Ну, конечно, — сказал молодой охотник, кусая губы, — только бы узнать точно, о чем сговорились Ришар и Ланго. Но как же это выяснить?
— Ты прав, это трудно, так как и тот и другой — продувные бестии, и они наверняка так завязали узел, что раскрутить его сможет разве что черт. Но, знаешь ли, если ты честный человек, то Провидение должно быть на твоей стороне.
— Провидение, — произнес Ален недоверчивым тоном, — ах, если бы я рассчитывал только на него…
— Стоп! — отрезал старый моряк. — Не будем плохо отзываться о промысле Божьем.
— Вот как! — воскликнул молодой человек. — Стало быть, вы верите в Провидение?
— Да!
Ален покачал головой.
— Это тебя удивляет, — продолжал боцман Энен. — Эх, парень, пойми одну вещь: если судьба бросала человека во все четыре стороны света, где он мотался между небом и водой, не зная ни высоты одного, ни глубины другой, то он понимает, что все эти никудышние писаки, уверяющие, что мы нужны Богу так же, как киту свайка, это сущее стадо ослов и нехристей; если дважды или трижды ты был готов отдать концы и в нужную минуту чья-то рука всегда вытягивала тебя из бездны, то у тебя не остается сомнений, что Провидение не дремлет, то есть оно никогда не выпускает из рук штурвала большого корабля, именуемого миром. И вот тебе доказательство…
— Какое?
— Итак, не далее как сегодня вечером Господь Бог поставил на твоем пути бедняжку, у которой нет на свете ничего, кроме глаз, которые льют слезы чаще, чем полагается. Ты оказал ей огромную услугу, Ален, и, сдается мне, она отблагодарит тебя за это.
— Жанна Мари?
— Да, Жанна Мари. Эта женщина должна соображать, что за стряпня готовится на камбузе ее дядюшки. Надо будет незаметно забросить лот в эти воды, чтобы прощупать дно.
— Вы думаете, она мне что-нибудь скажет?..
— Все может быть! А пока, послушай меня, не подавай никаких признаков жизни и держи язык за зубами, но раскрой пошире глаза.
— Говорят, Косолапый жестоко избивает бедную Жанну Мари, — сказал Ален.
— Ах он злодей, шелудивый пес! Хотел бы я оказаться там, когда он колотит бедняжку. Я бы живо добрался до подводной части его корпуса и линьком отделал бы ему хребет.
И тут боцман Жак решил на деле показать свои способности воспитателя, которыми он весьма гордился.
Он сделал красноречивый жест и при этом так нещадно сжал зубы, что ствол его трубки сломался и самая прекрасная носогрейка во всем департаменте Кальвадос упала и разлетелась на куски.
Боцман встал и отправился за другой трубкой, чертыхаясь изо всех сил.
Видя, что хозяин поднялся, Ален тоже вскочил, заявив, что уже поздно и ему пора домой.
Моряк немного проводил его, и молодой охотник, попрощавшись с боцманом и пожав ему руку, направился в сторону моря.
Настало время отлива, и до прибрежных скал можно было добраться без лодки.
Стояла пасмурная погода, и облака следовали друг за другом столь непрерывной чередой, что луна светила тускло, не позволяя охотнику обойти все водоемы, где обычно отдыхает по ночам дичь.
Ален превосходно устроился в какой-то ложбине, защищенной от воды и ветра, и стал ждать рассвета.
Однако утренние сумерки, как и ночь, не принесли охотнику удачи.
Зима была мягкой, и водоплавающая дичь не выходила на берег.
Лишь стая голубей виднелась поблизости от места, где в засаде сидел Ален.
Подгоняемые голодом птицы свободно разбрелись во все стороны по берегу, выискивая в песке рачков, но охотник не стал стрелять, гнушаясь столь жалкой добычей, и решил вернуться в Шалаш с пустой сумкой.
Подходя к своей лачуге по тропе, которая вела через болото, Ален заметил ребенка, сидевшего на камне у входа в дом и как будто поджидавшего его.
Это был белокурый мальчуган, которому, судя по его тщедушной хрупкой фигуре, было не более одиннадцати двенадцати лет.
У него было открытое смышленое лицо, а его большие голубые глаза, обрамленные длинными ресницами, смотрели на мир задумчиво и печально.
Эти глаза редко оживлялись, но, когда такое случалось, они сияли особенным блеском и лучились от радости.
На мальчике был праздничный наряд моряков: длинная куртка из грубого сукна, голубая рубашка с отложным воротничком и брюки под стать куртке.
На голове ребенка красовался шотландский берете каймой, из-под которого выбивались длинные локоны.
Все это было опрятнее и ухоженнее, чем у других детей его возраста.
Он держал в руке небольшой сверток, завязанный носовым платком.
Ален не узнал мальчика.
Тот явно удивился, что человек, несколькими часами раньше спасший ему жизнь, столь безучастно встретил его появление.
Он заговорил с охотником первым.
— Это я, господин Ален, — сказал мальчик, — это я, Жан Мари, сын Жанны Мари, тот, кого вы вчера вечером вытащили из воды… Неужели вы меня не узнаете?
— Ей-Богу, мой мальчик, — ответил охотник, — мне было не до того, чтобы запоминать твои приметы. Что ж, я с радостью вижу, что ледяная ванна тебе не повредила.
— Послушайте, господин Ален, без вас я провел скверные пятнадцать минут. Поэтому я вас очень люблю, так и знайте! Моя матушка просила меня вам об этом сказать, и она тоже очень любит вас… Матушка всю ночь говорила мне о вас, а это так здорово быть любимым ею…
— Хорошо! Но что же привело тебя сюда чуть свет, мой мальчик?
— А! Совсем другое дело.
— Ну-ка, рассказывай.
— Сегодня утром, господин Монпле, мой двоюродный дед, хотел снова отправить меня в море. Я должен был уже сегодня сесть в Курсёле на "Молодого Шарля" — помните, это трехмачтовый баркас верзилы Луи?
— Да, ну и что?
— Матушка не захотела меня отпускать, так как она поклялась этой ночью, что ноги моей больше не будет ни на одном судне. Тогда дед накинулся на матушку с кулаками. Я хотел заслонить ее и получил оплеуху. Удар свалил меня с ног, и матушка бросилась ко мне со слезами. Когда дед увидел, что Жанна Мари плачет из-за того, что он меня побил, он дал обещание каждый день лупить меня, пока она не согласится, чтобы я отправился на судно. Она была в отчаянии. Я сказал: "Матушка, собери мои вещи, я пойду к господину Алену. Он спас мне жизнь и не даст мне погибнуть из-за какого-то несчастного куска хлеба".
— Ни в коем случае не дам, черт подери! — вскричал молодой охотник.
— И вот я здесь. Правильно ли я поступил, господин Ален?
— Правильно, малыш Жан. Мой дом беден, и еда скудна, но половина моего дома и моей еды к твоим услугам.
— О господин Ален, до чего же вы добрый! Послушайте, матушка очень обрадуется, когда узнает, что я поселился у вас. Ей-Богу, она будет благодарить вас, когда придет!
— Как! Твоя мать придет сюда?
— Ну да; она обещала убегать сюда из дома каждое воскресенье, чтобы навещать меня и обнимать, и она обязательно сдержит свое слово. И потом, разве матушка не должна поблагодарить вас за вчерашний вечер? Она только дома спохватилась, что забыла это сделать.
Ален вспомнил о том, что говорил ему боцман Энен и невольно подумал, что мальчик, явившийся в Шалаш, послан ему Провидением.
— Хорошо! — сказал охотник. — Она всегда успеет меня отблагодарить… Но прежде надо согреться, а то от утреннего северного ветра у меня кровь застыла в жилах. Пошли!
Молодой человек и ребенок вошли в дом.
XI
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТОГО, ЧТО И ЮНГА МОЖЕТ НА ЧТО-НИБУДЬ ПРИГОДИТЬСЯ
Как мы уже говорили, в доме Алена Монпле была только одна комната.
Беспорядок, обычно царящий в жилище холостяков, делал убогую обстановку лачуги еще беднее.
Кровать без полога, стоявшая в углу, невзрачный сундук, стол, несколько соломенных стульев — этим ограничивалось имущество охотника.
Стены были в таком плохом состоянии, что рядом со щелями, заделанными Аленом, уже появились новые трещины.
Поношенная одежда, силки из конского волоса и всевозможные охотничьи приспособления были разбросаны повсюду, а домашняя утварь валялась в очаге вперемешку с погасшими головешками.
— Тьфу ты, господин Ален, — сказал мальчик, окинув взглядом комнату, — ваша хозяйка неряха. Если бы только матушка это увидела, ведь она всегда меня бранит, когда я прихожу домой в платье, перепачканном дегтем!
— Моя хозяйка — это я сам, мой мальчик, — сказал Ален, — я провожу все ночи на взморье, а днем отсыпаюсь, так что у меня не хватает времени разложить все по местам.
— Тогда я сам этим займусь, господин Ален, — предложил маленький Жан, — я надраю пол шваброй и наведу такой лоск, что каюту капитана "Сторожевого" нельзя будет и сравнить с вашей комнатой.
И действительно, весь день ушел на обустройство Жана Мари; с помощью четырех веревок и куска парусины мальчик соорудил себе в углу вполне сносную постель.
Ален попытался немного отдохнуть, но он был так взволнован и возбужден, что не смог сомкнуть глаз.
Вопреки воле молодого охотника, его мысли беспрестанно возвращались к разговору с Эненом, узнавшем о тайном сговоре между Ланго и адвокатом; горя желанием отомстить ростовщику, а также облегчить себе жизнь, тяжкое бремя которой уже начинало его тяготить, он лихорадочно размышлял, каким образом докопаться до истины, не дававшей ему покоя.
Ален был сушим невеждой в вопросах судопроизводства.
Тем не менее ему казалось, что он может добиться своей цели законным путем.
Невзирая на внушение Жака Энена, молодой человек решил на следующий же день отправиться в Сен-Ло, чтобы посоветоваться с одним судейским.
К несчастью, у него не осталось денег.
Он не хотел брать взаймы у скупщика дичи и рассчитывал на то, что следующая ночь окажется для него более удачной, чем предыдущая.
Незадолго до вечера Ален направился к взморью. Жан Мари проводил его до берега, играя с Флажком. (Утреннее знакомство мальчика с собакой обещало перерасти в крепкую дружбу.)
Идти дальше мальчику было незачем.
Он не захотел прилечь днем и, как и обещал Алену, занимался уборкой. Вдобавок он еще не оправился после вчерашних событий.
Молодой охотник велел Жану Мари идти домой и, затерявшись во мгле, поспешил на свой наблюдательный пост.
Мальчик вернулся в хижину, с наслаждением растянулся в своей подвесной койке и уже через пять минут спал как убитый.
Около полуночи он проснулся от заунывного воя.
Под дверью скулила собака.
Жан Мари соскочил с койки и бросился открывать дверь.
Это был Флажок, но он пришел без хозяина.
Увидев своего маленького друга, пес принялся усиленно лаять и жалобно визжать, то и дело выбегая из дома на улицу; он словно пытался сказать мальчику: "Иди за мной".
Мальчик понял, что Алену грозит какая-то опасность; он торопливо оделся и решительно зашагал вслед за животным, указывавшим ему дорогу.
Вскоре мальчик и собака-проводник оказались на берегу Виры.
Флажок бросился в воду и поплыл; он оборачивался, глядя, следует ли за ним его друг.
Однако река разлилась, течение в ней усилилось от волнения в море, и мальчик не мог ее переплыть.
Собака вернулась назад и разразилась яростным лаем еще сильнее.
По этим действиям собаки мальчик понял, что Ален находится где-то поблизости, но он один был не в состоянии до него добраться и устремился в сторону Мези, не обращая внимания на протестующее тявканье Флажка; добежав до дома боцмана Энена, Жан Мари стал изо всех сил колотить в дверь ногой.
Едва лишь он заговорил, как старый моряк понял все.
Энен созвал соседей, и несколько мужчин во главе с Жаном Мари отправились к берегу Виры; собаки там уже не было.
Они переправились через реку в лодке охотника, которому она не понадобилась, так как он пришел сюда во время отлива.
Люди с факелами и горящими соломенными жгутами в руках принялись обследовать скалы, простирающиеся вдоль моря на левом берегу реки.
Долгое время их поиски были безуспешными.
Но внезапно Жан Мари, которому удалось спуститься со скалы, цепляясь за нее руками и ногами, услышал внизу лай собаки.
Все поспешили на этот зов; наклонившись над пропастью, Жак Энен увидел, что охотник неподвижно лежит на небольшом выступе нависшей над морем скалы протяженностью не более нескольких футов.
Чтобы добраться до несчастного и вытащить его оттуда, пришлось возвращаться в деревню за веревками.
Между тем Жан Мари, не думая о том, что он смертельно рискует, продолжал свой опасный спуск и в конце концов оказался на крошечной площадке, где лежал Ален.
Мальчик увидел, что Ален без сознания и не подает никаких признаков жизни.
Однако, когда юнга приложил к его груди руку, он почувствовал, что сердце Алена продолжает биться.
Жан Мари усадил молодого человека и прислонил его к скале; набрав в расселине пригоршню дождевой воды, он попытался привести раненого в чувство.
Между тем из Мези вернулись мужчины; старый моряк, по привычке крайне недоверчиво относившийся к способностям всякого юнги, не поддался на настойчивые просьбы Жана Мари, вызвавшегося обвязать тело охотника веревками.
Жак Энен самолично спустился на площадку, усадил Алена на дощечку, к которой, как к качелям, были прикреплены две веревки, и крепко привязал его.
Встав на дощечку, боцман подал знак поднимать его и раненого наверх.
И спасатель, и потерпевший одинаково рисковали при подъеме.
Если бы Ален был один, его тело, раскачивавшееся из стороны в сторону, могло бы разбиться о неровную поверхность скалы.
Но Энен так умело действовал палкой, которую он не забыл захватить, что оба добрались до вершины без единой царапины.
Алена положили на носилки и перенесли в Шалаш, где уже ждал врач из Мези, извещенный о случившемся по просьбе моряка, более дальновидного, чем его земляки.
После обильного кровопускания молодой человек пришел в сознание.
Ален рассказал, что, когда он стоял на самой вершине скалы, произошел обвал, увлекший его в пропасть.
Тщательно осмотрев раненого, врач заявил, что он не нашел у него ни единого перелома и, по всей вероятности, злополучное падение не должно было привести к пагубным последствиям.
Однако сотрясение от удара было настолько сильным, что вскоре у пострадавшего начались осложнения на мозгу.
Ален снова лишился чувств, у него начался сильный жар, и он стал бредить.
Крайне обеспокоенный врач посоветовал чрезвычайно заботливо ухаживать за больным, прибавив, что если жар не ослабнет, то жизнь молодого человека окажется в опасности.
Как только доктор ушел, маленький Жан Мари, с мучительной тревогой выслушавший его приговор, разрыдался.
Энен строго посмотрел на юнгу и, видя, что тот все равно продолжает плакать, сказал:
— Эй, послушай, скоро ты перестанешь хныкать? Если бы бедняга, что лежит здесь, позавчера только и занимался нытьем, вместо того чтобы тащить тебя из воды, то, сдается мне, ты лежал бы на дне с еще более кислой миной, чем с той, какую показываешь сейчас.
— Ну конечно, боцман, но я ничего не могу с собой поделать: слезы так и текут сами собой.
— Эх, Жан Мари, когда мои руки ничем не заняты, они сами собой раздают затрещины; поэтому вытри-ка свою физиономию, подойди сюда и выслушай мой приказ.
Растерянный и ошеломленный мальчик, не успевший привыкнуть за свое недолгое пребывание на судне к грубому обхождению, приблизился к боцману.
Жак Энен взял стул и поставил его у кровати больного.
— Вот твой пост, — сказал он юнге, — не отходи отсюда и вообрази, что ты впередсмотрящий на брам-стеньге. Тебе принесут лекарства, которые велел принимать врач. Если днем парню станет хуже, махни из окна носовым платком; дети будут ждать твоего сигнала, чтобы предупредить Луизон, и она придет на подмогу.
— Будьте спокойны, боцман, — ответил Жан Мари.
Жак Энен взял из очага головню и раскурил свою трубку; некоторое время он смотрел на Алена с сочувствием и в то же время с досадой; прежде чем уйти, он еще раз повторил юнге свои наставления.
В последующие четыре дня казалось, что состояние больного ухудшается.
Он по-прежнему бредил: вспоминал отца, Ланго и Лизу, причем звал Лизу с такой страстью, что бедный мальчик промолвил со слезами:
— Надо попросить боцмана Энена пригласить эту госпожу Лизу, которую господин Ален так громко зовет. Может быть, когда он ее увидит, то немного успокоится.
Между тем мальчик продолжал ухаживать за больным с усердием, поразительным для ребенка его возраста.
Казалось, он понимал, чем обязан Алену, и был безгранично ему благодарен.
Несмотря на то что Энен недолюбливал юнг, ему пришлось признать, что этот юнга, в отличие от других, на что-то годен.
Впрочем, старый моряк решил не отступать от своих правил, показывая Жану Мари, что он им доволен, и лишь пригрозил мальчику наградить его тумаками, если тот не ляжет спать, пока он, боцман, будет нести вместо него вахту у постели больного. (До этого времени ребенок отказывался от всякого отдыха.)
Наконец, молодость и сила Алена в сочетании с хорошим уходом одержали верх над недугом.
Мало-помалу горячка прекратилась, и вместе с ней исчезли всякие тревожные симптомы.
Вдова уже давно не видела сына и тяжело переносила разлуку с ним.
Кроме того, она беспокоилась за Алена, к которому относилась с благоговением; поэтому женщина решила нарушить строгий запрет своего дяди и отправиться в Шалаш.
XII
МЫСЛЬ, ОСЕНИВШАЯ БОЦМАНА ЖАКА
Итак, ночью вдова бесшумно встала, оделась на ощупь, спустилась босиком вниз и сумела без скрипа открыть входную дверь.
Выйдя на улицу, женщина поспешила к хижине Алена. Около полуночи она постучалась в ее дверь.
Собака глухо заворчала, услышав, что кто-то подошел к дому.
Жан Мари осторожно потянул за щеколду, ожидая увидеть неприветливую физиономию боцмана Энена, но вместо этого оказался в объятиях матери.
Мать и сын были несказанно счастливы видеть друг друга. Жанна Мари опустилась на камни очага и посадила мальчика к себе на колени.
Затем они стали переговариваться шепотом, перемежая слова поцелуями.
— Ты хоть хорошо заботился о господине Алене? — спрашивала мать.
— Еще бы! — отвечал Жан Мари. — Мне казалось, будто я вижу твои страдания, бедная матушка! Когда я болел, ты показала мне, как надо ухаживать за теми, кого любишь.
Ален спал так чутко, что он услышал, как перешептываются мать с сыном.
Он с трудом повернулся в сторону камина, увидел женский силуэт и, все еще продолжая бредить, пробормотал:
— Это вы, Луизон?
— Нет, — отозвался Жан Мари, — это вовсе не хозяйка Энен, а моя матушка, господин Монпле; матушка пришла вас навестить и очень рада видеть, что вы поправляетесь.
Жанна Мари и ее сын подошли к постели больного.
Мальчик снял с крюка железную лампу, висевшую над очагом; он держал ее таким образом, что свет падал налицо вдовы: ребенок, очевидно, хотел, чтобы милые черты его любимой матушки были видны охотнику во всех подробностях.
Ален приподнялся на своем ложе и пристально посмотрел на женщину.
Жанна Мари была невысокая, тонкая и хрупкая. Ее внешность не поражала с первого взгляда, как красота мадемуазель Жуселен, но, посмотрев на нее более внимательно, нельзя было не заметить, что у нее безупречно правильные черты лица и прелестная изящная фигура.
Это неожиданное появление женщины произвело на Алена сильное впечатление.
Когда молодой человек увидел ее ясный взгляд, излучавший целомудренную и в то же время страстную нежность, свойственную благородным душам, он почувствовал, что его сердце начинает оттаивать, и ему показалось, будто к его изголовью спустился добрый ангел.
Охотник с улыбкой протянул вдове руку.
При мысли о том, что эта исхудавшая от недуга и пылающая жаром рука вернула ей сына, Жанна Мари живо схватила ее и запечатлела на ней поцелуй.
Бедная вдова вложила в этот чистый, исполненный благодарности поцелуй весь жар своей души.
Эта недолгая сцена утомила охотника и в то же время принесла ему облегчение.
Он забылся уже более спокойным сном, а женщина с мальчиком вернулись на прежнее место у камина.
Около двух часов ночи боцман Энен, покинув свой рыбацкий баркас, зашел в Шалаш, чтобы справиться о здоровье Алена.
Он очень удивился, застав в доме Жанну Мари.
Затем вдруг, без видимых причин, это удивление сменилось удовлетворением, которое старый моряк выразил столь бурно, что женщина испугалась, как бы он не разбудил больного.
Она спросила у Энена, чем вызвана его внезапная радость.
— Причиной тому одна мысль, которая пришла мне в голову, — с громким смехом отвечал боцман. — Когда мы выйдем на улицу, я о ней расскажу. Кстати, вам уже пора возвращаться на борт, и я вас провожу.
Действительно, было уже три часа ночи.
От Шалаша до Мези было не меньше часа ходьбы, и Ланго мог заметить отсутствие племянницы.
Поэтому благоразумнее было уже вернуться в деревню.
Жанна Мари взяла свою накидку, поцеловала сына и, с благоговением взглянув на крепко спящего Алена, молча последовала за боцманом Жаком Эненом.
Когда они дошли до середины болота, Жак Энен заметил какую-то кочку и остановился.
— Присядь, Жанна Мари, я поделюсь с тобой той мыслью, что пришла мне в голову. Время сейчас не совсем подходящее, но такие старые крокодилы, как я, все делают некстати.
Жанна Мари опустилась на кочку, вся дрожа, ибо она не знала, что пришло в голову Жаку Энену.
— Послушайте, молодушка, что это вы так дрожите? — спросил Жак.
— О! Просто так, боцман Энен, — ответила вдова. — Я же знаю, что вы порядочный человек.
— Да, иначе говоря, старик! Черт побери! Прежде мне было бы досадно, что хорошенькая вдовушка двадцати пяти лет меня уже не боится! Впрочем, дело вовсе не в этом.
— А в чем же, боцман? Вы меня пугаете!
— О! Пугаться незачем. Послушай, Жанна, что ты думаешь о молодом человеке, который стоит сейчас на ремонте?
— О господине Алене?
— Нуда.
— О Боже, я сейчас скажу, что о нем думаю, это же так просто. Я думаю, что если бы не он, то моего бедного Жана Мари уже не было бы в живых, и мне бы хотелось доказать господину Алену свою благодарность не только на словах.
— Что ж, ты можешь это сделать, Жанна.
— Я? Могу? Каким образом? Говорите скорее!
— Другой бы поломался вдоволь прежде, чем выложить все начистоту. Я же выстрелю одним залпом: надо выйти за него замуж, Жанна Мари.
Женщина подпрыгнула на бугорке.
— Выйти за него замуж! — воскликнула она. — Да вы шутите, боцман Энен.
— Ну вот, гарпун достиг своей цели, а теперь я буду травить канат. Повторяю, ты должна за него выйти. Только брак может спасти этого парня, иначе…
Старый моряк осекся и покачал головой.
— Иначе? — спросила женщина.
— Иначе он пропал: с ним снова случится какая-нибудь беда.
— Неужели женитьба может этому помешать?
— Послушай, Жанна Мари, — продолжал боцман Энен, — ты же должна понимать, что тот, кого с детства балуют, холят и лелеют, как обезьянок-игрунков, которых привозят из Бразилии, не может привыкнуть жить среди жаб и лягушек, как цапля, стоящая на одной ноге… Нет-нет, Жанна, парень заболеет с горя и пойдет ко дну, попомни мои слова, или же он одуреет от скуки и кончит как пират, получивший по заслугам, что еще хуже! Нет, Алену нужна семья, жена и малыши, которые будут его ублажать и веселить.
— Боцман Энен, ему, наверное, нужна богатая, молодая, красивая и счастливая женщина, а не такая, как я, ведь я уже не молода и никогда не была красивой, вдобавок бесприданница; с такой обузой жизнь и вовсе будет ему в тягость…
— Перестань! Тебе двадцать пять, и ты считаешь себя старухой? Тысяча чертей! Мне в два раза больше, а я и то не чувствую себя стариком. Ты говоришь, что некрасива? Эх, Жанна, по всему видно, что твой дядя-скряга скупится на зеркала! Ты небогата, но одна богачка парня уже бросила, и теперь ему лучше попытать счастья с бедной женщиной.
— Но зачем я ему?
— Зачем?.. Эх, право, что за вопрос… Да хотя бы для того, чтобы сварить ему похлебку, содержать в чистоте его хибару, больше похожую на хлев, чем на жилище приличного человека, штопать его тряпье, заставлять его злиться, чтобы он не скучал, да, в конце концов, подбадривать его, чтобы он охотнее работал.
— Но ведь господин Ален меня не любит; вы же знаете, что он любил другую — дочку господина Жусслена.
— Пускай! Ну, и что же? Думаешь, мое сердце было нетронуто, когда я женился на Луизон? Я оставил не меньше десятка, а то и двух-трех десятков безутешных красоток во всех портах, близ которых я забрасывал свой лаг, и с оснасткой получше, чем у Лизы; в Пернамбуку у меня даже была одна мулатка. Какая женщина! Желтая, как брюканец, с глазами… словно бархатные клюзы!
— Ален любит не так, как вы, боцман Энен, — возразила Жанна Мари, качая головой, — и вот вам доказательство: он все еще думает о Лизе и о том, как она с ним обошлась; люди утверждают, что, после того как его обманула одна, он говорит гадости обо всех женщинах.
— Полно, полно, Жанна Мари, мы говорим плохо только о тех, кого любим. Ален похож на старых моряков, которые бранят свое ремесло и изо всех сил проклинают соленую воду, но стоит им провести на суше хотя бы неделю, как их опять тянет в море. Это не должно вас пугать, прекрасная вдовушка!
— Я недостаточно молода и красива, чтобы заставить господина Алена изменить свое мнение, боцман Жак. Что бы вы мне ни говорили, это ничего не даст.
— А что, если бы однажды это произошло, если бы его мнение, как ты говоришь, повернуло на другой галс, ты бы передумала, раз я ручаюсь, что, коль скоро бедняга останется один, у него скоро не будет ни гвоздя ни болта?
— О! — воскликнула вдова. — Если бы только я могла пожертвовать своей жизнью, чтобы отплатить господину Алену за то, что он для меня сделал! Я говорю от всего сердца, боцман Энен: вся моя кровь до последней капли — в его распоряжении.
— Ну-ну! Ты предлагаешь больше чем следует, и никто не требует от тебя такой жертвы, — возразил моряк. — Стало быть, я разверну паруса и постараюсь направить судно в эти воды. Всякий раз, когда я захожу в лачугу Алена и вижу, как он лежит там один-одинешенек, у меня сердце разрывается, и я готов во что бы то ни стало положить этому конец.
Продолжая излагать ей замысел, созревший в его голове, боцман Энен проводил вдову до дверей дома лавочника.
Затем Жанна Мари поднялась в свою комнату и легла спать.
Но она никак не могла уснуть, будучи не в силах успокоиться после разговора со старым боцманом.
Женщина то и дело повторяла себе, что он сошел с ума, что подобный брак немыслим, но, продолжая уверять себя в этом, она не переставала думать о словах Жака Энена.
XIII
БЕССОННАЯ НОЧЬ
Энен с присущей ему настойчивостью неумолимо стремился к осуществлению замысла, о котором он сообщил Жанне Мари.
Поэтому, как только Ален достаточно окреп, чтобы слушать его, боцман попытался, ни единого раза не упоминая имени вдовы, внушить ему мысль о браке; при этом он беспрестанно твердил о трудностях и печалях одинокой жизни, в то же время расписывая прелести супружества.
С самого начала охотник изо всех сил, оставшихся у него после болезни, отвергал эти брачные планы.
Но, видя, что боцман продолжает проявлять неистовое упорство, Ален решил, что его друг подвержен своего рода навязчивой идее, — следовательно, он скорее заслуживал жалости, чем осуждения, и надо было дать ему выговориться.
Энен воспринял молчание молодого человека как знак согласия и пришел в восторг.
Старый моряк, искушенный в искусстве изучения и предвидения небесных бурь, закаленный в борьбе со стихией, но куда менее сведущий в том, что касается стихии чувств, превратно истолковал молчание выздоравливающего; он известил Жанну Мари о своих грандиозных успехах в перевоспитании Алена, хотя, в сущности, не продвинулся в этом деле ни на шаг.
Между тем нельзя было не заметить, что частые визиты вдовы, относившейся к охотнику с нежной заботой и бесхитростной преданностью, а также скромное очарование Жанны Мари и чистота ее души мало-помалу произвели на молодого человека неизгладимое впечатление.
Продолжая ненавидеть женский пол и обещая себе не нарушать своей клятвы, Ален в то же время делал для вдовы исключение.
Он считал Жанну Мари не просто женщиной или, точнее, видел в ней нечто большее, чем женщину.
Она была для него воплощением материнства.
Однако он не испытывал к ней влечения; мысль о том, чтобы жениться на вдове, ни разу не приходила ему в голову.
И все же благодаря этой ласковой дружеской руке острая боль, которую Лиза оставила в сердце своего возлюбленного, постепенно утихла.
Таким образом, Монпле ощущал потребность в присутствии Жанны Мари, а точнее, матери маленького Жан Мари.
Правда, эгоистичный Ален уверял себя, что, как только он поправится и вернется к привычным занятиям, у него по-прежнему не будет ни в ком нужды.
Между тем визиты вдовы были ему приятны и благотворно сказывались на его выздоравливании.
Однажды ночью мальчик спал так крепко, обессилев от постоянных бдений, что не услышал, как его мать постучалась в дверь.
Ален же пребывал в дремотном состоянии; он очнулся от стука в дверь, оделся и направился к выходу.
Вдова вся затрепетала, увидев, что дверь открыл не ее сын, а охотник.
Она стала упрашивать его снова лечь в постель, но он наотрез отказался.
Мужчина и женщина развели огонь и присели у камина, в то время как мальчик продолжал спать в подвесной койке.
Молодой человек был еще слаб и измучен болезнью, но его лицо уже начало приобретать здоровый цвет.
Жанна смотрела на него.
Взгляды их встретились.
— Ну вот, господин Ален, — сказала она с улыбкой, покраснев, — я вижу, что вам уже лучше и скоро мне не придется бегать ночью по полям, рискуя столкнуться со злыми волшебницами-прачками.
При мысли о том, что в скором времени Жанна в самом деле перестанет приходить, так как у нее не будет для этого повода, сердце Алена сжалось и у него невольно вырвалось:
— Не говорите так, Жанна, а не то я стану проклинать свое выздоровление.
Вдова вздрогнула: слова Алена повергли ее в мучительное, но сладостное волнение.
Эти слова прозвучали почти как признание.
Однако Жанна Мари была чрезвычайно скромна и не могла поверить, что, невзирая на ее жалкую участь, чья-то любовь снизошла до нее.
Монпле же неожиданно умолк.
Возможно, он не сказал всего, что думал, но тем не менее сказал больше, чем хотел.
После его слов воцарилось молчание.
Затянувшаяся тишина становилась гнетущей.
Чтобы выйти из неловкого положения, в котором они оказались, Жанна Мари завела разговор о прошлом и через пять минут пришла к убеждению — горькому для нее убеждению, — что, хотя любовь Алена к Лизе уже почти угасла, его глубокая неприязнь ко всем женщинам, возникшая из-за этой еще не забытой им любви, не прошла и что Энен отнюдь не изменил взглядов молодого охотника на брак и супружескую жизнь.
Превозмогая себя, женщина печально сказала:
— Вы забудете об этом; к вам уже возвращается здоровье, скоро вы снова начнете охотиться, встречаться с друзьями, веселиться, и мало-помалу воспоминания о прежних страданиях изгладятся из вашей души.
— О нет, нет! — вскричал Ален. — Вовсе не забавы и развлечения помогут мне об этом забыть, это сделает…
Молодой человек запнулся. Он хотел сказать: "Это сделает другая любовь…"
— … это сделает?.. — переспросила вдова.
— Ничего, — отвечал Ален, отворачиваясь, — все бесполезно! Я безутешен, несчастен… и проклят судьбой.
— Нельзя быть вечно несчастным, когда ты молод, — возразила вдова, — и нельзя считать себя проклятым, если ты добр.
Жанна Мари посмотрела на Алена.
В этот миг он тоже обратил на нее свой взгляд.
Их глаза встретились.
Какое впечатление произвел взгляд Жанны на Алена?
Нам это неизвестно, так как сердце всякого мужчины наглухо закрыто.
Однако взгляд Алена пронзил Жанну до глубины души.
Она почувствовала, что ей небезопасно заводить разговор на эту тему.
Женщина снова заговорила о Лизе Жусслен.
Это магическое имя еще не утратило своего влияния на Алена.
Оно вызвало у него неиссякаемое красноречие.
За ненавистью охотника, в проклятиях, которыми он осыпал эту изменницу, таилось столько любви, что Жанна разволновалась и была вынуждена забиться за угол камина, чтобы Ален не заметил румянца, заливавшего ее щеки.
Увидев движение вдовы, молодой человек ошибочно приписал его чувству жалости.
— О! — воскликнул он. — Вы, Жанна, не смогли бы так обойтись с человеком, который бы любил вас, как я любил Лизу, и которому вы поклялись бы принадлежать. Вы бы не смогли так поступить, не правда ли, Жанна?
— Хвастаться нехорошо, господин Ален, — промолвила вдова, — но мне кажется, что, будь я богата, я бы не отвернулась от друга из-за тою, что он обеднел.
— Ах, Жанна, счастлив тот, кто вас полюбит!
С этими словами Ален простер к женщине руки, как страждущий в поисках утешения.
Но Жанна отпрянула от нею так резко, словно ей грозило прикосновение к раскаленному железу, и сказала:
— Никто не может обо мне помышлять, кому же придет в голову вступить в брак с таким бедным и обездоленным созданием? А я… я уже не девочка, чтобы поступиться честью ради сердечной прихоти. Материнская честь будет единственным достоянием того, кто спит здесь.
Женщина посмотрела на подвесную койку, в которой лежал маленький Жан Мари.
— Эта честь перейдет к нему по наследству, и она должна быть незапятнанной, — прибавила она.
Ален опустил руки, ничего не сказал и задумался.
Возможно, он рассчитывал иметь когда-нибудь любовные отношения с бедной женщиной, но слово "брак", как холодный душ, отрезвило его упования.
После этого разговор больше не складывался, и, вероятно, впервые с тех пор, как вдова начала навешать сына в Шалаше, молодой охотник не стал возражать, когда она заявила, указывая на широкую белесую полосу, охватившую горизонт с востока, что ей пора домой.
Женщина ушла.
Мальчик так и не проснулся!
Мать пришла повидаться с сыном.
Однако она с ним так и не встретилась.
Но что с того! Всякий спящий ребенок пребывает с Богом.
Тем не менее бедная мать, сама не зная почему, страшно опечалилась.
Лишь пройдя не менее сотни шагов и перебрав в памяти все то, что было сказано и произошло между ней и Монпле этой ночью, женщина вспомнила, что провела там много времени, но даже не подумала поцеловать сына.
И тут Жанна поняла, что она относится к Алену не просто как к другу, и любит его сильнее, чем ей кажется; она осознала, что ее чувство выходит за рамки обычной благодарности, и ее переживания вызваны тем, что она холодно рассталась с молодым охотником.
Она замерла на миг, как слепой, внезапно увидевший проблеск света во мгле, а затем упала на колени посреди тропы и принялась истово молить Бога поддержать ее в предстоящей борьбе с собственным сердцем.
XIV
ДВА ХИТРЕЦА
Был ли в этой смутной надежде развеять свою печаль с Жанной тайный умысел, подсказанный злым духом, который всегда живет в глубине человеческой души?
Мы не могли бы на это ответить.
Несомненно одно: Монпле испытал подлинную досаду, убедившись, что молодая вдова не станет легкой добычей, как он полагал.
Эта досада сменилась нетерпением, а затем и глубокой печалью оттого, что он больше не увидит Жанну.
Встречи с вдовой, утешавшей больного и облегчавшей его страдания, до такой степени скрашивали одиночество Алена, что стали для него необходимыми.
Сколь бы ограниченным ни было образование Жанны Мари, природа наделила ее чутким сердцем, нежной душой и приветливым нравом — все эти достоинства мало-помалу пленили молодого охотника; понимая, что эта женщина не может стать его любовницей, он желал хотя бы сохранить ее в качестве подруги.
Мысль о том, чтобы взять Жанну Мари в жены, даже не приходила Алену в голову.
Будучи эгоистом, он не думал о том, удовлетворяет ли молодую вдову подобный союз сердец, в который один привносит лишь дружбу, а другой — любовь.
Ничего подобного; преданность этой женщины казалась Алену приятной и удобной, и он хотел лишь одного, чтобы эта преданность никогда не кончалась.
По истечении недели разлуки охотник послал Жана Мари к матери, чтобы выяснить, почему она перестала посещать Шалаш.
Вдова ограничилась ответом, что у дядюшки Ланго появились какие-то подозрения, он стал запирать дверь на засов, и она не сможет больше навещать Алена.
Мужское понятие о чести странным образом отличается от женского!
Ален, который был не только честным, но и великодушным человеком; Ален, который, рискуя жизнью, спас жизнь ребенка и вернул его матери; Ален, который тем самым отыскал два преданных благодарных сердца, что чрезвычайно редко можно встретить в нынешнем обществе; Ален, который собирался вознаградить эти добродетельные сердца, опозорив их, — легко и просто, даже не помышляя о том, что он творит зло, стал использовать сына, чтобы погубить мать.
Если бы Монпле добился своего, то он остался бы в глазах окружающих порядочным человеком, и все продолжали бы подавать ему руку, в то время как Жанна Мари стала бы падшей женщиной, и все бы от нее отвернулись.
Мальчик вернулся к охотнику с ответом матери.
Досада Алена усилилась.
В его чувство к вдове закралась легкая неприязнь, так как он не поверил в мнимую бдительность Ланго.
Между тем молодой человек подумал, что, поскольку Жанна Мари не хочет приходить к нему, он сам может отправиться к ней.
Однако для этого ему надо было окончательно поправиться.
С тех пор выздоровление больного, преисполненного решимости встать на ноги, пошло быстрее.
Кроме того, Ален должен был безотлагательно приступить к делам.
Во время болезни охотника Энен помогал ему деньгами, хотя и сам был не богат, так что Монпле предстояло вернуть моряку небольшую сумму, которую тот ему одолжил.
И вот, на следующий день после того как вдова отказалась приходить в Шалаш несмотря на увещевания ее сына, ставшего Ментором нашего неотесанного Телемака, Ален собрался с силами и решил выйти из дома.
Чувствуя себя еще не совсем окрепшим, он не отважился охотиться на взморье.
Так что с помощью Жана Мари он принялся обследовать близлежащие болота.
Вдвоем они сплели несколько сотен силков из конского волоса и расставили их на поверхности земли в местах, облюбованных куликами, — эти места легко было распознать по их следам; настала пора перелета птиц, и болото изобиловало пернатыми.
Мальчик относил добычу скупщику дичи из Исиньи и возвращался с деньгами.
Ален же каждый вечер наведывался в Мези; продолжая уверять себя, что он не любит вдову, молодой человек тем не менее вел себя как влюбленный и непрестанно бродил вокруг дома Ланго.
Жанне Мари было приятно видеть охотника, но, заметив его, она неизменно скрывалась в глубине лавки, а лавка с окнами из зеленого стекла была столь темной, что взгляд Алена не мог проникнуть внутрь.
Эти неудачные попытки увидеть вдову приводили Монпле в уныние; как правило, он завершал свои вечерние бдения у Энена, допытываясь у боцмана, известно ли ему, что заставляет Жанну Мари столь неукоснительно сидеть взаперти в доме своего дяди.
Старый моряк ничего на это не отвечал, но, когда Ален уходил, принимался тихо посмеиваться и радостно потирать руки, приходя в восторг от того, что его молодой друг самостоятельно вступил на путь — по крайней мере, так казалось Энену, — на который боцман хотел его направить.
Однажды вечером, около восьми часов, охотник подошел к дому лавочника; шел дождь, маленькая площадь Мези была безлюдной, и молодой человек, не опасаясь, что его увидят, прижался лицом к оконному стеклу в надежде встретить взгляд вдовы.
Однако Жанна Мари, заметившая Алена, не изменила своей тактики; она не только скрылась в глубине лавки, но еще и удалилась в свою комнату.
Разочарованный молодой человек уже собирался уйти, как вдруг послышавшиеся у него за спиной шаги заставили его обернуться.
Монпле затаился в темноте и увидел человека, следовавшего крадучись вдоль домов; приблизившись, тот постучался в дверь ростовщика.
Хотя мужчина был закутан в широкий серый плащ наподобие тех, какие крестьяне надевают в дорогу, охотник узнал его.
Это был Ришар, адвокат из Исиньи, тот самый, кому он поручил защищать от Косолапого свои интересы, и кого боцман Энен застал на пути из Сен-Ло, когда тот беседовал с ростовщиком, держа денежный мешок под мышкой.
Адвокат пришел к Тома Ланго.
Ален бросился за угол дома; он сделал это так быстро, что Ришар его не заметил или, по крайней мере, не узнал.
Ришар вошел.
Лавочник сидел у очага.
Он спокойно поднял голову, приняв вошедшего за очередного покупателя.
Но, увидев насмешливый взгляд адвоката, смотревшего из-под широкополой шляпы, он вздрогнул.
Сквозь приоткрытую дверь Ален услышал:
— Ах, это опять вы, Ришар!
Затем дверь закрылась, и до охотника больше не доносилось никаких звуков.
Некоторое время мужчины разговаривали стоя.
По-видимому, между ними разгорелся ожесточенный спор.
Наконец Тома Ланго, очевидно, сдался; он направился к двери, открыл ее и принялся запирать с помощью клиньев дверные ставни; затем, закрыв дверь, он подошел к окнам и проделал точно такую же операцию, чтобы ничего нельзя было увидеть снаружи, после чего тщательно запер дверь на засов.
Ален попытался заглянуть в лавку сквозь щели в ставнях.
Но лавочник, во что бы то ни стало хотевший скрыть свои дела от любопытных соседских глаз, сумел принять все необходимые меры предосторожности.
Враги Монпле находились в нескольких шагах от него.
Их разговор мог принести ему целое состояние, а он ничего не видел и не слышал!
Это приводило его в отчаяние.
Ален искал способ проникнуть в дом и не мог ничего придумать.
Ему была знакома только лавка, куда он много раз заходил к ростовщику за деньгами.
Но Ланго был слишком подозрительным: он никогда не пускал своего должника дальше магазина.
И тут появился маленький Жан Мари; вернувшись из Исиньи, он не застал Алена дома; решив, что тот отправился на охоту, он поспешил в Мези, чтобы повидаться с матерью.
Ален бросился к мальчику.
— Малыш Жан, — воскликнул он, — ты знаешь, как можно попасть в дом дядюшки Ланго?
— В дом господина Ланго! Зачем? — спросил пораженный мальчик.
— Это не столь важно! Я хочу только, чтобы ты сказал, могу ли я туда проникнуть и найти такое место, где было бы видно и слышно все, что творится в лавке.
— Ну, конечно, — ответил Жан Мари, — можно забраться в дом вон там.
И он указал на слуховое окно чердака.
Но это окно было плотно закрыто.
— Там? — сказал Ален. — Но как туда залезть?
— Отсюда нельзя, — произнес ребенок, — окно заперто изнутри.
— Я это вижу, черт побери, и это меня приводит в отчаяние.
— Тогда со двора, — сказал мальчик.
— А со двора это возможно?
— Нет ничего проще.
— Значит, там наружная лестница?
— Да.
— Есть ли дверь на этом чердаке?
— О! Старая дверь, она едва держится.
— А как попасть во двор?
— Ну, сначала надо перелезть через садовую ограду.
— Мы перелезем через нее.
— Тогда пойдемте.
— Пошли!
Молодой человек с мальчиком побежали в переулок, выходивший в поле.
XV
ПОТАЙНОЕ ОКОШКО
Ален и Жан Мари выбежали за пределы деревни, обогнули дома и оказались в поле; повернув налево, они увидели стену, ограждавшую сад лавочника.
Стена эта была высокой.
Монпле взял мальчика на руки и усадил его на верх стены.
Жан Мари зашагал по гребню, словно кот по крыше, высматривая длинные жерди, которые, как он знал, были прислонены к углу ограды. Отыскав их, он бросил одну из них Алену, и тот приставил ее к стене; мальчик придерживал край жерди, и вскоре молодой человек уже сидел верхом на стене рядом с ним.
Ален первым спрыгнул в сад и снял Жана Мари со стены.
Затем оба, пройдя по аллее, чтобы не оставлять на земле следов, добрались до небольшого двора, заваленного досками и пустыми бочками, и остановились возле лестницы из источенного червями дерева, тянувшейся вдоль стены дома.
Это и была та самая наружная лестница, о которой говорил мальчик.
— Ну вот, — сказал Жан Мари, — наверху вы увидите дверь, она закрыта только на защелку.
— Но когда я окажусь там, — спросил молодой человек, — как я смогу услышать, о чем они говорят? Как я смогу увидеть, что они делают?
— В полу есть потайное окошко, — сказал юнга, — его нетрудно отыскать: свет укажет вам путь.
— Спасибо! — воскликнул Ален. — Теперь ты можешь идти, не забудь только поставить жерди на место.
— Ах! — вздохнул мальчик. — Надо же: быть рядом с матушкой и уйти, так и не повидавшись с ней!
— Малыш Жан, — произнес молодой человек, приложив палец к губам, — ни ты, ни твоя мать не должны быть причастны к тому, что может здесь произойти. Уходи! Я прошу тебя!
— О! Вы же знаете, что, когда вы говорите таким тоном, я никогда не возражаю, — отвечал мальчик. — Прощайте, господин Ален, и берегитесь, чтобы с вами не случилась беда.
Охотник уже не слушал мальчика.
Он забрался на чердак, и дверь за ним захлопнулась.
Ален оказался в полной темноте.
Он двигался наугад, проявляя повышенную осторожность.
Сделав всего лишь несколько шагов, он увидел свет, пробивавшийся из нижней комнаты сквозь щели в люке.
Молодой человек лег ничком и приник к щели.
Он увидел двух мужчин.
Ришар сидел за столом.
Ланго, с мешком в руках, стоял по другую сторону стола.
Как только охотник убедился, что перед ним его заклятые враги, он напряг слух, так как ему было важнее слышать, нежели видеть.
Прежде всего он услышал серебристую музыку сталкивавшихся друг с другом пятифранковых монет.
Они звенели, когда ростовщик их пересчитывал, и с глухим отрывистым звуком ложились на стол стопками.
— Тысяча! — услышал Ален и узнал голос Ланго, когда этот глухой отрывистый звук раздался в последний раз. — Еще одна тысяча!.. Это составляет тысячу сто пистолей, которые вы украли у меня, метр Ришар.
— Неужели! — отозвался насмешливый голос адвоката. — Право, метр Ланго, я признаюсь, что слишком вас люблю, чтобы считать вместе с вами.
— Послушайте, Ришар, — сказал ростовщик, — я в последний раз спрашиваю вас: хотите, чтобы мы окончательно уладили дело? Верните мне остальные векселя, и я отсчитаю вам кругленькую сумму…
— О! Вы меня совсем не знаете, дорогой Ланго! Когда-то я прожигал жизнь с Аленом — разумеется, когда тот платил, — и поэтому вы теперь считаете меня транжиром, мотом, бездонной бочкой. Перестаньте заблуждаться: я ответственный человек. Правда, я люблю играть, но не хочу нарушать свой небольшой капиталец. Я пользуюсь у вас выгодным кредитом и знаю: вот славный денежный мешок, который без лишних слов откроется передо мной в трудную минуту; я рад, что могу в этом не сомневаться, и не хочу, после того как мы рассчитаемся, ставить вас в неловкое положение; вдруг мне снова понадобятся деньги, а вам придется ответить на просьбу друга отказом?
— Вы полагаете, что так будет длиться долго? — спросил Ланго.
— До тех пор, пока я буду располагать вашими векселями, любезный друг… Когда их у меня больше не станет, это закончится — какая будет жалость!
— Неужели вы думаете, что я всегда буду иметь глупость уступать вашим требованиям?
— А! Никто вас и не заставляет, метр Ланго! Вы вольны даже забрать тысячу франков, которую только что отсчитали мне с такой безупречной щедростью…
— Черт побери, меня так и подмывает это сделать.
— Как вам угодно! Уберите деньги в карман… Скажите-ка, метр Ланго, далеко ли отсюда до жилища Монпле?
— Чтоб вам обоим провалиться!
— Дело в том, что сегодня вечером я хотел бы наведаться в Шалаш. Я собираюсь сказать господину Монпле: "Мальчик мой, я всегда был вашим другом, настоящим другом, и поэтому должен сообщить вам нечто важное". — "Что именно?" — спросит он. "А вот что. Знаете ли вы, что у адвокатов принято обмениваться между собой документами?" — "Возможно". — "Так вот, когда мне предстояло защищать вас в суде, адвокат Ланго передал мне собранное им дело: папка была забита вашими векселями. Рассматривая их, я убедился не в том, что Ланго жулик — слава Богу, мы давно это знали, — а в том, что он круглый дурак". — "Вот как!" — "Ни больше ни меньше. Представьте себе, мой юный друг, что этот мошенник, посылавший вам готовые векселя на подпись, оставлял большой пробел рядом со словом "тысяча", неизменно встречающийся в каждом из документов. Вы никогда не обращали на это внимания, что меня отнюдь не удивляет: ваше время было слишком драгоценно, чтобы вы занимались подобными пустяками! Так вот, да будет вам известно, что, как только ваши заемные письма снова попадали в руки старого плута, он их приукрашивал, вставляя в каждый искусно оставленный пробел цифру "два" или "три", а кое-где и "четыре". Но, поскольку, к сожалению, наш друг неосмотрительно пользовался разными чернилами, одни из приписок пожелтели, а другие остались черными".
— А кто докажет, что Ален не получал этих сумм?
— До чего же вы наивны, старый деревенский разиня!.. Кто? Черт побери! Ведомости почтовой конторы! Разве вы все денежные переводы делали не по почте? Я проверил их даты и суммы, и ни одна из сумм не совпадает с теми, на какие вы предъявляете иски. Полно, полно, метр Ланго, дело моего клиента четко и ясно — это понятно даже ребенку. Вы и сами это уразумели. К тому же когда я пришел к вам и сказал: "Знаете, метр Ланго, я храню у себя дело, переданное мне вашим адвокатом". — "Зачем?" — "Затем-то и тем-то. Когда я выиграю это дело, мы сочтемся". Мои доводы показались вам основательными, Ланго, так как вы сказали в ответ: "Помогите мне сначала заполучить Хрюшатник, Ришар, а потом посмотрим". И вот вы стали хозяином Хрюшатника; так что же?.. Вы не желаете ничего слышать? Тогда я сейчас же отправлюсь к своему клиенту…
— И что это вам даст, болтун?
— Черт возьми! Я сберегу честь благодаря тому, что исполню свой долг. По-моему, это вполне стоит тысячи франков…
— Ладно, — пробурчал Ланго сердитым тоном, — давайте вексель и пересчитайте деньги.
— Держите, вот он. Фактически он достался вам даром.
Знаете, на какую сумму этот вексель?.. На три тысячи. Ну, а я отдаю его вам за тысячу. Вы не станете говорить, что я ростовщик: только на этом векселе я теряю две тысячи франков, не считая того, что уже потерял и еще потеряю на других.
Последовала пауза, во время которой недоверчивый старик, вероятно, пристально разглядывал поддельный документ, переданный ему адвокатом.
Затем Ален, приникший к отверстию глазом, а не ухом, увидел, как Ланго подходит к секретеру, открывает и снова закрывает его.
— Вы не пригласите меня на ужин? — спросил Ришар. — Что ж, тем лучше, это бы меня задержало, а я должен вернуться домой пораньше… Но вы хотя бы немного меня проводите?
— Черт возьми! Даже если бы я не хотел, — сказал Ланго, — мне пришлось бы это сделать. Может быть, вам лучше выйти через сад? Вы не думаете, что все эти хождения взад и вперед, в конце концов, вызовут пересуды?
— Я согласен, метр Ланго.
— Подождите, я только возьму ключ от сада.
Еще несколько минут Ален слышал, как мужчины ходят внизу взад и вперед. Жизнерадостный адвокат, довольный удачным вечером, напевал вполголоса, а ростовщик, который никак не мог найти ключ, давал волю своей досаде под видом раздражения от бесплодных поисков.
Наконец, оба ушли.
Замок секретера, где хранились векселя, был заперт, но Алану показалось, что ростовщик забыл вынуть ключ.
Молодой человек устремился к двери чердака, осторожно открыл ее и увидел, что оба его врага удаляются через двор.
И тут Алена осенило, что, если ключ остался в замке, то он может завладеть векселями и, таким образом, вероятно, вернуть часть своего состояния.
Он подумал, что обязан удачей если не Провидению, то судьбе, и, если он упустит эту возможность, то скорее всего другого такого случая больше не представится.
Поэтому молодой человек решил действовать немедленно.
Нечего было и думать о том, чтобы попасть в лавку со двора: уходя с Ришаром, Ланго запер за собой дверь.
Но можно было спуститься в комнату через люк.
Как мы уже говорили, на чердаке валялось немало старого железного лома.
Стоило Алену немного пошарить вокруг, как он нащупал нечто вроде стамески, словно специально предназначенной для задуманного им дела.
Он просунул край стамески в щель между полом и крышкой люка и с силой нажал на инструмент.
Крышка не поддалась.
Ее удерживал изнутри огромный засов.
Силы Алена от возбуждения удвоились, и вскоре деревянная крышка разлетелась в щепки, засов упал, и люк открылся.
Не обращая внимания на грохот, произведенный взломом, молодой человек спустился с чердака в нижнюю комнату и подбежал к секретеру.
Однако его поиски ключа были напрасны.
Ему стало ясно, что, вопреки его ожиданиям, Ланго унес ключ с собой.
Ален намеревался поступить с секретером так же, как он поступил с люком, но внезапно послышался стук хлопнувшей двери.
Лишь в этот миг молодой человек осознал, чем он рискует, если его застанут на месте, и решил убежать.
Он растерянно огляделся вокруг.
Нельзя было уйти через входную дверь, которая вела во двор, ибо в таком случае он непременно столкнулся бы с Ланго.
Невозможно было и забраться наверх через люк.
Для этого потребовалась бы лестница или стол и стулья, нагроможденные друг на друга.
Ален мог бы пойти навстречу Ланго, задушить его и скрыться через калитку сада.
Но тогда он совершил бы убийство.
Монпле показалось, что он видит кровавое облако, а в нем — две алые опоры гильотины.
Внезапно Монпле заметил какую-то дверь.
Он бросился к ней.
Если бы она была заперта, то все для него было бы кончено.
К счастью, дверь поддалась.
В ту минуту, когда она открылась, щеколда двери, выходившей во двор, поднялась и Ланго вошел в лавку.
Монпле оказался в маленьком помещении с низким сводом — это было одно из отделений склада.
Пробираясь ощупью среди тюков с товаром, Ален наткнулся на грубо обработанные перила лестницы.
Вероятно, он двигался не бесшумно, так как дверь склада распахнулась, луч света озарил темную комнату и послышался голос Ланго:
— Кто там? Кто там? Это ты, Жанна?
Ален прижался к стене и благоразумно промолчал.
Дверь закрылась.
Ален продолжал подниматься по лестнице.
Не успел он преодолеть и двух ступеней, как до него донеслись вопли ростовщика.
Ланго нашел стамеску, валявшуюся на полу, и, подняв голову, увидел взломанный люк.
Ален прислушался.
Снаружи раздавался страшный шум — соседи сбегались на призывы лавочника; вскоре дом мог заполниться людьми, готовыми броситься в погоню за вором, преследовать и схватить его.
Молодой человек понял, что он пропал.
Теперь ему грозил не эшафот, а каторга за сопряженное со взломом проникновение в чужой дом.
Между тем охотник поднялся по лестнице и оказался в каком-то коридоре, в конце которого брезжила полоска света.
Эта полоска света свидетельствовала о том, что там находится дверь.
За этой дверью скрывалась крохотная чердачная каморка, где ютилась Жанна Мари.
Услышав гомон на улице и вопли Ланго, женщина открыла дверь.
Она приглушенно вскрикнула, увидев перед собой мужчину, но тут же подавила этот крик.
Не успел Ален произнести "Это я!", как вдова его узнала.
— Идите сюда! — сказала она.
Ален бросился в комнату.
Он был спасен.
Ланго продолжал звать на помощь; он утверждал, что видел убегающего мужчину, показывал орудие, с помощью которого тот пытался взломать его секретер, а также распотрошенный люк с крышкой, болтавшейся на одной петле.
Не было никаких сомнений: в дом залез грабитель.
Очевидно, он все еще оставался внутри, так как все выходы были закрыты.
Люди принялись тщательно осматривать дом.
Они обследовали каждый уголок лавки и подсобное помещение.
Ален слышал из своего укрытия, как лестница содрогается и скрипит под ногами его преследователей.
Наконец они добрались до мансарды Жанны Мари.
Ее дверь была закрыта, и лишь после долгих уговоров посетители добились, чтобы их впустили внутрь.
Вдова встретила незваных гостей стоя, она была одета и сильно напугана.
Женщина рассказала, что она уже собиралась лечь в постель, как вдруг услышала весь этот переполох, который навел на нее такой страх, что она заперлась в своей комнате на засов и затаилась, боясь пошевелиться.
Жанна Мари утверждала, что она не выходила из своей каморки — стало быть, грабитель не мог в нее проникнуть.
К тому же комната была столь тесной и скудно обставленной, что, казалось, в ней невозможно спрятаться.
Косолапый и сопровождавшие его люди позволили женщине снова запереть дверь и прошли на чердак, где их поиски не увенчались успехом.
Все были вынуждены предположить, что грабитель убежал через тот самый люк, с помощью которого он проник к лавочнику; в то время как Ланго открывал дверь соседям, разбойнику удалось скрыться в поле.
Тревога ростовщика была столь велика, что он не стал ложиться спать и провел ночь в бесплодных поисках.
Лишь через сутки после того как Ален попал в комнату вдовы, ему удалось оттуда выбраться.
XVI
ЗАБЛУДШИЙ
Оказавшись за пределами дома Ланго, Ален перевел дух.
Теперь ему предстояло решить, куда направиться и что делать дальше.
Разумеется, молодой человек вспомнил об Энене.
Только что пробило полночь.
Охотник постучался в дом боцмана и назвал свое имя.
Моряк что-то на себя накинул и открыл дверь.
— А! — воскликнул он. — Это ты? А я уж, клянусь, подумал, не причастен ли ты к тому, что творилось прошлой ночью у Ланго?
— Вы не ошиблись.
— Входи и рассказывай.
— Нет, лучше вы выходите, мне нужен свежий воздух.
— Я только оденусь и буду в твоем распоряжении.
— Прекрасно!
Энен натянул штаны, рубаху и вышел к молодому охотнику; тот, как видно опасаясь снова оказаться взаперти, ждал его в десяти шагах от дома.
— Ну, так что? — спросил боцман, подходя к Монпле.
— А то, что вы были правы: мой Ришар по меньшей мере такой же мерзавец, как Ланго; они сговорились, чтобы меня обобрать.
Он рассказал все, что видел и слышал.
— Что же ты собираешься предпринять? — спросил Энен.
— Я пойду к какому-нибудь адвокату из Сен-Ло и заставлю Ришара вернуть мне все бумаги и векселя, которые он прибрал к своим рукам. Как только они будут у меня, я обращусь к королевскому прокурору. Черт побери! Быть может, и честные люди способны добиться справедливости.
— Быть может, это точно сказано.
— Как! Вы сомневаетесь в удачном исходе дела?
— А что, если оба разбойника сожгут векселя и скажут, что после судебного решения относительно Хрюшатника эти бумаги не представляли никакой ценности и они их уничтожили?
— Нельзя ли захватить их врасплох, чтобы они не успели ничего сжечь?
— Для этого надо нагрянуть внезапно с ордером на арест, но ты не добьешься, чтобы этих мошенников задержали по одному лишь голословному обвинению. К тому же кто тебе сказал, что на этот час они уже не позаботились о своей безопасности?
— В таком случае представьте себя на моем месте, Энен. Что бы вы предприняли?
— Черт побери!.. Трудно сказать… Как говорится, советчик — не ответчик. Ждать чего-то путного от канцелярских крыс — это то же самое, что подвесить свою шкуру на крюк в качестве наживки для акул. Предположим, старика отправят на виселицу. Его повесят, а он так ни в чем и не признается. Ну, и много же ты от этого выиграешь? Тебе не перепадет даже кусочка веревки, который мог бы принести удачу в твоем охотничьем деле. Нет, судейские заграбастают себе все. Куда там! А тебе надо вернуть то, что у тебя отобрали хитростью.
— Есть ли, по-вашему, хоть какой-то выход?
— Да, думаю, возможно.
— Какой же?.. Скажите! Признаться, вы меня здорово выручите.
— Ну, на твоем месте я попытался бы заручиться дружбой дядюшки Ланго. Я пошел бы к нему и сказал: "Я люблю вашу племянницу…"
Ален покраснел до корней волос и пробормотал:
— Как это я люблю его племянницу?..
— Ветреник! — сказал старый боцман. — Ты думаешь, любовь оставляет после себя такой же мимолетный след, как лодка в море? Может быть, ты еще посмеешь заявить мне, что это не так, тогда как каждый вечер ты говорил с нами о Жанне все вахты напролет и продолжаешь о ней твердить. О! Не стоит краснеть, мой мальчик, твой выбор не мог быть лучше. Это славная морячка, красивая женщина с добрым сердцем; она отважна, бережлива, чистоплотна и нежна, как пряное вино. С ней ты можешь не бояться, что флаг на твоем корабле когда-нибудь полиняет.
— Боцман Энен, — возразил молодой человек, — я еще не решил жениться, но все равно благодаря вам мне тоже пришла в голову одна мысль.
— Хорошая?
— Я надеюсь.
— Что ж, тем лучше!
— Боцман Энен, я вас покидаю.
— Чтобы воплотить свой замысел в жизнь?
— Так точно!
— Ладно, дай тебе Бог удачи, если это честная затея.
Ален покраснел во второй раз.
— Никто не пожелает тебе столько добра, как я, Ален, — продолжал боцман. — Я знаю, что люди толкуют разное по поводу твоего характера: на одного, кто отзывается о тебе хорошо, приходится трое или четверо тех, кто тебя бранит… О! Не надо по этой причине смотреть на меня исподлобья. В море мне порой приходится лавировать из-за ветра, но в разговоре — никогда! Знаешь, я же видел тебя в деле, когда ты рисковал головой, спасая бедного малыша-юнгу. Я еще тогда сказал себе: "Ну и ну! Может быть, у этого парня и дурная голова, но сердце у него, если копнуть поглубже, доброе".
Ален взял протянутую руку Энена, пожал ее и пошел прочь, ничего не сказав в ответ и лишь кивнув боцману на прощание.
— О! — воскликнул старый моряк. — Сдается мне, мы собираемся выйти в море под чужим флагом! Что ж, тем хуже для тебя, пират!.. Пираты всегда кончают плохо.
Ален вернулся в Шалаш и нашел маленького Жана Мари в сильнейшем волнении.
Мальчик, напрасно прождавший своего друга всю ночь и все утро, отправился в деревню.
Он узнал там, что случилось у Ланго; как говорили люди, в дом к нему забрался вор, открыл люк, через который можно было спуститься с чердака в лавку, и попытался взломать секретер.
Поскольку мальчик сам показал Алену лестницу, ведущую на чердак, он, естественно, понял, кто этот вор, и провел весь день, терзаясь тревогой.
Вечером мальчик вернулся в Шалаш в надежде застать там Монпле.
Однако, по всей видимости, охотник еще не возвращался домой.
Он появился только около двух часов ночи.
Малыш Жан еще не ложился спать. Он сидел на скамье у камина, возле догорающего огня, а собака, лежавшая у его ног, казалась не менее обеспокоенной, чем мальчик.
Внезапно Флажок, застывший в позе сфинкса — его голова покоилась на лапах, — встрепенулся, замахал хвостом, стуча им о пол, а затем вскочил и кинулся к двери.
— Ах, вот и господин Монпле вернулся! — вскричал маленький Жан.
Он побежал к выходу и отворил дверь.
Из темноты показалась высокая фигура, приближавшаяся к дому.
Мальчик устремился к молодому охотнику и бросился в его объятия.
Затем он принялся расспрашивать его о том, что случилось.
Но Алену было довольно трудно отвечать на эти вопросы.
Он принялся утешать мальчика и сказал только, что дело, грозившее принять для него, Алена, скверный оборот, может завершиться для всех благоприятным образом.
Однако молодой человек попросил мальчика сделать все, чтобы встретиться с матерью и передать ей, что г-н Монпле непременно должен поговорить с ней ближайшей ночью.
Мальчик посмотрел на Алена и сказал:
— Дружище, вы же помните, что сказала вам матушка Жанна месяц назад: она не может уходить из дома по ночам, потому что дядя Ланго запирает двери.
— Матушка Жанна не могла приходить сюда месяц назад, — ответил Ален со смехом, — но сегодня она придет. Если даже дядя Ланго закроет дверь, не волнуйся, малыш Жан, она раздобудет ключ.
Жан Мари не стал требовать никаких разъяснений.
Хотя ребенок покинул дом лавочника, их встречи с матерью происходили почти так часто, как ему хотелось.
Для этого ему достаточно было притаиться на углу одной из улиц, прилегающих к церкви; увидев дядюшку Ланго, выходящего из дома, он со всех ног мчался к лавке.
Дверь открывалась, и мать сжимала сына в объятиях; оба ждали возвращения Косолапого, и когда он появлялся на горизонте, пошатываясь, словно фавн, мальчик выходил во двор и убегал через садовую калитку.
Итак, на следующий день маленький Жан выполнил пожелание своего друга Алена.
Он отправился к матери и страшно удивился, услышав от нее такие слова:
— Хорошо, дитя мое, скажи господину Монпле, что я приду.
Несмотря на это обещание, охотник весь день казался обеспокоенным.
Было очевидно, он задумал что-то такое, с чем его совесть не могла полностью согласиться.
Да простит нас читатель, ибо мы пишем отнюдь не роман, а повесть.
Фабула, которую мы предлагаем его вниманию, слишком незначительна для романа, и персонажи, порожденные нашим воображением, могут показаться надуманными.
Нет, эта книга — нечто вроде дагерротипа, сделанного на берегу моря, и мы лишь вознамерились таким способом достоверно отобразить действительность.
Поэтому мы вынуждены признать, рискуя ослабить сочувствие читателя к герою — а это является непременным условием всякого добротного литературного сочинения, — что наш герой был мужчина и к тому же нормандский крестьянин; вследствие этого он сочетал в себе неблаговидные черты, присущие мужскому полу в целом, с недостатками, присущими местным жителям.
К счастью, как сказал Энен, Ален, в сущности, был добрый человек.
В тот же вечер или, точнее, уже ночью Жанна, как она и обещала, пришла в Шалаш.
Ален ждал ее прихода на пороге.
Увидев вдову, он поспешил ей навстречу и обнял ее.
Женщина мягко отстранила его.
— О! Не бойтесь ничего, — сказал молодой человек, — вашего сына здесь нет: я послал его ставить силки на куликов.
Услышав это, Жанна позволила охотнику поцеловать ее в лоб.
Но, когда его губы коснулись ее лица, она тяжело вздохнула.
Можно было подумать, что Ален дотронулся до открытой раны.
Монпле повел вдову в дом и попытался усадить ее к себе на колени.
Но она очень кротко и в то же время чрезвычайно твердо сказала:
— Ален, я пришла к вам не как любовница, а как подруга. Если вы хотите о чем-то меня попросить, то я готова оказать вам любую услугу, ведь моя жизнь — в вашем распоряжении, и вы это знаете как никто другой.
Молодой человек снова попробовал прижать женщину к своей груди, но она вырвалась из его объятий, села рядом на стул и протянула ему руку со словами:
— Говорите, я вас слушаю.
— А если мне нечего вам сказать, Жанна? — спросил Ален с улыбкой.
— Вы должны мне что-то сказать, Монпле, раз вы просили меня сюда прийти.
— Я собирался сказать, что люблю вас, Жанна.
— Вы хотели сказать что-то другое, Ален. Вы бы не послали ко мне сына, если бы на уме у вас были только эти легкомысленные речи.
— Ну да, Жанна, я собирался сообщить вам еще кое-что. Когда я оказался в вашей комнате и вы спросили меня, как я попал в дом дяди Ланго, я сказал, что проник туда, чтобы встретиться с вами.
Жанна кивнула в знак согласия и вздохнула.
— Так вот, — продолжал Ален, — я солгал.
— Я узнала это на другой день, — сказала женщина, — но, как вы помните, даже не упрекнула вас во лжи.
— Послушайте, Жанна, возможно, нам повезло, что дело обернулось именно так.
— Я в этом сомневаюсь, — заметила вдова.
— Вы сейчас все поймете, — произнес Монпле. — Я забрался в ваш дом, потому что дядюшка Ланго безбожно обобрал меня.
Вдова промолчала.
— Я увидел, как к нему явился его сообщник Ришар, — продолжал молодой человек, — и решил узнать их секрет.
— Я догадалась об этом, — сказала женщина, — когда увидела открытый люк и поврежденный замок секретера.
— Ну, Жанна, теперь вы понимаете, что еще я должен вам сказать?
— Нет, Ален.
— Мне остается лишь сказать вам, Жанна, что мы можем стать счастливыми и богатыми, и это зависит только от вас.
— Счастливыми? — спросила вдова.
— Да, именно счастливыми! Пока я остаюсь бедным, я думаю о браке с ужасом, но, когда я снова разбогатею и стану хозяином Хрюшатника, я первым делом поставлю во главе своего дома добрую хозяйку. Так вот, я клянусь Богом, Жанна, если вы мне поможете, этой доброй хозяйкой будете вы.
— Спасибо, Ален, хотя вы и ставите мне одно условие, это все же доказывает, что вы меня не презираете.
— Я вас презираю? О нет, Жанна, за что мне вас презирать?
— Ну, полно, Ален. Скажите, что вы от меня хотите?
Молодой охотник хранил молчание.
— Я жду, — сказала Жанна.
— Вам известно, что ваш дядя Ланго и мой адвокат Ришар сговорились, чтобы меня разорить?
— Я ничего не знаю. Продолжайте, Ален.
— Дело в том, что долговые обязательства, с помощью которых у меня отобрали Хрюшатник, либо подложные, либо в них есть приписки.
— Что дальше?
— Часть заемных писем — в руках Ришара, вследствие чего он вымогает деньги у вашего дяди. Другие векселя, за которые ваш дядя заплатил выкуп, находятся в секретере, который я пытался открыть.
— Что дальше? — еще более холодно спросила женщина, начинавшая понимать, куда клонит Ален.
— Ну, Жанна, — сказал молодой охотник, — я подумал, что могу рассчитывать на вас, вашу любовь и преданность…
— С какой целью? — осведомилась вдова.
— Как! Вы не понимаете? — произнес Ален.
— Нет.
— Жанна, мне нужны эти бумаги. Такова цена вашего счастья.
Вдова вскочила.
— Господин Ален, — промолвила она, — я честная женщина, а не какая-то воровка…
— Жанна! — вскричал молодой человек.
— Мой дядя, — продолжала она, — дал мне приют и, как бы дорого он ни заставлял меня за это платить, я живу в его доме, и я его должница. Я благодарна дяде за гостеприимство и не стану обманывать его доверие.
— Жанна, — сказал Ален, — но ведь мы можем обрести счастье только благодаря этим бумагам.
— Господин Монпле, — тихо, но вместе с тем с нажимом отвечала женщина, — когда я услышала звук ваших шагов в коридоре и открыла дверь, когда я увидела, как вы бледны и растерянны, когда я услышала крики гнавшихся за вами людей и топот ног за вашей спиной, я не ставила вам никаких условий; я не говорила вам: "Господин Ален, сделайте то-то, иначе я не стану вам помогать". Нет, открыв дверь, я встретила вас с распростертыми объятиями и открытым сердцем… Я испытывала какую-то мрачную радость, спасая вас ценой своего бесчестья. Ибо разве вы не спасли моего сына, рискуя собственной жизнью?..
— Жанна!
— Когда вы передали мне через моего сына, что желаете меня видеть, мое сердце, признаться, чуть не выскочило от радости, ведь я решила, что вы раскаялись, и подумала… Я ошиблась, господин Монпле, вы хотели меня видеть, чтобы предложить мне постыдную сделку… Я постараюсь забыть эту встречу. Прощайте, господин Ален!
— Жанна, Жанна! — воскликнул молодой человек, загораживая женщине дорогу.
— Вы мужчина, вы сильнее меня, Монпле, и я не стану с вами драться. Если вы собираетесь держать меня здесь до тех пор, пока мое отсутствие не будет замечено, пока моя честь окончательно будет загублена, — это в вашей власти, и мне останется только плакать. Но я надеюсь, Ален, что вы не поступите со мной так, как не поступили бы и с посторонней женщиной… Я прошу вас только об одном, сударь: забудьте, что вы… во мне нуждались и что я принадлежала вам душой и телом без всяких условий. А теперь позвольте мне пройти, Ален.
Молодой человек стиснул зубы от бессильного гнева; его лицо раскраснелось, а сердце сжалось от сознания собственного ничтожества по сравнению с этой женщиной; он посторонился и пропустил ее.
Жанна ушла, не удостоив охотника даже взглядом, не испустив ни единого вздоха; она открыла и затворила дверь без колебаний, и когда Ален подбежал к двери в надежде, что вдова вернется, он увидел ее в двадцати-тридцати шагах от Шалаша: в своем темном одеянии она уже почти слилась с темнотой.
Ален тяжело вздохнул и безвольно опустил руки.
О чем же он сожалел?
Может быть, о женщине, которая пожертвовала ради него всем, а он так дурно вознаградил ее за преданность?
А может быть, он оплакивал утраченную надежду когда-нибудь снова разбогатеть?
Скорее всего охотник скорбел и о том и о другом.
Если не бывает безупречно хороших людей, то и законченные мерзавцы тоже встречаются крайне редко.
XVII
ВИНА ЧЕСТНОЙ ЖЕНЩИНЫ
Ален остался один; он был недоволен собой.
Время приближалось к часу ночи.
На небе всходила луна.
Молодой охотник взял ружье, ягдташ, провизию на целый день и вышел из дома.
Испытывая чувство стыда, он направился не туда, куда посылал мальчика, а в противоположную сторону.
Впервые после болезни Монпле собрался на пролет птиц. Он увидел, что все его охотничьи посты пришли в негодность из-за непогоды, а еще больше от запустения.
Ветер опрокинул его укрытия; бочки, в которых он подстерегал дичь, наполнились песком; каменные глыбы, за которыми он сидел в засаде, были разбросаны приливом; лагуны и лужи воды переместились в другие места.
Охотник был вынужден целый день обследовать местность и восстанавливать свои укрытия.
Дело было весной; в тот год зима продолжалась дольше обычного, и птицы летели на север большими стаями, поэтому с наступлением темноты Алену удалось подстрелить довольно много уток.
На рассвете он вернулся в Шалаш с тяжелой ношей.
Маленький Жан Мари уже встал и поджидал своего друга.
Он устремился навстречу Алену.
Но тот, улыбаясь ребенку, не решился расцеловать его, как обычно.
Войдя в дом, молодой человек огляделся, словно надеясь увидеть еще кого-нибудь, кто его ждал, и спросил:
— Что-нибудь произошло, пока меня не было?
— Ну да, господин Ален, — сказал мальчик, — приходил боцман Энен.
— А! Боцман Энен; что ему от меня понадобилось?
— Я не знаю, господин Ален, я знаю только, что он был чертовски зол.
— А! Он тебе это сказал?
— О! Ему не надо было этого говорить мне, я и сам видел. Комок табака так и скакал у него во рту, словно белка в клетке. Я только спросил у боцмана, не видел ли он мою матушку, а он в ответ сильно пнул меня ногой.
Ален ничего не ответил, но понял, что за это время в деревне произошло что-то новое.
Прежде всего он подумал, что вдова все рассказала моряку.
Но такой донос настолько был не в характере Жанны Мари, что молодой человек покачал головой, отвечая себе:
"Нет, дело не в этом".
Тем не менее, что бы ни привело старого моряка в Шалаш, каких бы объяснений он ни собирался потребовать от Монпле, охотнику не очень-то хотелось с ним встречаться.
Ален прекрасно понимал, что его поведение в этой истории далеко не безупречно и заслуживает порицания.
Однако он предпочитал упрекать себя сам и не желал слышать упреков от кого-то другого.
Молодой охотник не стал ложиться в постель и решил немедленно вернуться на взморье.
Он мог отдохнуть в одном из своих укрытий.
Монпле пополнил запас провизии и боеприпасов, чтобы не возвращаться домой в течение трех-четырех дней.
Жан Мари следил за сборами своего друга с любопытством и тревогой.
Ален хранил молчание, а бедный ребенок не осмеливался заговорить с ним первый.
И все же, когда долго колебавшийся мальчик увидел, что Монпле собирается его покинуть, даже не попрощавшись с ним, он почувствовал, что должен заговорить, чтобы не разрыдаться.
— Разве я вам сделал что-нибудь плохое, господин Ален? — спросил он прерывающимся от слез голосом.
— Ты, мой маленький дружок? — спросил охотник, вздрагивая (он понимал, что без всяких оснований, по крайней мере, внешне, ведет себя с мальчиком не так, как обычно). — Почему ты меня об этом спрашиваешь?
— О господин Ален, — отвечал Жан Мари, — после вашего возвращения вы смотрите на меня не по-доброму; послушайте, если я вас обидел, надо было об этом сказать, и я сразу же попрошу прощения, ведь я вас так люблю, что ни за что не сделал бы это нарочно.
— Бог тому свидетель, — сказал молодой охотник, — что мне не в чем тебя упрекнуть, бедное дитя.
— Значит, господин Ален, вы чем-то озабочены, так как, по правде говоря, даже во время болезни вы выглядели куда веселее.
— Да, у меня неприятности, мой мальчик.
— В таком случае, господин Ален, надо рассказать о них матушке, — произнес Жан Мари, — она так вас любит, что, будь ее воля, она избавила бы вас от огорчений.
Ален поцеловал бедного маленького юнгу и двинулся в путь.
Между тем мальчик последовал за ним.
— Вы не пойдете к боцману Энену, господин Монпле? — спросил он.
— Не сегодня, малыш Жан. Сейчас удачное время для охоты, и я не хочу упускать случай.
— А если боцман снова придет?
— Если он придет, ты передашь ему то, что я тебе сказал.
— О нет, ей-Богу, я ему ничего не скажу.
— Почему?
— Да ведь вчера Энен так сердился, что сегодня он, конечно же, будет вне себя. Он проглотит свой комок табака, это уж точно… Прощайте и удачной охоты вам, господин Ален!
— Прощай, малыш Жан.
Затем, глядя вслед охотнику, быстро шагавшему среди песчаных холмов, мальчик сказал себе: "Ну нет, я не стану дожидаться Энена, а понесу в Исиньи на продажу наших уток и куликов. Если старый боцман придет, что ж, он может колотить в дверь и стены, сколько ему угодно. Пусть уж лучше он вымещает свою досаду на дереве и камне, чем на мне".
Следует вкратце пояснить, чем была вызвана досада моряка, а затем рассказать, к каким последствиям она привела.
Жанна Мари полагала, что дядя не заметил ее ухода, но она ошиблась.
Старый ростовщик, не терявший бдительности после тревожной ночи, услышал, как затрещала деревянная лестница под ногами вдовы, хотя эти шаги были очень тихими.
Ланго не пошевелился, но открыл глаза.
Когда заскрипела входная дверь, лавочник встал и увидел, что его племянница прошла через двор и скрылась в саду.
После той памятной ночи Ланго потерял покой; скупец напряженно думал и, чем больше он думал, тем больше убеждался в том, что незнакомец, вскрывший люк и попытавшийся взломать секретер, нашел убежище в комнате Жанны Мари.
Этот человек был грабителем или любовником вдовы, а возможно, и тем и другим.
Кто же мог быть этим грабителем или любовником?
Судя по всему, не кто иной, как Ален Монпле.
Ланго встал и последовал за племянницей; он увидел, как она вышла через садовую калитку и поспешила в сторону Шалаша.
У него больше не осталось никаких сомнений.
Ален не мог приходить к Жанне Мари, и она отправилась к Алену.
И Ланго стал ждать; когда вдова вернулась, он сам открыл ей дверь.
Жанна Мари поняла, что она пропала.
И тут она не ошиблась.
Ростовщик обрадовался возможности избавиться от племянницы; он приказал ей собрать свои вещи и утром покинуть его дом.
Жанна, как всегда покорная, не стала оправдываться и отвечать упреками на обвинения.
Она безропотно повиновалась.
На следующее утро, в семь часов, женщина, со своим жалким скарбом под мышкой, покинула дом Ланго и побрела сама не зная куда.
Пройдя четверть льё, она вышла к морю.
Вдова положила свои вещи рядом с собой, села на песчаный холм и стала смотреть на морскую гладь тусклым бессмысленным взглядом.
Что она собиралась делать?
Какая ее ждала судьба?
Жанна Мари об этом не ведала.
Впрочем, она понимала, что должно было произойти и уже происходит в деревне.
Ее дядя, очевидно, известил всех о том, что она ушла из дома, и рассказал о причине ее ухода.
Женщина, чью жизнь до сих пор считали безупречной, была обречена на бесчестье.
То, чего боялась несчастная вдова, исполнилось в точности.
Весь Мези уже знал, что лавочник прогнал племянницу за то, что она принимала в его доме любовника, и, когда Жанна не смогла больше его там принимать, она отправилась куда-то ночью на свидание с ним.
Кроме того, люди сплетничали, что любовником вдовы был Монпле и говорили друг другу по секрету, что Косолапый несомненно собирается затеять против этой парочки судебное дело, в ходе которого их обвинят в попытке ограбления со взломом секретера.
Жанна Мари недолго пребывала в неведении относительно того, что творилось в Мези.
Первые же люди, пришедшие к морю и обнаружившие ее на берегу, не преминули сообщить ей обо всех слухах.
Будучи прежде всего честной женщиной, Жанна не пыталась отрицать свою вину или оправдываться.
Она лишь склоняла голову перед лицом всеобщего осуждения и со смирением принимала кару, ниспосланную ей Господом.
Однако, как ни велико было отчаяние вдовы, ее сердце по-прежнему было обращено к Всевышнему.
Она благодарила Бога за то, что он дал ей сына, ее любимого маленького Жана Мари, понимая, что без любви к ребенку она не сумела бы пережить такой позор, и даже вера не смогла бы удержать такую добрую христианку, как она, от самоубийства.
Жанна также благодарила Бога за то, что он удалил от нее мальчика; она чувствовала, что сошла бы с ума, если бы ей пришлось. подвергаться унижениям в присутствии сына.
Она долго бродила по берегу, не зная, что предпринять и на что решиться; она избегала всяких встреч с людьми, ибо это не сулило ей ничего, кроме новых насмешек или жалости, как вдруг случайно столкнулась с боцманом Эненом.
Старый моряк был поражен, увидев вдову в слезах, в то время как после разговора с Аленом, по его мнению, она должна была светиться от радости; Энен остановил ее, хотя она и пыталась уклониться от встречи с ним, как и с другими, и принялся ее обо всем расспрашивать.
И тут Жанна Мари, заливаясь слезами, с неистово бьющимся сердцем, рассказала боцману о том, что произошло: об обещаниях Алена, о том, как она сопротивлялась, но проявила слабость, опасаясь, как бы дядя, заслышав шум, не прибежал в ее комнату; наконец, не помня себя от горя, вдова рассказала ему о событиях прошлой ночи: о том, как Ален позвал ее в Шалаш, чтобы предложить сделку, которую она отвергла, и как дядя, обнаруживший ночью ее отсутствие, обо всем догадался и с позором изгнал ее из дома.
— Ах! — вскричал старый моряк. — Этот прохвост ничего мне не говорил. Но тут что-то не так, Жанна Мари, я не могу поверить, что парень такой мерзавец, каким он кажется, если судить по твоему рассказу.
— О! Если бы речь шла только обо мне, боцман Энен, — сказала вдова, — Богу известно, что я вынесла бы наказание за свою вину без единой жалобы, ведь я понимаю, как велика эта вина; но я же любила, а когда женщина любит, она теряет силу и ее сердце не в ладу с разумом… Однако самое страшное, что моему сыну, этому бедному невинному ангелочку, придется краснеть за свою мать! О! Я вечно буду страдать и никогда не оправлюсь от этого удара…
— Перестань, — произнес боцман Энен, — черт возьми, что ты такое рассказываешь? Ты не столько виновата, сколько на себя наговариваешь, Жанна. Неужели ты перестанешь быть честной женщиной лишь оттого, что какой-то бездельник обманул твое сердце? Разве хороший баркас, потерпевший крушение, виновен в своей беде?
Несколько зевак, видя, как оживленно Энен беседует с Жанной Мари, подошли к ним.
Заметив это, боцман сказал, ударив себя в грудь с такой силой, что подобный удар уложил бы на месте быка:
— Честность — внутри нас, и только болваны, глупые, как морские угри, ищут ее в другом месте. Иди к нам, дочка: Луизон примет тебя как родную сестру, а если кто-нибудь отнесется к тебе без должного уважения, я так пересчитаю ему все кости, что они захрустят арию "Береги свою шкуру", чтоб другим не было повадно. Пусть все это запомнят!
Последние слова боцман произнес во весь голос, чтобы его услышали все, и, поскольку Энен всегда тотчас же приводил свои угрозы в исполнение, люди почтительно расступились, когда он, взяв Жанну Мари за руку, повел ее в направлении своего дома.
Как и обещал Энен, Луизон показала себя с лучшей стороны.
Она встретила вдову как сестру и приняла ее в семью столь же великодушно, сколь и естественно.
Оставив Жанну Мари на попечение жены, старый моряк отправился в сторону Шалаша, чтобы отыскать Алена Монпле.
XVIII
ТРУДНЫЙ АБОРДАЖ
Маленький Жан Мари уже рассказал нам, что Энен пришел в дурное расположение духа, не застав в Шалаше того, кого он искал.
Но на следующий день события приняли другой оборот: устав ждать молодого охотника дома, боцман вновь явился в Шалаш и нашел дверь лачуги закрытой; он яростно стал колотить в дверь ногой, но так и не смог войти в дом Алена, поскольку предусмотрительный Жан Мари, прежде чем отправиться к скупщику дичи, тщательно укрепил дверь изнутри железными перекладинами и выбрался из дома через окно.
Когда Энену надоело сбивать подошвы о доски, которые перекрывали вход в Шалаш, он остановился и задумался.
"Ну и ну, — сказал себе боцман, — это же ясно, как Божий день: парень дал тягу и не собирается подпускать нас близко; но пусть мне на шею повяжут флаговый фал вместо галстука, если я не брошусь за ним в погоню, как фрегат за пиратским судном! А! Он смеется надо мной, как марсовый над горожанином, солдатом или конопатчиком, и пусть крысы сожрут мои нашивки, если я не догоню бездельника рано или поздно! И когда это случится, ему не поздоровится, так как, клянусь честью, я буду палить из всех орудий с левого и правого борта".
Дав себе эту клятву, боцман, преисполненный решимости устроить охоту на Алена, направился к взморью, где, по его мнению, должен был находиться молодой человек; при этом Энен продолжал неистово перекатывать во рту комок жевательного табака.
Увидев на берегу боцмана, Ален, не желавший слышать его упреков, так ловко спрятался в расселинах скал, что бравый моряк прошел мимо, не заметив его.
Более двух часов Энен напрасно бродил взад и вперед по отмелям, и, поскольку прилив усиливался, ему пришлось, в конце концов, выйти на берег.
Избавившись от своего преследователя, Ален выбрался из укрытия и стал готовиться к вечерней охоте.
Он тщательно зарядил литой дробью свое огромное ружье восьмого калибра и спрятался в одной из пустых бочек без дна, которые он установил на песке.
Вскоре темнота, опускавшаяся на землю, постепенно окутала берег, а затем и водную гладь.
Первая звезда показалась на небе в полночь.
Настало время прилива.
Море было спокойно, и монотонный шум волн, набегавших на берег, раздавался с одинаковыми перерывами.
Наконец мрак сгустился; отчетливо виднелась лишь маленькая лагуна, возле которой расположился Ален: в черном обрамлении ночи она блестела как зеркало.
И тут послышалось множество невнятных для непосвященного человека, но явственных для уха опытного охотника звуков, которые заставили Алена насторожиться.
До него доносились пронзительные крики, резкий свист и гнусавое курлыканье, сопровождаемое шумом машущих в воздухе крыльев.
К отмели приближались зуйки, кулики, чирки и утки.
Они пролетали на большой высоте над головой Монпле.
Однако одна стая уток долго кружила поблизости, после чего внезапно охотник увидел, как вода забурлила под тяжестью множества птиц.
Утки опустились в лагуну.
Их было более пятидесяти.
Некоторое время они выжидали с вытянутыми шеями и склоненными в сторону ветра головами, проверяя, насколько надежно пристанище, избранное ими для ночлега; не услышав ничего подозрительного, кроме мерного рокота волн, угасавших на песке, птицы разбрелись повсюду.
Одни из них, очевидно, ещё недостаточно насытившись, ныряли и вытаскивали из тины креветок и мелких крабов.
Пернатые щеголи, заботясь о своей внешности, совершали туалет: они стряхивали с лазурных перьев воду и чистили их клювом.
Постепенно вся стая сбилась в кучу на берегу водоема — издали она казалась сплошной черной массой.
Неожиданно послышался оглушительный выстрел, и пули градом посыпались на несчастных уток.
Самые сильные успели взлететь, но второй ружейный залп подкосил большое число поднимавшихся в воздух птиц.
Производя первый выстрел, Ален целился низко, чтобы дробь рикошетом поразила как можно больше мишеней; во второй раз он выстрелил высоко, следуя за вертикальным взлетом уток, и это привело к превосходным результатам.
Добрая треть стаи неподвижно лежала на песке, убитая наповал первым же выстрелом; остальная часть подбитых, искалеченных птиц бросилась в лагуну, и Флажок стал преследовать их в воде, настигая раненых уток, несмотря на то что они проворно ныряли.
Ален был доволен удачной охотой; решив, что уже слишком поздно, чтобы во второй раз садиться в засаду, он забрался в одну из бочек, повернув ее дном против ветра, и попытался там немного отдохнуть.
Около трех часов ночи наступил отлив.
Пора было уходить с отмели, пока вода спала, и охотник двинулся в путь.
По дороге молодой человек собрался подстрелить несколько нырков; обходя с чрезвычайной осторожностью выступ скалы, чтобы приблизиться к тому месту, где, как ему казалось, притаилась дичь, он неожиданно почувствовал сильный толчок в плечо.
Монпле резко обернулся.
В двух шагах от него стоял мужчина, размахивавший палкой, первый удар которой Ален почувствовал на себе.
Было еще темно, и охотник решил, что на него напали; он быстро вскинул ружье и прицелился.
Но тут новый удар палки, обрушившийся на конец ствола, выбил ружье у него из рук, и оно упало на землю.
Ален бросился поднимать оружие, но его остановил хорошо знакомый голос боцмана Энена:
— Будет, будет, господин Монпле, оставьте в покое ваше орудие. Хотя кожа у меня такая же темная, как у какого-нибудь турпана, а пахнуть я должен не хуже водоплавающей дичи, я все же не то же самое, что ваша добыча.
— Как! — вскричал молодой человек. — Это вы, боцман, здесь, да еще в такое время?
— Тысяча чертей! Приходится за тобой гоняться, ведь ты бегаешь от друзей и, как видно, навсегда променял балки своего Шалаша на небесный свод.
— Кто? Я? Вы думаете, я от вас бегаю, боцман Энен?
— Я не знаю, бегаешь ли ты от меня или нет, но со вчерашнего дня ты ухитряешься все время поворачиваться ко мне только кормой, а это нечестно.
— Я уверяю вас, Жак…
— Хватит! Берегись, ты собираешься сказать неправду! Мало того что не годится насмехаться над старшими, порядочный человек не имеет права лгать. Ты думаешь, что старого боцмана Жака можно одурачить, как какую-нибудь сухопутную крысу? Ничего подобного! Я шел по твоему следу на песке и прекрасно видел, как ты прятался за каждым камнем, наблюдая оттуда за боцманом Эненом и выжидая, когда он уберется из твоей акватории. Ах, если бы этот чертов песок не сменился там, на отмели, галькой, ты бы не избежал абордажа, голубчик! Но я еще подумал: "Будь спокоен, рано или поздно я тебя поймаю!.." В самом деле, как только вода спала, я пришел, вспышка твоего выстрела указала мне дорогу, и вот я тут как тут! Не велика хитрость.
— Вы здесь, пусть так; я вас прекрасно вижу, и что из этого следует? Что вы так спешили мне сказать?
— А! Продолжаешь издеваться! Ты и сам знаешь, что я хочу тебе сказать.
Алену было хорошо известно одно: если боцман Энен вбил себе что-то в голову, он будет стоять на своем до конца.
Поэтому охотник смирился с тем, что старый моряк именовал абордажем.
— Ладно! Ладно! — сказал он. — Я понимаю, в чем дело, вы пришли из-за Жанны Мари, не так ли?
— Вот видишь, ты знаешь, что привело меня сюда.
— Значит, Жанна рассказала вам свою историю?
— Неважно, как я об этом узнал, раз уж я это знаю. Ален, я давал тебе дельный совет, совет честного человека: если ты любил Жанну Мари, и Жанна Мари любила тебя, надо было жениться на ней. Но ты не послушался моего совета.
— Что поделаешь! — ответил охотник. — Мне претило жениться на женщине из семьи человека, обобравшего меня до нитки.
— Лучшим фрегатом, на который когда-нибудь ступала нога матроса, был "Победоносный" — раньше, пока мы не отвоевали этот корабль у англичан, он назывался "Victory"[2]… Нет-нет, смельчак Ален, не в этом причина такого твоего поведения; ты поднимаешь подходящий флаг, чтобы удалить меня из своей акватории, и остерегаешься показывать свой истинный флаг.
— Что ж, хорошо, — промолвил Ален, — я буду говорить с вами откровенно. Я отдаю должное Жанне Мари со всеми ее достоинствами: это порядочная женщина с добрым сердцем; я бы женился на ней охотнее, чем на любой другой, но что поделаешь: брак не входит в мои планы.
— Правда?
— Да, я еще для этого не созрел. Жениться означало бы навеки сделать нас, и меня и ее, несчастными.
— Милый мальчик, — суровым тоном произнес Энен, — следовало подумать об этом раньше, в ту ночь, когда она приютила и спрятала тебя в своей комнате, чтобы ты не был пойман и не наказан, как вор. Надо было еще тогда привязаться к якорю канатом порядочности, держаться подальше от берега и не мчаться прямо на рифы.
По тому, как боцман Энен изъяснялся, было ясно, что ему известно все.
В течение нескольких минут молодой человек хранил молчание.
Затем, стараясь напустить на себя легкомысленный и беспечный вид, он сказал:
— Ничего не попишешь, боцман Энен. Целые сутки — это долгий срок. Особенно, если ты сидишь взаперти с молодой хорошенькой женщиной и вдобавок чувствуешь, что она тебе не противна. Хотел бы я посмотреть, что бы вы делали на моем месте!
— На твоем месте, — продолжал моряк, голос которого становился все более суровым, а лицо — все более строгим, — разве я не был на твоем месте? Но черта с два я повел бы себя так же, как ты! За свою жизнь мне довелось изведать такое, что твои шалости — просто ерунда по сравнению с моими проказами! При бывшем, даром что он был сущей сухопутной крысой и не слишком жаловал матросов, мы привозили из рейса неплохую добычу да просроченное жалованье в придачу и гуляли вовсю: ублажали девиц, напивались так, что в конце концов падали под стол, давали друг другу взбучку — одним словом, получали все какие есть удовольствия! Но, чтобы обольстить хорошую честную девушку, взять ее силой или как-то еще, нет, господин Ален, это не по-моряцки. Если бы, будучи бедным и несчастным, я обманул бы такую же бедную и несчастную женщину, как я, мне бы показалось, что я надругался над родной сестрой, а это ой как нехорошо.
— Черт возьми, боцман Жак, — сказал Ален, — я и не знал, что вы такой добродетельный человек.
— Перестань, перестань, хватит смеяться, господин Ален, — произнес моряк. — Знаешь, сейчас ты мне очень напоминаешь тех китайцев, что малюют огромные пушки на своих портах, чтобы напугать малайцев; этот смех тебе не пристал, парень, и твои шуточки не вгонят меня в краску, как и не облегчат камня у меня на сердце при мысли о той бедняжке, которую ты оставил на берегу в плачевном состоянии после того, как она по твоей милости потерпела крушение.
— Почему же она потерпела крушение и сейчас в более плачевном состоянии, чем раньше?
— А! Так ты не знаешь, что с ней приключилось?
— Нет, а что с ней приключилось?
— А то, что, когда позавчера ночью Жанна вернулась с вашего свидания в Шалаше — куда, между прочем, незачем было ее звать, чтобы сделать ей такое гнусное предложение — дядя поджидал ее на пороге. Обрадовавшись, что подвернулся удобный случай, Ланго выгнал ее из дома, как какую-нибудь бродяжку и потаскушку, гуляющую по ночам.
— А! Я этого не знал.
— В самом деле?
— Я клянусь, боцман Энен.
— Меняет ли это твои намерения?
— Но почему же, — продолжал Ален, не отвечая на вопрос моряка, — почему, оказавшись без крова, она не пришла ко мне просить приюта?
— Ну да, конечно, ты отвергаешь Жанну как жену, но приютил бы ее как любовницу! Она, это бедное милое создание, эта благочестивая женщина, побоялась к тебе обращаться и правильно сделала.
— По-моему, — сказал Ален, — это все же было бы лучше, чем скитаться где придется, ведь, если Ланго все рассказал людям, в чем я не сомневаюсь, бедная Жанна Мари не найдет ни одного дома, где она сможет приклонить голову.
При этом он невольно вздохнул.
Глаза боцмана засверкали.
— А вот в этом ты ошибаешься, — произнес он, — она уже нашла себе пристанище.
— Какое?
— Мой дом.
Ален задумался; сердце его сжалось, и на миг ему стало стыдно.
Молодой человек действительно опасался утратить свою независимость, зная ее истинную цену; он не понимал, что тихие радости семейной жизни, живой пример которой он видел в доме боцмана, способны вознаградить его за эту жертву. И все же, несмотря на его привычку к беспутной жизни и на его грубые вкусы, Ален не был дурным человеком. Он считал свой поступок ни к чему не обязывающей шалостью. Еще никогда с ним не говорили о таком столь серьезно. Судьба несчастной вдовы не могла оставить охотника безучастным, и он спрашивал себя, не следует ли ему во что бы то ни стало исполнить свой долг.
К несчастью, боцман Энен превратно истолковал то, что происходило в эту минуту в сердце молодого человека; он решил, что Ален не растрогался, а ожесточился, и внезапно вскричал, топнув ногой:
— А! Тебе чертовски повезло, что я не отец и не брат бедной Жанны Мари.
Ален резко поднял голову, как будто его ужалила змея.
— Э, боцман, к чему вы это говорите? — спросил он.
— Я бы показал тебе, парень, что тот, кто позорит женщину, может поплатиться за это головой.
— Позорят только тех, кто желает быть опозоренными, — грубо отвечал охотник, — будь Жанна Мари вашей женой или дочерью, это ничего бы не изменило, слышите, боцман Жак?
— Значит, ты бы все равно на ней не женился?
— Ей-Богу, нет.
— И что бы ты мне сказал в свое оправдание?
— Я бы сказал, если предположить, что я вообще стал бы оправдываться, что не считаю себя каким-то красавчиком и, стало быть, кто поручится, что женщина, уступившая мне, не уступит другому?
— А!.. Думаешь, я не заставлю тебя раскаяться в таких подлых речах?
— Вы сказали, в подлых речах, боцман Энен?
— Да, в подлых речах, я сказал и повторяю: в подлых речах!
— Скажите спасибо, что вам шестьдесят лет, боцман Энен, а не то вам бы дорого пришлось заплатить за подобное оскорбление, так и знайте.
— Какая тебе разница, сколько мне лет, парень, если моя кровь столь же горяча, как твоя, и я готов пролить хоть целый жбан крови, чтобы тебя проучить!
Ален только пожал плечами.
После вчерашнего визита в Шалаш боцман Энен, оскорбленный в своих лучших чувствах, с трудом сдерживал клокотавшую в нем глухую ярость; поэтому, восприняв сочувственный жест охотника как издевательство, старый моряк окончательно забыл о своей миссии миротворца и взорвался.
— Черт побери! — вскричал он. — Разве мужчина теряет мачты от того, что черви уже начали подтачивать его корпус? Если ты так считаешь, дружище Ален, то я думаю по-другому, и докажу тебе, что такая старая посудина, как я, еще может лихо стрелять залпом. Я буду драться с тобой, когда ты захочешь, на саблях или на ножах, по твоему усмотрению, слышишь, жалкая сухопутная крыса?
Монпле потянулся к своему ружью, лежавшему возле скалы.
Боцман Энен сделал шаг вперед, чтобы помешать молодому человеку взять оружие; при этом он продолжал сжимать в руках палку.
Однако Ален понимал, что нельзя ввязываться в драку со стариком.
— Давайте разойдемся, — предложил он, — мы и так уже достаточно друг другу наговорили. Стоит мне еще немного вас послушать, боцман Жак, и я позабуду о дружбе, которая была мне дорога, и перестану владеть собой. Если вы думали, что ваши ругательства и угрозы могут заставить меня изменить свое решение, то вы жестоко ошиблись.
Энен мысленно признал, что он в самом деле действовал неправильно.
— Скажите Жанне Мари, — продолжал охотник, — что мне искренне ее жаль, и я сожалею, что по воле рока она оказалась у меня на пути. Скажите ей, что если бы нашелся другой способ ее утешить, а не тот, какой вы хотели навязать мне силой, то я был бы рад им воспользоваться, чего бы мне это ни стоило. Но я не могу пожертвовать своей свободой, вызвать у себя чувства, для которых я еще не созрел, и возложить на себя обязанности, которые я не в состоянии исполнить. А теперь давайте забудем взаимные обиды; к счастью, нашими свидетелями были только ночь, океан и Бог. Прощайте, боцман Жак.
Свистом подозвав Флажка, Ален поспешил уйти.
XIX
ДОБРЫЕ СЕРДЦА
Энен колебался, размышляя, не последовать ли ему за Монпле — старый моряк был упрям, и все же он, недолго думая, пожертвовал бы своими личными обидами, чтобы образумить Алена; однако еще не совсем рассвело и в темноте боцман не сумел бы разыскать молодого охотника в лабиринте скал и лагун.
Поэтому Энен побрел вдоль берега, а затем перебрался через болото, вошел в Шалаш и разбудил Жана Мари.
Узнав голос боцмана Жака, мальчик страшно перепугался.
Но, когда тот зажег лампу и мальчик увидел печальное выражение лица старика, его страх отчасти сменился состраданием.
— О Господи, — воскликнул маленький Жан, — что случилось, господин Жак?
— Дитя мое, — промолвил боцман с величайшей нежностью, — ты должен немедленно встать, собрать свои пожитки и пойти со мной.
— Куда, боцман? — спросил мальчик.
— К твоей матери.
— Стало быть, — вскричал обрадованный ребенок, — это матушка вас послала?
— Да, — отвечал боцман Энен.
— А что скажет мой друг Ален, когда увидит, что меня здесь нет?
— Он без труда поймет, что ты ушел.
Жан Мари ненадолго задумался; затем, осознав, что старый моряк по каким-то причинам вправе распоряжаться его судьбой, он встал, оделся и собрал свои вещи.
Боцман взял мальчика за руку, и оба направились в сторону Мези.
В доме Жака Энена все уже спали.
Луизон, лежавшая одна в передней комнате, проснулась, услышав, как повернулась щеколда входной двери, и спросила:
— Это ты, Жак?
— Да, это я, — отвечал моряк, заставив мальчика встать на колени возле кровати жены.
Затем, взяв руку Луизон и положив эту нежную материнскую руку на голову маленького Жана Мари, Энен сказал:
— Ну вот, жена, нас было одиннадцать, а это неровный счет: Бог смилостивился и послал нам этого ребенка, теперь нас двенадцать. Благодари за это Бога.
После ссоры с боцманом Ален три дня подряд не решался заглянуть в Шалаш; не подозревая о том, что Энен уже забрал Жана Мари, он боялся возвращаться домой и встречаться с мальчиком, чувствуя, что тот станет для него живым укором, напоминающим о горе, которое он причинил его матери. Между тем дичь, которую молодой охотник истреблял каждую ночь, стала накапливаться в таком количестве, что это стало его тревожить; запасы же еды и боеприпасов истощались, и пора было возвращаться к себе.
Придя в свою хижину, Ален с величайшим изумлением обнаружил, что она пуста.
Вначале он обрадовался; ничто не указывало на то, как давно малыш Жан Мари его покинул.
Охотник сам сходил в Исиньи к скупщику дичи, а затем снова вернулся к привычной для него одинокой дикарской жизни.
Но отныне эта жизнь утратила для него прежнее очарование.
Прошли два-три дня, а Жан Мари все не возвращался; никаких вестей о нем не было, и Ален понял, что случилось нечто непредвиденное; он почти догадался о том, что произошло. И тогда суровое одинокое существование начало его тяготить. Молодой человек незаметно привык к бесхитростной болтовне мальчика, к его веселому щебетанию, скрашивавшему однообразные вечера, к его услугам, и крошечная хижина показалась нашему герою необъятной пустыней.
Временами Ален не ходил на охоту и, сидя у огня, предавался неясным раздумьям; когда охотник машинально смотрел на дым, поднимавшийся от обломков погибших кораблей, которыми он топил очаг, ему мерещилось в облаках дыма бледное и печальное лицо Жанны Мари, и красивые глаза вдовы глядели на Алена с таким укором и скорбью, что он невольно отводил взгляд от этого видения, не в силах вынести его.
В такие минуты молодой охотник вскакивал, хватал ружье и принимался за свое любимое дело; лишь ценой жизни множества уток, турпанов и чирков или, за неимением их, чаек, болотных куликов и кайр ему удавалось избавиться от мучительных воспоминаний.
Между тем его начала одолевать скука; настало лето, охота уже недостаточно часто позволяла ему весело проводить время, и Ален стал искать утешения в прежних забавах, от которых он был вынужден отказаться после своего разорения. Зима принесла обильный урожай: будучи превосходным охотником, Монпле истребил огромное количество дичи и выручил за нее несколько сотен франков — этого было достаточно, чтобы снова окунуться в водоворот развлечений, расхаживая по питейным домам и бильярдным.
Однако охотник посещал не те места, куда наведывался боцман Жак; поэтому за три-четыре месяца он ни разу не повстречался с ним. Если же Ален неожиданно замечал на берегу Энена, согнувшегося под тяжестью больших ивовых корзин с уловом, он обязательно поворачивался и шел в другую сторону.
Но, как ни старался молодой охотник забыться, ему не удавалось избавиться от воспоминаний о Жанне, образ которой продолжал вызывать у него угрызения совести и сожаления; при этом молодой человек еще более упорно избегал Жака Энена, явно не желая дарить ему победу, которую, как считал Ален, при его нынешнем упадке духа тот мог одержать над ним.
В то время как Ален катал бильярдные шары, звенел стаканами в кабаках и веселился с местными красотками, в доме боцмана Энена часто и много плакали.
По прошествии двух месяцев Жанна Мари почувствовала, что ее грех должен весьма серьезно отразиться на ее положении.
Бедная женщина уже не сомневалась: ей суждено было во второй раз стать матерью.
Некоторые люди рождены исключительно для страданий, и беда никогда не приходит к ним одна.
Какое-то время вдова надеялась, что она ошиблась, и прятала свои опасения в глубине души; она плакала по ночам, но днем вытирала слезы, чтобы не огорчать печальным видом своих добрых хозяев, но те с тревогой замечали, что скорбь все больше отражается на чертах лица несчастной женщины и не могли понять, как ее утешить и развеселить.
Жанна Мари спала в той же комнате, что и дети боцмана; как-то раз ночью Тереза, старшая из дочерей Энена, случайно проснулась и услышала, как вдова рыдает в своей постели.
Девочка ничего ей не сказала, но наутро поведала матери о том, что вдова проплакала всю ночь.
В тот день Луизон спросила Жанну Мари, чем вызвано ее горе; женщина попыталась притвориться, что все еще переживает из-за того, что ее бросил Ален, но жена моряка засомневалась в достоверности ее слов и столь искренне стала сетовать на это недоверие к ней, что бедная вдова решилась раскрыть ей свою тайну.
Вначале женщины поплакали вместе; затем Луизон сказала Жанне Мари, что та должна склониться под дланью Господа; она попыталась убедить будущую мать в том, что, под какой бы несчастной звездой ни родился ее ребенок, ей не пристало отрекаться от него.
Наконец в качестве последнего утешения Луизон заверила Жанну, что они с Эненом будут всячески заботиться о ней, стараясь облегчить ее положение.
Признание вдовы, переданное Луизон Энену, чрезвычайно расстроило старого боцмана; он опасался, что после того, как известие о беременности Жанны Мари получит огласку, женщине крайне трудно будет оставаться в Мези. Супруги искренне привязались к вдове; им было больно осознавать, что ей придется искать себе пристанище, и они ни за что бы не согласились, чтобы она нашла приют в какой-нибудь богадельне.
Жанна Мари даже не помышляла о том, чтобы скрыть свою беременность; она воспринимала ее как Божью кару, полагая, что все сложится так, как угодно Господу.
Луизон настаивала на том, чтобы Энен возобновил переговоры с Монпле, но поведение Алена окончательно погубило его репутацию в глазах старого моряка; в душе боцмана не могли ужиться разнородные чувства, и ненависть, которую он испытывал теперь по отношению к молодому охотнику, была столь же искренней, как и его былое расположение к нему. Таким образом, моряк столь решительно отверг предложение жены, что у нее больше не возникало желания возобновлять его.
В то время, когда Луизон, смотревшая на пол, тогда как ее муж осыпал Алена ругательствами и проклятиями, подняла глаза, взгляд ее упал на копилку, стоявшую на камине между двумя раковинами и двумя кораллами.
Женщина столь пристально разглядывала этот предмет, что Энен невольно устремил глаза в том же направлении.
Вскрикнув с облегчением и ликованием, боцман схватил копилку, встряхнул ее с детской радостью и опустил на стол.
— Черт побери! — воскликнул он. — Вот то, что нам нужно! Это помешает сплетникам из Мези злословить по поводу нашей Жанны.
— Но ведь дети копили деньги два года, чтобы купить своей сестричке платье к первому причастию, — робко промолвила Луизон.
Было ясно, что она выдвинула это возражение лишь для очистки совести.
— Что ж, значит, девочка пойдет к причастию в своей воскресной одежде. Неужели ты думаешь, что Господь Бог будет строить из себя вахтенного офицера и придираться по мелочам к ее одежде?
С этими словами моряк ударил по копилке каминными щипцами, и она разбилась вдребезги.
Серебряные и медные монеты рассыпались по столу и полу; боцман Энен собрал деньги, пересчитал их и разложил на столе с чувством удовлетворения, которое выражалось в его чудовищной брани.
Луизон так обрадовалась, что бросилась мужу на шею и расцеловала его.
В копилке оказалось сто десять франков.
Тотчас же было решено, что, как только беременность Жанны Мари станет заметной, она отправится в Валонь к двоюродной сестре Луизон, и та за скромное вознаграждение возьмет вдову на полное содержание.
Жанну Мари известили об этом замысле, и она расплакалась от благодарности, подобно тому как еще недавно каждый день плакала от горя; вслед за этим женщина обрадовалась и опечалилась одновременно; она обрадовалась, понимая, что должна уехать без промедления, так как вскоре ей нельзя будет показываться в деревне, и огорчилась оттого, что впервые за время своего вдовства ей придется расстаться с сыном. Жанна Мари опасалась, что она не сможет пережить разлуку с сыном.
Это чувство было настолько сильным, что бедняжка под всевозможными благовидными предлогами то и дело откладывала свой отъезд: каждый день отсрочки позволял ей еще раз приласкать мальчика — ласки сына были ей дороже доброго имени…
Между тем изящный и гибкий стан вдовы терял прежнюю стройность; для Луизон, видевшей Жанну Мари каждый день, эти изменения были незаметными, но жители селения, прослышавшие о грехе племянницы от ее злоречивого дяди Ланго, обратили внимание на то, что она беременна, и начали насмехаться над ней. Они остерегались делать это в присутствии боцмана, зная, что моряк, обычно добродушный и миролюбивый, в некоторых случаях становится злым, как черт, но, когда Энен был далеко, вновь издевались над ней.
Как-то раз Жан Мари, с некоторых пор ходивший к морю вместе с боцманом, отправился один за наживкой и вернулся домой в разодранной одежде, со ссадинами на лице и с красными глазами, полными слез. Мальчика стали расспрашивать, но он отказывался отвечать с не свойственным ему упорством. Старый моряк заговорил с Жаном Мари грубым голосом, как это принято на судне; он чертыхался, бранился и угрожал, но все было напрасно; видя это, вдова взяла сына за руку и увела в комнату, где они спали.
Вдова села на край постели и спросила:
— Ну что, Жан, мне-то ты признаешься, с кем и ради кого ты дрался?
Мальчик необычайно пристально посмотрел на мать, а затем бросился в ее объятия, заливаясь слезами, и стал осыпать ее поцелуями.
Мать осторожно освободилась из объятий сына.
— Милая матушка, — произнес мальчик, — не спрашивай меня больше об этом, так как я не смогу тебе ответить. Если бы ты узнала, почему я дрался, ты бы ужасно расстроилась.
Сердце бедной женщины забилось учащенно; она покраснела, охваченная сильным волнением, и тут же побледнела.
Жанна Мари догадалась о том, что случилось.
— И все же, голубчик, — продолжала она, — ты должен рассказать мне о причинах этой драки. Я не приказываю, а прошу тебя.
— Что ж, матушка, — отвечал мальчик, — раз уж ты хочешь это знать, я скажу: я повстречал сыновей и дочерей Тома Омме, когда те шли за ракушками, и они стали плохо говорить о тебе.
— Что же плохого они говорили? — спросила Жанна Мари, запинаясь.
— Нет, матушка, — вскричал мальчик, — не вынуждай меня, я ни за что не осмелюсь это повторить!
Вдова растерялась.
Она понимала, что ей не следует больше ни о чем допытываться у ребенка, но страшно боялась, как бы ему не рассказали всей правды, и потому, из последних сил надеясь, что это не так, невольно продолжала расспрашивать бедного мальчика.
— Я хочу знать все, Жан, — сказала она.
— Так вот, матушка, самый старший из парней начал говорить мне гадости; я бы пошел дальше своей дорогой, но боцман Энен учил меня недавно, что матрос должен всегда давать сдачи тем, кто его обижает. Поэтому я подрался со старшим парнем Омме. И тут толстая Фаншетта, старшая из девчонок, принялась за тебя; она сказала, что господин Ален… господин Ален…
Вдова громко вскрикнула и закрыла лицо руками.
— Но это же неправда, — продолжал мальчик, — они соврали, я им это сказал, и они меня поколотили. Да, они соврали! Скажи, матушка! Я хочу услышать, как ты сама мне это скажешь, и я быстро позабуду о тех тумаках, что мне надавали.
Жан Мари взял руки матери и принялся осыпать их поцелуями, в то же время орошая слезами.
У матери не хватило духу обмануть сына; она опустилась перед мальчиком на колени и стала целовать его ноги, как просительница.
— Прости меня, мой бедный сыночек, прости меня! — воскликнула она голосом, прерывающимся от рыданий. — Прости, что я на какой-то миг забыла о тебе и лишила тебя честного незапятнанного имени — единственного достояния, которое сумел оставить тебе твой бедняк-отец. Пусть так, но я искуплю свою вину! Во-первых, я буду оплакивать свою честь каждый день, до тех пор пока Бог не соизволит призвать меня к себе; кроме того, я постараюсь отыскать в своем сердце еще больше любви для тебя, мой милый и любимый сыночек! Вся моя жизнь отныне будет посвящена только тебе… Но я заклинаю тебя: прости и не разлюби свою бедную мать!
— Разлюбить тебя! — вскричал мальчик с неожиданной для его тщедушного телосложения энергией. — Разлюбить тебя за то, что ты несчастна?.. Ты постараешься, как ты говоришь, дать мне больше любви? А я отвечаю тебе, что с сегодняшнего дня, увидев слезы в твоих глазах, я буду любить тебя в сто раз сильнее.
С этими словами мальчик снова поцеловал мать.
— Нет, ты не виновата, — прибавил он, — виноват только я один. Лучше бы я в тот раз быстро утонул, тогда бы этот гадкий господин Ален держался от нас подальше и не причинил бы тебе вреда. Это он виноват, это он воспользовался твоей любовью ко мне. Но я разыщу господина Алена, я его разыщу…
— Ни в коем случае не делай этого, — сказала Жанна Мари, перебивая сына, — боцман Энен уже пытался с ним говорить, но все было напрасно, мой бедный Жан.
— Но ведь боцман Энен — это не я, матушка; он, должно быть, говорил с ним о стакселях и главном якоре, о том, как травить шкоты и держаться к ветру, да Бог весть о чем еще! Но ты, ты же моя мать, и раз я забочусь о тебе, то непременно сумею доказать господину Алену, что он поступает дурно, заставляя тебя плакать.
Матери очень хотелось разрешить сыну последовать велению его внутреннего голоса, но боцман Энен, затаивший на Алена обиду, преувеличивал силу буйного нрава молодого охотника; сгущая краски, он нарисовал вдове столь угрожающую картину, что женщина испугалась, как бы Монпле не обошелся с бедным мальчиком грубо, и не рискнула подвергнуть его еще одному унижению.
Она посадила сына к себе на колени и, осыпая его ласками, стала просить, чтобы ради любви к ней он отказался от своего намерения.
В конце концов Жан Мари пообещал это матери.
XX
ЗАСАДА
Мать и сын, не в силах оторваться друг от друга, еще долго сидели вместе.
Когда они вернулись в комнату, где их ждали Энен и Луизон, те по следам слез на щеках обоих, а также по их красным опухшим глазам догадались, из-за чего Жан Мари ввязался в драку.
Покачав головой, боцман заявил, что вдове пора уезжать; не дожидаясь ее согласия и не обращая внимания на то, что она умоляет его жестами не упоминать об этом в присутствии мальчика, Энен назначил дату отъезда Жанны Мари на ближайшее воскресенье.
Мальчик не подозревал о предстоящей разлуке с матерью, но, когда он услышал это, его отчаяние не выплеснулось наружу, как она опасалась.
Он лишь еще больше побледнел, стал смотреть в одну точку и кивнул, как бы говоря; "Все хорошо".
Его губы дрожали, но он не произнес ни слова.
Вдова обняла сына; он позволил себя ласкать, не выказывая при этом никаких чувств. Прошло довольно много времени, прежде чем мальчик пришел в себя и стал отвечать на поцелуи, которыми осыпала его мать.
Было ясно, что Жан Мари принял какое-то решение, непосильное для его разума и возраста.
Дело было в понедельник.
До самой субботы Жан Мари оставался угрюмым и печальным; он не плакал, но его глаза были красными и воспаленными; он почти все время молчал и часами пребывал в глубокой задумчивости.
Лишь увидев мать, мальчик стряхивал с себя оцепенение и следил за каждым ее движением; он пожирал мать глазами, словно стремясь запечатлеть в своем сердце мельчайшие подробности ее нежно любимого лица.
Когда она, пытаясь развеселить сына, говорила ему о своем возвращении и спрашивала, радуется ли он при мысли об их предстоящей встрече через четыре-пять месяцев, он лишь улыбался в ответ, но эта улыбка, в которой сквозила глубокая печаль, настолько не вязалась с тем, что читалось в его глазах, что даже самые черствые сердца сжались бы при виде этого зрелища.
Чем ближе был день расставания, тем задумчивее становился Жан Мари.
В субботу, когда пришло время садиться за обеденный стол, все заметили, что мальчик, наконец, внял совету матери, давно посылавшей его подышать воздухом.
Дома Жана Мари не было.
Его тщетно искали в саду, но не нашли; его звали повсюду, но он не отвечал.
Двое детей боцмана Энена бегали взад и вперед по берегу моря, но так и не встретили мальчика.
И тогда безмолвная, трепещущая женщина поднялась и попросила старого моряка отправиться вместе с ней на поиски сына; как ни велика была ее тревога, она все же не решалась показываться в деревне одна. Боцман Энен, также озабоченный тем, как странно вел себя в последние дни впавший в уныние юнга, согласился сопровождать вдову.
И вот они двинулись в путь…
Снова предавшись бурным утехам, доставлявшим ему удовольствие в юности, Ален не думал о том, что с годами, после перенесенных невзгод, он изменился, и сердце его, чтобы отвлечься, нуждалось в иных радостях, нежели застолья с кабацкими дружками и случайные связи с уличными красотками.
Через два месяца после того как Монпле взялся за старое, сотрапезники и любовницы стали казаться ему глупыми, грубыми и никчемными; он заскучал по Шалашу с его крестообразно уложенными в камине дровами и печальными воспоминаниями, витающими в безлюдном доме; наконец, сочтя, что лучше тосковать в одиночестве, чем в подобной компании, молодой человек вернулся к прежнему образу жизни, довольствуясь обществом Флажка.
Лето показалось Алену долгим и трудным во всех отношениях.
Как уже было сказано, последние дни зимы выдались для молодого охотника удачными, и он скопил несколько сотен франков; однако два месяца разгула нанесли сбережением Монпле сильный урон, и он с ужасом ждал того часа, когда его тощий кошелек окончательно опустеет.
Кроме того, вернувшись к спокойной жизни, Ален вновь обрел воспоминание о несчастной вдове; ее образ был таким живым и прекрасным, что временами молодому дикарю казалось, будто он страстно любит Жанну и ей удалось вытеснить из его сердца образ Лизы.
Если бы не самолюбие, не позволявшее Алену признать свою вину, хотя подобная твердость характера, которой он гордился, не была свойственна ему от природы; если бы не смутное чувство ложного стыда, терзавшее его не раз после долгой бессонной ночи, когда милое лицо Жанны Мари склонялось к его изголовью, — он давно бы постучался в дверь своего бывшего друга-боцмана и стал бы просить его о прощении.
Но, как только эти здравые мысли приходили к нему, он, превозмогая себя, сердито гнал их от себя.
Было ясно, что он с нетерпением ждет прихода осени, надеясь, что страстно любимая им охота окончательно избавит его сердце и ум от этих пустых и опасных, по его мнению, размышлений.
К тому же, несмотря на то что теперь Ален вел крайне умеренную жизнь, он уже почти исчерпал все свои средства.
Стоял сентябрь.
В эту пору случаются сильные приливы и отливы, во время которых море, то приближаясь, то отступая, оставляет на виду гораздо более обширные отмели, чем в другое времена года — протяженность таких участков колеблется от полульё до льё, в зависимости от глубины отмели.
Жара еще не спала, и водоплавающая дичь не спешила, как обычно, возвращаться на побережье; турпаны держались в открытом море — таким образом, даже эта дичь, на которую охотятся, когда нет другой, оставалась недоступной.
И все же благодаря малой воде и огромным открытым пространствам птицы становились досягаемыми.
Обычно в такие дни все окрестное население, включая мужчин, женщин, детей, а также лошадей и ослов, высыпают на берег и суетятся там по колено в воде. Повозки приезжают за морскими водорослями и фукусами, которыми удобряют поля, и их колеса оставляют борозды на песке, там, где всего лишь несколько часов назад стояла вода высотой примерно в двадцать футов. Женщины и дети забрасывают небольшие сети для ловли креветок дальше обычного; самые отважные уходят к дальним скалам и ловят там в ложбинах рыбу, крабов и даже омаров, остающихся на песке после отлива.
Посреди всеобщей суматохи охотнику трудно отыскать тихое укромное место, где можно устроить засаду и захватить дичь врасплох.
Ален знал одну такую отмель, расположенную вниз по течению Виры, приблизительно в двух льё от берега; она появлялась на поверхности лишь в пору самой низкой воды; сколько бы сильным ни был отлив, ее всегда отделял от берега моря пролив; этот пролив был таким широким, что через него нельзя было перебраться вброд.
К тому же отмель состояла из сплошного песка; несколько невысоких утесов, разбросанных здесь и там, были недостаточно надежным укрытием для прячущихся в подобных местах ракообразных — следовательно, местные жители могли обойти этот островок стороной. Ален, решивший поискать поблизости турпанов, сел в лодку во время прилива, чтобы оказаться на месте охоты, когда вода начнет убывать.
В течение нескольких дней дул северо-западный ветер.
Турпаны уже должны были покинуть северные широты, где они обитают в другие времена года, и вернуться в здешние края; в самом деле, вскоре Ален обнаружил две-три гигантские стаи и попытался подобраться к ним поближе, чтобы открыть стрельбу прямо из лодки; птицы теснились на песке, резвились, ныряли и порхали, не обращая внимания на приближавшегося охотника.
Еще три-четыре взмаха весла — и Ален оказался бы на расстоянии ружейного выстрела от дичи, но турпаны не менее точно рассчитали дистанцию: не успел охотник несколько раз взмахнуть веслом, как вся стая взметнулась, пронеслась над самой водой и опустилась в четверти льё от человека.
Ален был слишком опытным охотником, чтобы продолжать гоняться за птицами; сделав вид, что они его больше не интересуют, он решил, что раз ему не удается охотиться на дичь, то он будет выуживать ее из воды.
Молодой человек с удовлетворением отметил, что в этом году, как и в предыдущем, повсюду водится множество мидий.
Следует пояснить, что такое мидия. Это небольшая гладкая белесая раковина, размеры которой составляют примерно четыре линии в ширину и десять в длину; она служит основным источником питания турпанов.
Ален выбрал место, изобиловавшее этими моллюсками, и расставил там похожую на скатерть широкую сеть, которую он принес с собой.
Вот как происходит эта ловля: во время отлива сеть ставится горизонтально на высоте примерно полутора футов от почвы; прибывая, вода затапливает сети. Турпаны сопровождают прилив, держась от него на расстоянии двухсот-трехсот шагов.
Когда одна из птиц замечает моллюска, она ныряет, остальные следуют ее примеру, натыкаются на сеть, отделяющую их от приманки, и запутываются в ее плавающих ячейках.
Более осторожные ныряют под сеть, но тоже увязают в ней, пытаясь выбраться на поверхность; все пернатые погибают.
Когда море отступает, их находят подвешенными к сети.
Закончив все приготовления и расставив наволочные сети, Ален мог еще несколько минут оставаться на территории, покинутой стихией, прежде чем ею снова завладеют волны; охотник решил обследовать окрестные скалы, разбросанные повсюду; пользуясь их прикрытием, он рассчитывал вдоволь пострелять улитов и гаршнепов, которых спугнула с берега суета людей.
Молодой человек воткнул в песок одно из весел, привязал к нему лодку и удалился.
Длина отмели, по-видимому, достигала полульё. Вскоре Ален прошел две трети ее и, сделав пару удачных выстрелов, собрался обследовать оставшийся участок, но, к своему великому сожалению, был вынужден признать, что движение моря с некоторых пор изменило свое направление: начинался прилив, пора было поворачивать обратно и садиться в лодку.
Ален еще издали увидел свое суденышко, качавшееся на волнах.
В то же время молодой охотник убедился, что он уже не один на этом островке.
Прислонившись к откосу скалы, там стоял мужчина небольшого роста; он закрыл лицо руками и, казалось, углубился в свои раздумья.
Услышав шаги охотника, мужчина, а вернее мальчик, поднял голову, и Ален узнал Жана Мари.
XXI
ПРИЛИВ
Необъяснимое появление мальчика в пустынном месте потрясло Алена до глубины души; он не видел юнгу с тех пор, как тот покинул Шалаш.
— Черт побери, кто притащил тебя сюда? — спросил он у мальчика.
— Рыбаки с баркаса "Чайка". Они ушли в море ловить рыбу, а меня высадили здесь, так как я сказал им, что у меня здесь дело.
— Дело? С кем же ты собираешься его обсуждать? С морскими свиньями?.. — спросил охотник, пытаясь шутить, хотя ему совершенно этого не хотелось, — ведь никого рядом скоро не будет.
— Нет, — ответил мальчик, покачав головой, — с вами.
— Как это со мной? — спросил Ален. — Стало быть, ты искал меня?
— Да, вас.
Лицо охотника омрачилось.
— Почему же ты не пришел в Шалаш? По-моему, ты знаешь туда дорогу и мог бы добраться туда пешком, без всякой лодки.
— Я решил говорить с вами именно здесь, а не в другом месте.
— И что же ты с таким таинственным видом хочешь мне сказать? Посмотрим! — продолжал Ален.
— Я хочу сказать, что вы опозорили бедную женщину, которую некому защитить, и сделали ее несчастной на всю жизнь; вы поступили дурно, господин Ален.
Произнося эти слова, мальчик смотрел на охотника в упор, словно собираясь бросить ему вызов.
У Монпле вырвался жест раздражения, но, глядя на своего малолетнего слабого противника, он быстро опомнился и овладел собой.
— Ты славный маленький бесенок, и я любил тебя всем сердцем, — сказал охотник, — я понимаю твою досаду, и это меня огорчает, но надо признать, что только круглые дураки могли дать тебе такое поручение, бедное дитя, послав сюда, чтобы ты говорил мне гадости.
— Никто не давал мне никаких поручений, — отвечал маленький Жан, качая головой, — наоборот, никто и понятия не имеет о том, что я сейчас делаю. Вот уже целую неделю я знаю, что случилось, и все время об этом думаю, поэтому я сам решил прийти и сказать вам: господин Ален, если вы честный человек, надо искупить свою вину. Господин Ален, если вы честный человек, вам надо жениться на моей матушке!
Охотник пожал плечами.
Нельзя сказать, что та торжественность, с какой говорил юнга, не произвела на молодого человека впечатления; но, устояв перед настойчивыми требованиями и угрозами боцмана Энена, не уступив увещеваниям собственной совести, он стыдился поддаться на уговоры ребенка.
— Значит, вы отказываетесь? — продолжал Жан Мари. — Вы причинили горе бедному семейству и теперь считаете, что достаточно вам сказать "нет", чтобы все было кончено? Неужели вы станете спать спокойно, в то время как два несчастных человека, не сделавшие ничего плохого, чтобы так страдать, будут проводить ночи в тоске и слезах?.. Нет, этому не бывать, господин Ален, я этого не допущу.
— Ты еще ребенок.
— Вы ошибаетесь, господин Ален; слезы матушки сделали меня мужчиной, и я это докажу: если в вашем сердце осталась хоть капля жалости, то я надеюсь, что смерть сына будет не напрасной, и я добьюсь того, чего не удалось моей отчаявшейся матушке.
— Что ты хочешь сказать, Жан Мари?
— Я пришел на эту отмель не только для того, чтобы говорить с вами… Нет, я заранее знал, каким будет ваш ответ, господин Ален.
— Зачем же ты сюда пришел?
— Я пришел, чтобы здесь умереть!
В лице и словах мальчика было столько неистовости, что Ален испугался.
— Ты хочешь умереть? — вскричал он.
Мальчик молчал.
— Да ты сошел с ума! Ты бредишь! — воскликнул молодой человек.
— Я не сошел с ума, и я не в бреду, — продолжал мальчик уже более спокойно, — но я хочу умереть. Будь я мужчиной, я бы стал с вами драться и попытался бы вас убить или сам бы погиб. Но я всего лишь ребенок и могу только умереть.
— Черт побери, зачем тебе умирать?
— Я хочу умереть, так как по вашей вине мне придется расстаться с матерью, и вдали от нее тоска быстро убьет меня. Я хочу умереть, так как надеюсь, что вы пожалеете о том, что свели в могилу невинного ребенка, и память о нем так тронет ваше сердце, что вы исполните свой долг и вернете матушке ее честь, чтобы она больше не плакала, а люди из Мези больше не издевались над ней. Словом, если вы так и не сжалитесь над матушкой, я хочу умереть, чтобы быть поближе к Боженьке; тогда я смогу просить его позаботиться о ней и наказать того, кто сделал ее несчастной!.. Вот видите, господин Ален, я хорошо все обдумал, прежде чем на это решиться: я не сошел с ума и я не в бреду.
— Думаешь, я позволю тебе умереть? — вскричал Ален.
Мальчик, не говоря ни слова, указал на море.
Охотник посмотрел в указанном направлении.
Он забыл о приливе.
Содрогнувшись, Монпле убедился, что вода стремительно прибывает, как это бывает в дни равноденствия.
Настала его очередь уговаривать ребенка.
— Жан Мари, — сказал Ален, — не делай глупостей! Я прошу тебя по-хорошему, малыш: поспешим к лодке, нельзя терять ни секунды… Видишь, чтобы до нее добраться, мне придется идти по пояс в воде.
Лицо мальчика на миг озарилось торжествующей радостью.
— А! Я же говорил, что смерть сына принесет матушке пользу! — воскликнул юнга. — Вы уже дрожите при мысли, что моя душа после смерти не оставит вас в покое.
— Черт побери! Ты пойдешь или нет, в конце концов? — вскричал молодой охотник, теряя терпение.
— Нет, я никуда не пойду, — отвечал мальчик. — Идите один, а я останусь здесь. Я хочу умереть, и я умру! Я верну вам жизнь, которую вы спасли ценой счастья моей матушки; я не увижу больше ее слез и не услышу, как жители деревни поносят ее последними словами.
Ален увидел, что мальчик дошел до исступления, и понял, что ему не удастся его убедить. Улучив минуту, когда Жан Мари отвернулся, чтобы посмотреть в сторону Мези, он бросился к ребенку, собираясь схватить его и насильно отнести в лодку.
Однако мальчик пригнулся, выскользнул из рук Алена и бросился бежать; тот помчался за беглецом. Молодой охотник был ловким и крепким, и все же он не мог угнаться за мальчиком, которым, казалось, движет сверхъестественная сила.
Бешеная погоня продолжалась минут семь-восемь.
Запыхавшись, Ален остановился первым и посмотрел на море.
Вода продолжала подниматься с устрашающей силой и быстротой.
Ширина отмели уже не превышала ста шагов.
Встревоженный молодой человек окликнул Жана Мари.
Увидев, что Монпле перестал его преследовать, мальчик тоже остановился.
Он сделал несколько шагов, словно собираясь устремиться навстречу волнам, а затем сел на камень, в то же время продолжая следить за малейшими движениями охотника.
— Жан Мари, — сказал Ален, — когда же ты образумишься? Послушай, я умоляю тебя, давай поспешим, у нас осталось мало времени, чтобы вернуться в лодку.
Юнга покачал головой.
— Нет, — отвечал он, — уходите и оставьте меня одного. Я не знаю, что такое смерть, больно это или нет, но я так мучился всю эту неделю, что хуже мне уже не будет… Смерть! Я не боюсь ее, ведь я уверен, что она принесет матушке утешение и спасение, а зная это, можно умереть спокойно!
Ален почувствовал, что он не может устоять перед столь сильной любовью сына к матери.
Лед его сердца начал понемногу оттаивать, затаенная любовь, которую он все еще испытывал по отношению к вдове, ожила в нем, стараясь взять верх над жалкими доводами самолюбия.
Охотник направился к Жану Мари.
Мальчик решил, что Ален снова попытается его схватить, и поднялся, собираясь убежать.
— Стой! — крикнул молодой человек.
— Это зависит от вас, — отвечал мужественный ребенок.
В душе Монпле явно продолжалась жестокая борьба.
— Ну-ка, стой! — воскликнул он. — То, о чем ты просишь, так и быть…
— Так и быть?
— Так и быть, я это сделаю. Мать, которую так нежно любит сын, наверняка будет превосходной женой, даже такому дикарю, как я.
— В самом деле, господин Ален, вы говорите правду? — вскричал Жан Мари.
— Да, я клянусь! — отвечал молодой человек.
— Так вы женитесь на моей матушке?
— Я женюсь на ней.
Мальчик необычайно торжественно простер руки к морю, которое подступало к людям с ревом — их отделяло от него не более двадцати шагов.
— Вы клянетесь в этом перед лицом смерти? — спросил Жан Мари.
— Я клянусь, сын мой! — повторил Ален.
— О! Вы же не станете меня обманывать в такой миг, не так ли?
Мальчик, еще недавно преисполненный решимости, разразился слезами от столь неожиданного поворота событий.
Бросившись в объятия охотника, он воскликнул:
— Спасибо от матушки и спасибо от меня! Я обещаю за нее и за себя, господин Ален: мы сделаем все, что в наших силах, чтобы облегчить ваш крест… О! Какое утешение для бедной матушки! Пойдемте к ней скорее, господин Ален.
— Да! Да! — вскричал охотник. — Мы уже потеряли столько времени, что я боюсь, как бы нам не пришлось добираться до лодки вплавь. Ну-ка, давай поскорее, мой мальчик!
Оба ринулись в сторону лодки, а вода все прибывала, как будто море гналось за ними по пятам.
Они находились на ровной местности, но шлюпка была скрыта от них грядой скал высотой в семь-восемь футов.
Бегом миновав скалы, Ален и Жан Мари внезапно остановились.
Они взглядом искали лодку, но ее не было на том месте, где охотник ее оставил.
Где же она была?
Мальчик первым заметил лодку и закричал от отчаяния, указывая на нее пальцем; затем он опустился на колени, уже не на песок, а в воду.
Вода продолжала подниматься; море настигло беглецов и замерло у их ног.
Лодка виднелась на расстоянии около четверти льё: волны оторвали ее от привязи.
Она дрейфовала, и течение быстро уносило ее вдаль.
XXII
ЧЕЛОВЕК В МОРЕ
Ален посмотрел на мальчика, который по-прежнему стоял на коленях и молился; затем он окинул взглядом пространство, оценивая их шансы на спасение.
Ни одна из скал, расположенных на отмели, не была выше семи-восьми футов, а при полном приливе уровень воды достигал двадцати саженей.
На горизонте не было ничего, кроме красного солнечного диска; подобно огненному шару, окруженному пурпурно-золотистыми облаками, он медленно опускался в океан, и его сверкающие отблески виднелись лишь на покрытых барашками гребнях ревущих волн.
Мальчик продолжал молиться.
Ален вздохнул, и две крупные слезы покатились по его щекам; его почти не волновала собственная участь, но его трогала судьба бедного ребенка и отчаяние его матери.
Наконец Жан Мари закончил молиться и поднялся.
— Что нам делать, господин Ален? — спросил он. — О! Поверьте, теперь, когда я знаю, что мы должны выжить, чтобы стать счастливыми, вы найдете во мне не меньше силы и мужества, чем раньше, когда я собирался умереть. О да, я хочу снова увидеть матушку, чтобы сообщить ей радостную весть; о да, я хочу обнять ее, ведь теперь она уже не будет плакать и ронять слезы мне на грудь.
Ален не слушал ребенка.
— Ты умеешь плавать? — спросил он.
— Увы! Нет, — печально отозвался маленький Жан Мари.
— В таком случае, — сказал охотник, — нам остается только забраться на самую высокую скалу и ждать там от Бога чуда или смерти… Пошли, дитя мое.
— Но вы, Ален, — живо промолвил Жан Мари, — вы же умеете плавать?
— Разумеется.
— Значит, вы можете спастись, вы можете добраться до берега.
Охотник покачал головой в знак несогласия.
— Как! — вскричал мальчик. — Вы хотите разделить мою судьбу? Вы хотите умереть вместе со мной?
— Конечно!
— Но я этого не желаю, господин Ален. О Боже! Подумайте лучше о моей матушке: ведь тогда несчастная женщина останется одна, что же с ней станет, когда она останется одна, без поддержки? Боженька призывает меня к себе, вы и сами это видите, господин Ален. К тому же, я слабый и хилый, я всего лишь обуза для бедной матушки, в то время как вы сильный, вы можете заработать на жизнь и себе, и ей; вы будете ее поддерживать, защищать и утешать — словом, господин Ален, вы постараетесь любить ее так же, как я.
Однако молодой человек твердо решил, что если он не сумеет спасти ребенка, то погибнет вместе с ним.
— Берег слишком далеко, — сказал он, — ни один человек, будь он самым искусным пловцом, не смог бы до него добраться.
— О! Не говорите так, господин Ален, ведь это неправда… Для вас все возможно, я слышал, что вы можете проплыть несколько льё без отдыха. Забудьте обо мне. Уходите, Ален! Уходите, отец! К тому же, если мне суждено умереть, разве это случится не по моей вине? Разве я умру не из-за собственного упрямства, зачем же вам рисковать жизнью вместе со мной? Оставьте меня; ступайте к моей матушке, расскажите ей обо всем, что произойдет, и скажите, что я уйду в мир иной, повторяя ее имя. Если у матушки, которая ждет ребенка, родится мальчик, назовите его Жаном Мари, как и меня; когда матушка будет его целовать, напомните ей шепотом обо мне, чтобы моя бедная душа не чувствовала себя на Небесах совсем забытой… Вот и все, о чем я прошу, милый Ален, вот и все.
Бедный мальчик зарыдал.
Монпле молча прижал его к своей груди.
Вода все прибывала; она уже поднялась выше колен несчастного мальчика; собака жалобно скулила.
Охотник взял мальчика на руки и принялся карабкаться на довольно высокую скалу, стоявшую поблизости; Флажок последовал за ним.
Когда Ален оказался у самого гребня, он поспешно опустил Жана Мари на выступ, забрался на вершину скалы и, глядя в сторону берега, закричал:
— Жан! Жан! Мы спасены! Посмотри-ка в сторону колокольни, видишь там шлюпку? Мы спасены, слышишь? Она держит курс прямо сюда и наверняка подойдет к нам прежде чем до нас доберется вода.
Услышав это известие, Жан Мари разразился радостными возгласами.
Он поднялся к Алену.
— Ты видишь, видишь? — воскликнул тот.
— Да, да, я вижу, отец! О! Какое счастье! Какое счастье для бедной матушки!
Ребенок страшился смерти лишь потому, что она грозила причинить горе его матери и оставить ее одинокой.
Солнце окончательно скрылось из вида; оно погрузилось в море, как идущий ко дну корабль, и сумерки, весьма скоротечные в это время года, начали сгущаться.
Ален решил, что необходимо привлечь внимание сидевших в лодке людей; он дважды выстрелил из ружья, а затем привязал к концу его ствола носовой платок и стал размахивать им как флагом.
Лодка приближалась к мужчине и мальчику прямым ходом: спасатели, без сомнения, заметили их сигналы.
Внезапно, когда до скалы оставалось не более тысячи саженей, шлюпка по непонятной причине изменила курс: она свернула направо и прошла мимо двух несчастных, оставив их позади.
Ален и Жан Мари одновременно испустили отчаянные крики, прозвучавшие как один вопль, но отклика не последовало.
Молодой охотник снова принялся подавать сигналы бедствия; затем, сорвав со ствола платок, он решил перезарядить ружье и принялся искать в сумке пороховницу.
Перед тем как залезть на скалу, Ален снял ягдташ, чтобы легче было карабкаться на гребень; сумка упала к подножию скалы, уже окруженной водой, и порох намок.
Молодой человек обратил в море взгляд, исполненный тоски: шлюпка продолжала удаляться.
Он попытался снова окликнуть гребцов, но понял, что рокот волн заглушает его голос.
От всех этих перипетий Ален пришел в лихорадочное возбуждение; в такие минуты человеку кажется, что он в состоянии сделать все.
Не говоря ни слова маленькому Жану, он стал снимать с себя одежду.
— Вы решили плыть к берегу, Ален, — печально промолвил мальчик, — и правильно делаете. Не забудьте только, что я просил вас позаботиться о матушке.
— Я не поплыву к берегу, — отвечал Монпле, — я попытаюсь догнать лодку, чтобы привести ее сюда.
— Но это невозможно, — возразил юнга, — уже совсем стемнело, и лодку почти не видно; когда вы окажетесь в море, вы не сможете ее разглядеть.
— Что поделаешь, дитя! — сказал Ален, продолжая раздеваться. — Это наша единственная надежда на спасение!
Жан Мари заплакал.
— О! Мне так стыдно, — произнес мальчик с досадой, — но, по-моему, мне становится страшно.
— Мужайся, малыш! — воскликнул Ален. — Если я погибну, а ты снова увидишь Жанну Мари, хотя бы на Небесах, передай ей, что я сделал все возможное, чтобы искупить свою вину.
И он протянул к ребенку руки.
Тот бросился в его объятия.
Охотнику пришлось приложить усилие, чтобы вырваться из рук Жана Мари.
После этого, не теряя ни секунды, Ален бросился в море.
Флажок, бессловесный член этой троицы, о котором никто не думал, прыгнул в воду за хозяином, готовый следовать за ним куда угодно.
Монпле был бесстрашным и сильным пловцом, в чем нам уже довелось убедиться; он ориентировался не на лодку, а немного выше, на точку, где она должна была оказаться, следуя своим курсом, и надеялся перерезать ей путь.
Ален в последний раз собрался взглянуть на маленького юнгу; продолжая плыть, он обернулся и посмотрел в сторону скалы.
По отношению к пловцу скала находилась со стороны заходящего солнца; он увидел темный силуэт ребенка, выделявшийся на фоне багрового горизонта.
Мальчик стоял на коленях и молился, подняв руки к Небу.
Ален махнул ему на прощание рукой и энергично продолжал свой путь.
И только тут охотник заметил, что Флажок плывет рядом с ним.
Сначала он хотел прогнать собаку и отослать ее обратно к Жану Мари, но, подумав, что скорее всего Флажок не послушается, решил не терять время и силы на бесполезную борьбу.
К тому же Флажок был столь же первоклассным пловцом, как его хозяин; его лапы были снабжены перепонками очевидно, среди его предков была какая-нибудь собака с Ньюфаундленда.
Итак, Ален предоставил Флажку поступать как ему было угодно и продолжал плыть наперерез к своей цели, куда он надеялся добраться одновременно с лодкой.
Но, едва лишь проделав триста-четыреста саженей, охотник почувствовал, что он сбился с курса: его относило вправо, в то время как он должен был плыть влево.
Он попал в течение, и оно увлекало его за собой!
Молодой человек пытался бороться с ним, но все его усилия были тщетны: он не в состоянии был сдвинуться с места.
Ален попробовал нырнуть; ему было известно, что иногда подобные течения проходят на небольшой глубине, но под водой, как и на поверхности, он почувствовал себя во власти неодолимой стихии.
Монпле стал кричать и звать на помощь, но, как и на скале, только рокот волн откликался на его зов.
Сделав мощный рывок, он приподнял над водой верхнюю часть своего туловища до пояса.
Ален хотел оглядеться, но, к несчастью, уже стемнело, и его глаза видели в окружающем мраке не дальше, чем на двадцать шагов.
Человек был бессилен в борьбе со стихией; в то же время мысль о том, что он бросил бедного ребенка, приводила его в отчаяние. Ален все время думал о мальчике. Когда какой-нибудь вал, более высокий, чем другие, приподнимал пловца и с шумом разбивался о его грудь, ему казалось, что он видит маленькую фигурку Жана Мари, ставшую игрушкой волн; молодой охотник представлял себе, как мальчик цепляется за скалу, а обступившая его вода все поднимается и поднимается, спокойная, но столь же угрожающая, столь же неумолимая в своем спокойствии, как и в ярости. Когда какая-нибудь запоздалая чайка проносилась над головой Монпле, спеша вернуться в свое гнездо, ему чудился в крике птицы голос того, кого он назвал своим сыном, — очевидно, это означало, что мальчик уже отдал Создателю душу; тогда у Алена начинала кружиться голова, и, невзирая на сильный холод, пот струился по его лицу.
Он был вынужден нырять, чтобы смыть этот пот с лица.
Между тем течение продолжало столь стремительно нести пловца, что ему не приходилось прикладывать каких-либо усилий, чтобы удержаться на воде.
Наконец его закрутило и несколько раз перевернуло, после чего он почувствовал, что ничто больше не стесняет его движений.
Течение прекратилось.
Ален попытался понять, в каком направлении следует плыть, но его окружал непроглядный мрак: не было видно ни луны, ни звезд — ничего, кроме фосфоресцирующих волн.
Он затерялся в необъятной водной пустыне!
Флажок по-прежнему держался в нескольких шагах от хозяина; время от времени он оглашал воздух жалобным воем, как бы моля о помощи.
Ален поплыл наугад, полагаясь на Провидение.
Он плыл без остановки почти полтора часа.
Затем его силы иссякли, движения стали неуверенными, и ему трудно стало преодолевать волны — они захлестывали пловца, перекатывались у него над головой.
Молодому охотнику показалось, что вой Флажка сделался еще более скорбным.
Мало-помалу он почувствовал, что вся его кровь прихлынула к голове и в ушах стоит непрерывный приглушенный шум. Калейдоскоп событий прошлого с его живыми бесчисленными образами замелькал перед глазами Алена; он заново переживал то, что когда-то видел, делал и говорил. В то же время видения его детских игр под сенью тенистого сада, окружавшего Хрюшатник, перемежались со сценами парижской жизни с ее забавами, шумными застольями, двумя дуэлями, а также любовью к Лизе, унылым затворничеством в Шалаше и походами через болото. Перед мысленным взором молодого человека проносилось множество лиц, в том числе постные физиономии его наставников из Сен-Ло и спокойный кроткий лик старого Монпле; он слышал ржание отцовской лошадки, с которым она всегда возвращалась на ферму после долгой поездки. В глубине картины виднелись веселые подружки, оставленные Монпле в Париже; несмотря на немалое число этих красоток, их образы были отчетливыми, и все они одновременно всплывали в памяти умирающего.
Силы пловца все убывали, шум в ушах все усиливался, но видения исчезли. Внезапно черная пелена, стоявшая перед глазами Алена, сменилась лазурным цветом; на этом лазурном фоне вдали показалась лучезарная фигура; она стала расти и приближаться к охотнику. Вскоре женщина оказалась довольно близко от Алена, и он узнал в ней Жанну Мари: она сидела на той самой скале, где он оставил ее сына.
Мальчик стоял рядом с матерью, прислонившись к ее груди; и он и она были увенчаны сияющим ореолом; Монпле не мог разглядеть лица ребенка, но видел лицо женщины; она смотрела на сына с улыбкой, в которой сквозила невыразимая грусть.
Внезапно туманное облако, скрывавшее Жана Мари, развеялось, и перед Аленом предстало лицо мальчика; оно было такое бледное, что охотнику стало ясно: ребенок мертв.
При этой мысли бред несчастного усилился.
Ему показалось, что скала, которую он видит, находится всего лишь в нескольких саженях от него. Ален из последних сил попытался до нее добраться; он почувствовал, как его пальцы наткнулись на гранитное основание пьедестала, на вершина которого застыли сияющие фигуры; он вцепился в скалу с неистовой энергией, возрастающей во время агонии, и лишился чувств.
В предчувствии смерти он услышал с тоской заунывный вой над своей головой.
То был жалобный плач собаки, в свою очередь прощавшейся с миром.
XXIII
КАЖДОМУ ПО ЗАСЛУГАМ
Каждый Божий день боцман Энен, по своему обыкновению, курил по утрам трубку, сидя на деревянной скамье, расположенной у садовой ограды.
На следующий день после вышеописанных событий моряк, как всегда в привычное время сидел на своей любимой скамье и дымил трубкой.
В нескольких шагах от него Луизон распутывала удочки и выправляла крючки.
Немного дальше старшие из сыновей, вытащив старую лодку на берег, конопатили ее рассохшуюся обшивку.
Лицо моряка было более суровым и серьезным, чем обычно; озабоченность, с которой Энен выпускал изо рта густые клубы дыма, не была для него характерной: как правило, он предавался этой любезной сердцу забаве с наслаждением, размеренно и безмятежно; время от времени боцман, состарившийся среди волн и едва ли не боготворивший стихию, а также не понимавший, как люди могут жить вдали от морских берегов, поглядывал на море с сердитым и укоризненным выражением лица.
Затем он погружался в столь глубокие размышления, что, казалось, вывести и* этого состояния его могут лишь события чрезвычайной важности.
В тот час, когда восходящее солнце, отделившись от туманной линии горизонта, окрашивало море в багрянец и золотило стены домов, в рыбацкой деревне царило сильное смятение.
Все здешние жители, уже трудившиеся на берегу, бросали работу и бежали в сторону церкви, откуда доносился глухой гомон людских голосов.
Жена и дети боцмана Эчена последовали примеру своих земляков.
Старый моряк довольно юл го не обращал внимания на окружающую суматоху, но внезапно он вскочил и в ярости швырнул трубку на землю, так что она разлетелась на куски.
— Ну и шум они подняла, разрази меня гром! — вскричал Энен. — Нашли мертвеца и теперь спешат к нему, как стая ворон. У птиц хотя бы есть оправдание: они питаются падалью, но лицо утопленника — чертовски скверное зрелище для женщин и детей!
Дав волю своей досаде, боцман Энен с тем же ворчанием побрел туда, где слышался этот жуткий гвалт.
По дороге он повстречал жену, возвращавшуюся домой.
— Ну что, — спросил моряк, — это он, не так ли?
— Нет, — отвечала Луизон, — нашли не его, а Ланго.
— О! — перебил ее боцман Жак. — Раз это не он, то мне наплевать, что там нашли у этого старого окаянного крокодила.
— Погоди! Ты никогда не даешь мне договорить. В доме Ланго ничего не нашли, зато его самого нашли повешенным!
— Ну и ну! — воскликнул Энен, услышав эту новость, которая заставила его отчасти забыть о своей тревоге. — Повешенным! Уже известно, из-за чего он повесился?
— Одни считают, что он потерял много денег; другие — что он был не в ладах с законом; а еще поговаривают, что Ришар заявил, будто Ланго задолжал ему сто тысяч франков, и адвокат подал на него в суд: скряга предпочел повеситься, чтобы не платить.
— Что ж, он сделал то, в чем я бы давно ему помог, если бы только он причалил к моему борту.
Напутствовав покойного такими речами, боцман Энен решил вернуться домой, как вдруг изумленный и испуганный возглас Луизон заставил его резко повернуть голову; в десяти шагах от себя боцман увидел Алена, того самого Алена, которого он уже похоронил, — этот человек направлялся прямо к ним!
Энен бросился навстречу охотнику.
— Ты! Ты! Ты жив! — воскликнул он. — Черт побери! Даже если бы я стал владельцем трехмачтового судна, я и то не был бы так рад!
Молодой человек был поражен столь радушным приемом со стороны Энена, так как он полагал, что, после того как они с боцманом не на шутку повздорили несколько месяцев тому назад, им суждено до конца жизни быть в холодных отношениях.
В ответ на просьбу моряка охотник рассказал о том, что случилось прошлой ночью: как маленький Жан Мари разыскал его на отмели; как, будучи растроганным самоотверженным поступком мальчика, он пообещал жениться на его матери; как лодку унесло течением и им пришлось укрыться на вершине скалы. Молодой человек рассказал, как вначале они надеялись, что их спасет какая-то шлюпка, но вскоре у них не осталось никакой надежды. Тогда он, Ален, бросился в море, чтобы попытаться добраться до лодки, но его подхватило течение, захлестнули волны, и он потерял сознание; очнувшись, он подумал, что цепляется за скалу, где оставил Жана Мари, а на самом деле его прибило к берегу.
Наконец, когда вода спала, молодой человек смог вернуться в Шалаш сухим путем и взять там одежду.
— Бедный Жан Мари! — воскликнул Ален со слезами на глазах. — Если бы я взял его с собой, то, может быть, мне удалось бы его спасти!
— И что же ты собираешься теперь делать? — спросил боцман Энен.
— Разве я не обещал мальчику жениться на его матери? Видите, боцман Энен, я отказывался жениться под угрозой, но согласился на просьбу: я собираюсь сдержать свое слово.
— Тебе это в тягость? — спросил старый моряк.
— Нет, ведь, в сущности, я всегда любил Жанну Мари, и сейчас она дорога мне вдвойне: как жена и как мать. Пойдемте же, надо сообщить Жанне скорбное известие, и я сомневаюсь, что вторая новость, которую я ей скажу, облегчит ее горе.
— Пойдем, — отозвался Энен, — тем более что идти далеко не придется; ты же знаешь, что она живет у меня?
Ален кивнул, как бы отвечал: "Да, я это знаю".
— Ладно, вперед!
Мужчины подошли к дому, но вместо того, чтобы войти в дверь, Энен остановился у одного из окон; комнатная занавеска была слегка отдернута, и взгляд мог без труда проникнуть внутрь.
Боцман заглянул в дом первым.
— Ну что, — спросил Ален, — бедняжка там?
— Да, она там.
— Что ж, тогда войдем, — с тяжелым вздохом промолвил охотник.
— Войдем, — согласился Энен, — но сначала загляни в окно.
Ален печально покачал головой и машинально приник к окну; но, едва лишь окинув комнату взглядом, он вскрикнул, а затем, повернувшись к старому моряку, посмотрел на него с изумлением.
— О! Что это я увидел? — воскликнул охотник.
Монпле увидел Жанну Мари, склонившуюся над кроватью; одной рукой она поддерживала сына, а другой подносила чашку к его губам.
— Ну да, ну да, именно это! — отозвался боцман Энен.
Молодой охотник упал на колени и воздел руки к Небу.
Моряк бесцеремонно поднял его и сказал:
— Ну, и что ты собираешься сказать Богу? Что он слишком добр, сотворив для такого дикаря, как ты, сразу два чуда? Разве он и сам этого не знает? Лучше пойди и обними их скорее.
С этими словами он втолкнул молодого человека в дом.
Нетрудно понять, сколь велика была радость Жанны Мари, державшей сына в объятиях, когда она увидела Алена, которого считала погибшим, тем более что раскаявшийся Ален смиренно просил ее забыть прошлое и умолял позволить ему загладить свою вину.
Можно также представить себе, с каким восторгом, вознося хвалу Господу, охотник расцеловал мальчика, которого он уже не надеялся увидеть в живых.
— Как же ты оттуда выбрался, бедный милый малыш? — спросил он.
Мальчик указал ему на старого боцмана.
Алену все стало ясно.
— А! — воскликнул он. — Значит это вы, боцман Энен, были в лодке, которую мы видели?
— Черт побери! Я и Жанна Мари, вернее Жанна Мари и я, ведь это она, разузнав все, поняла, что маленький бесенок погнался за тобой.
— Почему же вы сразу не причалили к нам? Вы бы оказали мне услугу, избавив от жуткого прыжка в воду!
— Почему? Да если бы ты не был отъявленной сухопутной крысой, гуляющей по отмелям ради своего удовольствия, не заботясь о том, что творится вокруг, ты бы знал, что в двух льё от берега, к востоку от устья Виры, проходит сильное течение, и оно несется в сторону взморья.
— О! Теперь мне это известно, — сказал Ален, — и, уверяю вас, я никогда этого не забуду!
— Так вот, я хотел обойти течение стороной. Слушай, я прекрасно тебя видел, ты топтался на своей гранитной подставке, размахивая флагом бедствия, но, чтобы добраться до вас обоих, надо было обогнуть отмель, а тебе было невтерпеж! Нет, ты не соизволил подождать, пока старый белый медведь Энен подоспеет и спасет тебя.
Ален крепко пожал руку боцмана.
Когда все прояснилось, и не осталось никаких вопросов, Жанну Мари и Алена известили о загадочной и неожиданной кончине Тома Ланго.
Дядюшка, как нам известно, не слишком жаловал бедную Жанну, и все же, узнав о его смерти, женщина не смогла удержаться и заплакала.
— Право, у тебя слишком много слез, милая Жанна! — воскликнул Ален. — Если ты не хочешь, чтобы Бог наказал тебя, прибереги слезы для другого случая. Что до меня, — весело прибавил охотник на водоплавающую дичь, — то я не желал Ланго смерти, но раз его угораздило так кстати повеситься, я признаюсь, что мне, к моему великому сожалению, нисколько его не жаль.
Все засиделись в доме моряка допоздна, и Ален вернулся в Шалаш лишь около одиннадцати часов вечера.
На следующий день жители деревни узнали истинную причину смерти Ланго.
Мировой судья, призванный, чтобы составить протокол о самоубийстве, нашел на постели бакалейщика гербовую бумагу.
Это была повестка в гражданский суд Сен-Ло; в ней значилось, что Ришар предъявляет Тома Ланго иск на сумму в сто тысяч франков.
Адвокат оставил за собой право изложить в свое время и в надлежащем месте причины этой претензии.
Очевидно, накануне или днем раньше Ришар явился в Мези и нанес ростовщику один из своих традиционных визитов. Ланго надоели вечные притязания адвоката, и он отказался платить.
Тогда, чтобы напугать скупца, Ришар оставил у него повестку, попавшую в руки представителя правосудия.
Ланго обезумел от страха.
Дело Монпле было не единственным грехом на его совести; ростовщик решил, что эта жалоба повлечет за собой множество других, и проклятия со всех концов деревни обрушатся на его голову.
Людские проклятия не особенно волновали Ланго, но за ними ему мерещился суд присяжных.
К тому же в векселях Монпле, хранившихся среди личных бумаг ростовщика, имелись приписки.
Тома Ланго, как уже было сказано, потерял голову от страха и повесился.
XXIV
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Через два с половиной месяца после свадьбы и спустя три месяца после смерти Тома Ланго, Ален Монпле, его жена и маленький Жан Мари вернулись на ферму под названием Хрюшатник и устроили там роскошный пир в честь боцмана Энена, Луизон и их одиннадцати детей; на празднество были приглашены все их друзья из селений Мези, Гран-Кан и Сен-Пьер-дю-Мон.
Вот что произошло за эти три месяца: смерть Косолапого не только свела на нет претензии Ришара, но вследствие ее адвокат оказался во власти Монпле — завладев бумагами, попавшими в руки ростовщика, Ален без труда вынудил Ришара вернуть ему остальные векселя.
Эксперты, основательно изучившие эти документы, признали, что подлинная сумма, взятая взаймы Монпле, составляет тридцать семь тысяч пятьсот франков.
Таким образом, после смерти Ланго охотнику причиталось по праву наследования более шестидесяти тысяч франков.
Жанна Мари, прямая наследница старого мошенника, получила в собственность остальное.
Но это остальное состояло из сомнительных долговых обязательств, требующих подтверждения.
Пришлось созвать должников, чтобы каждый из них объявил под присягой истинную сумму своего долга.
Все они, присягнув, выполнили это требование.
Как оказалось, в распоряжении Жанны Мари осталось приблизительно сорок тысяч франков с Хрюшатником в придачу.
При этом на долю нашего героя должно было приходиться от шестидесяти до семидесяти тысяч франков.
Свадьба заменила взаиморасчеты.
С тех пор Ален привел отцовскую ферму в прежнее состояние, и она стала приносить такой же доход, как и при жизни старого Жана Монпле; ныне Жанна Мари слывет самой красивой фермершей округа Сен-Ло, а двадцатичетырехлетний Жан Мари и его сестра, которой только тринадцать лет, считаются чуть ли не самыми завидными женихом и невестой во всем департаменте Кальвадос.
На досуге, раза два-три в год, Ален Монпле снова становится охотником на водоплавающую дичь, который некогда, как помнит читатель, прыгал со скалы на скалу и пытался убежать от прилива.
Флажок прожил положенный собаке срок и тихо почил прекрасной смертью; его друг Жан Мари бережно похоронил верного пса рядом с могилой его прежнего хозяина — папаши Шалаша.
Лиза Жусслен вышла замуж за биржевого маклера, который, забыв выплатить в конце месяца свое сальдо, сбежал за границу, бросив в Париже жену с тремя детьми.
Лиза вернулась в Исиньи и возобновила торговлю маслом, заброшенную ее отцом.
Она надеется, что ее рано или поздно известят о смерти супруга и тогда ей удастся снова выйти замуж, так как она все еще молода, красива и кокетлива.
Да будет так!
Александр Дюма
Папаша Горемыка
I
РОДОСЛОВНАЯ, ИСТОРИЯ И ХАРАКТЕР ФРАНСУА ГИШАРА, ПО ПРОЗВИЩУ ГОРЕМЫКА
Прежде чем влиться у Шарантона в Сену, Марна вьется, изгибается и скручивается, словно змея, греющаяся на солнце; едва коснувшись берега реки, которая должна поглотить ее, она делает резкий поворот и спешит вперед, удаляясь еще на пять льё. Затем она во второй раз сближается с ней, чтобы снова уклониться от встречи, и, подобная стыдливой наяде, лишь нехотя решает покинуть тенистые, утопающие в зелени берега и соединить свои изумрудные воды с большой сточной канавой Парижа.
В одной из только что упомянутых нами излучин Марна образует полуостров безукоризненной формы, на перешейке которого находится селение Сен-Мор; по соседству с ним раскинулись деревни Шампиньи, Шенвьер, Бонёй и Кретей.
В 1831 году почти весь этот полуостров принадлежал прославленному семейству Конде. Он был, о чем свидетельствует его название Ла-Варенна, одним из многочисленных заповедных угодий этого воинственного рода, у которого склонность или, точнее, неистовая страсть к охоте передавалась из поколения в поколение.
Вследствие своего необычного расположения полуостров у Сен-Мора оставался совершенно безлюдным вплоть до 1772 года, несмотря на близость города и на скопление людей и новых построек в его окрестностях. Широкая глубоководная лента, опоясывающая его, защищала обитавших там зайцев, фазанов и куропаток от сетей, силков, капканов и других орудий браконьеров; звери и птицы долгое время жили здесь почти в таком же спокойствии, как их сородичи в лесах Нового Света, но время от времени залпы ружей великосветских охотников, нарушавшие тишину, напоминали им, что они не более чем дичь, хотя и королевская дичь.
В 1793 году земли Ла-Варенны, ставшие национальными имуществами, были выставлены на продажу, но ее песчаная почва, равно как ее чахлые березовые и дубовые рощи, столь мало соблазнили перекупщиков, что, когда последний из Конде вернулся в 1814 году из эмиграции, он нашел полуостров еще более пустынным, чем тот был прежде. Однако если люди так и не заполонили Ла-Варенну в ходе своих переселений, то мохнатый и пернатый народец, прежде кишевший в ее полях и лесах, напротив, был безжалостно низведен до уровня постоянства.
Итак, в 1831 году — с этой даты, названной выше, и начинается наш рассказ — жилые постройки полуострова состояли всего-навсего из двух-трех уединенных домов и нескольких хуторов, где незадачливые арендаторы сеяли зерно, наблюдали как плодятся кролики и пожинали убытки; кроме того, там стояли хижины лесников и лачуга паромщика шенвьерской переправы.
Один из упомянутых нами домов продолжал существовать лишь благодаря исключительному великодушию его высочества принца де Конде.
Это был дом Франсуа Гишара, по прозвищу Горемыка.
Прежде чем поведать о том, как Франсуа Гишар обрел кров на берегах Марны, мы вкратце расскажем об этом человеке и поднимемся на несколько ветвей его генеалогического древа, поскольку и у Франсуа Гишара имелась родословная.
Правда, эта родословная не была ни запечатлена на пергаменте, ни усыпана арабесками, ни украшена гербовыми щитами, ни заверена Шереном или д’Озье. Напротив, родословная Франсуа Гишара являлась столь же по-библейски бесхитростной, как и родословная Авраама, но при этом не менее достоверной, ибо она благоговейно передавалась от отца к сыну вместе с наказом каждому отпрыску вписать в нее новую главу; и все Гишары столь неукоснительно исполняли этот святой долг, что, как не без гордости утверждал Франсуа, немногие дворяне могли бы, подобно ему, с полной уверенностью сказать, каким образом умирали их предки на протяжении одиннадцати поколений.
По правде говоря, все Гишары отдавали предпочтение неестественной смерти и столь искусно управляли собственной судьбой, что ухитрялись покидать этот мир одним и тем же способом, — вот почему, когда Франсуа Гишару задавали вопрос на данную тему, он неизменно отвечал: "Повешен!", "Повешен!", "Повешен!"
В самом деле, все его предки окончили жизнь на виселице — от Кома Гишара, который был повешен у креста Круа-дю-Трауар в 1473 году, в эпоху царствования славного короля Людовика XI, до Жозефа Пьера Гишара, который неминуемо снискал бы печальную славу последнего француза-висельника, если бы им не стал маркиз де Фаврас.
Однако не стоит слишком строго судить принципы и привычки рода Гишаров на основании трагической гибели представителей одиннадцати его колен; ведь если кого-нибудь из Гишаров вешали, то краснеть за это следовало скорее стражам закона, тогда как жертва могла по праву рассчитывать на снисхождение со стороны потомков.
Гишары были прирожденными браконьерами, подобно тому как принцы де Конде были прирожденными охотниками, о чем мы уже говорили. В возрасте четырех-пяти лет всякий маленький Гишар уже поглядывал с жадным блеском в глазах на королевских кроликов, поедающих капусту на грядках его отца; в семь-восемь лет ребенок начинал задаваться вопросом, не вправе ли он, учитывая количество овощей, постоянно оседающих в желудках четвероногих лакомок, отчасти претендовать на обладателей этих желудков; в восемь-девять лет мальчик окончательно убеждался в этом своем праве и, вознамерившись возвращать себе отцовскую капусту, где бы она ни находилась, расставлял повсюду небольшие силки из конского волоса или латунной проволоки; в девять-десять лет сорванец неведомо какими путями становился владельцем какого-нибудь огнестрельного оружия; в двенадцать лет он ловил зверей и птиц сетями, а в двадцать лет убивал всякую живность, которая оказывалась в пределах досягаемости его лука, арбалета или ружья — в зависимости от стадии прогресса в области производства оружия; наконец, когда любой Гишар достигал тридцати-сорокалетнего возраста, палач накидывал петлю ему на шею.
Однако не надо полагать, что жестокие уроки судьбы, которые получали все Гишары один за другим, пропадали даром для потомков неисправимых браконьеров. Смертная казнь оставляла после себя след, продолжавший благотворно воздействовать на последующее поколение. Как правило, сын повешенного люто ненавидел кроликов и падал в обморок от одного вида этих безобидных тварей, почти как Генрих Валуа при виде кошки или Цезарь при виде паука; несчастный не мог ни пронзить кролика стрелой, ни поразить его из арбалета, ни выстрелить в него дробью, ни смастерить по собственному почину сколько-нибудь пригодные силки из латунной проволоки. Из-за драматичной кончины отца всякая дичь делалась для сына табу, по выражению жителей Новой Каледонии; но, будучи в то же самое время не в состоянии избавиться от врожденной склонности Гишаров к грабежу, молодой человек отыгрывался на рыбах.
Он браконьерствовал уже не в лесах, как его отец, а на реках, и, когда в реках было недостаточно рыбы, переходил к прудам, от прудов — к садкам, а от садков — к рвам вокруг замков сеньоров, где водились гигантские двухсот- или трехсотлетние карпы, будоражившие воображение юноши и притягивавшие его, словно магнит железо; одним словом, шла ли речь о мохнатых, пернатых или чешуйчатых, дела неизменно принимали такой оборот, что в один прекрасный день какой-нибудь судья, прево или бальи вручал очередному Гишару то, что переходило к сыну по наследству от отца — а именно веревку, на которой того повесили.
И вот так, становясь то лесными разбойниками, то пресноводными пиратами, Гишары закончились на Франсуа, который жил в 1831 году и которым мы сейчас и займемся.
Отец Франсуа Гишара, как мы уже сказали мимоходом, стал последним представителем податного населения, отправленным на виселицу, которую феодализм великодушно даровал как исключительное право этому семейству. Он объявил войну и мохнатым и пернатым, четвероногим и птицам. Правда, поскольку после восшествия на престол Людовика XVI установления по надзору за охотой стали на редкость мягкими, он был вынужден, дабы не ронять чести предков, присовокупить к числу своих жертв, покрытых шерстью или перьями, и несчастных двуруких, под тем предлогом, что от каждого, кто носил бляху и треуголку, для него исходила угроза тюрьмы; однако, поскольку первопричина произошедшего несчастья оставалась все той же, Франсуа, верный семейным традициям, поклялся отказаться от столь пагубного греха, как браконьерство в лесу, и столь опасного орудия, как ружьё. Поэтому мы и находим Франсуа Гишара обосновавшимся на берегах Марны, а не разыскиваем его в глубине лесной чащи, что было бы неизбежно, если бы призванием его отца была бы рыбная ловля, а не охота.
В 1794 году, примерно через три с половиной года после трагической кончины отца, Франсуа Гишар обосновался в Ла-Варенне.
Призванный в армию в 1790 году, Франсуа Гишар вернулся из Майнца, который он оборонял от войск Фридриха Вильгельма; после капитуляции французским солдатам разрешалось покинуть город с воинскими почестями, при условии, что в течение одного года они не будут служить в армии. В ту пору Конвент противостоял своре аристократов и королей, дружно ополчившихся на него; он счел, что не нарушит своих обязательств перед Пруссией, если направит защитников Майнца на усмирение грозной и разъяренной Вандеи.
Чтобы попасть из Майнца в Сом юр, надо было пересечь всю Францию.
Когда бил барабан, звучала труба и раздавалась "Марсельеза", Франсуа Гишар, следует отдать ему должное, ни в чем не уступал своим товарищам по оружию, но, к сожалению, сколь бы ожесточенными ни были военные действия, невозможно все время сражаться, а раздумья во время мирных передышек пагубно сказывались на его боевом духе.
К ним примешивались видения прошлого: они без труда завладевали бедной головой Франсуа Гишара.
Под влиянием этих видений он день ото дня все прохладнее относился к перестрелкам, засадам и битвам.
Поэтому, когда майнцские батальоны вошли в Ланьи, Франсуа Гишар, переходя через мост, бросил на реку взгляд, исполненный одновременно горечи и вожделения.
Было семь часов вечера, и рыба играла, по выражению рыбаков: резвясь и кормясь, она оставляла на поверхности воды множество маленьких кружков, изобилие которых давало четкое представление о количестве производивших их особей.
Франсуа Гишар тяжело вздохнул.
После этого вздоха он почувствовал укор совести, причина которого, разумеется, вызовет уважение к нему у далеких потомков.
Солдат подумал, что Конвент несколько легкомысленно относится к капитуляции; затем он пришел к заключению, что положение является куда более определенным, чем полагает досточтимое Собрание; наконец, он принял решение освободить своего командира, генерала Клебера, от одной десятитысячной части возложенной на его плечи ответственности; сделав вид, что он поправляет бесцветные и бесформенные лохмотья, заменявшие ему башмаки, Франсуа Гишар пропустил колонну вперед, спрятался под аркой моста и подождал, пока последний из тех, кто плелся в хвосте, не скрылся из вида; после этого он бросил в реку ружье и огненно-красную шапочку, отрезал ножом длинные полы своего одеяния, надел поверх этого своеобразного камзола полотняную рубашку и, таким образом, слегка преобразившись, спустился к воде, думая лишь о том, как бы отыскать при свете луны места, богатые рыбой.
В те смутные времена военная полиция не была слишком строгой по отношению к дезертирам и тем, кто уклонялся от воинской повинности, и, главное, не отличалась излишней прозорливостью: у нее хватало других забот.
Франсуа Гишар не испытывал ни малейшей тревоги из-за своего побега; наутро, после того как он расстался с доблестными соратниками, молодой человек с удилищем средней длины в руках сидел под ивой, которую по сей день еще можно увидеть выше вареннской переправы, и не сводил глаз с пробки, которая кружилась, будто в вальсе, на поверхности воды вследствие водоворота, облюбовавшего это место. Эта пробка служила поплавком для лесы, изготовленной из бечевки. Франсуа казался столь же спокойным и беззаботным, словно какой-нибудь буржуа из предместья Сент-Антуан, пришедший сюда вкусить воскресный отдых.
Вероятно, запах пороха, все еще пропитывавший руки бывшего бравого солдата, не слишком отпугивал рыб, ибо за несколько часов Франсуа Гишар наловил огромное количество уклеек, окуней, пескарей, лещей и плотвы и в тот же вечер продал свой улов одному трактирщику из Венсена.
Эта рыба стала для Франсуа Гишара тем же, чем должен был стать кувшин молока для Перетты.
Мы сказали: "должен был", так как Франсуа Гишар, более осмотрительный, нежели юная крестьяночка доброго Лафонтена (мы не без основания делаем ударение на слове "добрый"), не оставил на дороге свою драгоценную ношу, покрытую чешуей. Напротив, он без раздумий продал ее, гем более что в ту голодную пору всякая еда стоила дорого. На деньги, вырученные за свой улов, Франсуа накупил несколько сотен рыболовных крючков и несколько мотков бечевки. Затем он принялся расставлять по ночам удочки, на которые дюжинами ловились усачи, карпы и угри. Попечение за этими приспособлениями оставляло свободными его дни. В это время он собирал ивовые прутья в прибрежных зарослях и делал верши, благодаря которым его промысел стал настолько прибыльным, что уже через два месяца после того, как Франсуа покинул службу, ему удалось приобрести небольшую лодку.
Лодка была в это время средоточием всех помыслов Франсуа Гишара: во-первых, имея ее, он мог незамедлительно заработать достаточно денег для покупки того, что всякий рыбак именует снастями, а именно — вентерей, накидных сетей и всякого рода неводов; во-вторых, приближалась осень, и наш герой был не прочь подыскать себе другое пристанище вместо дупла ивы, где он ютился до сих пор; а кроме того, Франсуа не знал ничего роскошнее на свете, чем хорошая дубовая лодка, на дощатом настиле которой можно лежать и спать, укутавшись в теплое шерстяное одеяло.
В течение трех лет у Франсуа Гишара не было другой крыши над головой, другой спальни и другого ложа.
Но он был счастлив! Разве могло быть иначе?
Очевидно, древняя и чистая, лишенная примесей кровь кельтов, как и много столетий назад, продолжала течь в жилах всех мужчин рода Гишаров. Благодаря ей они сохраняли инстинктивную тягу к гордой независимости и дикарской свободе, выражавшуюся в протесте их сердец против цивилизации, и удовлетворить это влечение можно было лишь путем возврата к первобытной жизни. Провидение, вопреки всем вероятностям, в разгар XVIII века даровало последнему из Гишаров то, к чему так тщетно стремились его предки: оно приберегло для него пустынный уголок всего в четырех льё от Парижа, уголок, где он мог наслаждаться столь же абсолютной властью, как и Робинзон на своем острове.
И в самом деле, в течение последующих трех лет Франсуа Гишар лишь изредка встречал на берегах Марны какого-нибудь буржуа из Сен-Мора или какого-нибудь горожанина из Шарантона, решивших провести денек на реке и вступить в неравное соперничество с нашим рыбаком. Франсуа Гишар был единственным хозяином и властелином Марны на всем ее протяжении от Шампиньи до Кретея. В то время как Республика, Директория и Консульство сменяли друг друга, коммуны, из-за отсутствия желающих не помышлявшие о том, чтобы сдавать в аренду свои рыбные угодья, нисколько не мешали пришельцу наслаждаться своим излюбленным занятием, а он, как видно, не сомневался, что так будет продолжаться вечно.
Однажды, когда Франсуа ловил пескарей четырехугольной сетью, он поднял голову и заметил среди ивовых зарослей хорошенькую девушку: сидя на корточках у воды, она стирала белье и напевала какую-то веселую песенку.
Красивые руки, веселое лицо и задорный голос юной прачки доставили Франсуа Гишару неведомые ему прежде приятные ощущения. Забыв обо всем на свете, рыбак схватил свою тол куш ку с обратной стороны и, орудуя рукояткой, так сильно разорвал сеть, что, когда он вытащил ее из воды, рыбы одна за другой выскользнули через широкое отверстие, образовавшееся из-за его оплошности, и, трепыхаясь, вернулись в свое подводное царство.
Эта ощутимая потеря вернула Франсуа Гишара на грешную землю. Он сел в лодку, достал из кармана моток нитей и рыбацкий челнок и приготовился исправлять последствия своей ошибки.
Между тем девушка продолжала напевать, отбивая такт вальком, и мало-помалу снова настолько завладела вниманием рыбака, что его челнок, лишившись целенаправленного руководства, тут же принялся выписывать в сети причудливые узоры.
Тогда Франсуа Гишар отложил свои снасти в сторону.
Он занимался рыбной ловлей скорее вследствие врожденной страсти к этому промыслу, нежели из любви к наживе; однако ощущение, которое он испытывал в тот миг, дотоле неведомое ему, одержало верх над чувством как первым, так и вторым. Грубый рыбак Франсуа Гишар, для которого не было до сих пор большего наслаждения, чем поймать карпа или щуку, отзвуков девичьего голоса погрузился в глубокую задумчивость. Не без робости раздвигал он ветки, чтобы рассмотреть внешность певуньи, когда, выколачивая белье вальком, она приподнимала свое пылающее от работы лицо и становились видны ее губы, целиком отданные песенке, и ее сверкающие глаза.
Франсуа Гишар пребывал в восхищении до тех пор, пока девушка не закончила выжимать последнюю скатёрку.
Но вот она собрала плоды своего труда в корзину и собралась взвалить эту ношу к себе на спину.
Однако ее уход не устраивал Франсуа Гишара: он был готов всю ночь слушать очаровавшие его звуки и не понимал, какие еще дела могут быть у такой прекрасной певуньи.
Рыбак осторожно уперся багром в берег и, резко оттолкнувшись, заставил свою лодку водно мгновение перенести его через рукав реки.
Обернувшись, чтобы подобрать валек, прачка заметила молодого человека, смотревшего на нее с открытым ртом и большими от удивления глазами; он приблизился столь бесшумно, что показался ей привидением.
Тихо вскрикнув, девушка хотела схватить корзину и убежать, но покачнулась от сильного волнения, и ее белье — красное, голубое, серое, белое и разноцветное — рассыпалось по земле.
— Ну вот, глядите, что вы наделали, — сказала прачка Франсуа Гишару, спрыгнувшему на берег. — Что за шутки!.. Белье ведь уже прополощено!..
Рыбак стоял с таким расстроенным видом и, казалось, был настолько смущен происшествием, невольным виновником которого он стал, что, как только взгляд девушки упал на него, выражение ее лица заметно смягчилось.
Слезы, брызнувшие в первый миг от досады, застыли в ее глазах; она рассмеялась, и ее губы раскрылись, являя взору тридцать две безупречные жемчужины, — так что можно было подумать, будто она плачет от избытка веселья.
Смех девушки окончательно привел Франсуа Гишара в замешательство. У него был такой несчастный вид, что певунья сжалилась над ним и приказала ему в наказание помочь ей устранить последствия неприятности, случившейся по его вине; услышав это, он немного воспрянул духом.
Опустившись на колени на песчаном берегу, Франсуа принялся полоскать белье столь же ловко, как это могла бы делать сама хорошенькая прачка.
Она уже не пела, а что-то щебетала, и рыбак охотно сделал бы в четыре раза больше, лишь бы его вновь одарили хоть какой-нибудь песенкой.
Видя, что девушка не собирается расщедриться, он решил подзадорить ее.
— Скажи-ка, гражданка, — начал Франсуа, — как же так: ты знаешь самые славные песенки, какие только распевают женщины, но не знаешь вот этой:
О Ричард, повелитель мой!
Король, забытый всей вселенной!
Я на земле один с тобой,
Тебе служивший неизменно…[3]
— Кто тебе сказал, что я ее не знаю? — сказала прачка в ответ.
— А как же! Я слушал тебя два часа, а может, и больше — время так быстро пролетело, что трудно сказать, сколько я там сидел, — но не слышал этой песни.
— Если ты не слышал ее, гражданин, то лишь потому, что я не захотела ее спеть.
— Что ж, гражданка, если ты мне ее споешь, я охотно пойду с тобой, чтобы отнести твою корзину на вершину шенвьерского холма, ведь с тех пор как моя бедная матушка ушла в мир иной, мне ни разу не доводилось слышать этой песенки, а ведь я так ее любил, когда был мальчишкой.
— Такие сделки не по мне, гражданин Франсуа Гишар, — резко ответила прачка.
— Так ты меня знаешь? — удивился молодой человек.
— А как же! Сдается мне, рыбаки и прачки — близкая родня.
— Тогда спой.
— Нет уж, увольте! Да меня арестуют за эту песню аристократов, если кто-нибудь услышит хотя бы мотив. Помогите же мне поднять корзину. Такие песни поют за закрытыми дверями, под одеялом, мужу на ушко. До свидания, гражданин Гишар.
Рыбак смотрел девушке вслед, пока она не скрылась за тополями; дойдя до виноградника на холме, она обернулась и насмешливо помахала своему слушателю рукой. Он стоял на том же месте, где они расстались.
Франсуа еще долго не спешил уходить, хотя его заждалось несколько сотен рыболовных крючков, лежавших наготове; в тот вечер он не стал закидывать свои донные удочки в заводь Жавьо. Вместо этого он направил лодку туда, где задержался, чтобы послушать певунью. Как только стемнело, Франсуа улегся в лодке, но не смог заснуть, и всю ночь, слушая соловьев, посылавших во мрак и безмолвие свои любовные трели, он вертел головой над бортом лодки, высматривая на берегу молодую прачку.
II
ОТДАВ ДОЛЖНОЕ РОДОСЛОВНОЙ ФРАНСУА ГИШАРА, МЫ ПЕРЕХОДИМ К ИСТОРИИ ЕГО ЛЮБВИ И К ТОМУ,
ЧТО ИЗ НЕЕ ВОСПОСЛЕДОВАЛО
В последующие дни Франсуа Гишар был весьма рассеян.
Он забывал насаживать червяков на свои удочки, и только совсем уж безмозглая рыба могла бы клюнуть на голое острое железо, которым рыбак вознамерился ее прельстить.
Целыми часами он перебирал в памяти услышанные им песенки хорошенькой прачки, а лодка тем временем тихо скользила вниз по течению вместе с накидной сетью, красующейся у одного из его бортов; лишь поравнявшись с бонёйской мельницей, Франсуа вспоминал, что он еще ни разу не закинул в воду свой невод.
Принимая листья лягушечьей травы за проявления клёва, он, знавший русло реки столь же хорошо, как крестьянин — обрабатываемую им пашню, не раз забрасывал накидную сеть в болотные кочки или на стволы деревьев и вытаскивал ее оттуда всю в лохмотьях.
Чем больше проходило времени, тем чаще на него находили такие затмения.
Как-то раз Франсуа отправился вынимать свои вентеря и, опрометчиво предавшись опасным мечтам, утратил память — самое необходимое ему в тот момент свойство разума. Вследствие этого из шестнадцати вентерей, поставленных рыбаком, он потерял четырнадцать и, вдобавок, выходя из воды, так неудачно схватил один из найденных им вентерей, что находившийся в нем превосходный карп вырвался и упал в воду.
Франсуа Гишар испуганно огляделся, чтобы убедиться, что никто не заметил его оплошности, непростительной даже для новичка; он взревел от ярости и разорвал вентерь в клочья, а лохмотья выбросил в реку. Затем он тяжело опустился на настил лодки и некоторое время предавался отчаянию. Однако Франсуа был сделан не из того теста, что большинство воздыхателей, — он понял, что пора немедленно принять важное решение.
Яростно взмахнув веслом, рыбак развернул лодку и вскоре причалил к берегу департамента Сена-и-Марна; затем он воткнул в землю багор, привязал к нему лодку и стал подниматься к Шенвьеру с тем же выражением роковой решимости на лице, с каким, вероятно, Вильгельм Завоеватель впервые ступил на территорию Англии.
Правда, враги нормандского герцога избавили своего будущего победителя от докучливой заботы блуждать в поисках их войска, в то время как Франсуа Гишару предстояло разыскать девушку, принесшую невообразимое смятение в его душу.
Он прошел вдоль всей главной улицы деревни, где его появление не осталось незамеченным, ибо наш речной волк, не слишком знакомый с сельскими правилами приличия, бесцеремонно открывал двери всех домов, встречавшихся на его пути, и, просунув голову в проем, растерянно обозревал внутренность каждого жилища, а затем удалялся, не отвечая на ругательства и проклятия, которыми осыпали его потревоженные мужчины и женщины, и не обращая внимания на испуганные крики детей.
Наконец Франсуа Гишар дошел до последней хижины, которая стояла на дороге, ведущей в Шампиньи; его обход домов ничего не дал — в итоге он лишь приобрел попутчиков из местных мальчишек и девчонок, которые следовали за сумасбродом на почтительном расстоянии и, тихо шушукаясь, с любопытством наблюдали за его действиями.
Франсуа Гишар хотел было расспросить кого-нибудь из маленьких ротозеев об интересующей его девушке, однако пришел в замешательство, не зная, как описать предмет своих поисков: хорошенькое личико нельзя считать характерной приметой.
Тем не менее рыбак направился в сторону своей небольшой свиты, но ребятишки неправильно истолковали его намерения и бросились врассыпную; при этом передние стали теснить тех, кто был позади, старшие толкали более слабых, одни падали, других сшибали с ног, и все удирали что было сил, словно стая потревоженных воришек-воробьев.
Настроение Франсуа Гишара, не ожидавшего подобного развития событий, окончательно испортилось; он схватил одного из тех, кто был повержен на землю, и встряхнул его с такой силой, что бедняжка расплакался и умоляюще протянул к обидчику свои ручонки.
Рыбак пытался его утешить, но все усилия были напрасными: чем ласковее он увещевал малыша, тем громче тот рыдал; Франсуа был вынужден поставить его на землю, и тот сразу же успокоился и со смехом побежал к своим дружкам.
Едва отпустив своего пленника, Франсуа Гишар тотчас же пожалел об этом: когда искаженное страхом лицо ребенка приняло спокойное выражение, он стал поразительно кого-то ему напоминать. Франсуа уже где-то видел эти большие, темные, влажные и блестящие глаза, смотревшие на него из-под взъерошенных, падавших на лоб волос мальчугана; улыбка, округлившая его крепкие, как яблоко, и румяные, как вишня, щеки, была улыбкой хорошенькой прачки.
Франсуа бросился вдогонку за малышом, но, хотя он неплохо бегал, постреленок мчался еще быстрее. Мальчишка свернул в улочку, тянущуюся вдоль шенвьерской церкви; в конце улочки он нырнул в какие-то ворота, затворил их за собой и в страхе побежал прятаться в погреб.
Сердце Франсуа Гишара подпрыгнуло от радостной надежды, ведь он еще не заглядывал в эту улочку, в этот дом.
Он решительно вошел в ворота, в которых скрылся проказник, и оказался во дворе с навозными кучами, кудахтающими курами и копающимися в грязи утками.
Однако во дворе были не только куры и утки, но и повозка; рядом с ней находился мужчина лет пятидесяти; он брал сено из стога и вязал его в пуки; на повозке стояла девушка, раскладывавшая ровными рядами эти связки, которые подавал ей мужчина, между дощатыми стенками тележки.
Увидев Франсуа Гишара, девушка покраснела, но рыбак, узнавший хорошенькую прачку, зарделся еще сильнее.
— Добрый день! — не отрываясь от работы, произнес мужчина, вязавший пуки.
— Добрый день! — ответил рыбак, прислонившись к стогу (он страшно запыхался во время погони).
Последовала пауза: хозяин дома, как всякий истинный крестьянин, был себе на уме; он не желал придавать незваному гостю смелости вопросом и ждал, когда тот сам объяснит цель своего визита.
— Я пришел к вам поговорить о делах, — наконец, выдавил из себя Франсуа Гишар, многозначительно поглядев на девушку, продолжавшую укладывать сено с еще большим усердием, чтобы скрыть свое смущение.
— А, так вы пришли по поводу вина? В этом году оно будет дорого стоить, парень; и не потому что виноградники побило морозом, не потому что виноград осыпался, не из-за сильной засухи или сильных дождей, а черт вмешался, и лоза в этом году не родит: немало нужно арпанов, чтобы получить один мюи вина.
— Нет, я пришел к вам вовсе не за вином, — ответил Франсуа Гишар, чувствуя, что если он не поторопится с признанием, то вообще не сможет его произнести. — Я пришел просить вас выдать за меня замуж вашу дочь.
Виноградарь не поднял головы, но его глаза удивительно живо оглядели воздыхателя с головы до ног.
— А! Это другое дело, — произнес он, — за этим стоило бежать, как на пожар, голубчик, ведь наша Луизон — работница хоть куда! Глядите сами! Девка уложила центнер сена, она обработает и сетье виноградника не хуже нас с вами. Надо подумать, парень, надо подумать. Однако ж, — продолжал крестьянин (как видно, он был из тех, кто никогда не упустит своего), — раз вы хотите стать членом нашей семьи, надо показать себя, парень, надо показать себя, а не сидеть тут у стога как бездельник: следует помочь нам нагрузить сеном эту повозку. Ну-ну, живей! Быть может, те пистоли, что мне заплатят завтра, когда-нибудь осядут в шкафу моей дочки!.. Давай, давай, за работу!
Эти слова подстегнули и без того не в меру разгоряченного Франсуа Гишара. Он бросился на сено, как на противника, которого предстоит разгромить, и, крепко сжимая его is объятиях, принялся вязать в пуки с таким яростным рвением, что гора фуража стала таять на глазах и вскоре окончательно исчезла, перекочевав в повозку.
Луизон смотрела на своего поклонника с улыбкой; ее отец тоже улыбался, но значение этих улыбок было совершенно различным.
Когда работа была окончена, виноградарь поблагодарил Франсуа Гишара, хотя в его признательности чувствовалась насмешка; затем он пригласил рыбака присесть рядом с ним на старый ствол черешни — одно из основных украшений двора, и, приказав дочери принести вина, стал расспрашивать гостя о роде его занятий.
Франсуа Гишар, который не променял бы свое ремесло даже на звание первого консула и не знал ничего прекраснее этого занятия, заявил без колебаний, что он рыбак.
Услышав это признание, крестьянин нахмурился и, когда дочь протянула отцу кувшинчик вина, чтобы тот налил гостю полный стакан, нацедил ему не больше трети.
Таким образом отец девушки хотел показать свое пренебрежение к общественному положению ее поклонника.
Однако, когда тот стал добиваться окончательного ответа, который решил бы его судьбу, виноградарь, еще не решившийся дать ему отказ, хотя тот созрел уже у него в голове, лишь несколько раз повторил:
— Надо подумать, парень, надо подумать.
Было ясно, что физическая сила Франсуа Гишара произвела на него сильное впечатление, и хитрый крестьянин что-то задумал в отношении своего гостя.
Рыбак ушел из дома Луизон полный дерзких мечтаний и, спускаясь с холма, во все горло распевал грубым голосом и отчаянно фальшивя песню, услышанную им от Луизон в тот день, когда он следил за ней из ивовых зарослей.
На другой день Франсуа снова отправился в Шенвьер; он нес своему будущему тестю все необходимое для приготовления матлота. Будущий тесть поблагодарил молодого человека и, не дав ему даже поздороваться с Луизон, повел его в поле, чтобы с его помощью закончить последние работы в винограднике.
Франсуа Гишар вспахал землю столь же превосходно, как он управился с сеном.
На следующий день рыбак явился с корзиной, в которой лежал улов, состоявший из отличных перламутровых пескарей.
В этот раз ему пришлось перевозить на тележке навоз.
Так и пошло: каждый день крестьянин находил парню новое занятие, привлекая возможного зятя к наведению порядка в своем небольшом имении. За один день он получал выгоду, какую приносят два рабочих дня, поскольку Франсуа Гишар по-прежнему работал за двоих, и подобный подход имел то преимущество, что папаша Луизон не тратился даже на еду, ибо, хотя рыбак уже мог считать себя членом семьи, когда надо было поусердствовать, все было иначе, когда приходило время сесть за стол: виноградарь так же жадничал, наливая ему вино, как и в первый раз.
Франсуа Гишар не сердился на такое гостеприимство, ибо манящая до этого улыбка Луизон теперь излучала нежность и даже сочувствие, как бы говоря поклоннику: "Мое сердце вознаградит тебя за труды".
Что касается виноградаря, то он, когда Франсуа Гишар, ставший робким вследствие своего подневольного труда, отваживался слегка поторопить его с ответом, неизменно отвечал: "Надо подумать".
Так продолжалось целый месяц.
Франсуа Гишар, рыбачивший по ночам, днем превращался в настоящего крестьянина.
Вслед за сбором урожая пришла зима; багровые листья виноградных кустов усыпали всю долину, лоза выглядела так же уныло, как сухие побеги, и жерди были сложены в штабель в ожидании следующей весны.
Некоторое время виноградарь использовал Франсуа Гишара на гумне, заставляя его молотить хлеб, но настал момент, когда в мякине не осталось ни единого зернышка, и в тот день рыбак бродил без дела. Бродя так взад и вперед, он подходил к Луизон, и тогда ее папаша сердито хмурил брови.
Когда на следующий день Франсуа Гишар снова пришел в Шенвьер, он заметил, что глаза девушки были красными, словно она плакала. Крестьянин не ответил на приветствие своего оставшегося не у дел работника; было ясно, что в засыпанном снегом дворе крестьянского домика с его искрящейся от инея соломенной крышей, с которой свисали длинными пиками сосульки, над головой бедного рыбака сгустились страшные тучи.
Действительно, вскоре разразилась гроза.
Папаша властным жестом приказал дочери выйти из комнаты и, указав Франсуа на скамеечку напротив своей табуретки, у высокого камина, где чадили, не желая гореть, два тополиных корневища, заявил парню, что его присутствие в доме вызывает пересуды, и поэтому ему придется прекратить свои посещения, чтобы не ставить под угрозу будущее Луизон.
Даже если бы Франсуа Гишар обнаружил в своей сети слона, его изумление не было бы настолько велико.
Рыбак полагал, что, батрача на папашу своей возлюбленной, он как бы внес задаток в счет сделки, которую ему хотелось заключить.
Он покраснел, затем побледнел и что-то пробормотал, запинаясь, но внезапно в нем проснулась врожденная вспыльчивость Гишаров, и он разразился такими чудовищными проклятиями, что виноградарь едва удержался на своей табуретке.
Крестьянин попытался было ответить, но рыбак не дал ему открыть рот, осыпая хитреца яростной бранью. Добрый папаша даже не пытался поставить запруду на пути этого грозного потока.
Когда негодование Франсуа Гишара, наконец, иссякло, отец Луизон сказал:
— Знаешь, парень, раз ты на меня работал, стало быть, это тебе нравилось, и если так, я не стал тебе прекословить. В жизни приходится порой делать вот такие небольшие добрые дела, не ожидая награды, но выдать за тебя дочь — дело посерьезнее. Ведь у тебя ничего нет, и живешь ты как бездельник…
— Бездельник! — перебил его рыбак с негодованием в голосе, припомнив, сколько долгих бессонных ночей ему доводилось проводить под дождем, на холодном ветру.
— Ну, не как бездельник — я признаю, что ты мог бы стать неплохим виноградарем, но все равно ты растяпа. Что это за ремесло, если оно не может дать человеку, который им занимается, то, что имеет у нас последняя скотина — четыре стены и крышу над головой! Ты хочешь жениться, но куда ты поведешь жену? В свою лодку? Хорошее жилище для моей дочки, нечего сказать!
— Папаша Поммерёй, скажите мне, что надо принести вашей дочке, и я клянусь, что скоро это добуду, даже если мне придется работать как каторжному.
Когда Франсуа Гишар произносил эти слова, в его голосе зазвучали умоляющие нотки, но они не смягчили сердце крестьянина, а лишь избавили его от тревоги, которую ему внушило начало их беседы: выражение лица хитреца стало еще лукавее, чем прежде.
— Эх, голубчик, — промолвил он, — у меня двадцать два сетье виноградников и двое детей — стало быть, одиннадцать сетье причитается мальчишке и столько же девчонке; по пятьсот франков за сетье, это не слишком дорого, правда?
— Нет, — машинально ответил Франсуа Гишар.
— Значит, каждый из них получит в наследство по пять тысяч пятьсот франков, не считая того, что им достанется после дележки денег, ведь кое-какие накопления у нас тоже имеются, парень.
— Боже мой, Боже мой! — воскликнул Франсуа Гишар.
— Ага! Это тебя пугает. Что ж, мы, как видишь, не сидели сложа руки, и виноградник дает больше, чем речка, понятное дело, — прибавил крестьянин с гордостью, возобладавшей над его обычной скрытностью. — Ладно! Хочешь, я научу тебя, как добиться того, что тебе надо?
— Хочу ли я? — вскричал Франсуа. — Конечно, хочу!
Виноградарь взял с верхней каминной полки книгу, обрез которой был таким же темным, как и переплет. Это была Библия.
— Я читал вот здесь, — сказал он, — что Иаков двадцать лет работал на Лавана, чтобы жениться на его дочери Рахили. Согласись принять условия, на какие пошел Иаков, и если через двадцать лет Луизон не выберет кого-нибудь другого, ну что ж, тогда посмотрим.
При этом папаша Поммерёй язвительно рассмеялся, и у Франсуа Гишара не осталось сомнений, что над ним издеваются. Рыбак вскочил и вышел из хижины, сильно хлопнув дверью.
Дойдя до середины двора, он почувствовал, как чья-то рука осторожно дернула его сзади за полу куртки. Это была Луизон; очевидно, она слышала разговор отца с возлюбленным, ибо ее лицо было мокрым от слез.
Гишар собирался сказать ей о своем отчаянии, но в это время папаша Поммерёй стал греметь дверным засовом.
— Уходите, уходите! — вскричала Луизон, пожимая молодому человеку руку.
— Вы придете на реку, Луизон? — спросил Франсуа Гишар.
— Да, — ответила девушка так уверенно, что рыбак успокоился; несмотря на нерасположенность, которую проявил по отношению к молодому человеку папаша Поммерёй, голос Франсуа, спускавшегося вниз с холма, звучал под сенью прибрежных деревьев как никогда твердо и звонко.
После этого Франсуа Гишар ни разу не приходил в Шенвьер, но это не значит, что влюбленные больше не виделись; напротив, они встречались, и рыбак отнюдь не сожалел о том, что он не ходит больше в деревню, где неизменное присутствие на его встречах с Луизой виноградаря сковывало молодых людей холодом, что так не соответствовало состоянию их душ.
Как-то раз, когда папаша Поммерёй работал в своем винограднике, он заметил внизу, на другом берегу реки, как раз напротив мыса большого острова Ла-Варенны, четыре убогие стены, возвышающиеся уже примерно на два фута от земли, и человека, работающего с небывалым рвением: он пытался возводить их, укладывая камни на известковый раствор и заливая сверху камни той же смесью.
Несмотря на большое расстояние, разделявшее их, крестьянин узнал в этом человеке рыбака, чьей любовью к Луизон он с такой выгодой для себя воспользовался.
— Ну вот, — сказал виноградарь дочери, помогавшей ему ставить подпорки для подвязывания лоз, — этот дурачок, наконец, понял, что, прежде чем обзаводиться семьей, надо свить себе гнездышко. Как он старается! Только погляди, Луизон, какую хорошенькую клетку он делает для птички, которую собирается туда посадить. У него стена еле поднялась над землей, а уже готова рухнуть! Подумать только, если бы у тебя не было такого дальновидного отца, ты могла бы дать завлечь себя этому горе-торговцу живцом! Хорошо, что я следил за бродильным чаном, и когда увидел, что содержимое бурлит слишком сильно, прекратил брожение. Ты мне еще скажешь за это спасибо, когда увидишь жалкую долю той, что будет жить в этом доме.
К счастью для девушки, в тот миг кол, который вбивал в землю ее отец, наткнулся на камень, и это помешало ему заметить смущение и волнение Луизон.
Отныне папаша Поммерёй не пропускал ни одного дня, чтобы не посмотреть, как продвигается работа Франсуа Гишара. Стены становились все выше; дверной проем был устроен со стороны реки, а окна были обращены в две разные стороны, так что рыбак мог видеть прямо из дома все, что происходит на реке, обозревая из одного окна верхнее течение Марны вплоть до острова Тир-Винегр, а из другого — ее нижнее течение до самой заводи Жавьо.
Закончив возводить стены, Франсуа Гишар обтесал балки и стропила и увенчал свое творение крышей из камыша; таким образом, папаша Поммерёй, сопровождавший каждую новую стадию возведения хижины все более язвительными насмешками, в один прекрасный день увидел, как рыбак поднимается на конек кровли, чтобы привязать к трубе великолепный букет из всех весенних цветов, какие только можно было найти на берегах его любимой реки.
Виноградарь корчился от смеха, глядя на эти ухищрения, казавшиеся ему проявлением непомерного самомнения ничтожного каменщика. Он даже поспешил закончить свои труды, чтобы пораньше вернуться в Шенвьер и позабавить Луизон рассказом о новой причуде ее бывшего воздыхателя.
По-видимому, дочь не разделяла веселости отца; она побледнела, ничего не сказала и оставалась задумчивой до конца дня; вечером же Луизон заявила, что она больна и заперлась в клетушке, служившей ей спальней.
Однако в полночь девушка еще не ложилась спать, а ходила босиком взад и вперед по своей тесной комнатушке, ломая руки, и, казалось, пребывала в сильном волнении; время от времени она опускалась на колени и принималась страстно молиться.
И тут камешек, брошенный в окно, отчего зазвенели стекла, прервал молитву Луизон; стремительно вскочив, она открыла окно и увидела Франсуа Гишара, сидевшего на заборе.
— Боже мой, — прошептала девушка, — если отец проснется и увидит Франсуа, он может его убить!
Эта мысль, очевидно, одержала верх над всеми ее колебаниями.
Луизон сделала своему возлюбленному знак пока не спускаться во двор, поспешно собрала небольшой узелок, взяла в руки башмаки, тихо прошла через комнату, где спал отец, отворила ворота и протянула руку Франсуа Гишару. Рыбак взял ее на руки и понес так же бережно, как мать несет ребенка; он спустился с холма бегом и остановился лишь для того, чтобы опустить свою драгоценную ношу в лодку и, взяв весла, перевезти ее на другой берег.
Стояла весна, и ночной воздух была теплым и душистым; мягкий ветер вызывал легкую рябь на воде и шелестел острыми листьями лягушечьей травы; луна прочертила на воде широкий серебристый след; из каждого куста раздавались соловьиные гимны любви.
От этого величественного зрелища слезы Луизон быстро высохли.
Дело было сделано: Франсуа Гишар завоевал жену, подобно английским лордам и героям многих романов.
III
О ТОМ, КАК БОГУ БЫЛО УГОДНО ПОДВЕРГНУТЬ ФРАНСУА ГИШАРА ИСПЫТАНИЮ, ТАК ЖЕ КАК НЕКОГДА ЕМУ БЫЛО УГОДНО ИСПЫТАТЬ ИОВА
Это событие наделало много шума и на равнине и на холме.
Целую неделю у кумушек от Жуэнвиля до Ормесона и от Гравеля до Сюси не было другой темы для сплетен, а прачки, которые выколачивали белье вальками, стоя на коленях на берегу реки, долго еще обсуждали это происшествие.
Как правило, люди, за исключением нескольких глупцов, винили в случившемся папашу Поммерёя. По их мнению, виноградарь слишком рано торжествовал победу.
Все насмехались над крестьянином, и от этого его негодование по отношению к похитителю становилось еще больше.
Но к счастью, сосед-бакалейщик, человек довольно сведущий, разъяснил папаше Поммерёю, что, будучи совершеннолетней, Луизон может потребовать свою часть материнского наследства и с помощью некоторых формальностей, которые будут дорого стоить, одержать верх над отцовским упрямством; после этого виноградарь признал себя побежденным.
Папаша Поммерёй люто ненавидел своего будущего зятя: двадцать раз в день он от всей души желал ему зацепиться за сеть и сгинуть вместе с ней на дне Марны, но представлять себе, как денежки, которые он привык считать своими, будут перетекать в руки тех, кого крестьянин величал не иначе как "эти грязные писаки", было настолько чудовищно, что он не решался отяготить свою совесть.
Вот почему отец согласился на то, чтобы Луизон Поммерёй стала женой Франсуа Гишара, но при условии, что она письменно засвидетельствует свой отказ от всяких прав на имущество покойной матери.
Таким образом, Франсуа Гишар получил то, о чем его предки даже не мечтали.
Рыбак не только царствовал на Марне, будучи полновластным хозяином реки — он мог расставлять свои сети где угодно, не опасаясь ни придирчивых смотрителей, ни завистливых землевладельцев, но и был женат на той единственной женщине, которую любил; и что еще удивительней, жена оказалась даже лучше, чем он предполагал, когда она была его невестой.
Если когда-нибудь восторженный муж мог называть свою супругу сокровищем, то это был Франсуа Гишар; в самом деле, Луизон была стойкой, кроткой и покорной, и никогда еще под небом Бри не бывало столь безупречной хозяйки.
Она чинила сети мужа и плавала вместе с ним по реке, управляя лодкой, как настоящий подручный рыбака, причем так ловко, что весла производили не больше шума, чем стрекоза, порхающая над кувшинками; Франсуа Гишару даже ни разу не приходилось прибегать к помощи ножа, когда удочки цеплялись за какую-нибудь корягу. Кроме того, сколько бы хлопот ни было у Луизон, она всегда ухитрялась приготовить к приходу мужа суп и рагу, так что рыбак получал в своей хижине, стоявшей на островной косе, представление о гастрономических радостях граждан директоров из Люксембургского дворца.
К многочисленным достоинствам Луизон присоединялось еще одно качество, столь редкое у женщин, обреченных на муки беременности и одновременно на тяжелый физический труд, — она по-прежнему была красивой. Разумеется, солнце окрасило ее некогда белые руки и свежее лицо в цвет флорентийской бронзы, но черты лица рыбачки оставались такими же правильными, как прежде, и этот его теплый мужественный оттенок превосходно сочетался с ее обликом.
На протяжении двадцати лет Франсуа Гишар, несомненно, был самым счастливым человеком в своем департаменте, хотя это был департамент Сены, среди жителей которого насчитывается немало миллионеров.
Однако счастье подобно ростовщикам, ссужающим деньгами сынов богатых семей и ради грядущей прибыли изображающим корыстную обходительность и себялюбивую услужливость.
Вскоре бедной супружеской чете с Ла-Варенны предстояло рассчитаться сполна по векселям судьбы. В 1813 году у Франсуа Гишара и Луизон Поммерёй было трое прекрасных детей: два мальчика и девочка. При рекрутском наборе обоим сыновьям выпал жребий стать солдатами. Рыбак довольно стойко перенес этот удар: ему помогли воспоминания об осаде Майнца — он не забыл своей жизни в течение трех месяцев под шквалом свинца и железа и говорил об этом не без доли презрения, утверждая, что орудия скорее производили больше шума, чем наносили урон противнику.
Но сердце Луизон обливалось кровью, и глаза ее все время были мокрыми от слез. Она хотела выкупить своих детей, но в ту пору пушечное мясо ценилось дорого и у бедной семьи не хватило на это средств. Решив проучить непослушную дочь, папаша Поммерёй женился во второй раз; ему было только шестьдесят лет, и вскоре количество его наследников возросло благодаря новому потомству, так что, когда крестьянин умер, доля, приходящаяся его старшей дочери по завещанию, сократилась наполовину. Впрочем, продав виноградники, вероятно, можно было найти замену для одного из новобранцев, но тут братья начали состязаться между собой в благородстве: ни один из них не желал оставаться дома без другого, и в конце концов обоих забрали в солдаты. Франсуа Гишар и его жена стали жить вдвоем, так как их дочь за год до этого вышла замуж.
Ее мужем стал бывший солдат, лишившийся одной ноги в Ваграмской битве и ставший близким другом Франсуа Гишара.
За свои увечья ветеран получил место смотрителя государственных лесов в Ла-Варенне.
Из-за своего давнего отвращения к дичи Франсуа Гишар не охотился, но любил смотреть на охоту. Всякий раз, когда Пьер Майяр (так звали бывшего солдата) отправлялся в лес, чтобы настрелять дичи для своего начальства, рыбак сопровождал его в качестве зрителя. Однажды лесник дал Франсуа кролика; речной пират преподнес ему в ответ кушанье из рыбы, и вслед за обменом подарками завязалась беседа. Пьер Майяр был в восторге от того, что встретил в вареннской глуши человека, которой знал толк в солдатском ремесле и с которым можно было порассуждать о благородном военном искусстве, и Франсуа Гишар, гордившийся опытом, полученным им во время осады Майнца, превосходно поддерживал разговор.
В разгар одной из таких бесед, посвященной Египетской экспедиции, после живописного описания таинственных гаремов пашей Пьеру Майяру пришла в голову мысль о браке, который мог бы еще прочнее скрепить узы его дружбы с Гишаром.
Если рыбак воспринял эту идею с воодушевлением, то Луизон отнеслась к ней довольно прохладно, а их юная дочь лишь покорилась отцовской воле — отставной солдат был далеко не молод и, несмотря на то что пять-шесть шрамов на лице придавали ему, по его словам, особую выразительность, вовсе не был красавцем.
Хотя обе женщины испытывали к леснику легкую брезгливость, свадьба все же состоялась, и ни одному из новобрачных не пришлось об этом пожалеть, ибо доброта бывшего солдата вполне окупала его физические изъяны.
В начале 1814 года, в тот день, когда дочь сделала Франсуа Гишара дедом, и в тот самый миг, когда жена поднесла к нему жалкое маленькое существо, чтобы он поцеловал его, в дверь дома Пьера Майяра постучал раненый солдат, возвращавшийся в родную деревню. Этот человек, служивший водном полку с сыновьями рыбака, поведал несчастному семейству, что во время сражения при Монмирае пушечное ядро унесло жизнь обоих братьев.
Услышав это, Франсуа Гишар едва не уронил свою внучку, которую дала ему подержать Луизон. Вернув девочку жене, он разрыдался, а затем разразился проклятиями и горестными криками. Этот человек с его грубыми повадками, столь сурово относившийся к самому себе, оплакивал сыновей с душераздирающей болью: он катался по полу, ломая все, что попадалось на его пути, и страстно взывал к милости и состраданию Бога; все думали, что он лишился рассудка.
Такое состояние мужа отвлекло Луизон от терзавших ее страданий; она попыталась утешить Франсуа самыми ласковыми словами, какие только знала. Впервые за двадцать лет рыбак оттолкнул женщину, которую он так нежно любил.
Тогда несчастную мать осенило: она снова протянула мужу новорожденного младенца и посмотрела на Франсуа таким умоляющим взглядом, что его отчаянное исступление вмиг утихло, подобно тому как прекращается дождь, когда ветер разгоняет тучи. Рыбак прижал крошку к груди и до вечера держал ее на руках, оставаясь безмолвным и неподвижным; лишь крупные слезы текли по его щекам, падая на пеленки и личико ребенка.
Эти слезы были первым крещением девочки, которой суждено сыграть немаловажную роль в нашем повествовании.
Франсуа Гишар так и не смирился со своей утратой; он стал мрачным и молчаливым, избегал жены и за целый день мог не сказать ей ни слова; он стал таким же нелюдимым, каким был в юности. Не раз ему доводилось ночевать в лодке, чтобы не видеть убогой комнаты, где родились его покойные сыновья. Если он изредка садился за стол с Луизон или если взгляды супругов случайно встречались, оба, не сговариваясь, принимались плакать.
Однажды утром рыбак, спавший в своей лодке, был разбужен странным шумом.
Это был грохот пушки.
Звуки казались неравномерными и раздавались не через равные промежутки времени, как во время учений в Венсене, а были глухими и непрерывными, как отдаленные раскаты грома.
Франсуа Гишар сел на настил лодки и прислушался. Минуты оказалось ему достаточно, чтобы прийти к заключению: рев сражения доносился не от крепости, а со стороны Сен-Дени.
Накануне дезертиры, переправлявшиеся через Марну на вареннском пароме, рассказывали, что прусские разведчики бродят уже неподалеку от Мо.
Итак, Франции, как и Франсуа Гитару, предстояло дорого заплатить за двадцать лет безмятежного счастья и величия.
Рыбак поднялся на ноги; его глаза метали молнии, брови были насуплены, а ноздри раздувались, словно вбирая дым далекой битвы. Боль, переполнявшая его душу, превратилась в ярость; старый солдат Республики ощущал, как в его жилах закипает страшная ненависть к чужеземцам: отец чувствовал приближение убийц своих детей.
Наверное, впервые в жизни Франсуа Гишар небрежно привязал лодку к берегу; затем он поспешил домой.
Пьер Майяр уже ожидал там его с двумя ружьями: одно из них было перекинуто через его плечо, а другое он держал в руке.
Увидев тестя, зять протянул ему одно из них, и тот взял его, ни о чем не спросив: мужчины поняли друг друга без слов. Затем рыбак обнял жену и дочь, а лесник — тещу и жену, и оба зашагали вместе навстречу вражеской пушке, которая, казалось, уже заметно приблизилась к городу.
Оставшись в одиночестве, женщины встали на колени и принялись молиться за свою страну и мужчин, которых они любили.
Однако жена Пьера Майяра была лишена той душевной силы и несгибаемой воли, которую передал отважный рыбак Луизе Поммерёй благодаря своей любви к ней и личному примеру.
Растерянность молодой женщины все нарастала и стала настолько нестерпимой, что несчастная совсем потеряла голову. Использовав минуту, когда мать не могла ее видеть, дочь рыбака, не выпуская своего ребенка из рук, в полубреду устремилась в поле, в том самом направлении, куда, как она помнила, ушли двое родных ей людей.
К тому же дорогу ей, как и мужчинам, указывал грохот канонады: теперь залпы орудий ясно и отчетливо доносились с высот Монмартра и Роменвиля.
Дочь рыбака бежала через поле, не встречая никаких преград на своем пути; стремительность этого бега, равно как и мысль о том, что отцу и мужу угрожает опасность, усиливали ее отчаяние.
Миновав Венсенский лес, женщина вошла в Монтрёй вслед за нашими солдатами, противостоявшими корпусу Шварценберга, и добралась до Бельвиля в тот миг, когда пруссаки ворвались туда со всех сторон.
Впервые в жизни жена лесника слышала, как треск ружейных залпов примешивается к торжественному гулу артиллерийских орудий. Каждый выстрел отдавался в ее сердце болью. Молодой женщине казалось, что любая пуля и любой снаряд должны поразить дорогих ей людей.
Солдаты и граждане, решившие умереть за честь французского флага, были выбиты со всех позиций; их одолел противник, в двадцать раз превосходивший их численностью; они отступали, но продолжали отбиваться со стойкостью, не изменившей им ни разу на протяжении этого рокового дня.
Маршал Мармон, в разорванной одежде, черный от пороха, с непокрытой головой, шагал в последнем ряду по Парижской улице, сжимая солдатское ружье в искалеченной руке. Когда он оборачивался с возгласом "Вперед!", казалось, что этот крик вырывается из груди одного из героев "Илиады"; он первым бросался в атаку на пруссаков, следовавших в ста шагах позади него, и те в ужасе пятились назад. Тогда, подобно вепрю, которого преследует свора собак, он с горсткой окружавших его храбрецов устремлялся на противника; каждая из таких схваток оставляла после себя след в виде груды трупов, и погоня ненадолго прекращалась, ибо побежденные становились победителями. Однако ряды неприятеля были столь многочисленными и плотными, что руки героев уставали наносить удары и перед лицом постоянно прибывавшего пополнения врагов приходилось думать об отступлении.
Дочь рыбака, следуя по боковой улочке, во время одной из подобных стычек подошла к главной магистрали Бельвиля.
Она настолько утратила страх перед опасностью, что продолжала идти вперед по этой улочке, не обращая внимания на пули, сыпавшиеся градом со всех сторон и стегавшие стены домов во всех направлениях.
Внезапно сквозь густой дым, который прочерчивали лучи света, она заметила, что рядом с мужчиной, облаченным в мундир с шитьем, подталкивающим солдат вперед и ободряющим их голосом и личным примером, сражаются ее отец и муж.
Калека стрелял по пруссакам в упор из своего охотничьего ружья, а рыбак, уже израсходовавший патроны, орудовал ружьем как палицей и только что убил ударом приклада вражеского офицера.
Молодая женщина со страшным криком кинулась к родным; Пьер Майяр обернулся на этот крик и узнал жену, которая протягивала ему ребенка, как бы умоляя его не подвергать себя более опасности во имя этого невинного создания. И этот мужчина, сражавшийся в течение пяти часов с таким героизмом, что его с избытком хватило бы на десятерых солдат, сразу утратил и силу и мужество. Оружие выпало из его дрожащих рук, и, обезумев от страха за тех, кого он любил больше всех на свете, он бросился к жене с ребенком так быстро, насколько позволяло его увечье.
В этот миг пруссаки подались вперед и в большом числе оказались в двух шагах от Пьера Майяра; десять штыков сомкнулись одновременно на теле бегущего, и он упал, пронзенный насквозь, но успел прокричать тестю:
— Спасай свою дочь! Спасай моего ребенка!
Франсуа Гишар, поглощенный битвой, не видел этой сцены.
Но, услышав предсмертный зов зятя, рыбак растерянно посмотрел в ту сторону, куда был обращен последний взгляд несчастного инвалида; сквозь дым и густые, свивавшиеся в кольца облака пыли он увидел неясный силуэт, белевший среди темных вражеских мундиров.
Франсуа Гишар ринулся в этом направлении, столь яростно размахивая ружьем, что плотные ряды сражающихся расступались, давая ему дорогу.
На углу боковой улочки рыбак увидел свою дочь.
Она сидела, прислонившись к каменной тумбе; казалось, она была без сознания, но при этом крепко прижимала к груди плачущего ребенка.
Франсуа Гишар поступил так же, как Пьер Майяр: он отбросил ружье, а затем взял дочь с ребенком на руки, взвалил ее на спину и поспешил в сторону Ла-Варенны, не оглядываясь назад.
Он остановился, лишь добравшись до Венсенского леса.
Внезапно он почувствовал, что его шея и плечи совершенно мокрые.
Протянув к ним руку, он убедился, что это кровь.
Тогда Франсуа Гишар опустил дочь на траву и увидел, что вся одежда несчастной молодой женщины перепачкана кровью.
Он остолбенел, не в силах вымолвить ни слова, не решаясь к ней прикоснуться и боясь пошевелиться; ему казалось, что небо и деревья кружатся вокруг него, а земля колеблется под его ногами.
Наконец, превозмогая себя — это отчаянное усилие потребовало от рыбака больше мужества, чем все утренние стычки, — он расстегнул корсаж дочери и положил руку на ее сердце.
Это сердце больше не билось.
Ребенок, которого мать по-прежнему не выпускала из рук, уже уснул.
Франсуа Гишар снова поднял свою ношу и побрел дальше.
Придя домой, он положил дочь на кровать, осторожно высвободил девочку из объятий покойной и передал ребенка жене, а сам, не говоря ни слова, не проронив ни слезинки из своих выплаканных глаз, собрал снасти и направился к лодке.
IV
О ТОМ, КАК ИЗ-ЗА ВМЕШАТЕЛЬСТВА СИЛЬНЫХ МИРА СЕГО ИСТОРИЯ ЖИЗНИ ФРАНСУА ГИШАРА ЧУТЬ БЫЛО НЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ
В 1817 ГОДУ ОТ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА ТАК ЖЕ, КАК ЗАВЕРШИЛАСЬ ИСТОРИЯ ЖИЗНИ ЕГО ПРЕДКОВ
Когда браконьеру хочется отведать рагу из дичи, он, независимо оттого, известен ли ему замечательный афоризм из "Домашней поваренной книги" или нет, отправляется на поиски зайца.
Когда Франсуа Гишар задумал сделаться собственником, то, прежде чем собирать бутовый камень на равнине, заготавливать бревна на островках Марны и нарезать прибрежный камыш, он незаконно присвоил себе участок земли.
Рыбак полагал смехотворным покупать то, что можно получить даром.
В ту пору Республика конфисковывала имущество врагов отчизны, и логика Франсуа Гишара подсказывала ему, что если он последует примеру Республики, то проявит себя образцовым гражданином.
Принц де Конде командовал эмигрантским корпусом, сражавшимся на Рейне; он доставил Франсуа Гишару немало неприятностей, прежде чем тот укрылся за стенами Майнца; государство наложило арест на собственность беглеца, и рыбак решил, что оно не будет на него в обиде, если он поступит, подобно ему, в отношении человека, которого он на равных с государством основаниях имел право считать своим личным неприятелем.
Таким образом, Франсуа Гишар заложил фундамент и, как мы видели, построил себе дом в бывших земельных владениях принцев де Конде.
Впрочем, присваивая чужую собственность, он проявил благоразумие и умеренность. Парки, заповедные леса и места для рыбной ловли принесли столько несчастья этому роду, что рыбаку не хотелось в свою очередь владеть чем-нибудь подобным; он мог присвоить себе дюжину арпанов земли, на что, естественно, вряд ли рассердился бы Конвент. Он же довольствовался тем, что огородил четыреста-пятьсот метров и приспособил этот участок под сад и огород, где росли овощи, необходимые бедной семье, и цветы, которые он дарил жене в день Святого Людовика.
Консульство и даже Империя не покушались на демократические завоевания Франсуа Гишара: завоеватели вынуждены позволять кое-что друг другу.
Однако, когда Бурбоны вернулись во Францию, они прежде всего решили отобрать у захватчиков ту собственность, что еще не была распродана, и вернуть ее законным владельцам. Таким образом, наследник семейства Конде снова обрел и Шантийи, и леса, и бескрайние охотничьи угодья — все то, что издавна принадлежало его предкам на вареннской равнине; и вскоре на главной ферме поселился управляющий, а на границах владений разместили двух лесников, заменивших покойного Пьера Майяра.
Один из этих лесников, обитавший в лачуге, где прежде жил зять рыбака, был родом из окрестностей Рамбуйе, как и Франсуа Гишар, и доводился внучатым племянником человеку, которого когда-то убил отец Гишара. Несмотря на то что виновный поплатился жизнью за свое преступление и Симонно — так звали лесника принца де Конде — знал об этом лишь понаслышке, искра ненависти тлела в его душе, и теперь, когда он жил по соседству с сыном убийцы, грозила неминуемо разгореться и заполыхать огнем.
Так оно и случилось.
Как только Симонно узнал, что рыбака с берегов Марны и тестя его предшественника зовут Гишар, он обрисовал его управляющему в самых мрачных красках и даже вкратце изложил своему начальнику историю рода этих закоренелых браконьеров, заявив, что, пока столь опасный человек обитает во владениях принца, нельзя поручиться за сохранность ни одного фазана и ни одного кролика.
Эти слова произвели на управляющего большое впечатление.
В результате взгляды обоих лесников, а также здешнего жандарма и самого управляющего устремились на несчастного рыбака.
За ним следили днем и ночью.
С тех пор как дочь и зять Франсуа Гишара ушли в мир иной вслед за двумя его сыновьями, его внешний облик и характер существенно изменились: волосы стали белыми как снег, а на щеках и лбу пролегли глубокие морщины.
Рыбак совсем не уделял внимания Луизон и забросил хозяйство, явно не желая видеть ничего из того, что могло напомнить о прошлом, ибо воспоминания причиняли ему сильнейшие страдания. Он казался более чем печальным, более чем угрюмым: он выглядел злобным — плотно сжатые губы и нахмуренные брови придавали ему такой зловещий вид, что, увидев его, люди невольно содрогались.
Из-за такой внешности и таких повадок Франсуа Гишара все, что бы ни говорили о нем, выглядело не просто вероятным, а вполне достоверным.
Однако, как пристально ни следили за рыбаком, никому не удавалось поймать браконьера с поличным.
Так же следили и за Луизон, ходившей продавать рыбу в Кретей или Сен-Мор; но к каким бы ухищрениям ни прибегали наблюдатели, они были бессильны обнаружить хотя бы лапку куропатки, заячье ухо или фазаний хвост среди содержимого корзин, полных окуней, лещей, карпов и плотвы, которые женщина относила своим постоянным покупателям.
Между тем под деревьями то и дело находили силки, а молодые куропатки разбегались с осмотрительностью и стремительностью, указывавшими на то, что они едва не попали в тенёта. В редкую ночь лесники, наблюдавшие за всеми передвижениями Франсуа Гишара, не слышали, как кто-то стреляет в сидящих на деревьях фазанов.
Естественно, напрашивался вывод, что какой-то весьма хитроумный браконьер, пользуясь всеобщим недоверием к рыбаку, преспокойно отстреливает дичь его высочества; но это объяснение казалось слишком простым, чтобы принять его всерьез. Ненависть так быстро не сдает своих позиций: Симонно предпочитал верить в чудеса и в нечто невероятное. Он заявил, что потомок Гишаров обладает наследственной способностью к колдовству, с помощью которой его душа может отделяться от тела: в то время как тело рыбака лежит в лодке, чтобы сбивать с толку сторожей, его душа бродит по горам и долинам и воюет с фазанами.
Услышав эту выдумку, управляющий испугался и решил очистить вверенные ему земли от мерзавца, который имеет столь тесные связи с самим дьяволом.
Поэтому он решил разузнать, каким образом Франсуа Гишар стал владельцем хижины и небольшого приусадебного участка.
Управляющий отправился в министерство финансов и принялся проверять купчие на национальные имущества; вскоре он убедился, что рыбак незаконно присвоил чужую собственность, и, стало быть, согласно известному манифесту, его следует немедленно подвергнуть преследованию и утопить в Марне, если это возможно.
В тот день, когда управляющий сделал это открытие, в стане лесников и жандармов царило бурное ликование: было съедено гигантское фрикасе из кроликов, обильно орошенное вином Сюси, а затем все выпили за то, чтобы колдун и его приспешники поскорее исчезли с лица земли.
Несмотря на свои связи с нечистой силой, Франсуа Гишар даже не подозревал о том, что происходит неподалеку.
В ту пору уже требовалось брать рыбные места на откуп; раньше наш герой, возможно, отказался бы платить за право пользоваться рекой, но теперь, когда он постоянно пребывал в глубоком унынии, у него не хватило духа отстаивать свой излюбленный принцип, состоящий в том, что рыба принадлежит любому, кто сможет ее поймать; он подчинился закону и внес арендную плату.
Франсуа Гишар безусловно заметил, что он находится под надзором преемников покойного Пьера Майяра, но совесть рыбака относительно того, что творилось за пределами его водных владений, была совершенно чиста, и он не обращал ни малейшего внимания на действия малоприятных ему людей.
Кроме того, в это время у него были иные заботы.
Месяц назад слегла Луизон.
У этой кроткой крестьянки был сильный и стойкий характер. Жестокие удары судьбы удручали ее не меньше, чем мужа, но, не желая усугублять его страданий своим угрюмым видом и рискуя навлечь на себя упреки в равнодушии, Луизон скрывала то, что происходит в ее душе; она затаила в груди терзавшую ее тоску, и, за исключением грустного выражения бледного лица, обрамленного черным шерстяным платком, ничто не выдавало горя, постепенно убивавшего женщину.
Она держалась на ногах, пока у нее хватало сил бороться с понемногу подтачивавшим ее недугом.
Однажды утром маленькая Юберта, дочь Пьера Майяра, стала звать бабушку. Луизон хотела встать, но ноги отказывались ее слушаться; превозмогая себя, она сошла с постели и упала в обморок у колыбели девочки.
Видя, что бабушка лежит на полу, малышка заплакала; жена паромщика услышала детский плач и поспешила в дом рыбака; подняв бедную Луизон, она отправилась за Франсуа Гишаром на реку.
Увидев бледное, бескровное лицо женщины, которую он так сильно любил, рыбак оцепенел от ужаса; он взял ледяную руку Луизон и воскликнул с нервным смехом:
— Уже пятая!
Внезапно Франсуа осенило, и он побежал в Шампиньи за врачом, хотя это противоречило всем его понятиям и привычкам; но, видя, что смерть хочет забрать последнее из сокровищ, некогда украшавших его венец счастливца, муж принял решение бороться за жену до конца.
И вот, представляя собой странное, но величественное явление, этот суровый человек с грубоватыми повадками превратился в сестру милосердия и стал нежно заботиться о больной, подобно этим святым созданиям. Жадно, с мучительным беспокойством Франсуа Гишар ловил каждое слово доктора и тщательно следовал всем его предписаниям — он скорее дал бы отсечь себе руку, чем забыл хотя бы одно из них. Он ухаживал за лежавшей в постели несчастной Луизон, и она благодарила его полными слез глазами; он ходил босиком, на цыпочках, чтобы не потревожить ее, и не знал покоя ни днем ни ночью.
Как-то раз, около пяти часов вечера, рыбак сидел у изголовья больной, держа маленькую Юберту на руках и молча играя с ней: он опасался, что, если девочку оставить одну, она станет резвиться и разбудит бабушку. Внезапно раздался громкий стук в дверь.
Франсуа Гишар пошел открывать, мысленно посылая незваного гостя ко всем чертям. Незнакомец был одет в скверно сшитый сюртук и черные брюки, на которых пыль прочертила серые полосы. Он вручил рыбаку какую-то бумагу, предварительно осведомившись, точно ли перед ним Франсуа Гишар.
Рыбак не умел ни читать, ни писать; он хотел было окликнуть пришельца, чтобы узнать, о чем же говорится в этом послании, но тот удалился с подозрительной быстротой. Франсуа Гишар швырнул бумагу на буфет, намереваясь дать прочесть ее жене, когда она почувствует себя лучше.
Однако утром и в последующие дни Луизон становилось все хуже и хуже, и рыбак забыл об этой бумажонке — у него и без того хватало забот.
Неделю спустя Луизон уже была при смерти. Франсуа Гишар сидел на деревянной скамейке на крыльце и всматривался в сторону Шампиньи, ожидая, не покажется ли вдали врач. Этот скептик, внезапно уверовавший в чудодейственную силу врачевания, собирался броситься к ногам этого знатока своего дела, чтобы умолять его спасти несчастную Луизон, и даже хотел предложить ему в обмен на жизнь больной собственную жизнь. Повернув голову в направлении переправы, рыбак заметил небольшую группу людей, направлявшихся в его сторону.
Впереди шел человек в черном, приносивший неделю назад бумагу; рядом с ним шагал управляющий; за ними следовали двое лесников и трое жандармов.
Наконец они подошли к рыбаку.
— Вы Франсуа Гишар? — спросил тот, кто возглавлял шествие.
— У вас, должно быть, такая же короткая память, как у уклейки, раз вы меня не узнаете? — промолвил рыбак. — Вы еще неделю назад задавали мне тот же самый вопрос, и я ответил вам тогда, что Франсуа Гишар — это я.
— Хорошо. Вы намерены подчиниться судебному решению, которое я вам вручил?
Рыбак пожал плечами.
— Моя бедная жена умирает, — ответил он, — и у меня нет времени заниматься всякой чепухой. Приходите через неделю; когда ей станет лучше, мы поговорим.
Представитель закона в свою очередь пожал плечами.
— Все не так просто, как вы полагаете, дружище; вам дали неделю, чтобы вы подготовили ответы и возражения для своей зашиты, но вы этого не сделали, и вам придется сегодня же убираться отсюда.
— Убираться отсюда?! — воскликнул рыбак, в голосе которого прозвенела угроза.
— Да, и если вы не захотите уехать по доброй воле, мы заставим вас это сделать.
— Черт побери! — вскричал Франсуа Гишар. — Не смейте входить в мой дом, не то я раскрою вам голову топором!.. Ах, негодяи! Они сейчас разбудят мою бедную жену.
— Не пытайтесь сопротивляться, это бесполезно, — заявил судебный исполнитель, — вы же видите, что сила на нашей стороне.
— Не церемоньтесь с этим бездельником, — вмешался один из лесников, — если он будет сопротивляться, за нами дело не станет.
Лесники взвели курки своих ружей.
Франсуа Гишар собрался было броситься на них, но вспомнил о Луизон — если бы его убили, ей непременно пришел бы конец. Поэтому он сдержал гнев и принялся рвать на себе седые волосы.
— Боже мой! Боже мой! — причитал он. — Разве вы не слышали, что там, в доме, умирает женщина.
— Ну и что же! — ответил один из лесников. — Дьявол — искусный лекарь, он не бросает в беде своих слуг.
Рыбак не обратил внимания на это язвительное замечание.
— Позвольте мне остаться в моей лачуге еще неделю, — попросил он, — через неделю судьба Луизон будет решена. Если Господь призовет ее к себе, я с большой охотой покину эти старые стены, а если он не заберет у меня жену, я, по крайней мере, успею подыскать для нее другое пристанище.
В голосе рыбака было столько затаенных, с трудом сдерживаемых слез, что судебный исполнитель, казалось привыкший к подобным сценам, невольно почувствовал жалость к нему; он повернулся к сопровождавшим его лесникам, как бы спрашивая, не предоставить ли этому несчастному небольшую отсрочку, о которой он просит.
— Нет! — резко возразил их предводитель. — Его светлость приезжает завтра в Ла-Варенну на охоту, и надо очистить это место от всякого сброда! Исполняйте решение суда!
— Я повторяю, вы сюда не войдете! — вскричал Франсуа Гишар.
— А это мы сейчас увидим, — ответил тот же человек.
И тут из дома донесся голос проснувшейся Луизон.
— Франсуа! Франсуа! Что там происходит? — спрашивала она. — Почему ты споришь с этими господами? Иди сюда, ко мне, не оставляй меня одну, мне так страшно!
От этих жалобных слов у бедного рыбака помутился разум; в его ушах зазвенело, множество сверкающих искорок поплыло у него перед глазами, и он окончательно потерял голову.
— Ах вы подлые трусы! — взревел Франсуа. — Вы хотите убить мою жену, и всемером нападаете на одного! А я вам говорю, что вы все равно сюда не войдете! Если кто-нибудь сделает хотя бы шаг, это будет последний шаг в его жизни.
С этими словами рыбак загородил дверь, потрясая топориком, которым он обычно рубил дрова. Самые решительные отступили назад. Один лишь Симонно, подстрекаемый наследственной ненавистью к Гишарам, устремился вперед. Занесенный топор обрушился не на лесника, а на ружье, которым тот пытался нанести удар противнику, и разрубил его пополам чуть пониже приклада, так что оружие выпало из рук Симонно. Всеобщее смятение было так велико, что две лаявшие собаки умолкли и разом грянули два выстрела; свинцовые пули, пролетев мимо рыбака, оставили две вмятины на створке двери, перед которой он стоял.
Из хижины в ответ на эти залпы послышались громкие вопли умирающей и крики малышки Юберты, заплакавшей от испуга.
Не ожидая следующей атаки, Франсуа Гишар ринулся на своих врагов. Первый удар получил несчастный судебный исполнитель; рыбак так сильно толкнул его плечом, что он опрокинулся навзничь, скатился вниз по склону к реке и упал в воду. Управляющий и один из жандармов, не слишком жаждавшие подобных ударов столь свирепого противника, поспешили на помощь стражу порядка. Схватка продолжалась между рыбаком и двумя жандармами с лесниками, но, как они ни старались, им не удавалось схватить Франсуа Гишара, сражавшегося с поистине богатырской силой. Враги рыбака были вынуждены отступить.
И тут к Франсуа Гишару подошел паромщик.
— Беги, Франсуа! — сказал он. — Ты затеял безнадежное дело. Ты отколотил двух жандармов, но тебе не одолеть десяток или два десятка солдат, и ты не перебьешь весь венсенский гарнизон, который пришлют сюда в случае надобности. Спасай свою жизнь! Мы перенесем Луизон в наш дом и позаботимся о ней не хуже тебя. Беги же, если хочешь снова увидеть жену.
Рыбак вырвал у себя еще одну прядь волос, но понял, что паромщик дал ему дельный совет. Противники Франсуа Гишара восстановили свои ряды и, видимо, готовились предпринять еще одну атаку на него. У рыбака не было времени для раздумий. Он заглянул в последний раз в свою лачугу и увидел силуэт жены, казавшийся белым призраком на фоне темных саржевых занавесок; с растрепанными волосами и блуждающим взглядом больная сидела на кровати и со страхом прислушивалась к шуму, доносившемуся с улицы. Франсуа крикнул жене:
— До скорого свидания, Луизон! До скорого свидания!
Затем он обогнул изгородь и со всех ног помчался через поле.
Лесники и жандармы упорно преследовали беглеца, в то время как судебный исполнитель и управляющий, также ожесточившиеся из-за оказанного им сопротивления и вынужденного купания одного из них, приступили к исполнению своих невеселых обязанностей.
Преследователи прочесывали лес, пока не стемнело, но найти рыбака им так и не удалось; между тем Франсуа Гишар всего лишь вышел из чаши, спустился к реке в том месте, где густая завеса тополей заслоняла берега, и, войдя в воду по шею, спрятал голову под нависавшим корнем ивы — таким образом он оставался невидимым для всех, за исключением рыб — своих давних знакомых.
Он затаился в этом укрытии до самого вечера, напоминая выдру, и умирал от беспокойства; напрасно он убеждал себя, что Матьё-паромщик будет ухаживать за Луизон столь же заботливо, как сын — за матерью, и что пребывание больной на переправе не скажется пагубно ни на ее здоровье, ни наделах соседа: рыбака терзала такая сильная тревога, что временами его обычно крепкий и здравый рассудок был близок к помешательству. В рокоте набегавших волн ему чудились жалобные стоны, а в кристальном зеркале бегущих перед ним вод ему мерещились призраки; он слышал также похоронный звон церковных колоколов, несущийся со всех окрестных деревень.
Когда стало смеркаться, Франсуа Гишар переплыл реку, стараясь как можно меньше высовываться из воды, добрался до шенвьерского берега и, спустившись вниз по течению, оказался напротив своего жилища.
Когда прибрежные тополя и тенистая растительность большого острова остались позади, с сердца рыбака свалился тяжкий груз.
Он увидел на противоположном берегу свою хижину, темневшую на красноватом фоне, которое сохраняет небо в окрестностях Парижа даже в самые темные ночи.
Эта хижина, стоявшая между двумя деревьями, которые не закрывали ее фасада, была в целости и сохранности; из трубы вырывались клубы дыма, свидетельствовавшие о том, что внутри жилища теплится жизнь.
Стало быть, подумал рыбак, его дом не снесли, как ему грозили.
Кроме того, было видно, что маленькие стекла над дверью сверкают, как бриллианты.
Значит, бедную больную не прогнали из дома, а сжалились над ней.
И тогда Франсуа Гишар, этот потомок браконьеров, у которых безбожие было в крови, упал на колени и принялся страстно молиться.
Затем, поверив в то, что Бог, столько сделавший для него, больше его не покинет, он, не таясь, с шумом бросился в реку.
Сделав десять саженей, Франсуа оказался на другом берегу; он собрался было ринуться к двери своей хижины, но тут его остановила одна мысль.
А вдруг, подумалось ему, за этим спокойствием и ярким светом скрывается западня?
Дом паромщика был всего в пятидесяти шагах, но у Франсуа Гишара не хватило духа отправиться за новостями в такую даль, в то время как он находился лишь в двух шагах от собственного дома, в котором, несомненно, его ждала Луизон.
Рыбак лег плашмя и, как змея, пополз по земле; подкравшись к хижине, он осторожно приподнял голову и заглянул в окно, выходившее на нижнее течение реки.
Хотя Франсуа Гишар и не отличался особенной чувствительностью, то, что он увидел, потрясло его не меньше, чем если бы он внезапно перенесся в долину Иосафата или услышал, как среди разверзшихся облаков раздаются грозные звуки труб Страшного суда.
Напротив окна, к которому он припал, стояла кровать; рыбак, искавший глазами Луизон, увидел на постели человеческую фигуру, полностью скрытую под белым покрывалом.
От этого зрелища Франсуа Гишар от ужаса на минуту онемел и оцепенел.
Мерцавшее у смертного одра пламя двух свечей, которые стояли на стуле рядом с распятием и чашей со святой водой, придавало трупу невероятно выразительные формы; черты лица покойной отчетливо вырисовывались сквозь полотно: она напоминала мраморную статую.
В очаге пылал яркий веселый огонь; Матьё-паромщик сидел на табурете с малышкой Юбертой на коленях и кормил ее супом, черпая ложку за ложкой из миски, стоявшей на краю очага.
Девочку радовала непривычная иллюминация в доме, и от ее лепета слегка разглаживались морщины на лбу озабоченного паромщика.
Однако Франсуа Гишар не замечал все частности этой картины; его глаза были прикованы к трупу, словно к призраку; он явственно видел Луизон сквозь ткань, видел такой, какой она лежала в саване, — с длинными опущенными ресницами, приоткрытым ртом и сжатыми зубами; ее ноздри казались слегка напряженными, а кожа была белой, как слоновая кость; однако сердце мужа не желало признавать в умершей жену, и он повторял:
— Нет, не может быть, это не она!
Бедный рыбак устремился к двери, резко толкнул ее и, не обращая внимания на внучку, протягивавшую к нему свои ручонки, сорвал саван, скрывавший лицо усопшей.
Глаза Франсуа Гишара, которые приобрели сверхъестественную остроту, его не обманули: на смертном одре действительно покоилась Луизон Поммерёй.
Рыбак взял руку жены и держал ее в своих руках до утра, осыпая поцелуями и орошая слезами.
V
О ТОМ, КАК ФРАНСУА ГИШАР СТРЕЛЯЛ В ПРИНЦА И ПОДОБРАЛ ВАЛЬДШНЕПА
Как только неясный, робкий свет зари позолотил вершину шенвьерского холма, Матьё-паромщик, который с благоговением перед смертью, присущим самым неверующим крестьянам, до тех пор не решался беспокоить своего друга и даже не вставал, чтобы подбросить дров в огонь, дававший тепло комнате, поднялся и осторожно дотронулся до плеча Франсуа Гишара.
Однако тот даже не шелохнулся.
— Франсуа, — сказал Матьё, — нельзя жить с мертвецами, надо подумать о живых. Те, что ушли, скоро вернутся.
— Что ж, пускай возвращаются — ответил рыбак.
По тону, каким он произнес эти слова, а также по возбужденно раздувающимся ноздрям и угрожающему блеску в его глазах Матьё-паромщик понял, что лесникам и жандармам предстоит дорого заплатить за несчастье, случившееся по вине судьбы — именно ее, как он слышал, проклинал ночью Франсуа Гишар.
— Послушай, — решительно продолжал сосед, — выкинь из головы эту дурь! Ты можешь убить одного, двоих, троих, но вместо них сюда явятся десять. Впрочем, даже если ты сотрешь в порошок всех до единого, бедная покойница от этого не воскреснет.
— По крайней мере, я отомщу за нее! — дрожащим голосом возразил рыбак.
— Глупости, снова глупости! — воскликнул паромщик, непоколебимый в своем здравомыслии. — Ты говоришь, что отомстишь за Луизон? А ты уверен, во-первых, что ей это понравится, ведь она была сущим агнцем Божьим и за всю свою жизнь никому не пожелала зла, даже последнему из разбойников? И потом, давай немного пораскинем мозгами: скажи, Франсуа, кому ты собираешься мстить? Ни в чем не виновным людям.
— Эти мерзавцы — ни в чем не виновные люди?
— Ну да, они не виновны. Даже Симонно, самый дурной человек из этой шайки — именно он, по-моему, и настроил всех против тебя, — и тот не виновен. Ведь его хозяин очень любит кроликов, а Франсуа Гишара обвиняют в том, что он обижает бедных зверушек; вот хозяин и велел своему сторожу: "Симонно, прогоните этого малого прочь из моих владений". На него-то ты и должен сердиться, а вовсе не на тех, чья вина лишь в том, что они подчинились приказу, чтобы не потерять работу.
— Послушай, Матьё, я клянусь тебе головой моей бедной жены, что, с тех пор как мы здесь поселились, я ни разу не охотился ни в лесах, ни в полях.
Гишары издавна прослыли в глазах людей браконьерами, и запирательство последнего представителя рода было бессильно поколебать убеждения его друга Матьё на этот счет. Паромщик покачал головой и сказал:
— Опять глупости! Рассказывай это лучше кому-нибудь другому; ты же знаешь, Франсуа, что я неспособен предать человека.
Рыбак с раздражением пожал плечами, но решил, что бесполезно настаивать на своем.
— Значит, ты считаешь, — продолжал он, — что сам принц распорядился снести мой домишко?
— Еще бы! Неужели ты думаешь, что мой помощник посмел бы провезти пассажира бесплатно без моего разрешения? Стали бы желтые портупеи из Сен-Мора утруждать себя из-за какого-то Симонно!
— Ах! Если бы я знал об этом раньше! — пробормотал рыбак глухим и грозным голосом.
— Ну вот! Ты опять за свое! Да ведь этот человек оказал тебе услугу!
— Оказал мне услугу?
— Конечно, ведь он заставляет тебя перебираться на новое место именно тогда, когда эта жалкая лачуга должна тебе опротиветь.
— Опротиветь! Да если бы у меня больше не было этого дома, Матьё, я, признаться, уже отправился бы вслед за женой в мир иной.
— Надо же! В последнее время, когда несчастная покойница еще была жива, ты мог неделями не заглядывать домой.
— Я не приходил туда, чтобы не огорчать бедняжку.
— Чтобы не огорчать жену?
— Ну да!.. Ты думаешь, что эти старые стены глухи и немы, а они понимают меня и разговаривают со мной. Когда я возвращался сюда, я беседовал с ними, задавал им вопросы, и они отвечали, рассказывали мне о моем былом счастье; мы вспоминали о тех… о тех, кого с нами нет!.. Песок на садовых дорожках говорил, какой когда-то скрипел под башмаками моих детей; ветки деревьев напоминали мне об их играх, о том, как они пытались добраться до гнезда, которое свил здесь щегол. Гляди, вот те черные закопченные балки повторяли крики младенцев; огонь в очаге так хорошо подражал их лепету, что временами мне чудилось, будто я вижу, как их красные потрескавшиеся ручонки гладят языки пламени! Мое сердце разрывалось от горя, но ты не поверишь, сколько счастья приносили мне эти муки; я думал, что скоро умру, но смерть откроет мне двери рая, и я надеялся встретить там своих детей. Однако я плакал, и хотя мои слезы были скорее сладкими, чем горькими, они приводили в отчаяние Луизон. Будучи дома, я не мог не думать о тех, кто его покинул, поэтому я старался как можно реже сюда приходить, чтобы не огорчать жену. Теперь, когда я не увижу больше и ее тоже, теперь, когда эти убогие стены, ставшие свидетелями ее последней ночи, — это все, что у меня осталось от жены и детей, я, как ты понимаешь, не могу отказаться от своего последнего утешения. Я хочу сохранить эти стены, и я сохраню их или же погибну, защищая их, и тогда… что ж, тогда я встречусь с женой и детьми, где бы они ни находились.
Матьё смотрел на рыбака с крайним изумлением, явно полагая, что у его друга от горя помутился разум. И все же он растрогался, ибо в том, что казалось ему безумием, таилась глубочайшая скорбь.
— Послушай, Франсуа, — сказал паромщик, — есть способ все уладить: тебе надо пойти и сдаться…
— Сдаться?
— Дай мне договорить! Тебе надо пойти и сдаться, а я гем временем берусь перенести твой дом по кусочкам, со всей обстановкой, на вершину холма, где у тебя имеется клочок земли; так что, когда ты выйдешь из тюрьмы, ты вернешься в тот же дом, только он будет стоять в другом месте.
— О какой тюрьме ты говоришь? — удивился Франсуа Гишар, бледный как покойник. — С какой стати я должен идти в тюрьму?
— А как же иначе! — ответил паромщик, слегка смутившись. — Ты же довольно грубо обошелся с судебным исполнителем: толкнул его, а он свалился в реку. Похоже, приставы, как и кошки, терпеть не могут воду, так что тот, кто устраивает им купание, отправляется в каталажку. Когда ты сбежал, их старший, добрый малый, который не способен сгущать краски, сказал мне, что тебе придется отсидеть три месяца.
— Три месяца! — воскликнул рыбак.
— Ну, я же говорил… слушай внимательно, что я говорил: принц приезжает сегодня, и вечером твоя участь будет решена.
— Три месяца! — повторял Франсуа Гишар, забыв обо всем.
Затем, схватив паромщика за руку, он потащил его к колыбели малышки Юберты.
— Матьё, — сказал рыбак, — друг ты мне или нет?
— Полно, Франсуа, — ответил тот, — опомнись! Три месяца пройдут, хотя это долгий срок, а я тем временем позабочусь о твоей лодке и снастях.
Однако Франсуа Гишар не слышал его слов.
— Поклянись мне как честный человек, что ты не бросишь эту девочку и заменишь ей отца, что ты вырастишь ее и сделаешь если не счастливой, го хотя бы порядочной женщиной.
— Я готов в этом поклясться, но скажи, по крайней мере, что ты собираешься делать.
— Ничего, ничего, — твердо произнес рыбак. — Дай мне слово, выполни мою просьбу, а не то я сию же минуту пойду искать другого человека, и он, в отличие от тебя, окажет мне эту услугу.
— Я клянусь, Франсуа. К тому же моя жена очень любит малышку, но все же я хотел бы знать…
— Больше мне ничего не надо! — вскричал рыбак.
Вырвавшись из рук Матьё, все еще пребывавшего под впечатлением своей торжественной клятвы, Франсуа Гишар схватил ружье, висевшее над колпаком камина, и выбежал из дома.
Принц де Конде, которого друзья только что упомянули, питал пристрастие к двум развлечениям, не столь уж совместимым, как может показаться на первый взгляд: он любил одновременно и псовую охоту, и охоту с ружьем.
Воспоминания о его превосходных сворах, не только многочисленных, но и умело обученных, приводят ныне в отчаяние ловчих, пытающихся доказать миру, что благородное искусство, первые правила которого начертал еще король Модус, не умерло вместе с последним из хозяев Шантийи. Рассказы о великолепных охотах, во время которых семидесятилетний старик преследовал до самых Арденн какого-нибудь оленя, посмевшего покуситься на лужайки княжеских лесов, по сей день питают жар охотничьих историй.
До самой смерти принц де Конде в любую погоду через день садился в седло и отправлялся на псовую охоту.
Его собаки почти всегда затравливали по нескольку животных в день.
А в другие дни, чтобы дать себе передышку, он охотился с ружьем в лесах Шантийи и Морфонтена, где в ту пору отстреливали неимоверное количество дичи.
Однако порой эти бойни среди ограждений и сетей, с доезжачими и загонщиками не особенно забавляли его светлость. Когда выпадал подходящий случай и позволяли правила этикета, когда у принца не было гостей, которых приходилось ублажать ружейной охотой, он старался избавиться от своей свиты и объезжал леса как простой смертный, с одной собакой, бежавшей впереди, и егерем, следовавшим позади.
Собака выгоняла дичь из логова, и принц убивал ее, а егерь подбирал и засовывал добычу в охотничью сумку.
Проведя неделю в Париже, принц де Конде сбежал оттуда, чтобы предаться своему любимому занятию; садясь в карету, запряженную четверкой лошадей, которая должна была доставлять его в Л а-Варен ну, он думал только о том, что скоро вдоволь развлечет себя охотой, причем в условиях, делавших ее особенно приятной; поэтому он сурово обошелся с управляющим, который под предлогом, что со вчерашнего дня в лесу прячется опасный браконьер, вызвался сопровождать его.
Потерпев неудачу, достойный служитель все же настоял на том, чтобы Симонно, которого он считал самым непреклонным и отважным из своих подчиненных, поехал на охоту вместе с его светлостью.
По-видимому, управляющий ошибся, по крайней мере наполовину, в своих предположениях, ибо, когда заклятого врага Франсуа Гишара известили об этом решении, он страшно побледнел.
Тем не менее Симонно безропотно подчинился, и вместе с принцем они двинулись в путь.
За два года, несмотря на то что, по слухам, рыбак перебил в лесах и полях много дичи, животные и птицы вновь расплодились по всей округе: так, стоило задеть какой-нибудь куст, как оттуда тотчас же выскакивал кролик, а зайцы, которых поднимали дюжинами, убегали неторопливой рысью, свидетельствовавшей об их превосходных отношениях с жителями полуострова. Фазаны и куропатки, вылетавшие стаями, что с удовольствием использовал принц, опускались на землю не далее чем в сотне шагов от места, где их вспугнули, таким образом как бы показывая, что считают Ла-Варенну настоящим земным раем.
С черными от пороха руками и с перепачканным лицом, принц был вне себя от радости: его собака то и дело делала стойку, и он перезаряжал ружье, охваченный лихорадочным возбуждением.
Симонно уже сгибался под тяжестью добытой дичи.
— Симонно — обратился принц де Конде к леснику, — ты не поверишь, но с тобой мне куда веселее, чем в обществе господина де Талей рана, который считается самым остроумным человеком во Франции и Наварре.
— Это для меня большая честь, ваша светлость, — ответил Симонно, гордо выпячивая грудь (он уже почти успокоился, видя, что большая часть дня прошла благополучно).
— Как жаль, что охота скоро закончится! — воскликнул принц де Конде.
— Отчего же, ваша светлость? — возразил лесник, старавшийся изо всех сил угодить хозяину, который так его ценил. — Мы можем еще раз обойти лес; правда, ветер нам не благоприятствует, но дичь здесь непуганая и ничего не боится.
— А как же заряды, Си мои но? Если я выстрелю пару раз из ружья, их у нас останется не более двух.
— Я могу вернуться на ферму.
— Нет, нет, надо знать меру в удовольствиях, Симонно, — со вздохом ответил принц. — Послушай, дай мне напоследок пострелять в какую-нибудь другую дичь, а то эти бесчисленные фазаны, когда они взлетают, уже напоминают мне кур на птичьем дворе. Неужели у вас нет вальдшнепов?
— Конечно, есть, ваша светлость, но…
— А! Но как бы нам не столкнуться с браконьером!
— Помилуй Бог, ваша светлость!
— Полно! Полно! Я дам ему один луидор и тут же узнаю все места, где водятся эти птицы. Здесь полно дичи; вам, лесникам, за нее платят, и вы не любите показывать ее тем, кто берет ее даром, это можно понять. Но мне чертовски хочется подстрелить вальдшнепа.
— Ах, ваша светлость! — воскликнул Симонно, по-видимому уязвленный предположением принца.
Однако судьбе явно было угодно в этот день подтвердить безупречную репутацию Симонно, а также засвидетельствовать, с каким усердием он и его собратья охраняют охотничьи угодья своего хозяина. Не успел лесник договорить, как из молодой дубовой рощи с шумом выпорхнула рыжеватая птица, круто вверх поднялась над лесом и начала удаляться, в своем прихотливом полете слегка касаясь верхушек деревьев.
Это и была столь желанная для принца дичь.
Он выстрелил вслед птице, промахнулся, однако попал в нее со второго раза. Вальдшнеп стал падать, махая крыльями, — видимо, он был только ранен.
Симонно бросился в чащу, чтобы подобрать дичь; собака же не последовала за ним, а сделала стойку в нескольких шагах от куста, откуда вылетела птица.
Принц де Конде принялся перезаряжать ружье, как вдруг он услышал громкий крик и увидел, что к нему спешит страшно бледный и взволнованный лесник.
— Бегите, ваша светлость, бегите! — кричал он сдавленным от испуга голосом.
Тотчас же, словно только сейчас вспомнив про свое ружье, он прицелился и дважды выстрелил в сторону чаши, а затем отбросил оружие, упавшее в заросли вереска, и убежал со всех ног, бросив хозяина на произвол судьбы.
Принц де Конде, ничего не понимая, смотрел вслед леснику, который скрылся среди деревьев, но, обернувшись, увидел, что на поляне появился незнакомец, вышедший из чащи.
Это был мужчина в короткой блузе и широких штанах, какие носят рыбаки; в руке он держал солдатское ружье, почерневшее от гари. Выражение его лица было таким устрашающим, что принц сразу понял, что с этим человеком к нему приближается смерть. Однако он, по-видимому, не испугался и, просунув руку в перевязь ружья, перекинул его через плечо.
Незнакомец остановился и, смерив принца грозным взглядом, проговорил резким голосом:
— Мало того, что ты убил мою жену, теперь ты захотел моей смерти и приказал слуге стрелять в меня. Я уже два часа следую за тобой по пятам, но все не решался на убийство. Так вот, теперь ты умрешь, и это чистая правда. Помолись же в последний раз.
— Сударь, — возразил принц, — мой слуга стрелял в вас без моего разрешения. Я сожалею об этом и наказал бы его и без ваших угроз.
— А! Ты боишься, но эти трусливые слова тебя не спасут.
Услышав слово "боишься", принц де Конде лишь пожал плечами, скрестил на груди руки и принялся что-то насвистывать, глядя на угрожавшего ему человека.
Затем, видя, что незнакомец растерялся от такого хладнокровия, он сказал:
— Послушайте, чего вы ждете? Убивайте меня, раз уж возымели такое намерение.
— Нет, — ответил рыбак, — я не буду тебя убивать. Защищайся, ведь у тебя есть ружье. Я старый солдат, а не убийца.
— Вы с ума сошли, милостивый государь, — с величайшим презрением произнес принц де Конде. — Дуэль между мной и вами? Помилуйте!
— Вот как — вскричал Франсуа Гишар (разумеется, наши читатели уже узнали его). — Хоть вы и важная птица, а нам не впервые приходится стрелять друг в друга: мыс вами дрались еще в Германии, когда вы воевали с Республикой. Вы были тогда врагом, а я защищал Францию!
При этом напоминании принц вздрогнул, и его губы побелели, а глаза засверкали; правая рука его невольно потянулась к прикладу ружья, висевшего у него за плечом, но он откинул ружье назад и повернулся спиной к рыбаку, собираясь удалиться.
— Думаешь, я позволю тебе уйти и оставлю твое злодеяние безнаказанным? — вскричал рыбак. — Нет уж, тебе придется умереть! Ты умрешь, а я отомщу за жену и детей. Слушай, принц де Конде, тебя сейчас убьет Франсуа Гишар.
С этими словами рыбак вскинул ружье, прицелился в грудь принца и нажал на курок.
Послышался резкий щелчок, и появился дымок от загоревшегося пороха, но выстрела не последовало.
Ни один мускул на лице принца де Конде не дрогнул.
И тогда Франсуа Гишар разбил свое оружие о ствол дуба.
Напуганные шумом, с невероятной быстротой взлетели два фазана; принц де Конде тотчас же схватил ружье, прицелился и выстрелил направо и налево. В тот же миг облако пурпурно-золотистых перьев закружилось по воле ветра, и две великолепные птицы, описав кривую, с шумом упали на землю.
— Думаешь, я бы в тебя не попал? — спокойно сказал принц рыбаку. — Держи, — добавил он, доставая из кармана кошелек, — вот деньги. А теперь ступай, пока не пришли мои люди, и проси у Бога прошения за тяжкий грех, который ты хотел взять на свою душу.
Франсуа Гишар покачнулся — казалось, у него подкашиваются ноги.
— Боже мой! — воскликнул он. — Боже мой! Как вы можете быть таким добрым и вместе с тем таким злым?
— Злым? — удивился принц. — Черт возьми, что за вздор ты несешь?
— Вы простили человека, который хотел вас убить, но вы же выгнали бедняка из дома, где родились его дети и где его жена просила как милость, чтобы ей дали спокойно умереть!
— Да я понятия не имею, есть ли у тебя жена, дети и дом! Пять минут назад, бедняга, я даже не подозревал о твоем существовании.
— Ох! — вскричал рыбак с недоверчивым видом. — Ох, ваша светлость, неужели вы не помните Франсуа Гишара?
— Франсуа Гишара!.. Погоди-ка!..
Принц задумался, напрягая память, и через несколько мгновений произнес:
— А! Так это ты убиваешь моих фазанов, негодник!
— Я, ваша светлость? Значит, никто не верит, что я тут ни при чем! Я, ваша светлость? Судите сами: моя бедная жена умерла сегодня ночью и сейчас, должно быть, она предстала перед Божьим судом. Так пусть ее не возьмут в рай, если я говорю неправду; да я скорее накину веревку себе на шею, чем латунные силки на шею проклятого кролика!
— Вот как! — сказал принц де Конде. — Скажи, как умер твой отец?
— Эх, ваша светлость, его повесили за браконьерство.
— В самом деле?
— О ваша светлость, кто же станет говорить, что его папашу повесили, если это было не так!
— Это подтверждает, что ты невиновен. Мне известна твоя история, и я оправдаю тебя в глазах моих лесников. А теперь расскажи, что между вами произошло.
Франсуа Гишар повиновался. Когда рыбак стал умолять не сносить его лачугу, где, как он говорил Матьё-паромщику тем же утром, все напоминало ему о детях, которых он потерял, глаза последнего из Конде увлажнились и заблестели.
— Ты очень счастливый человек, несмотря на свое горе, — произнес он. — Нищета дала тебе силы утолять твою печаль этими последними и тяжкими утешениями; я принц, у меня миллионное состояние, но я завидую тебе! Посмотри вон туда! — продолжал он, указывая пальцем на темное кирпичное строение, виднеющееся вдали, за деревьями. — Это Венсен. Так вот, уже три года я тщетно собираюсь с духом, чтобы пойти туда и преклонить колени на одном из камней его рвов. А ведь я так хочу этого: по-моему, мне станет легче, когда я коснусь стен, которые герцог окидывал прощальным взором; но всякий раз, когда я делаю попытку к ним подойти, я с ужасом убегаю прочь.
Старый Конде замолчал и ненадолго задумался; затем он шумно закашлялся, стараясь справиться с охватившим его волнением.
— Возьми эти деньги, — наконец, произнес он, — они тебе потребуются, чтобы похоронить твою бедную покойницу в отдельной могиле — за последнюю четверть века многие сильные мира сего были лишены этой возможности. Что касается твоего дома, не беспокойся: отныне никто его не тронет.
Франсуа Гишар взял протянутую руку принца и, плача, стал осыпать ее поцелуями.
— Ваша светлость, — спросил он, — как же мне вас отблагодарить?
— Когда ты будешь молиться за упокой родных, — ответил старый принц, — добавь к именам своих детей имя герцога Энгиенского — больше я тебя ни о чем не прошу.
Рыбак уже собирался уйти, но принц де Конде снова его окликнул.
— Постой, — сказал он, — я дал тебе землю, на которой по своим республиканским правам ты позволил себе построить дом. Этот участок раньше принадлежал мне, и я был вправе воспользоваться своей властью собственника, но ты избил моих лесников и едва не утопил судебного исполнителя — за это полагается штраф.
— Что же потребует от меня ваша светлость?
— Разыщи мне вальдшнепа, которого так и не подобрал этот дурак Симонно. Видишь, я не такой уж строгий судья.
Франсуа Гишар бросился на поиски птицы и вскоре нашел ее.
Таким образом рыбак стал законным владельцем домика и приусадебного участка у вареннской переправы.
VI
БЕЛЯНОЧКА
Происшествие, о котором мы только что рассказали, отныне стало занимать в воспоминаниях Франсуа Гишара место, сопоставимое разве что с осадой Майнца; оно завершило ряд печальных событий, которыми была отмечена первая половина его жизни.
Хотя душа рыбака была истерзана скорбью, не ослабевавшей с годами, последующие пятнадцать лет, с тех пор как умерла его жена, прошли для него спокойно и однообразно.
На следующий день после того, как преступление, задуманное Франсуа Гишаром, привело к столь неожиданному итогу, он проводил Луизон в последний путь, немного помолился у еще незасыпанной могилы, вернулся домой и провел остаток дня в четырех стенах наедине с малышкой Юбертой.
Сидя в комнате, все еще насыщенной терпким запахом, который оставляет после себя смерть, Франсуа Гишар принялся плакать, но тут солнечный луч, пробившийся сквозь деревья и упавший на пол, развеселил Юберту, которая весьма уныло провела последние дни; девочка подползла к стулу рыбака, забралась к нему на колени и начала водить своими ручонками по дряблым морщинистым щекам деда, растягивать и сжимать их поочередно, звонко смеясь над гримасами, появлявшимися на его лице от этих движений.
Франсуа Гишар рассердился, но, увидев, как по розовым гладким щекам малышки потекли слезы, забыл о собственном горе и пожалел, что обидел это невинное создание.
Он сразу же воспринял всерьез материнские обязанности, выпавшие на его долю, и ни одна женщина не проявляла больше заботы и нежности к своему ребенку, чем Франсуа Гишар по отношению к внучке.
Вместо того чтобы и дальше предаваться скорби, он взял свои сети и отправился на реку; однако, приступив к делу, рыбак стал терзаться тревогой, ведь малышка Юберта осталась одна, и с ней могла случиться беда, да и дом стоял у самой воды, где было так глубоко! Гишару казалось, что опасности подстерегают внучку на каждом шагу, и мысль об этом приводила его в ужас, в то же время бередя старые раны. Не прошло и десяти минут, как мучения рыбака стали невыносимыми. В конце концов он бросил работу, вернулся домой и принялся устраивать на корме лодки небольшой уголок для внучки, где она была бы в безопасности в те редкие минуты, когда он не сможет присматривать за ней.
Отныне Франсуа Гишар больше не расставался с малышкой; он отказался от рыбной ловли по ночам; тем не менее у Юберты не было другой колыбели, кроме той, что дед вырезал ей теслом на корме дубовой лодки.
Можно понять бесконечную любовь рыбака к своей внучке: Юберта была для него не только жизнью и светом, но и олицетворяла все былые радости, живым свидетельством которых она являлась. Благодаря ее присутствию Франсуа Гишар не забывал ни о чем — девочка напоминала ему о прошлом, и это не только не ослабляло его страданий, а облекало их в плоть и кровь, но он не променял бы своих воспоминаний и сожалений даже на королевскую корону.
После того как рыбак потерял сыновей и дочь, его печаль выражалась в раздражении — этой своего рода крестьянской меланхолии. Франсуа Гишар стал угрюмым, нелюдимым и не терпел, когда его выводили из мрачного забытья, в котором он непрерывно пребывал, находя в этом удовольствие; мало кто мог выдержать его суровый, почти свирепый взгляд.
Впрочем, люди не часто беспокоили рыбака — вплоть до 1834 года Ла-Варенна, паром и Франсуа Гишар пребывали почти в полном безлюдье.
Между тем обитатели Шампиньи и Кретея, к которым рыбак был вынужден обращаться, чтобы продать рыбу, поражались постоянной молчаливой, но мучительной скорби, отпечатавшейся на его лице, и прозвали старика "папаша Горемыка".
В 1834 году, с которого начинается наше повествование — все вышесказанное является предисловием к нему, — Франсуа Гишару, по прозвищу Горемыка, было шестьдесят пять лет. Несмотря на чрезвычайно изнурительный труд рыбака, его тело по-прежнему оставалось крепким; он слегка сутулился, но это объяснялось исключительно тем, что он привык гнуть спину, налегая на весла; когда же старик, увешанный сетью, вставал в полный рост, чтобы забросить подальше свой невод, он все еще напоминал самого молодого из того маскарада римских императоров, который Леопольд Робер назвал "Рыбаки Адриатики".
Однако все признаки дряхлости, являя собой весьма закономерный контраст с его фигурой, сосредоточились на лице Франсуа Гишара — там, где страдания, превосходившие по силе тяжесть его труда, проявлялись особенно ясно. Задубевшая от солнца кожа рыбака приобрела бурый, но не теплый оттенок и была лишена красноватых крапинок, обычно сопровождающих загар, — это был тусклый цвет опаленной зноем земли. Фиолетовые прожилки, которые извивались среди множества складок, низко опускавшихся над его скулами и бровями, не мешали увидеть под слоем загара бледный цвет лица, столь необычный для труженика. Глубоко запавшие глаза под густыми обвисшими бровями были красными, словно налитыми кровью. Эти следы печали, в которой пребывал рыбак, в немалой степени придавали ему дикий, нелюдимый вид, на что мы уже указывали; однако они становились незаметными, когда при более внимательном рассмотрении посреди радужной оболочки его серо-голубых зрачков обнаруживалось кроткое выражение, нередко переходившее в нежность.
Юберте или, точнее, Беляночке — именно так обычно называл ее папаша Гишар, не разделявший любви своего покойного зятя к покровителю охотников, — шел в ту пору семнадцатый год.
Сельское воспитание, полученное ею, прекрасно соответствовало природным задаткам девушки; она была высокой, крепко скроенной, но в ее облике не было ничего заурядного и грубого; разумеется, ее фигура в плотно облегающем ситцевом платье была далеко не стройной, но развитые бедра, а также изящные линии шеи придавали внешности Беляночки редкое для женщин ее сословия благородство.
Она не была красивой, но все считали ее прелестной.
У девушки был довольно узкий лоб, коротковатый нос и большой рот с неясными очертаниями; ее подбородок был слегка скошен, как у большинства мечтательных слабовольных людей; солнце лишь слегка тронуло ее кожу темной краской, которой оно так щедро одарило Франсуа Гишара. Как видите, лицо Беляночки вполне давало повод для критических замечаний, но только женщине пришло бы в голову тратить время на придирчивое изучение его. Мужчина же, напротив, стал бы любоваться ее веселым задорным личиком; шапкой золотистых волнистых волос, шелковистые пряди которых то и дело выбивались из-под старавшегося удержать их в плену Мадраса; подвижными розоватыми ноздрями, казалось жадно вдыхавшими радость жизни; столь свежими, юными и улыбчивыми губами, которые, раскрываясь, являли взору тридцать две чудесные жемчужины. Мужчина не упрекнул бы девушку за смуглый оттенок ее щек, если бы обнаружил под ее шейным платком кожу, своей белизной слепящей глаза и создающей контраст с цветом других частей тела, которые были отданы на милость переменчивой погоды.
Юберта обожала деда. Папаша Горемыка решил не приобщать девочку к своим скорбным воспоминаниям, пока ей не исполнится десять лет. Когда Франсуа Гишар в порыве нежности целовал ее, плача навзрыд, Беляночка объясняла эти слезы чувством, которое старик питал к покойной жене, чей образ до сих пор витал для него в их хижине; однако, когда девочка выросла, она стала более проницательной и начала докапываться до причин неизбывной печали деда; услышав похоронный марш, постоянно звучавший в сердце безутешного отца и супруга, Юберта поняла, что творится в его душе, и с прямотой, присущей тем, кто способен распознавать истинные чувства, принялась бороться с унынием и отчаянием старого рыбака, опасаясь, что он не вынесет тяжкого бремени своего горя. Эта борьба так поглотила девушку, что она не ощущала последствий скверного воспитания, которое давал ей дед, — точнее, полного отсутствия воспитания с его стороны, ибо Франсуа Гишар учил внучку только рыбацкому искусству, показывая, как следует насаживать приманку на крючок, разматывать лесу, чинить сети и правильно управлять лодкой. Итак, Беляночка взялась разглаживать морщины на лбу своего несчастного деда и всецело посвятила себя этому занятию. Чтобы добиться удачи, она подавила в своей душе природную грусть, которая часто встречается у женщин, рано потерявших родителей. Юберта стала хохотушкой; весело щебеча, она старалась вовлечь рыбака в нескончаемый хоровод своих выдумок; улыбка постоянно играла на ее устах, и не было дня, чтобы среди марнских холмов не раздавалось эхо ее смеха.
Спустя семнадцать лет после вышеописанных трагических событий и Луизон, и двое молодых солдат, и жена лесника по-прежнему жили в душе Франсуа Гишара, но теперь он иногда позволял себе отвлечься от отрешенно-торжественного созерцания дорогих его сердцу призраков. Рыбак беседовал с мертвецами уже не так часто, как прежде, а разговоры с внучкой привлекали его все больше и больше, одерживая верх над скорбной покорностью судьбе. Лежавшая на лице Гишара печать страдания постепенно стиралась, и мало-помалу он стал с радостью отдаваться сердечным ласкам, безудержной нежности и постоянным заботам юного прелестного создания.
Поистине, счастье — это река забвения.
Однако обстоятельства сложились таким образом, что Юберте не удалось достичь своей цели.
Принц де Конде умер, и Ла-Варенна, бывшее княжеское владение, стало предметом спекуляции; гнусная шайка набросилась на леса, поля и вересковые заросли полуострова; хищники стали сдавать их внаем для охоты славным буржуа, выжидая, когда можно будет разодрать эти владения на куски клювом и когтями и распродать их кому угодно на торгах.
С раннего утра здешние земли были наводнены господами в бархатных куртках и кожаных гетрах, с ружьями и охотничьими сумками на плече, а также с белыми, черными, серыми, рыжими собаками всевозможных пород — эта толпа наводила ужас на пернатых и мохнатых обитателей округи.
Папаше Горемыке не было до этого никакого дела.
Между тем искатели приключений из городских предместий, до тех пор наведывавшиеся по воскресным дням лишь в Сен-Мор, стали рыскать по обоим берегам Марны: их манили сюда не просочившиеся сведения о красивых местах и кристально чистых вареннских водах, а рассказы о несметном количестве созданий с чешуей и плавниками — тех созданий, над которыми до тех пор безраздельно властвовал Франсуа Гишар.
Время от времени, когда папаша Горемыка тихо вел свою лодку, бесшумно работая веслами, так что за кормой на воде не оставалось ряби, он замечал, как из ивовых зарослей высовывается длинная гибкая палка; с одного из ее концов свешивалась нить из шелка или конского волоса, к которому была привязана пробка; у другого конца удочки рыбак обнаруживал какого-нибудь господина, с величайшим напряжением ума, каким Бог мог одарить царя творения, следившего за телеграфными сообщениями, которые поступали на зеркальную гладь реки, оповещая о том, насколько прожорливы рыбы.
В отличие от охотничьей братии, любители рыбной ловли являли взору великое разнообразие одеяний: одни сидели на берегу в блузах, другие — в куртках, третьи — в одних рубашках, без пиджаков, а некоторые были даже во фраках, точно нарядились на свадьбу. Однако выражение их лиц было одинаковым.
Рыбная ловля удочкой — самая безмятежная из всех страстей; главная добродетель тех, кто ей подвержен, — это терпение. У тех, кто непомерно долго предается этому занятию, взгляд в конце концов угасает, становится таким же вялым и тусклым, как взгляд жертвы, которую подстерегает рыбак; в то же время оно парализует все подвижные мускулы лица. Сколь непохожими друг на друга ни были бы два человека с удочкой, в их лицах неизменно присутствуют сходные черты, свидетельствующие об их принадлежности к особой породе рода человеческого.
К сожалению, первопроходцам, дерзнувшим ступить на эти нетронутые земли, улыбнулась удача.
Чем более скромную, даже ничтожную цель преследует человек, тем усиленнее он старается ее возвысить, поднять до уровня своего тщеславия, от которого никому не удается избавиться полностью. Рыбак, подобно охотнику, придает списку своих заслуг такое же важное значение, как любой генерал — героическим деяниям своего войска; кроме того, и те и другие рассказывают о своих подвигах с одинаковым воодушевлением.
В крошечных кафе виноторговцев из Сент-Антуанского предместья эти подвиги приобретали поистине эпический размах; пескари, которых вытаскивали из Марны в Ла-Варенне, никогда не весили меньше чем полфунта; что касается карпов, срывавшихся с крючка, то герои этих сказаний утверждали, что, если бы, на их счастье, леса не порвалась в ходе ожесточенной битвы, они неминуемо свалились бы в реку: рыба едва не поймала самого рыбака!
У слушателей этих историй, расцвеченных столь невероятными подробностями, загорались глаза; они возвращались домой, мечтая о пантагрюэлевских матлотах и гомерических жареньях, а в следующее воскресенье устремлялись к берегам Марны по тропе, проложенной отважными разведчиками.
В то время как несколько прояснившееся лицо папаши Горемыки все больше омрачалось, физиономия Матьё-паромщика с каждым днем сияла все сильнее.
Душа Матьё была совершенно лишена поэзии: он хотел только одного — видеть, как увеличивается число его клиентов на переправе, как заполняется людьми пустынная Ла-Варенна; ничто так не ласкало слух паромщика, как звон бокалов, песни гуляк и даже бессвязный хмельной лепет, и главным образом потому, что он мог извлечь из всего этого выгоду.
Чтобы не упускать своего с того самого дня, как первый из вестников цивилизации окинул алчущим взором переправу и ее окрестности, Матьё укрепил поперек фасада своего дома ель с ветвями, купил у одного из местных виноградарей триста бутылок низкосортного вина и у жестянщика с улицы Лапп полдюжины старых кастрюль, дерзко превратил г-жу Матьё в искусную повариху и повесил на стене вводящую в заблуждение вывеску:
МЕСТО ВСТРЕЧИ УДАЧЛИВЫХ РЫБАКОВ
МАТЬЁ, ТОРГОВЕЦ ВИНАМИ И РЫБАК,
устраивает свадебные пиры и другие празднества, предлагает матлоты и жареную рыбу.
Имеются гостиные и уборные.
Все в этом объявлении было лживым, но Матьё правильно рассчитал силу его воздействия.
Звание рыбака, которое он добавил к своему имени, было выведено утроенными заглавными буквами; именно благодаря ему паромщик надеялся сколотить состояние исходя из пристрастий гостей, ниспосланных ему Провидением. Он предчувствовал, с какой радостью любители, занимающиеся рыбной ловлей от случая к случаю, от нечего делать, будут стараться быть поближе к тем, для кого она была ремеслом, а не забавой, и пожимать им руку. Кроме того, это звание давало неудачливому любителю надежду, что при случае он всегда сможет в утешение себе разжиться здесь рыбой по сходной цене.
И вот Ла-Варенна начала приобретать известность как место дивных прогулок и превосходной рыбной ловли. Некоторые добропорядочные отцы семейств стали приводить сюда на прогулку своих жен и детей, и вскоре гуляющие дюжинами устремились в эти места по дороге из Сен-Мора; каждое воскресенье Матьё приходилось добавлять новые столы, которые он сбивал из неокоренных бревен и расставлял на берегу. В праздничные дни в этом некогда тихом уголке до утра не смолкали крики, песни, а также слышались ругательства и проклятия.
И вот как-то раз, когда Франсуа Гишар собирался на рыбную ловлю вместе с Беляночкой, девушка, которая несла на голове целую охапку сетей, повернулась к нему и сказала;
— Погляди, дедушка. Что это за люди?
Папаша Горемыка увидел трех мужчин; один из них показался ему хозяином, а двое других были каменщиками. При помощи железной цепочки они измеряли землю рядом с приусадебным участком рыбака.
VII
АТТИЛА
Незнакомцу, руководившему землемерными работами каменщиков, было лет тридцать пять — сорок. Судя по его костюму, он мог быть и буржуа и рабочим. Его сюртук с пышными рукавами и воротничком с картонной подкладкой, стоявшим выше затылка, нес на себе дату изготовления, словно какая-нибудь медаль, — он был сшит добрых пятнадцать лет тому назад. Тем не менее он (мы имеем в виду сюртук) выглядел таким новым и блестящим, словно вышел из рук мастера лишь накануне. Причина столь удивительной долговечности сюртука объяснялась просто: две резко очерченные складки между плечами говорили о том, что его владелец чрезвычайно редко облачается в свое одеяние и большую часть времени держит его в шкафу, тщательно закрывая от пыли.
Брюки, напротив, явно свидетельствовали о том, что ими пользуются весьма часто. Когда-то они были серыми либо пепельными; затем их покрасили черной краской, но со временем они вернулись к первоначальному цвету и совсем вытерлись. Правда, лишившись одного, брюки приобрели взамен нечто другое. Они были сильно засалены на коленях, бедрах и прочих местах, на которые то и дело кладут руки, однако этот жировой налет с въевшимися в него металлическими опилками и грязью мастерской делал некоторые части брюк блестящими, как лосины гусара, и, кроме того, придавал им плотность кожи.
Человек этот был среднего роста, упитанный, но не толстый. Тело у него было одутловатым из-за избытка лимфы, и под кожей его чувствовалась пустота. Дряблое лицо его напоминало пузырь, наполовину заполненный воздухом и испещренный морщинами; к тому же оно приобрело желтовато-землистый оттенок. Было трудно что-либо прочесть в глазах незнакомца: один из них был неподвижным и тусклым, точно сделанным из стекла, а другой беспрестанно, с головокружительной частотой моргал. Вертикальная складка возле рта и привычка все время покусывать губы указывали на чуть ли не постоянную озабоченность этого человека изощренной борьбой с ничтожнейшими мелочами жизни. У него были заурядная осанка и округлая спина, что характерно для людей, привыкших в течение долгих лет сгибаться над тисками.
Мужчину звали Аттила Единство Квартиди Батифоль — несомненный признак того, что он родился в 93-м году и что его отец был одним из ярых поклонников революционного календаря.
Как мы сразу же решили по костюму Аттилы, род занятий этого человека связывал его и с мастеровыми, и с мелкой буржуазией. В гильдии чеканщиков по бронзе он был подрядчиком.
Подрядчик — это мелкий предприниматель, которому фабрикант поручает часть работ, и тот по заранее обусловленной цене выполняет их на свой страх и риск.
Аттила Батифоль (подрядчик уже давно отказался от прочих своих имен) от рождения был злобным, завистливым, скрытным и неискренним человеком, подобно тому как другие рождаются одноглазыми, хромыми, кривоногими или горбатыми.
Полученное им воспитание не могло задвинуть внутрь или устранить ни одну из вредоносных шишек на его черепе. В десять лет он уже работал учеником в чеканочной мастерской; хозяин и рабочие постарше так дурно обращались с ним, что он с юных лет глубоко возненавидел весь род человеческий.
В двенадцать лет маленький Батифоль уже начал размышлять о будущем, но, как ни странно, в будущем юного мечтателя не фигурировали ни митры с рубинами, ни эполеты с крупной кистью, ни резвые упряжки, ни орденские ленты на шее — это было весьма обыденное мещанское будущее, редко встречающееся в детских фантазиях. Аттила думал, что в будущем он тоже станет хозяином и с лихвой отплатит своим обидчикам за причиненное ему зло, вместе с тем не забывая об удовольствиях (толстые губы мальчика указывали на то, что ему суждено стать любителем вкусно поесть).
Представив это будущее, Батифоль тотчас же взялся за дело и принялся строить предстоящую ему жизнь, заложив в ее основу порядок и бережливость — самый прочный из всех фундаментов.
Юный Аттила свято хранил каждое су из перепадавших ему чаевых; доверив деньги старому чулку, он предавался благоговейному созерцанию своего сокровища, а затем прятал чулок в соломенный тюфяк — это была единственная радость, которую он мог себе позволить.
Однако пристрастие мальчика к порядку превосходило его бережливость.
Когда из учеников Батифоль перешел в подмастерья, он если и пил вдоволь воду из фонтана, то уж на еду тратил ровно столько, чтобы не умереть с голода; разумеется, он никогда не участвовал в еженедельных пирушках, которые рабочие называли гулянками (самые лучшие из мастеровых порой нуждаются к таких развлечениях, чтобы восстановить силы). Аттила также не посещал весьма популярные в ту пору певческие общества — потоки вина и восторженных слез, которые проливались там под влиянием Дезожье и Беранже, пугали его, когда он думал о том, во сколько это все обходится. Еще меньше Батифоля прельщали всякие политические сообщества: его здравомыслящей натуре претила роль мученика.
Он жил тихой, скучной, безрадостной и одинокой жизнью, продолжая набивать свой чулок, так что тот уже лопался, а на тюфяке поднимались альпийские горки, но спал при этом на медных и серебряных горошинах так же сладко, как если бы его подстилка была набита гагачьим пухом, — это куда приятнее, чем спать на розах, не в обиду Куаутемоку будет сказано.
Поистине, Батифоль жил ожиданием счастья, уже предвкушая будущее, которое он себе готовил. Впрочем, он правильно делал, проявляя бережливость, ведь природа гораздо более справедлива, чем нам кажется: она чрезвычайно мудро отмеривает людям достоинства и недостатки; редко бывает, когда все добродетели сосредоточены в одном человеке, а чувствительные и талантливые люди, как правило, обладают избытком жизненных сил, который мешает им получить хоть какую-то материальную пользу с помощью самого главного из своих достоинств; в то же время природа весьма предусмотрительно отказала Аттиле в каких бы то ни было дарованиях, из которых он несомненно извлек бы стопроцентную прибыль.
Как бы то ни было, к двадцати пяти годам молодой Батифоль скопил десять тысяч франков; он стал подумывать, не пора ли поставить первую веху на пути к богатству, но решил, что у него еще мало средств для того, чтобы завести свое дело, хотя затянувшееся ожидание уже начинало его тяготить.
Хозяин, у которого работал Аттила, получил от одного из своих приятелей на хранение крайне важные политические документы, которые могли бросить тень не только на человека, давшего их, но и на того, кто согласился их взять. Бумаги были спрятаны в старой шкатулке, стоявшей на полке над письменным столом хозяина; он наложил туда металлических опилок и медного лома.
Однажды, в разгар рабочего дня, в мастерскую нагрянула полиция; сыщики не стали тратить время на бесполезный обыск, а сразу направились к шкатулке и вытряхнули на пол ее содержимое; они оставили опилки на полу, но забрали документы, а также увели с собой неосмотрительного чеканщика. Он оказался замешанным в заговоре генерала Бертона, о котором даже не слышал, и его приговорили к трем годам тюремного заключения.
Чтобы покончить с рассказом об этом неосмотрительном человеке, добавим, что его здоровье не вынесло тягот заточения и душевных страданий, и через полтора года он скончался в тюрьме Ла-Форс.
Как только полицейские ушли, рабочие принялись обсуждать это происшествие, а Батифоль тем временем невозмутимо укладывал рассыпанные опилки и медный лом обратно в шкатулку, не сумевшую сохранить вверенный ей секрет: Аттила не мог расстаться со своей привычкой к порядку.
Подчиненные взятого под стражу чеканщика, вопреки присущему им обычно недоверию, даже не заподозрили, что кто-то мог выдать их хозяина. И все же один из них, более наблюдательный, чем другие, перехватил несколько нежных взглядов, которыми обменивались хозяйка и Батифоль, а также заметил, что после ареста чеканщика у Аттилы появились замашки хозяина, и это показалось ему странным.
Однако парень был таким невзрачным, что вряд ли он был способен внушить какой-либо женщине чувство, хоть отдаленно похожее на любовь; ни один из тех, с кем наблюдательный рабочий поделился своими опасениями, не захотел поверить в такое чудо.
Будущее подтвердило его правоту. Спустя три месяца после смерти несчастного узника объявление о предстоящем бракосочетании вдовы и Батифоля было вывешено в мэрии девятого округа.
Это событие вызвало множество сплетней; кое-кто винил в случившемся гнусного Батифоля, погубившего своего хозяина с помощью хитроумных и коварных козней, — таким образом любовник жены отделался от мужа. Однако Батифоль не обращал внимания на людские толки. Не потратив ни гроша, он стал владельцем большого предприятия, и радость от неожиданной удачи заглушила в нем все прочие чувства.
Супруги Батифоль не испытывали ничего подобного угрызениям совести — столь глубокое и благородное чувство присуще лишь возвышенным душам.
Это также свидетельствует о том, что г-жа Батифоль вполне была под стать своему новому мужу.
Достигнув цели всех своих тайных помыслов, Батифоль снял с себя маску униженного страдальческого смирения; он значительно увеличил торговый оборот и при каждом удобном случае мстил тем, кто когда-то издевался над юным учеником, мстил в лице тех, кто теперь по воле случая и нужды оказался в его власти. Мы употребили слово "нужда", ибо вскоре мастерская Батифоля прослыла настоящей каторгой — сюда нанимались лишь те, кого голод пригонял к проклятым станкам и заставлял трудиться без передышки; однако голод — это грозный помощник, и тот, кто берет его в союзники, может и должен добиться своего.
Выжимая все соки из себе подобных, Аттила Батифоль не спешил ублажать себя лично, полагая, что еще рано приступать к осуществлению второй части своей программы. Чеканщик решил подождать, прежде чем предаваться удовольствиям, о каких он мечтал в детстве, пока его положение не станет достаточно основательным и устойчивым, не зависящим от превратностей судьбы, от которых не в состоянии обезопасить себя те, что занимаются коммерцией, сколь бы осмотрительными они ни были. Скупость, давно укоренившаяся в душе Батифоля, помогала ему без труда придерживаться принятого им решения, хотя ему и приходилось подчас обуздывать свои страсти (впрочем, у Аттилы были не страсти, а мимолетные желания).
Однако домашнее общение с г-жой Батифоль по выходным дням не было для него столь уж веселым времяпровождением, и после обстоятельных раздумий он решил развлечь себя рыбной ловлей с удочкой. Это развлечение сулило ему двойную выгоду: во-первых, позволяло скрыться на несколько часов от глаз супруги и, во-вторых, обещало быть не слишком разорительным удовольствием и всегда приносить больше доходов, чем затрат.
Таким образом, желание порыбачить привело Аттилу в Ла-Варенну; здесь, насаживая наживку на крючок и вытаскивая из воды пескарей, он заметил, что население одного из самых многолюдных парижских предместий все больше устремляется в эти края.
Уже давно, в ту пору, когда двадцатый округ нынешнего Парижа еще только строился, коммерческое чутье Батифоля подсказывало ему, что когда-нибудь земля там будет приносить миллионы; на свою беду, осторожный овернец не решился приобрести собственность, которая еще не скоро должна была принести прибыль.
Однако самолюбие этого мелкого торгаша, неспособного пускаться в крупные аферы, не давало ему окончательно отказаться от своей идеи, и он принялся искать окольные пути.
Вместо того чтобы скупать землю рядом с церковью святой Магдалины и за улицами Шоссе-д’Антен, Предместья Пуассоньер и Предместья Сен-Дени, Батифоль приобрел на торгах участок размером в несколько тысяч квадратных метров в Ла-Варенне.
Конечно, эта сделка не обещала больших барышей, но зато он почти ничем не рисковал. Те, с кем Аттила поделился своим замыслом (подобно всем людям, он нуждался в одобрении), подняли его на смех; признав их правоту, г-н Батифоль простился с надеждой на малейшую прибыль и в конце концов пришел к заключению, что посчитал бы за счастье, если бы прибыли от продажи этой земли хватило бы на то, чтобы получить в собственность небольшой загородный дом.
Решив вознаградить себя за труды таким даровым приобретением, Аттила взялся задело со своим уже известным нам упорством; в часы досуга он мелом чертил на верстаке план своего будущего жилища, и воображение рисовало ему сады, изобилующие фруктами и овощами неведомых даже у Шеве сортов; в то же самое время он продолжал неуклонно двигаться вперед, к исполнению своего желания. Батифоль стал заглядывать по вечерам в кафе и, смакуя на протяжении четырех часов заказанный им какой-нибудь один-единственный непритязательный напиток, разглагольствовал о прелестях Ла-Варенны-Сен-Мора; он считал, что отнюдь не преувеличивает, именуя это место земным раем и уверяя своих слушателей, что именно на полуострове, окруженном водами Марны, свершилось грехопадение нашей праматери.
Данный метод вместе с объявлениями в разных газетах принес Батифолю небывалый успех. Не прошло и полугола, как он избавился от участка, перспектива владения которым несколько пугала его; в итоге Аттила получил двенадцать тысяч франков чистой прибыли, и у него еще осталась прибрежная полоса величиной в несколько тысяч квадратных метров.
На следующее утро после того, как последний из договоров о продаже был подписан, чеканщик привел рабочих на место, чтобы постараться заложить фундамент своего будущего жилища. Наконец-то его планам и чертежам было суждено воплотиться в бутовом камне и кирпиче. Кроме того, у Батифоля было достаточно иных оснований для спешки.
Он видел, что приближается торжественный час, когда ему будет, в конце концов, позволено дать волю своим замыслам, и поскольку г-жа Батифоль, по мере того как ее муж входил во вкус загородной жизни, проникалась к ней все большей неприязнью, этот дом становился для своевольного чеканщика все более заманчивым.
Батифоль уже не раз видел папашу Горемыку, проплывающего по реке в лодке; он не раз обращался к старому рыбаку, но тот не давал ему возможности поддержать разговор. Молчание старика, в котором чувствовалось презрение, весьма задело Батифоля — после того как на протяжении пятнадцати лет благополучие и успех не покидали его, он, когда дело касалось его прихотей, превратился в самодура.
Когда Юберта в сопровождении старого рыбака вышла из хижины с целой охапкой сетей на голове (она поддерживала эту ношу своими белоснежными пухлыми руками), Батифоль узнал ее. Лишь в этот день, вследствие своего нового положения, он впервые изволил заметить, что она красива. Аттила до крови укусил губу, и его живой глаз усиленно заморгал, а в неподвижном глазу промелькнула искра жизни; концом складного метра, который чеканщик держал в руке, он слегка коснулся затылка девушки.
Юберта обернулась, и при виде этой странной физиономии с часто мигающим веком и глазом, вращающимся вокруг своей оси, подобно жестяным вентиляторам, которые ставят на полу в кабачках, она сказала что-то насмешливое и весело рассмеялась.
Однако папаша Горемыка, шагавший в нескольких шагах от внучки, расценил вольность незнакомца как оскорбление и не смог сдержаться; он выхватил из рук Аттилы метр, разломал его на мелкие куски и бросил их к ногам предпринимателя.
Господин Батифоль попытался было воспротивиться этому варварскому, по его мнению, поступку, но было уже поздно; подобрав остатки своего инструмента, он в один миг увидел, что нанесенный вред непоправим, и разразился страшными проклятиями.
— Вы сломали мой метр, — кричал он, — вам придется за него заплатить, слышите!
— Я сломал ваш метр, потому что вы вели себя как наглец, — ответил рыбак, — и, как бы ни был я стар, я обойдусь с вами так же, как с ним, если вы не уйметесь.
— Ах, оставьте, дедушка, — вмешалась Юберта, — не стоит обращать внимания на такие глупости. Он хотел бы быть наглецом, но это ему не дано: такой страшила только и может, что кривляться, как обезьяна. Пойдемте, дедушка, пусть он строит рожи своим каменщикам.
— Ты права, Беляночка. Хорошо, что ты меня удержала, а то бы я натворил бед. Ах, эти окаянные парижане!
Последнее восклицание донеслось до слуха г-на Батифоля.
— Все вы одинаковы! — вскричал он. — Вы всегда ругаете тех, кто вас кормит, шайка бездельников! Но мы еще посмотрим, кто кого. А для начала, умник, скажи мне: ты ютишься в этой лачуге?
— Да, ну и что? — с вызовом произнес Франсуа Гишар.
— А то, что если ты не хочешь иметь дело с законом, то будь любезен в течение суток заложить камнем окно, которое смотрит на мою усадьбу, понял?
— Только попробуйте его заделать! — воскликнул папаша Горемыка, с угрожающим видом потрясая веслом. — Только троньте мое окно!
— Я и не собираюсь его трогать, а вот судебный пристав, которого я к тебе завтра пришлю, быстро заставит тебя это сделать.
Со времен своей последней стычки со стражами порядка старый рыбак относился ко всему, что имело какое-то отношение к правосудию, с большой опаской; тем не менее он противился Беляночке, пытавшейся его увести.
— Заделать мое окно! — кричал Франсуа Гишар. — О, я расскажу в суде, почему вы хотите, чтобы я это сделал. Да потому, что из этого окна мне видно нижнее течение реки, и, пока я не спускаю с вас глаз, нельзя воровать у бедных людей рыбу и снасти, как привыкли делать вы, ни на что не годные парижане! Нет, нет, закон слишком справедлив, чтобы заставить меня так поступить, и не надейтесь!
— И все же он имеет право это требовать, папаша Горемыка, — сказал один из подошедших каменщиков, — не судитесь с ним: вы наверняка проиграете.
— Имеет право! Право отнимать воздух и свет у бедного христианина? Право лишать меня того, что дал всем людям Господь Бог?
— Это еще не все, — продолжал Аттила Батифоль звенящим от возмущения голосом, — это твоя груша? Отлично! Ее ветки свисают над моим участком. Срубить эти ветки! Я собираюсь возвести здесь стену. Я определенно полагаю, что такому голодранцу, как ты, не пристало пользоваться обращенной к тебе стороной этого заграждения, гак что не смей забивать в мою стену гвозди, позволять виться на ней вьюнку или упираться в нее ногой, а не то я подам на тебя в суд, запомни это хорошенько! Я буду следить за каждым твоим шагом, соседушка, и, стоит тебе посягнуть на мои права, я разорю тебя и ты лишишься своей хибары, лодки и всего своего барахла!.. Не говори потом, что я тебя не предупреждал. А вы, — продолжал он, обращаясь к каменщикам, — пошевеливайтесь: мне не терпится увидеть возведенным мой дом, чтобы устроить этому человеку то, что я ему обещал. Ну-ка, ну-ка, за работу, а то вы тоже совсем разленились в деревне, я вам покажу, как надо вкалывать! Живо за дело!
Чеканщик удалился, а папаша Горемыка еще некоторое время молча и неподвижно стоял на месте, словно его поразило ударом молнии.
Он и прежде отказывался верить в то, что захватчики отняли у него реку, которую он считал своей, но теперь стало еще хуже. Среди всех бед, какие рыбак усматривал в нашествии парижан в Ла-Варенну, наибольшим злом для него оказалось соседство, о котором он прежде даже не помышлял. Он и не предполагал, что когда-нибудь рядом с его домом может вырасти другой дом и от него потребуют пожертвовать живой изгородью из боярышника, весной так сладко благоухавшей и летом окаймлявшей зеленой рамкой садик, изгородью, населенной веселыми пернатыми певцами, чьи концерты радовали всю округу, в то время как дед с внучкой чинили сети, сидя под сенью деревьев.
Все старые душевные раны Франсуа Гишара открылись и принялись кровоточить; он заплакал и почувствовал такой упадок духа, что решил вернуться домой, а не идти работать.
Юберта, понимавшая, что старому рыбаку сейчас как никогда надо отвлечься от своих мыслей, сумела убедить его отправиться на реку, но, как она ни старалась, распевая самые веселые песни и передразнивая их будущего соседа посредством забавных гримас, ей не удалось хоть немного разгладить морщины на лице деда.
VIII
НАШЕСТВИЕ ВАРВАРОВ
Вскоре г-н Батифоль построил свой дом, и Франсуа Гишара обязали именем закона заделать окно, смотревшее на усадьбу соседа.
Рыбак рвал и метал, злился и бранился, но ему уже приходилось сталкиваться с законниками, и он на собственном опыте убедился, что значит вставать им поперек дороги.
Поэтому он подчинился.
Сначала все смеялись над чеканщиком, который ставил вехи на дорогах, мостил улицы щебнем и устанавливал указатели с их названиями, хотя этим улицам недоставало главного, что их обычно образует, а именно — домов; но вскоре все насмешники переметнулись на сторону пришельца.
Разбег был дан: бараны Панурга мало-помалу сдвинулись с места, и за невероятно короткий промежуток времени пустынное место наполнилось людьми, поля превратились в сады, а кусты сменились изгородями.
Пример Батифоля воодушевил других покупателей земли. Подобно ему, каждый взялся за дело. По мере того как каменные дома росли ввысь и выстраивались вдоль берега Марны, приток горожан увеличивался. Торговый мир Парижа от площади Шатле до заставы Трона пришел в возбуждение; огромное желание всех людей иметь собственный клочок земли, которой каждый из нас — малый или великий — обязан вернуть прах, заимствованный у нее для его сотворения, было использовано так умело, его обещали удовлетворить за такую низкую цену, его выдавали за невинную и столь неразорительную прихоть, что даже самые благоразумные заболели лихорадкой загородной жизни, и многие счастливчики, располагавшие небольшими капиталами, принялись возводить на острове шедевры строительного искусства, не подозревая грядущих разочарований, неминуемых на пути всякого творца.
Один из таких счастливчиков, чувствительный и скромный человек, решил дать приют своей любви под соломенной крышей хижины, взяв за образчик наиболее примитивные строения из тех, что производило такого рода искусство от Эвандра до наших дней; другой, разъездной торговец винами, недавно вернувшийся с Женевского озера — он совершил прогулку в Оберланд ради вящей славы трехпробной водки, — вынес оттуда неистребимую страсть к шале. Эта страсть воплотилась в деревянном доме с зелеными решетчатыми ставнями, резными балконами и с устланной камнем крышей, призванной противостоять горным лавинам. Белые стены, не дававшие вздохнуть саду, который они окружали, были призваны изображать заснеженные луга на склонах Монблана и Юнгфрау. Третий обзавелся итальянской виллой с плоской крышей и балюстрадой, образующей террасу. Наконец, четвертый дошел до того, что построил греческий храм.
Растительность садов нового селения поражала еще большим разнообразием, чем его архитектурный облик, впрочем она была живописной, поскольку трудно опошлить цветы и сделать посмешищем деревья. Так, один из владельцев удовольствовался тем, что украсил цветочную клумбу грядкой шпината и грядкой салата-латука, стыдливо совместив приятное с полезным; другой мужественно занялся на своих двадцати квадратных метрах злаками и, посеяв на них шестьдесят шесть зерен ржи, задумал предоставить в Академию наук доклад о спорынье и головне, которые поражают эту культуру, подобно оспе, поражавшей людей до человеколюбивого открытия Дженнера.
Между тем развитие торговли удостоверило этот новый образ жизни в Ла-Варенне.
Не прошло и полугола, как здесь обосновалось полдюжины виноторговцев; они вступили в соперничество с Матьё-паромщиком и отняли у него исключительное право на утоление жажды публики, право, которым он так долго пользовался.
Отныне люди могли удовлетворить в этих краях и прочие разнообразные желания своих желудков. По воскресеньям с берега пахло жареными отбивными и жареной кровяной колбасой, а напоминающий о восточных ароматах запах кофе, который обжаривали у дверей, разносился по всей округе вместе с потоками воздуха, передвигающимися вверх и вниз по течению Марны.
Затем по соседству с шестью или семью виноторговцами, выдававшими шенвьерское вино за вино из Жуаньи, а полынную водку с улицы Ломбардцев за швейцарский абсент, последовательно обосновались мясник, булочник, бакалейщик и даже одна модистка.
И это еще не все: в то время как равнина превращалась в селение, на побережье возникала пристань: около двух десятков лодок, шлюпок и челноков стояли друг рядом с другом на якоре вдоль берега — там, где старое суденышко папаши Горемыки провело столько лет в одиночестве. Сам этот берег тоже не остался в стороне от повсеместных перемен — его сглаживали, выравнивали и улучшали, где-то оставляли отвесный склон, а где-то делали пологий спуск; оттуда тщательно удаляли заросли камыша с его длинными копьевидными стеблями и тростника, легкие хохолки которого с тихим шелестом покачивались на ветру, кислицу с нарядными пурпурными и изумрудными метелками, а также окопник с широкими листьями и белыми или фиолетовыми колокольчиками — короче говоря, все растения, придающие пейзажу живописный и дикий вид. Отныне порядок стал единственным украшением здешних берегов, и желтоватый цвет обнажившейся на откосах глины постепенно вытеснил зеленый ковер мягкой густой травы, прежде расстилавшийся вдоль реки.
Между тем и нравы здесь стали более спокойными. Сельская идиллия отважных первопроходцев из предместий обычно продолжалась с субботы до воскресного вечера либо до утра понедельника. Если бы какой-нибудь путник случайно забрел в эти края и увидел бравых горожан в деревянных башмаках, блузах и соломенных шляпах — причем все это чрезвычайно простого вида; если бы он понаблюдал, как они орудуют заступом и мотыгой, обрабатывают междурядья, пропалывают грядки и подрезают деревья, носят на спинах камни и в руках ведра с водой; если бы он послушал, как они разглагольствуют о садоводстве, рыбной ломе и охоте, обсуждая столь важные вопросы, как прививки, отводки, черенки, клубни и разведение винограда, — этот путник, без сомнения, решил бы, что он оказался среди настоящих крестьян. Однако эта невинная комедия, в которой каждый с удовольствием принимал участие, длилась не более суток, а затем наступало пресыщение — призрак с мертвенно-бледным лицом, опущенными руками и перекошенным от скуки ртом; все принимались зевать, и вскоре развлечения, которые привычка превратила в потребность, вновь обретали всю свою прелесть и притягательную силу.
Таким образом, это уже не деревня поглотила город, а город поглотил деревню; бесчисленное множество кабатчиков видели, как растет приток их посетителей — теперь уже пили не только в стенах заведений, предназначенных для поклонения Бахусу, как говаривали поэты-песенники из "Погребка", процветавшие в ту пору, но и вдоль всего берега Марны. Любой прибрежный пень или бревно, напоминавшие стул, стол или скамью, служили троном для пьяниц, если пьяницы сидели, либо подставкой для литровой бутылки скверного вина, если пьяницы возлежали на земле. Бочки спиртного поглощались под аккомпанемент застольных напевов и звонких затрещин; в конце концов утренняя идиллия превращалась в вечернюю сатурналию, и для полного с ней сходства у окрестных селянок, приходивших к реке на бал, появились повадки, речь и танцевальные позы девиц с городских застав — селянкам понадобилось не более двух месяцев, чтобы с поразительной легкостью восприятия, делающей честь их уму и гибкому стану, все это усвоить.
Коренное переустройство старой доброй Ла-Варенны, как и следовало ожидать, произвело на Франсуа Гишара удручающее впечатление (в определенном возрасте человека его взгляды, достигшие зрелости, противятся любым новшествам, и он не в состоянии распроститься со своими застарелыми привычками). За сорок лет безмятежного и никем не оспариваемого пользования рекой и прибрежными землями папаша Горемыка стал смотреть на них как на свою собственность, не предполагая, что кто-либо вздумает на нее посягать. Поэтому рыбак отнесся к пришельцам, сколь законными бы ни были их права, как к варварам, захватчикам и своим злейшим врагам, куда более ненавистным, чем пруссаки, некогда сражавшиеся с ним у стен Майнца.
Врожденная неприязнь Франсуа Гишара к парижанам усилилась как из-за злонамеренного поведения г-на Батифоля по отношению к нему, так и из-за тоски по своему 8-272 дорогому одиночеству, когда он увидел, как белая стена соседа стиснула его палисадник, а каменщики, решив угодить своему работодателю и позабавиться, вымазали известью и гипсом красивую живую изгородь боярышника, покрывавшуюся весной прелестными бело-розовыми цветами. Юберта была вынуждена на коленях умолять старика, чтобы удержать его от решительных действий в ответ на насмешки, какими рабочие сопровождали свои действия.
Ярость оказалась могучей силой — ей удалось сделать то, перед чем были бессильны нежная забота и кроткая веселость Юберты; она заставила папашу Горемыку окончательно покинуть царство теней и вернуться в действительность; она вытеснила из его мыслей дорогих мертвецов, чье общество он так любил; наконец, она воскресила и вполне естественным образом придала Франсуа Гитару новые силы и омолодила его. Благодаря этому сильному чувству кровь окрасила в синий цвет жилы старика, его темное лицо приобрело более теплый цвет, а глаза засверкали.
Впрочем, образ жизни и повседневные дела папаши Горемыки и Беляночки остались прежними. Весь день, пока светило солнце, они оставались на реке, где в будние дни еще не чувствовались перемены, произошедшие в этих краях. Если в это время какой-нибудь праздный зевака, любитель-рыболов или просто нахал — а Франсуа Гишар считал нахалами всех праздных зевак и любителей-рыболовов — приближался к лодке старика, тот прекращал работу и с ворчанием выжидал, пока ротозей не скроется из вида. Недоверие речного пирата к чужакам усилилось и уже доходило до нелепости: его лишили покоя и растоптали воспоминания, составлявшие всю его жизнь; в своей человеконенавистнической предубежденности он уверовал в то, что всякий, кто встречается на его пути, — это враг, мечтающий лишь о том, чтобы выведать его секреты, то есть места, где он расставляет сети, и потом воровать у него рыбу.
Поэтому по воскресеньям рыбак всегда сидел взаперти; напрасно Беляночка, отнюдь не разделявшая мрачного умонастроения деда, умоляла его, заслышав веселые звуки сельского бала, посидеть на травяной скамейке в саду, под высокими тополями, простиравшими ветви над рыбацкой хижиной, — Франсуа Гишар ни разу не уступил просьбам внучки, и как-то раз, когда она с пристальным, не лишенным волнения вниманием смотрела в окно, как несколько молодых людей танцуют на берегу кадриль, старик впервые в жизни довольно строго выбранил девушку.
Папаша Горемыка опасался, что какой-нибудь городской разбойник уведет у него внучку, и волновался за нее еще сильнее, чем за свою рыбу.
Само собой разумеется, что, какие бы архитектурные шедевры ни возвышались в двух шагах от него, Франсуа Гишар ни разу не соизволил удостоить ни один их них хотя бы минутой внимания.
Следует заметить, что г-н Батифоль по-прежнему страшно досадовал на соседа, выказавшего ему свое презрение, и число его тайных обид на рыбака постоянно накапливалось. Подобно всем быстро и неожиданно разбогатевшим людям, он не переставал удивляться своему достатку; обозревая свой особняк с плоской крышей и балконами, крытыми изогнутой черепицей, Аттила спрашивал себя, действительно ли он является владельцем всей этой роскоши. Он поглаживал серые обои с золотой каймой и мягкую мебель, обитую кретоном, с той же нежностью и восхищением, с какими мать ласкает плод своего чрева. Он не мог наглядеться на собственное детище, подобно тому как фат не устает любоваться своим отражением в зеркале. Он не понимал, как можно пройти мимо того, что он называл своим творением, и не обнажить перед ним голову.
Господин Батифоль обижался на папашу Горемыку не только из-за безразличия, которое тот проявлял к его дому. Он затаил на него зло еще и потому, что завидовал мастерству рыбака. Мало-помалу чеканщик попался на удочку, которую он предназначал обитателям вод Марны. То, что в первое время было для него просто забавой, постепенно переросло в причуду, а затем возвысилось до страсти — очевидно, по причине того, что это чувство было безответным.
В самом деле, г-н Батифоль испробовал все орудия лова. Его вечное невезение вошло в поговорку во всей округе; он не мог поймать ни самого крошечного пескаря, ни самой ничтожной уклейки: рыба лишь дерзко и безнаказанно задевала хвостом приманку, которой Аттила пытался ее прельстить. Столь явная присущая ему неполноценность выводила Батифоля из себя, способствуя тому, чтобы он еще сильнее невзлюбил опытного рыбака, слава которого даже превосходила его подвиги.
Некоторое время г-н Батифоль пребывал в пасмурном настроении, но внезапно он, казалось, смягчился.
Несколько раз Аттила пытался завязать со стариком пустой разговор о дожде и хорошей погоде, о своих неудачах в рыбной ловле, о своих надеждах и, наконец, о случаях из рыбацкой жизни, и его поползновения сблизиться не были как обычно отвергнуты; одновременно чеканщик стал особенно обходительным по отношению к Юберте.
Вначале, когда девушка появлялась на пороге хижины папаши Горемыки, Аттила довольствовался тем, что посылал в ее сторону телеграфные сообщения своими действующими по отдельности глазами, таким образом выражая бесконечное восхищение миловидной соседкой и показывая, что он питает к ней горячую симпатию. Это заигрывание г-на Батифоля вызывало улыбки на алых губах Беляночки, и при виде ее улыбки он набирался смелости. Глупость всегда ходит рука об руку со своим братом-тщеславием.
Воображая, что его знаки внимания принимают благосклонно, г-н Батифоль выпрямлял сутулую спину, прятал острый подбородок под галстуком и, покачивая головой, принимался поглаживать рукой свою мебель с еще большей любовью, чем прежде. Как-то раз, когда Беля ночка отправилась за покупками для своего бедного маленького хозяйства, Аттила последовал за девушкой и заговорил с ней. Незачем повторять слова, сказанные им — это и так ясно, но нельзя умолчать о другом: чувства, в которых признался Юберте ее воздыхатель, настолько не вязались с его профилем совы и ужимками павиана, что они вызвали у Беляночки приступ смеха, который ей не удалось заглушить.
С легкомыслием, свойственным юности, она не видела причины лишать себя развлечения, которое ей доставлял вид влюбленного чеканщика. Впрочем, следует простить Юберте это мимолетное заблуждение, ибо, с тех пор как г-н Батифоль задумал основать город на берегах Марны, это были единственные радостные минуты в жизни внучки старого рыбака.
Восприняв веселый смех девушки как одобрение, г-н Батифоль приосанился, сдвинул фуражку на ухо и зашагал, размахивая руками и мурлыкая куплеты из какого-то водевиля.
Было ясно, что в дальнейшем он собирается перейти в наступление.
Однажды вечером Юберта вышла излома. Хотя уже настала лучшая пора весны, день выдался холодный и промозглый, и папаша Горемыка, рыбачивший на Марне с раннего утра до сумерек, сушил одежду у очага, подбрасывая хворост в огонь; лампа, висевшая над камином, бросала тусклый отсвет на черные закопченные стены комнаты, и лишь изредка, когда пламя, добравшись до сухих листьев на ветках, брошенных в очаг, ярко вспыхивало, можно было рассмотреть предметы обстановки, домашнюю утварь и две кровати под зелеными саржевыми балдахинами.
Старик сидел, вытянув руки над очагом и, вероятно (так оно и было на самом деле), о чем-то задумавшись, как вдруг звук поспешных шагов, послышавшийся снаружи, заставил его встрепенуться. В тот же миг ему, казалось, послышался приглушенный крик и он узнал голос своей внучки.
Очевидно, с девушкой приключилась беда.
Папаша Горемыка почувствовал, как внутри у него похолодело. Он стремительно вскочил на ноги, опрокинув табуретку, на которой сидел, и ринулся к двери. Но не успел он сделать и двух шагов, как дверь распахнулась, открывая дорогу Юберте.
Она вся запыхалась, словно от кого-то в испуге убегала, и выглядела взволнованной. Войдя в дом, девушка с необычайной поспешностью заперла дверь на засов и бросилась в объятия деда.
— Что с тобой, Беляночка?.. Что случилось?.. Кто тебя так напугал?.. — с тревогой спрашивал старик, озабоченный этой непривычной немой сценой.
Затем, не став ждать ответа внучки, точно его осенило, что Юберте нанесли оскорбление, папаша Горемыка устремился к берегу с поистине юношеской резвостью.
Однако берег был пуст; лишь ветер, свистевший в ушах, гнал по реке волны, блестевшие в темноте, да темные силуэты деревьев то сгибались, то выпрямлялись.
— Вернитесь, дедушка, — взмолилась Юберта, следовавшая за стариком и удерживавшая его за полу рубахи. — Что вы тут ищете в такой поздний час и в такое ненастье?
— О, если я найду того, кого ищу, — пробормотал рыбак, грозно глядя в сторону темных очертаний дома Батифоля, к которому они подошли, — если я его найду, то разорву его пополам, и это так же верно, как то, что святой Франциск мой заступник! Гляди, вот эта рука (и он показал девушке свою левую руку) может одним махом раздавить такого червяка, как он.
Внезапно его гнев усилился, и он воскликнул громовым голосом:
— Где же он прячется, этот трус? Говори, — продолжал он, резко обернувшись к внучке, — почему ты сейчас кричала? Почему ты вернулась домой вся перепуганная?
Юберта молчала, не решаясь ответить. Замешательство внучки окончательно убедило Франсуа Гишара в том, что его подозрения справедливы; он подошел к двери дома Батифоля и нанес ей такой сокрушительный удар, что девушка, наконец, осмелилась солгать, на что раньше у нее не хватало духа.
— Дедушка, — промолвила она, — это я, как дурочка, сама виновата, что испугалась.
— Испугалась!.. Чтобы ты испугалась!.. Да ведь ты целыми ночами спокойно спала в лодке, лежа у моих ног!
— Кого же мне было пугаться, как не себя, если на улице никого нет?
— Ну да, я вижу, что тут никого нет; этот бездельник, наверное, вернулся и спрятался за толстыми стенами. Но я заставлю его выйти из логова, даже если мне придется не оставить камня на камне от этого дома!
— Да ведь в доме, как и на дворе, никого нет. Посмотрите, дедушка, ни в одном окне не горит свет.
— Ну и что? Когда мы час назад возвращались домой, все эти дыры сверкали, как костры в ночь на святого Иоанна.
— Может быть, но час тому назад господин Батифоль уехал в Париж.
Затем Юберта добавила со смущением, словно ей было неловко вникать в подозрения старого рыбака:
— Что вы могли такое подумать, дедушка?
Папаша Горемыка ничего не ответил и принялся искать какой-нибудь камень, чтобы выломать дверь г-на Батифоля.
Его намерение привело Беляночку в ужас.
— Дедушка! — вскричала она. — Что вы собираетесь делать? Я клянусь вам…
Старик посмотрел на внучку, и Юберта осеклась.
— Ну же, Беляночка, — сказал рыбак, — говори, в чем ты хочешь мне поклясться, я жду.
Нежность, сквозившая в его словах, странным образом отличалась от предшествовавшей ей неистовой ярости.
Девушка молчала, опустив глаза.
Покачав головой, папаша Горемыка уронил камень на землю.
Затем он взял внучку за руку и повел ее обратно в хижину, прокричав напоследок дому Батифоля, как будто камни и кирпичи могли его услышать и, подобно тростнику царя Мидаса, повторить его слова:
— Подожди, разбойник, ты свое получишь!
IX
У ОЧАГА
Когда они оказались дома, у камина, папаша Горемыка поднял опрокинутую им трехногую табуретку, сел на нее, взял Юберту за руки и, притянув ее к себе, сказал:
— Дочка, твои мать и бабка никогда в жизни не говорили неправды.
Девушка тяжело вздохнула и расплакалась — таков был ее ответ.
— Полно, полно, не плачь, — промолвил Франсуа Гишар, сажая внучку на колени (она тут же уткнулась лицом в рубаху деда), — не плачь, Беляночка, а то ты вынуждаешь меня сомневаться в тебе самой; и все же я готов поклясться памятью покойных, которые нас сейчас слушают, поклясться чем угодно, что тебе не в чем себя упрекнуть. Послушай, скажи мне честно: этот городской прохвост гнался за тобой, не так ли? Может быть, он тебя обидел? Признавайся, я в этом уверен. Знаешь, когда ты ушла, мне было как-то не по себе — внутренний голос говорил мне, что тебе грозит опасность. Ну же, говори! Этот негодяй любезничал с тобой, да? Я заметил, что он смотрит на тебя как-то странно. Да ответь же, наконец, ради Бога! — не выдержал рыбак, видя, что внучка упорно хранит молчание. — Я знаю, ты молчишь, потому что любишь меня и боишься огорчить бедного старика, твоего единственного заступника на этом свете. Не бойся, Беляночка, сердце человека не седеет, как волосы, и не покрывается морщинами, как лоб. Хотя я теперь уже не тот, что был в тридцать лет, для меня этот угодливый заморыш все равно что пескарь.
— Дедушка, — робко сказала Юберта, — берегитесь, вам лучше не ссориться с этим человеком.
— Ах, разбойник! — воскликнул Франсуа Гишар., видя, что предчувствия его не обманули. — Ах, щучья морда! Он от меня не уйдет, поверь моему слову. Я жду уже почти год, целый год я терплю его пакости и молчу, как рыба, когда у меня отнимают мой воздух и вид из моего окна или когда шарят в моих сетях, рвут и портят их крюками, — ведь эти неумехи ни на что не годны! Так вот, это он во всем виноват, а теперь он еще вздумал отнять у меня внучку! Он подбирается к моей девочке, к моей Юберте! Но, разрази его гром, я засуну ему в глотку багор по самую рукоятку, а если я этого не сделаю, значит, я так же труслив, как какая-нибудь уклейка. Подожди, Беляночка, ты скоро это увидишь!
С этими словами папаша Горемыка попытался приподнять внучку и опустить ее на пол, показывая, что он в состоянии привести свою угрозу в исполнение. Однако Юберта крепко сжала старика в объятиях и, прижавшись своими свежими губами к его обветренным щекам, взмолилась:
— О дедушка, успокойтесь, прошу вас!
— Ну нет! Отпусти меня, Беляночка, надо сейчас же его проучить, а не то этот бездельник завтра же примется за свое!
— Чтобы у вас из-за меня были неприятности, чтобы из-за меня вы терпели грубые выходки господина Батифоля? Нет уж! — воскликнула Юберта, с досадой топнув ногой. — Я расскажу вам, что произошло, и вы увидите, дедушка, что не стоит обращать внимания на слова такого человека, а лучше смеяться над его ужимками, что я и делала до сих пор и обещаю делать впредь.
— Тот, кто смеется исподтишка, дает повод к насмешкам и другим, — веско произнес папаша Горемыка, качая головой, — если бы ты сразу предупредила меня, как только этот горожанин начал на тебя поглядывать, тебе не пришлось бы бояться за меня сегодня. Я повторяю, не удерживай меня, Юберта, не заставляй в первый раз сказать тебе: я так хочу!
Упрек, который Франсуа Гишар адресовал внучке, попал в цель. Таким образом, воля Беляночки была парализована. Она соскользнула с колен деда, села на корточки перед табуреткой, положила на нее голову и пролепетала жалобным голосом, сила воздействия которого на любя шее сердце известна любой женщине, какому бы сословию она ни принадлежала:
— Боже мой! Боже мой! До чего я несчастна!
Папаша Горемыка, направившийся было к выходу, остановился и посмотрел на внучку с невыразимой жалостью, а затем продолжил свой путь.
Девушка вскочила, бросилась к двери и загородила ее.
— Ну нет, дедушка, — заявила она, — вы никуда не пойдете. Вы правы, я вела себя ветрено, когда потешалась в ответ на глупые шутки этого старого дурака и забавные рожи, которые он корчил, глядя на меня. Я виновата, это так, но, дедушка, у нас дома ведь редко бывает весело, и мне казалось, что не очень опасно посмеяться над этим противным горбуном. В конце концов, пока еще ничего страшного не произошло, но я никогда не прощу себе, если по вине моего легкомыслия с вами приключится беда или вас унизят. Вы же не хотите, чтобы я всю жизнь плакала из-за своей минутной глупости?
Видя, что дедушка начал колебаться, Юберта продолжала:
— Если вы затеете ссору из-за нескольких гадких слов, которые сказал мне этот дурак, я не перестану вас любить, гак как, понятно, никогда не смогу вас разлюбить, но я больше ни разу не скажу, что люблю вас, и вообще не стану с вами говорить. Так что по вечерам вам придется ложиться спать без моих шести поцелуев — помните, два за вашу жену, два за мою матушку и два от меня.
В этот миг вспыхнувшее пламя осветило лицо Юберты, разрумянившееся от волнения; между тем из ее глаз продолжали литься слезы. Впрочем, девушка знала, что эти слезы не могут не тронуть сердце Франсуа Гишара, и его нерешительность свидетельствовала о том, что страдания внучки отнюдь не оставили его равнодушным.
— Полно, слишком много чести этому господину Батифолю, если вы рассердитесь на него не на шутку. Послушайте, дедушка, — продолжала Юберта, без труда усадив старика на табуретку и заняв прежнее положение у него на коленях, — давайте вместе посмеемся над нашим соседом, ничего другого он не заслуживает. Он дважды заговаривал со мной на берегу, не так ли? Ну и что, ведь я тут же позабыла все его слова, зато хорошо разглядела морщинки на его лице — все до единой. Он пытался улыбаться, когда говорил со мной, и знаете, дедушка, кого он мне напомнил? Того уродца, что вы подарили мне в детстве, мы еще кололи орешки между его носом и подбородком.
И Юберта, глаза которой еще были мокрыми от слез, попыталась изобразить комичную мимику чеканщика, но папаша Горемыка даже не улыбнулся, продолжая осыпать поцелуями ясный лоб и белокурые волосы внучки, находившиеся на уровне его губ.
— Послушай, Беляночка, — произнес рыбак мягким, но серьезным тоном, — я не желаю снова тебя попрекать, а хочу лишь предостеречь от тебя самой: ты любишь посмеяться и забавы привлекают тебя, как наживка — живца. В этом нет ничего дурного, девочка. Знаешь, любя бедная бабушка, к примеру, распевала с утра до вечера, как жаворонок. Каждые десять дней она ходила в Шеневьер на танцы. Так вот, Бог может сегодня подтвердить, что она никогда не роняла своей чести. Но, видишь ли, Беляночка, теперь пошли другие времена! Мы, крестьяне, жили в ту пору одной семьей, и люди сурово осудили бы негодяя, опозорившего девушку. А нынче молоденькие девушки водятся с этими парижанами без роду и племени. Голавли, лещи, лини и карпы и то ведут себя осторожнее. Они плавают стаями и не путаются с окунями да щуками, ведь те живо их проглотят. Поступай как они, Юберта. Конечно, скучно жить со стариком, ведь он вечно говорит только о том, чего давно нет, и о людях, которые давно умерли; тяжко работать целый день, терпеть ветер, стужу и сырость — я понимаю, Беляночка, может быть, это тебе в тягость. Что ж, — продолжал старик, — надо бы найти тебе хорошего парня и сыграть свадьбу. Я надеялся выдать тебя за кого-нибудь из наших, из рыбаков, и уступить вам обоим все здешние рыбные места. А они здесь хороши, ничего не скажешь, и если знаешь, как правильно установить вентеря, если у тебя руки, а не крюки, сгребающие со дна водоросли, то еще вполне можно рассчитывать на прекрасный улов. Но мастера нашего дела теперь трудно сыскать, рыбаки исчезают, как и все остальное: леса, поля и луга. Сегодня парижане скупают все, и мне ясно, что порядочный парень не решается работать на воде, когда на берегу такой шум и гам день и ночь.
Франсуа Гишар произнес последние слова сдавленным голосом, скорее от волнения при мысли, что скоро, возможно, ему придется расстаться с внучкой, нежели из-за столь печального заключения о положении дел в его ремесле.
— Дедушка, — мягко сказала Юберта, словно прочитав сокровенные мысли старика, — может, я и вела себя как дурочка, но это не мешает мне больше всего на свете желать только одного: всегда быть рядом с вами, и самый распрекрасный парижанин — вы понимаете, что речь идет вовсе не о господине Батифоле, — не заставит меня позабыть хотя бы на миг человека, чьи ласки мне так дороги.
— Все равно, — отвечал старик, — я постараюсь ненадолго задержаться на этом свете. Ты же, Беля ночка, веди себя так, чтобы, когда я встречусь на том свете с нашими покойницами, я мог бы сказать обеим, что оставил тебя здесь порядочной девушкой, которая скоро станет порядочной женщиной. О Боже, Боже! Если будет по-другому, что со мной станется? — вскричал рыбак с неописуемым ужасом, словно его опасения уже оправдались и он должен был отчитаться перед высшим судом двух матерей.
Юберта раздвинула руки папаши Горемыки, которыми он закрыл лицо, и принялась целовать деда, одолевать его ласками и весело ему улыбаться; в конце концов ей удалось, по крайней мере на время, развеять тоску Франсуа Гишара.
Уже давно им пора было спать. Старый рыбак лег в постель, опустив зеленые саржевые занавески над кроватью, а Юберта стала молиться на коленях перед деревянным распятием, висевшим на стене.
Закончив, она тоже собралась лечь, но заметила, что старик еще ворочается в постели, охваченный страшным волнением.
Юберта подошла к деду и приподняла саржевый полог.
— Дедушка, — сказала она, — я еще не закончила исповедоваться.
— Ах, Боже! — вскричал папаша Горемыка, подскочив на матраце.
— Я только что покаялась перед Богом, — продолжала девушка, — в том, что считаю тяжким грехом, но мне кажется, что я не смогу спокойно уснуть, если не признаюсь в этом и вам.
— Да говори же, говори, бедная крошка! — воскликнул старик, по лицу которого струился пот.
— Дедушка, я вышла из себя, как и вы, вот только рядом со мной не было разумной внучки, чтобы меня унять, и я дала волю своему гневу — я ударила человека!
Выражение лица кающейся Юберты было таким забавным, что любой другой, глядя на нее, не удержался бы от смеха. Улыбка промелькнула было на губах старика, но он давно разучился улыбаться и смог лишь скривить их в гримасе.
— А!.. И кто это был? — спросил рыбак.
— Конечно, господин Батифоль, кто же еще! — воскликнула девушка.
— Ну, и что же?
— Я дала ему пощечину, дедушка.
— Вот как! По крайней мере, ты влепила ему как следует?
— А то как же! У меня даже заболела рука — по-моему, я вывихнула запястье. Вы меня простите?
Вместо ответа, Франсуа Гишар сжал внучку в объятиях и, радуясь, что оскорбление, нанесенное его малышке, не осталось безнаказанным, спокойно уснул.
Бедный старик и не подозревал, сколько бед принесет ему эта злосчастная пощечина.
X
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА РЫБНОЙ ЛОВЛИ
У г-на Батифоля не было никаких оснований верить в добродетель; он был совершенно, вполне искренне убежден, что дочь бедною рыбака должна быть чрезвычайно горда тем, что она удостоилась внимания человека, который называл себя самым крупным хозяином в Ла-Вареннс.
И он стал действовать с невероятным самомнением, свойственным всякому глупцу.
Однако его постигло жестокое разочарование.
Нежная ручка Юберты не причинила особою ущерба лицу влюбленного чеканщика, но нанесла убийственный удар его самолюбию.
Самолюбие — это то, что заменяет бездушным людям сердце.
В то время как папаша Горемыка безмятежно спал, его богатый сосед вынашивал планы чудовищной мести.
Работа его ума была тем более напряженной, что месть, для того чтобы она стала подлинным наслаждением с точки зрения г-на Батифоля, следовало осуществлять, соблюдая одно непременное условие.
Она должна была недорого стоить.
Люди такого сорта, сколь ни мало похожими на Антиноя сотворил их Господь Бог, обычно хотят, чтобы их любили такими, каковы они есть; не стоит поэтому ожидать, что они поставят расточительность на службу своему злопамятству.
Не сомкнув глаз на протяжении десяти часов, чеканщик наконец понял, что ему следует делать; он встал чуть свет и направился к г-ну Падлу.
В течение всей недели г-н Падлу торговал фаянсовой посудой на Королевской площади; по воскресеньям же он становился страстным любителем помологии. Хотя еще не было шести часов, он уже вышел в сад и любовался грушевым деревом, на ветвях которого сквозь желтоватую оправу набухших цветочных почек уже начинали проглядывать розоватые жемчужины.
Не успел г-н Батифоль произнести хотя бы слово, как г-н Падлу пожал ему руку и воскликнул, указывая на дерево:
— Поглядите, сударь, какой бесподобный саженец! Подумать только, этому деревцу всего лишь год! Но какие оно подает надежды, Батифоль, какие надежды! Я сосчитал бутоны, сударь, и, смею сказать, мне пришлось потрудиться: только на одной этой ветке их семнадцать штук! Вы слышите, Батифоль? Семнадцать груш, и самая маленькая из них будет крупнее, чем голова ребенка, как уверял меня один знаток!
Господин Батифоль произнес: "Гм" — и восторженный садовод мог принять этот звук за возглас одобрения; затем, пока хозяин мысленно представлял, как можно будет смаковать восхитительные плоды, первые признаки появления которых он подверг учету, чеканщик, вторя ему, принялся расхваливать землю, обещавшую столько чудес. Затем, не давая хозяину перехватить инициативу, он пришел в исступление при виде голого ствола, похожего на ручку метлы, но обещавшего, судя по этикетке на нем, когда-нибудь превратиться в сливовое дерево.
Господин Батифоль, зная по опыту, что ни одна лесть не была бы столь приятной его соседу, выслушал с терпением, показывавшим, сколь важно ему было угодить садоводу, все то, что тот соизволил рассказать не только о предполагаемых достоинствах его деревьев, но и о том, сколько он за них заплатил, с перечислением всех подробностей, сопутствовавших их приобретению, посадке и появлению первых побегов.
Таким образом, мужчины прошли две трети сада и оказались в том месте, где он сужался и где огораживавшая его стена образовывала угол, прежде чем идти дальше.
Господин Падлу, как ценитель прекрасного, был слишком большим приверженцем прямой линии и гармонических пропорций, чтобы он мог добровольно придать своему участку такую форму. Виной тому был сад Франсуа Гишара, своим концом разделивший землю торговца фаянсовой посуды надвое и, таким образом, нарушивший ее целостный облик.
Будучи искусным торговцем, г-н Батифоль сумел убедить г-на Падлу, когда тот изъявил желание стать землевладельцем в Ла-Варенне, что рыбак ни в коем случае не откажется уступить ему несколько метров земли, необходимых для того, чтобы его будущая стена была прямой.
Однако на деле все вышло иначе.
Папаша Горемыка слишком не любил парижан и стены, которые они строили, чтобы угождать одним и способствовать возведению других. Он упорно отказывался от любых денег, предлагаемых ему торговцем фаянсовой посуды.
Ломаная линия стены приводила г-на Падлу в отчаяние, она стала его кошмаром. Целыми часами он был погружен в горестное созерцание этого столь неприятного для глаза излома стены; он снился ему каждую ночь.
Тем не менее, подобно всем людям, у которых имеется свой конек, г-н Падлу не терял надежды когда-нибудь оседлать его; он надеялся, что какое-нибудь событие исправит и его шпалеру и то, что он рассматривал как вопиющую несправедливость судьбы; поэтому садовод предусмотрительно оставил невозделанной и незасаженной полосу земли у подножия стены.
Господин Батифоль знал эту слабость г-на Падлу и намеревался на ней сыграть.
Он указал пальцем на большое пустое пространство, возле которого вились две чахлые виноградные лозы.
— Увы! — произнес Аттила с бесконечным состраданием.
Господин Падлу лишь тяжко вздохнул в ответ.
— Какая жалость! — промолвил г-н Батифоль.
— Ах, да! — подхватил торговец фаянсовой посуды с таким сокрушенным видом, что мгновенно превзошел в грусти своего друга. — Однако, — прибавил он с оттенком горечи, — это все же ваша вина, Батифоль.
— Моя? — воскликнул чеканщик с горестным недоумением.
— Ну, конечно! Если бы вы меня предупредили, что мне придется иметь дело не с человеком, а с чурбаном, еще более тупым, чем тот, из которого сделана его лодка, я был бы осмотрительнее, черт побери, и построил бы дом в десяти шагах дальше.
Батифоль пожал плечами.
— Но ведь он не хочет продавать землю ни за какие деньги! — завопил Падлу, страдания которого, пробудившись, стали нестерпимыми.
— Что ж! Когда старик умрет, его внучка не станет содержать лачугу, от которой у нее будут одни убытки, в то время как, продав ее, она сможет обеспечить себе средства к существованию.
— Да ведь этот старый торговец лягушками, возможно, протянет еще лет десять — пятнадцать: этот негодяй сделан из камня! Он и меня переживет, сударь; я могу умереть раньше, чем успею придать этой стене форму, на какую она, по-моему, вправе рассчитывать.
— Полноте! Все дело в том, что вам не хватает ловкости и напора.
Господин Падлу превратно истолковал слова гостя.
— Сударь, — произнес он с возмущением, от которого его и без того круглые щеки раздулись и тройной подбородок пришел в движение, — сударь, я порядочный человек. Я действительно ненавижу папашу Гишара: он попортил мне столько крови, что, как мне кажется, я не должен проливать слезы, когда человек, отравивший мою жизнь, уйдет в*мир иной, но, чтобы пытаться с помощью преступления приблизить этот день хотя бы на час или даже на минуту, сударь, на такое я не способен!
— Кто вам говорит о преступлении? Умрет ли он или покинет наши края — не все ли вам равно, если в том или другом случае ему придется сбыть с рук собственность, которая вам нужна.
— Разумеется! Итак?
— Итак, если бы меня звали Падлу и если бы этот клочок земли не давал мне покоя, Франсуа Гишар освободил бы место еще полгода назад.
— Каким образом?
— У рыбака нет других средств к существованию, кроме этого бесполезного дома, да крошечного виноградника, который не в состоянии прокормить двух человек. Кроме того, рыбная ловля для него — не просто увлечение или потребность, а единственный заработок. Лишите его возможности ловить рыбу, и он будет вынужден сделать выбор между нищетой, своей страстью и привязанностью к этой хибаре. Можно не сомневаться, что он выберет, и тогда вы сможете выровнять свою стену.
— Черт возьми, но как же мне лишить его возможности ловить рыбу? — воскликнул г-н Падлу, в отчаянии стуча себя по лбу.
— Вы должны заняться ею сами.
— Я? Я? Да я даже не знаю, цепляет ли крючок рыбу за голову или за хвост!
— Не волнуйтесь: чтобы ею заняться, вам не придется сдавать экзамен; вы лишь внесете арендную плату, и власти больше ничего от вас не потребуют.
И г-н Батифоль разъяснил своему соседу и другу, что государство, в чьей собственности находятся большие и малые реки, отдает богатства их вод на откуп тому, кто на торгах предлагает наибольшую цену, и Франсуа Гишар ловит рыбу в Марне лишь благодаря терпимости нынешнего арендатора, не посягающего на узаконенные временем права папаши Горемыки; однако срок договора откупщика истекает со дня на день, и новые торги не за горами. Аттила предложил г-ну Падлу объединиться и вместе участвовать в торгах; он дал понять, что, став хозяевами здешних водных угодий, они будут вправе положить конец привычной снисходительности, которую чеканщик без колебаний назвал противозаконной и безнравственной, и, таким образом, избавить округу от этого речного разбойника.
Господин Падлу был слегка напуган столь коварным замыслом, но, будучи слишком заинтересованным в его удачном исходе, поспешил не только вникнуть в услышанное, но и одобрить его.
И если он немного задумался, прежде чем согласиться с планом приятеля, то не из-за сочувствия: этот несгибаемый блюститель закона не почувствовал укор совести при мысли, что они собираются лишить бедняка куска хлеба, — нет, он замешкался с ответом исключительно потому, что любовь к порядку и бережливости боролась в его душе с пристрастием к правильным линиям.
Господин Батифоль избавил торговца посуды от последних сомнений, предложив вовлечь в их прекрасное начинание третьего компаньона; он пообещал взять в союзники г-на Берленгара — заядлого рыбака, который не мог не разделять неприязни к папаше Горемыке со стороны всех тех, кто так или иначе притязал на опустошение речных глубин.
Две недели спустя после этого разговора г-н Батифоль от имени двух своих друзей принял участие в торгах и, поручившись за них, приобрел права на охоту и рыбную ловлю на всем рукаве реки от Жуэнвиля до Шарантона.
Слухи об этом событии просочились в новую деревню, и всеобщее уважение к богатому человеку, способному потратить значительную сумму на собственные прихоти, еще больше возросло. Меньше всего придал этому событию тот, кому оно больше всего угрожало. Папаше Горемыке было безразлично, кто станет обладателем мнимой, по его мнению, привилегии.
Пятнадцатого июня, день, на который было назначено открытие сезона рыбной ловли, приближался.
Браконьерские традиции Гишаров пошли на убыль у последнего представителя рода. Старый рыбак бережно относился к природе, и, несмотря на то что снисходительный закон предоставил ему полную свободу действий, он тщательно воздерживался от какой бы то ни было серьезной рыбной ловли в течение всего периода нереста.
Поэтому день, когда он мог впервые после долгого перерыва заняться любимым делом без каких-либо ограничений, был для папаши Горемыки подлинным праздником.
В этот день, садясь в лодку, он надевал самую чистую рубаху и парадную шляпу — старую рухлядь двадцатилетней давности, о которой он вспоминал лишь раз в году по этому случаю.
Кроме того, Франсуа Гишар требовал, чтобы и Юберта тоже принарядилась.
Округа изменила свое лицо, но папаша Горемыка был не в силах изменить свои привычки.
Вечером 14 июня, когда стало смеркаться, рыбак отправился расставлять свои верши, вентеря и удочки, а 15-го вышел из дома в парадной форме.
Людей на берегу было больше, чем обычно. Господа Батифоль, Падлу и Берленгар держались обособленно; Матьё-паромщик, его собратья-виноторговцы и прочие обитатели так называемого порта стояли у своих дверей — очевидно, все ждали какого-то важного события.
С тех пор как чеканщик последний раз видел девушку, он впервые встретился с обитателями хижины лицом к лицу — и г-н Батифоль и Юберта одинаково старательно избегали друг друга.
Поравнявшись с богатым соседом, папаша Горемыка нахмурил свои густые брови и что-то угрожающе проворчал. Чтобы отвести отдела беду, которую тот не преминул бы навлечь на свою голову, Беляночка поспешила привлечь внимание к себе; она с лукавым видом потерла свою щеку и начала напевать вполголоса песенку, припев которой "Оп-ля-у, оп-ля-ля!" как бы намекал на то, что произошло между ней и г-ном Батифолем.
Господин Берленгар был из тех людей, кого в определенных кругах называют "душой общества" — иными словами, дураком, присвоившим себе право смешить других, демонстрируя глупость всех собравшихся, а в особенности свою собственную глупость.
— О-о! — произнес он, гримасничая, чтобы придать своему лицу насмешливое выражение. — По-моему, у этой курочки сложились серьезные отношения с нашим другом Батифолем!
— Что вы хотите этим сказать? — спросил Аттила.
— Я хочу сказать, что, сдается мне, Батифоль, ты собираешься защищать не нашу рыбацкую честь, а скорее пылающий в твоей груди тайный огонь, которому ты прочишь блестящую победу, великий соблазнитель.
— Я вас не понимаю.
— Ты темнишь, Батифоль, это уж точно, судя по тому как разглядывала тебя эта малышка, проходя мимо. Дебюро приобщил меня к тайнам пантомимы, старина, и я все понял, хотя девочка воспользовалась рукой, а не ногой, что, с моей точки зрения, было бы предпочтительнее для соблюдения традиций. Ты попросил у девушки ее сердце, любезный плут, а она ответила тебе тем же, чем Пьеро отвечает Кассандру, когда тот запускает палец в банку с вареньем: "Бац!"
— Да я клянусь вам. дорогой Берленгар…
— Не клянись и, главное, не красней, о добродетельный Батифоль, ведь ты француз и потому имеешь право, даже более того, ты обязан быть дамским угодником. Не так ли, Падлу?
С этими словами г-н Берленгар ударил по животу г-на Падлу, оборвав на середине поощрительную улыбку, которую тот собрался было из себя выдавить.
— Я одобряю твое страстное чувство, о Батифоль, но предлагаю присутствующему здесь Падлу отстранить тебя от руководства нашими общими интересами. Ты рассчитываешь — я раскусил твой замысел, приятель, — ты рассчитываешь тронуть сердце девушки, досаждая папаше; но, как знать, не растрогаешься ли ты сам от ее слез? И тогда, какие там пескари! Прощай, рыбалка! Эта старая костлявая выдра снова приберет к рукам лучшие наши снасти и примется набивать свои садки за наш счет, и все потому, что у его внучки красивые глаза. Нет уж, спасибо, меня на этом больше не проведешь!
— Вы сейчас увидите, — вскричал Батифоль, — собираюсь ли я церемониться с этим оборванцем!
И тут' к ним подошел паромщик; хотя папаша Горемыка теперь относился к нему прохладно, Матьё по-прежнему сохранял к старому рыбаку симпатию, на какую только способна душа человека, поглощенного беспокойными заботами трудовой жизни, а поскольку народная молва оповестила его о кознях против рыбака, он решил вступиться за Франсуа Гишара.
— Господин Батифоль, — обратился он к тому из этой троицы, кто прослыл самым важным, — говорят, что вы не поладили с папашей Горемыкой из-за разрешения на рыбную ловлю. Не стоит обращать внимание на его слова, господин Батифоль; вы только вспомните, что он по собственному усмотрению ловил здесь рыбу, когда вот эти тополя еще не посадили; никто никогда не запрещал ему рыбачить на Марне, ведь он старейший из рыбаков на двадцать льё кругом. Франсуа ошибается, полагая, что это его право, но следует сделать скидку на его возраст: когда-нибудь и мы будем такими же старыми, как он.
— Да, годы никого не красят, — заметил г-н Берленгар.
— Не говорите ему ничего, господа; мы с соседями сложимся, соберем деньги на это разрешение и отдадим их вам.
— Приберегите денежки, чтобы оплатить свой паром, Матьё, — резко возразил г-н Батифоль, — срок вашего арендного договора, как я слышал, подходит к концу, и не следует полагать, что вам позволят зарабатывать сотни и тысячи, как в те времена, когда вашими конкурентами были одни недоумки.
— Сложитесь лучше, чтобы он стал человеком, и мы задешево уступим вам разрешение, — вставил г-н Берленгар.
— Господа, — продолжал Матьё, решив сделать последнюю попытку защитить папашу Горемыку, — вспомните, что эго единственный источник заработка бедного старика; на что же он будет жить, если вы отнимете у него этот источник?
— А нам и не нужно, чтобы он жил! — остроумно парировал г-н Берленгар.
В то время как паромщик продолжал говорить с г-ном Берленгаром, г-н Батифоль направился к папаше Горемыке, который уже отвязывал железную цепь, державшую его лодку у причала.
— Господин Гишар, — сказал чеканщик дрожащим от волнения голосом, хотя предыдущая сцена придала ему достаточно смелости, — господин Гишар, я хотел бы сказать вам пару слов.
— Что общего может быть у тебя с порядочным человеком? — выкрикнул папаша Горемыка, которого внезапно охватила сильнейшая ярость. — Я здесь, и ты не сможешь обидеть бедную девушку, ты, тот, кто превращает в деньги все блага, сотворенные Господом, и ценит их лишь в зависимости от того, сколько за них платят.
— Господин Гишар, — перебил его Батифоль, побледнев как полотно, — если вы начинаете с оскорблений, это может плохо кончиться.
— Как же еще это может кончиться, если ты суешь сюда свой нос, жалкий торговец опилками? Не подходи к моей лодке, не то я огрею тебя веслом, чтобы твоя физиономия стала такой же черной, как твоя душа.
— Я хочу вас спросить, господин Гишар, почему вы взяли с собой орудия, предназначенные для рыбной ловли, и по какому праву вы собираетесь ловить рыбу в угодьях, которые я взял в аренду.
Господин Батифоль произнес эти слова чрезвычайно торжественно, но, вместо того чтобы напугать папашу Горемыку, они произвели обратное действие — его гнев сразу утих, рот широко раскрылся, и рыбак разразился гортанным смехом.
В тот же миг неожиданно показалась птица, стремительно огибавшая оконечность острова; ее перья сверкали на солнце, как сапфиры, топазы и изумруды. Она слегка коснулась грудью поверхности воды, та раздвинулась и заискрилась тысячью сверкающих жемчужин. Птица испустила пронзительный крик и улетела с рыбой в клюве.
Папаша Горемыка пальцем указал на нее г-ну Батифолю.
— Посмотрите на эту птицу, — вскричал он, — спросите у нее, по какому праву она схватила рыбу, и, когда вы это узнаете, вам не придется больше требовать у меня ответа, так как мой ответ будет таким же!
— То, что вы говорите, сударь, — возразил г-н Батифоль, которого окончательно вывело из себя такое отрицание его всемогущества, — то, что вы говорите, посягает на право частной собственности; это пагубные взгляды, и правосудие вполне может потребовать у вас объяснения.
— Что ты теряешь время, вразумляя этого старого плута! — вскричал г-н Берленгар, внезапно оттесняя своего компаньона. — Сейчас ты увидишь, как надо с ним разговаривать. Папаша Горемыка, — продолжал он, обращаясь к рыбаку, — Марна принадлежит нам, так как мы за нее платим; и если вы вздумаете, на свою беду, забросить удочку или расставить сети в этих местах, то, сколько бы вы ни прятались в ивняке или отсиживались среди камыша, как вы это привыкли делать, старая водяная крыса, я вам покажу, на что способен Берленгар.
Эти угрозы еще больше рассмешили Франсуа Гишара.
— Прятаться? Ну нет, хозяин, и в доказательство я укажу вам одно средство, чтобы меня найти, когда вам будет угодно. — Эй, Жерве, — окликнул он некоего виртуоза, под музыку которого жители Ла-Варенны танцевали по воскресеньям, — твоя дудка с тобой?
Жерве играл на флажолете. Достав из кармана инструмент, с которым он никогда не расставался, музыкант показал его папаше Горемыке.
— Что ж, иди сюда, сынок. Ты будешь играть мне свои самые лучшие напевы, пока я буду вынимать удочки, а за труды я дам тебе полную корзину мелкой рыбы. Ты отнесешь ее матери, ведь сегодня открытие сезона, и надо доставить ей удовольствие.
Жерве не заставил себя уговаривать; он прыгнул в лодку и сел на корме. Юберта рискнула было открыть рот, чтобы высказать какое-то возражение, но папаша Гишар прикрикнул на нее:
— Молчи, Беляночка! Надо показать этим людям, что мы их не боимся и что Божья река, подобно королевской дороге, принадлежит всем людям, которых она кормит. Хотя нет, ты любишь петь, Беляночка, так спой нам свои самые лучшие песенки. Жерве тебе подыграет на своем инструменте, эти парни меня так насмешили, что я станцевал бы даже для корюшки.
Папаша Гишар воспринял случившееся с мудрой веселостью, что было отнюдь не в его правилах; поэтому, невзирая на беспокойство, которое внушали девушке безоговорочные суждения деда о людских правах, Беляночка позволила вовлечь себя в этот спектакль, в чем, впрочем, ее природная живость, очевидно, находила особую прелесть. Юберта запела куплет, и резкие пронзительные звуки флажолета начали вторить ее голосу; папаша Горемыка два раза яростно взмахнул веслами, и лодка заскользила по реке.
Все зрители, наблюдавшие это зрелище — мастеровые и мелкие торговцы, которые еще не разорвали уз, связывавших их с большой семьей тружеников, проводили рыбака громкими рукоплесканиями.
Это доказательство того, что всеобщая симпатия на его стороне и что люди разделяют его ненависть к парижанам, окрылило папашу Горемыку; он отложил одно весло и с воодушевлением помахал шляпой тем, кто остался на берегу; голос Беляночки зазвучал более уверенно, а флажолет стал издавать еще более резкие трели.
Троица новоиспеченных хозяев Марны стояла с удрученным видом. Один из них отправился искать поддержку у правосудия, а двое других смотрели вслед папаше Горемыке, которого местные жители напутствовали радостными возгласами.
К сожалению, развязка этой сцены оказалась не столь веселой, как вступление к ней.
Смотритель за рыбной ловлей, которого вызвал г-н Берленгар, несмотря на все свое расположение к Гишару, был вынужден засвидетельствовать нарушение им закона.
К удивлению папаши Горемыки, суд встал на сторону г-на Батифоля и его компаньонов.
Старого рыбака приговорили к штрафу, а также заставили заплатить судебные издержки и возместить ущерб тем, кто подал на него жалобу. Общая сумма превысила триста франков, и, чтобы ее собрать, пришлось продать маленький виноградник на холме.
XI
О ТОМ, КАК ГОСПОДИН БАТИФОЛЬ ПОНЕВОЛЕ УБЕДИЛСЯ В НЕОДОЛИМОЙ СИЛЕ ЛЮБВИ
Ко всеобщему удивлению, папаша Горемыка, казалось, отнесся к своему поражению совершенно равнодушно.
Но, как легко понять, это равнодушие было притворным; откровенная борьба, развернувшаяся между ним и парижанами, окончательно воскресила старика. К рыбаку вернулся горячий пыл его юности; в его душе проснулись воинственные инстинкты двенадцати поколений браконьеров, и эти инстинкты были столь мощными и столь действенными, что искоренить их можно было лишь с помощью виселицы.
Поскольку законная рыбная ловля, такая, какую можно было вести на глазах у всех, отныне была ему запрещена, папаша Горемыка пустился в браконьерство, используя все те уловки, к которым прибегали его предки на протяжении двухсот лет.
За деньги, оставшиеся от продажи виноградника, Франсуа Гишар купил вторую лодку, но не привез ее в Ла-Варенну, а оставил пришвартованной среди беспорядочно разбросанных островов близ мельницы Бонёй; за ней приглядывал мельник, ставший сообщником старого рыбака. Папаша Горемыка раздобыл сеть, грузила, а также снасти, которые охранительный дух властей запрещает использовать на воде; днем он спал, а ночью при любой погоде опустошал речные глубины.
Мятежный дух, пробудившийся в рыбаке и пришедший на помощь его атлетическому телосложению, помогал ему переносить непосильные для его возраста тяготы.
Впрочем, Юберта поддерживала и ободряла деда, объявившего тайную войну парижанам.
Тогда как папаша Горемыка неизменно сожалел об их былом одиночестве, Беляночка, не столь сильно ценившая прелесть уединения, вначале не разделяла его чувств, но, с тех пор как бедная семья пострадала от происков чужаков, девушка, которая считала себя главной виновницей свалившихся на них бед, заразилась ненавистью деда и даже превзошла его в этом чувстве, как часто случается с женщинами в подобных случаях.
Рядом с Франсуа Гишаром она исполняла роль партизан или мародеров, по большей части причиняющих зло врагу не ради личной выгоды, а потому что это доставляет им удовольствие. Если старый рыбак был диким оленем, который приходит на возделанное поле и спокойно поедает все, что он топчет копытами, то Беляночка была обезьяной, уничтожающей все, до чего могут дотянуться ее руки. Это она, не довольствуясь тем, что донные удочки, которыми трое любителей рыбалки усеивали русло реки, путаются в расставленных ее дедом сетях, могла точно рассчитанным ударом багра разрубить обручи вражеского вентеря или выбить дно вражеской верши, проплывая мимо в лодке; она же, когда снасти неприятеля попадали в сеть, коварно выбрасывала их на берег; кроме того, девушка цепляла на крючки, принадлежащие г-ну Батифолю и его другу Берленгару тухлую рыбу, как это делала Клеопатра с удочкой Антония.
Господин Падлу, чьи деревья превосходно зацветали, вполне мог запасаться терпением, хотя и выражал порой легкое удивление по поводу того, что он не видит великого множества жареной рыбы, которую предрекали оба его компаньона, великодушно обещавшие с ним делиться, пока не исполнится самое заветное его желание; что же касается двух его друзей, тут дело обстояло иначе: они двадцать раз в течение дня были обречены терпеть адские муки.
Отправляясь на реку, компаньоны вовсе не добывали несметного количества рыбы, как они надеялись, а всякий раз убеждались в своем очередном чудовищном поражении.
Эти постоянные неудачи не только лишали Батифоля и Берленгара удовольствия, но, более того, наносили им материальный ущерб.
Ловля рыбы, что бы там ни думали, это довольно разорительное удовольствие, и наши буржуа вскоре начали догадываться, что ремесло рыбака приносит не только прибыль. Когда им пришлось обзаводиться новыми снастями, друзья были вынуждены, выражаясь их языком, вы швырнуть тысячу франков на их покупку; столь дорогостоящее развлечение неизбежно должно было обратиться в торговое предприятие, и было решено регулярно выделять г-ну Падлу часть улова и одновременно продавать ежедневно определенное количество рыбы, достаточное для того, чтобы окупить предварительные расходы, на которые пришлось пойти обоим компаньонам.
Несмотря на то что вначале господа Берленгар и Батифоль относились к профессиональным рыбакам с неприязнью, они постепенно свыклись с их ремеслом. Если человек что-нибудь продал однажды, что может ему помешать продавать все, что угодно?
Однако папаша Горемыка подрывал начинание друзей в самой основе.
Снасти то и дело портились, рвались или терялись; лески так запутывались, что распутать их могли разве что пальцы какой-нибудь феи; все надо было менять, прежде чем удавалось вытащить из реки хотя бы хвостик надежды, которая могла бы смягчить горечь столь значительных потерь.
Разумеется, подозрения друзей немедленно пали на Франсуа Гитара — только ему можно было приписать все эти беды.
Господин Батифоль принялся с присущей ему основательностью следить за каждым шагом рыбака, но не смог собрать никаких улик, подтверждающих эти подозрения.
На рассвете старик протирал глаза и потягивался, стоя в одной рубашке на пороге своей лачуги; одежда его была опрятной, а башмаки если и не блестели, то были чистыми; на них не было ни капли воды, ни малейшей грязи или тины — все указывало на то, что рыбак только что встал с постели, где честным образом провел положенные двенадцать часов.
Лодка, столь же безупречно чистая, как и ее хозяин, с безмятежным видом покачивалась на цепи, словно она была неспособна участвовать в каком-либо дурном деле, а тем более в преступлении.
Юберга расхаживала взад и вперед по хижине, хлопоча по хозяйству, подвижная и стремительная, как королек. Она позволяла себе отдохнуть лишь во второй половине дня, когда садилась у живой изгороди боярышника и начинала петь деду свои самые веселые песни, а он слушал ее, задумчиво глядя на реку.
Понаблюдав три дня за поведением соседей, г-н Батифоль поневоле был вынужден почти поверить в их невиновность.
И все же у него оставалась одна надежда.
Два раза в неделю Юберта переправлялась через Марну и возвращалась довольно поздно.
Где же она пропадала?
Эта загадка волновала г-на Батифоля не только из любопытства или корыстного интереса, но также потому, что девушка внушила ему любовное чувство.
Чеканщик подумал, что у Беляночки, возможно, есть любовник; мысль эта вызвала у него такое же неприятное ощущение, какое он испытал когда-то, услышав, что в результате одной из упущенных им сделок его конкурент разбогател.
Человеку трудно смириться с невзгодами, которые могут принести выгоду соседу, а вовсе не с теми, которые наносят ущерб ему самому.
Господин Батифоль решил не терять бдительность до тех пор, пока он не сможет проникнуть в тайну Юберты.
Начиная с того дня как чеканщик впервые задумался, чем вызваны долгие отлучки девушки, он утратил спокойствие и хладнокровие, придававшие ему силы.
До сих пор презрение Юберты вызывало у Аттилы лишь обычную досаду, выражавшуюся в недоброжелательных действиях по отношению к рыбаку, но виной тому был скорее его вздорный характер, нежели свойственная ему жестокость; теперь же г-н Батифоль с удивлением обнаружил, что он испытывает глубокую ненависть к девушке.
Но он ошибся: это чувство было не ненавистью, а любовью, воспринятой им в обратной последовательности: из-за особого склада натуры г-на Батифоля его любовь началась с того, чем у других она нередко заканчивается.
Но под какой бы странной личиной ни выступала любовь, она неизменно приводит к одним и тем же последствиям.
Пусть читатель судит об этом сам.
Легче всего г-ну Батифолю было перебраться через реку раньше Юберты, дождаться, когда она высалится на берег, и последовать за ней.
Двадцать раз он намеревался сделать именно так, но не решался.
Вслух он говорил: "Какое мне дело, есть ли у этой девчонки любовник или нет!"
А про себя думал: "Если это правда, мне будет очень неприятно".
И все-таки он не терял надежды.
Однажды вечером г-н Батифоль поневоле размышлял над этой мучительной загадкой, ухитрившейся вклиниться в столь дорогие его сердцу арифметические заботы и занять место где-то между вычитанием и умножением, как вдруг в дверь постучали.
То был приказчик г-на Берленгара, задержавшегося в Париже из-за своих дел; он привез письмо своего хозяина.
Это послание отличалось скорее краткостью, нежели утонченностью и изяществом стиля.
"Благодари Бога за то, что он послал тебе в жены женщину, похожую на тебя, — писал Берленгар. — Сколько бед могла бы навлечь на твою добрую голову крупица лукавства, всегда сопровождающая женскую красоту! Над тобой смеются, тебя разыгрывают, о Батифоль, если только ты сам, соблазнившись прелестями речной красотки, не издеваешься над своими друзьями. Ты думаешь, что плутовка занята шитьем или вязанием ради услады костей своего деда и ради твоих пламенных взглядов, а она по два раза в неделю носит на рынок корзины, полные нашей рыбы. Оплакивай свой позор, Батифоль; я не смею сказать: отомсти за нас!"
Вместо того чтобы плакать, как советовал своему другу Берленгар, г-н Батифоль вздохнул с облегчением.
Напрасно он подогревал свою страсть и самолюбие рыбака, напрасно взывал к своему достоинству собственника, подсчитывая, сколько убытков он потерпел, и мысленно взвешивая громадные рыбины, которые этот ужасный папаша Горемыка присваивал себе под носом у компаньонов: заключение о том, что в водах Марны еще много обитателей, а Юберта только одна, перевешивало все прочие доводы. Аттила отпустил приказчика.
Исходя из факта, замеченного Берленгаром, и своих предыдущих наблюдений, он немедленно сделал вывод, что Франсуа Гишар проворачивает свои темные дела под покровом ночи.
Оставалось лишь сообщить об этом проступке смотрителю за рыбной ловлей, который один раз уже составлял протокол по делу папаши Горемыки, и потребовать, чтобы он исполнил свой долг.
Господин Батифоль подозревал — и, кстати, не напрасно, — что этот человек проявляет преступную снисходительность по отношению к папаше Горемыке, но полагал, что, если последовать за смотрителем по пятам, тот безусловно не посмеет пренебречь своими обязанностями.
Господин Батифоль надел поверх одежды какой-то балахон, водрузил на голову фуражку, взял палку и потянулся к ручке двери, намереваясь отправиться к смотрителю. Однако его рука не закончила начатого движения.
В душу Аттилы закралась дурная мысль: он решил предать тех, кого Берленгар называл друзьями.
За три-четыре дня, на протяжении которых г-н Батифоль обсуждал наедине с собой вероятность появления у Юберты любовника, его отношение к прекрасному полу резко изменилось.
Он не сомневался, что девушка простит ему ссору с папашей Горемыкой, первую тяжбу и ее последствия, если он объяснит эти действия своим отчаянием, но дальнейшие гонения на старого рыбака могли поставить под угрозу его надежды, которые робкие проявления испытываемой им ненависти и ревности вернули к жизни, и г-н Батифоль не собирался приносить их в жертву.
Вот почему он не стал открывать дверь, оставив и рыбу, и снасти на разграбление Франсуа Гишару.
Следующий день был субботой, одним из тех дней, когда Юберта уходила в Париж.
Господин Батифоль переправился через реку задолго до того часа, в который девушка обычно пускалась в путь, и спрятался в перелеске, прилегающем к парку замка Рец.
Отсюда он мог обозревать и Ла-Варенну, и реку.
Он заметил, как Беляночка села в лодку паромщика; затем она вышла на берег и, вместо того чтобы подняться в Шенвьер, пошла по дороге в Сюси, идущей вдоль берега реки.
Господин Батифоль следовал за девушкой, продолжая держаться в стороне и прячась за виноградниками, вступившими в период бурного роста.
Поравнявшись с островами заводи Жавьо, Юберта оглянулась, чтобы проверить, нет ли кого-нибудь позади, и, не заметив ни души, прошла через луг и спустилась к пересохшему в эту пору ручью, который зимой несет избыток вод из Ормесонского парка к Марне.
Ивовые заросли, густой кустарник и терновник, превращавшие русло ручья в настоящий туннель из зелени, благоприятствовали намерениям г-на Батифоля.
Он мог держаться в десяти метрах от девушки, оставаясь невидимым для нее; не слышны ей были и шаги чеканщика, бесшумно ступавшего по траве.
Дойдя до места, где ручей впадает в Марну, Юберта присела на берегу.
Преследовавший ее г-н Батифоль упал на землю ничком и затаился в траве; осторожно раздвигая ее, он не выпускал из вида внучку папаши Гишара; она сидела лицом к нему, настолько близко, что он даже слышал ее дыхание.
В этот миг Беляночка, роскошные волосы которой едва скрывал платок в красно-белую клетку, была поистине очаровательна.
Быстрая ходьба сделала ее красоту еще более яркой: лицо ее разрумянилось, глаза заблестели, а алые губы приоткрылись, как цветы гранатового дерева.
Девушка сняла башмаки, затем — чулки и решительно вошла в реку.
Господин Батифоль был настолько взволнован, что еще немного, и он забил бы тревогу.
Русло Марны не отличается ровным дном и, следовательно, представляет опасность для купальщиков. Чеканщик испугался, что девушка провалится в какую-нибудь яму.
На свое счастье или несчастье, он тут же вспомнил, что где-то поблизости есть брод.
Юберта продолжала идти вперед, направляясь к острову заводи Жавьо; она двигалась, изо всех сил балансируя с помощью рук, и временами, когда ее ноги натыкались на твердую гальку или скользили по замшелому камню, издавала тихий стон и изгибала свой гибкий, как тростник, стан.
Наполовину высунувшись из травы, г-н Батифоль провожал девушку взглядом и задыхался от волнения; наконец, он увидел, как она вышла на берег и скрылась в ивовых зарослях, которыми был покрыт остров.
В тот же миг чеканщик забыл об опасностях, подстерегающих его на зыбком пути, а также о том, что рискует подхватить насморк, чего он чрезвычайно боялся, и ринулся к броду.
Как и всякий влюбленный, г-н Батифоль потерял голову от любви.
XII
О ТОМ, КАК ГОСПОДИНА БАТИФОЛЯ СУДИЛИ ПО ЗАКОНАМ ФРАНЦУЗСКОГО ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
Господин Батифоль шел за Юбертой, приближаясь к ней с каждым шагом.
Она пересекла остров в длину, прыгая с камня на камень, как трясогузка, и спустилась на берег, а затем перебралась через небольшой проток реки, который отделял этот остров от двух идущих за ним островков, расположенных параллельно.
Именно там, между двумя этими островками, Франсуа Гишар прятал лодку, в которой он совершал свои ночные набеги и в которой хранил контрабандный улов.
Лодка была здесь в полной безопасности — ее невозможно было заметить ни с одного из берегов реки; к тому же выше заводи Жавьо течение было столь стремительно, что рыбаки-любители, которых папаше Горемыке следовало опасаться, не решались заглядывать в эти места и, следовательно, не высаживались на острове.
Господин Батифоль снова затаился в кустах.
Нетерпение его было огромно, а сердце билось так неистово, что временами ему казалось, будто он сейчас задохнется. Однако, несмотря на волнение, он не забыл, чем ознаменовалось его первое объяснение с внучкой папаши Горемыки, и дно лодки казалось ему слишком шаткими подмостками для разговора с такой крепкой девушкой, как Юберта.
Между тем она достала из-под сиденья лодки маленький черпак и корзину, открыла садок и наполнила корзину всевозможной рыбой, затем взвалила эту ношу на плечо и двинулась в обратный путь по той же дороге, направляясь к большому острову.
Теперь г-н Батифоль подумал, что настала пора показаться; он вышел из своего укрытия и встал в полный рост, в то время как Юберта все еще карабкалась на крутой берег, цепляясь руками за ветки и корни деревьев.
Внезапное появление Аттилы так сильно напугало девушку, что она уронила свою ношу; корзина опрокинулась, и из нее хлынул разноцветный поток рыбы; чешуйчатые принялись барахтаться на траве, и некоторые из них, благодаря своей счастливой звезде и рельефу местности, скатывались по склону и возвращались в родную стихию.
— Ага! — воскликнул г-н Батифоль, делая нечеловеческое усилие, чтобы придать своей физиономии, вопреки его воле остававшейся ласковой и улыбающейся, суровый вид. — На сей раз вы попались, прекрасная дикарка!
Пойманная с поличным, Юберта потеряла дар речи; она была бледна и дрожала; ее ноги подкашивались, и в глазах показались крупные слезы.
Господин Батифоль громко и весело рассмеялся, и этот смех означал: "Я полагаю, что сегодня вы будете более сговорчивы, чем во время нашей последней встречи".
— Вот как! — продолжал он грозным голосом. — Вы опустошаете наши сети! Вот как! Вы воруете мою рыбу и думаете, что это сойдет вам с рук? Что ж! Теперь ваш дед не отделается штрафом, а отправится в тюрьму.
— Простите его, сударь, простите его, заклинаю вас! — вскричала Юберта, и ее слова перемежались рыданиями. — Я готова поклясться, что дедушка больше не подойдет к реке. Он никогда не нарушит моей клятвы, только простите его, пожалуйста!
Господин Батифоль наслаждался слезами девушки, а также ее обещаниями; из тактических соображений он намеревался не сразу пойти на уступки, но Юберта схватила его за руку и сжала ее в своих руках — от прикосновения этой нежной влажной кожи кровь сильнее забурлила в его жилах.
— А если тебя простят, ты, по крайней мере, будешь более любезной? — спросил он с фальшивой улыбкой.
Юберта с присущим ей простодушием не поняла истинного смысла этих слов.
— Ну, конечно, сударь, — успокоившись, но с удивлением произнесла Беляночка, — каждый ведет себя любезно по отношению к тем, кто отвечает ему тем же, разве это не естественно?
Лицо г-на Батифоля просияло, и его всегдашний мертвенно-бледный цвет сменился кирпично-красным тоном.
— Ладно, ладно, — сказал он, потирая руки, — не плачь, красавица, лучше посмотри на меня с улыбкой, и я не только не стану составлять протокол, но и другим не позволю тебя огорчать.
— Ах, сударь, вы так добры…
— Да, — продолжал г-н Батифоль, — а если они будут недовольны, им придется действовать с осторожностью и твой дед сможет ловить рыбу у них под носом, даже если мне самому придется сидеть на веслах. Видишь ли, договор на аренду записан на мое имя, ведь я похитрее Берленгара. Ну да, если я захочу, ему волей-неволей придется помолчать, и папаша Горемыка сможет опустошать реку, сколько его душе угодно; время от времени он будет давать мне отборную рыбу, чтобы мой садок был полон; мы будем делить его улов; а что до тебя, миленькая, не пройдет и недели, как ты заставишь самых красивых девушек предместья лопнуть от зависти.
— "Миленькая?" — воскликнула Юберта, которую явно начал охватывать страх.
Но окрыленный г-н Батифоль не обратил внимания на изменившееся выражение лица девушки.
— Проси у меня платья, проси шаль, проси часы, проси все, что пожелаешь, и ты это получишь, слово Батифоля!.. Гм! Видишь, скверная девчонка, если бы ты тогда меня послушала, от скольких неприятностей ты бы себя избавила?
Юберта наконец догадалась о подлинных намерениях г-на Батифоля; она принялась быстро собирать рыбу, разбросанную по траве и среди зарослей колючек, и заталкивать ее обратно в корзину.
— Да брось ты свой товар! — с досадой вскричал чеканщик, пинком отправляя прекрасную плотву в кусты. — Ты заработаешь сегодня больше, если останешься на острове и не пойдешь на рынок торговать рыбой.
— Ну-ка, господин Батифоль, — произнесла Беляночка с насмешливой улыбкой, — прикиньте вес этой корзины на руке; известно ли вам, что здесь рыбы не меньше, чем на три пистоля?
— Хотя бы на сотню, неужели ты думаешь, что я не в состоянии за нее заплатить?
— О! Всем известно, что вы богаты, но ответьте: вы пришли сюда один, чтобы меня поймать, и на острове больше никого нет?
— Не волнуйся, никто не сможет нас услышать.
Юберта тотчас же бросилась в ивовые заросли.
Господин Батифоль воспринял это бегство как попытку раззадорить его.
Если бы он знал, кто такой Вергилий, то сравнил бы Юберту с Галатеей.
— Если ты убежишь, встретимся на суде! — с видом человека, понимающего, что такое игривость, воскликнул чеканщик.
— Как бы не так! — возразила Юберта. — Для суда вам потребуются свидетели, дружок. — Если вы смотритель, покажите вашу бляху с номером; но у вас, слава Богу, нет нагрудного знака, который сделал бы честного человека из такого мошенника, как вы, по словам моего дедушки!
Эта фраза подействовала на чеканщика как ледяной душ, но она отнюдь не потушила его пламенной страсти, а лишь заставила ее вспыхнуть еще ярче; он устремился вдогонку за Юбертой, а девушка бежала недостаточно быстро из-за тяжелой корзины, которую она несла в руках, и веток, которые ей приходилось раздвигать на своем пути.
Однако девушка была столь гибкой и проворной, что г-н Батифоль не догнал бы ее, если бы она не споткнулась о какой-то пенек и не упала навзничь. Не успела девушка опомниться, как чеканщик уже был рядом.
В тот же миг ей показалось, что она слышит мерный плеск весел на реке.
— На помощь! — закричала девушка. — На помощь!
Но г-н Батифоль грубо зажал ей рот, и она поняла, что пропала.
Силы покинули Беляночку, и она лишилась чувств.
Однако в тот же миг чья-то богатырская рука схватила чеканщика за воротник, приподняла его, как охотник — подбитую дичь, подержала некоторое время на весу в двух футах над землей, а затем швырнула в густые заросли колючего кустарника.
Геркулес, столь недвусмысленно заявивший о своей недюжинной физической силе, был молодой человек лет двадцати пяти.
Его костюм, весьма распространенный в наше время, в 1833 году от Рождества Христова должен был казаться довольно странным.
Это одеяние состояло из вязаной фуфайки в красную и черную полоску, широких полотняных штанов (они назывались "портки") с кожаным поясом, за которым висел нож с самшитовой рукояткой, заключенный в ножны. Костюм моряка дополняла низкая соломенная шляпа, на развевающейся ленте которой было выведено прописными буквами: "ЧАЙКА".
Орлиный нос молодого человека и дерзкий взгляд его глаз, сверкавших из-под густых бровей, придавали ему суровый вид, превосходно сочетавшийся с нарядом морского волка; но его рот с сильно приподнятыми кверху уголками губ, сообщавшими лицу насмешливое и несколько простоватое выражение, характерное для тех, кого называют "добрый малый", а в особенности длинные, распущенные, слегка растрепанные волосы достаточно красноречиво свидетельствовали о том, что он не был настоящим моряком.
Отделавшись от г-на Батифоля вышеуказанным способом, незнакомец обернулся и принялся хладнокровно рассматривать бедную девушку, не обращая внимания на то, что она нуждается в помощи.
— Тысяча чертей! — воскликнул он. — Настоящая Психея! — Поза, фигура, безупречность линий, чувственность — все при ней! Вот бы мне такую натурщицу для моей выставки. Черт побери! — прибавил он, поворачиваясь в ту сторону, где лежал распростертый г-н Батифоль. — Я вижу, парень, ты не лишен вкуса.
В тот же миг к нему подошел еще один молодой человек. Одет он был не как моряк — на нем были сюртук и фуражка.
— Ришар! Ришар! О чем ты только думаешь? — воскликнул он. — Разве ты не видишь, что эта женщина в обмороке?
— Дорогой Валентин, — ответил моряк-художник, — женщина была сотворена для того, чтобы радовать глаз мужчины своей красотой. Эта девушка удивительно красива во время обморока, и я полагаю, что продлить такое ее состояние как можно дольше означает послужить ее интересам и воле Провидения.
— Ты меня выводишь из себя своими глупостями!.. Эй, Эмманюэль!.. Коротышка! Принесите воды.
— Ни один из них и пальцем не шевельнет без приказа капитана. Ах, что за дивная шхуна эта "Чайка", и команда так приучена к порядку…
— Ради Бога, Ришар, позови же их, наконец!
Ришар взялся за металлический свисток, висевший на его шее, и извлек из него резкий продолжительный звук.
Вскоре прибежали два новых персонажа, одетых точно так же, как тот, что первым пришел на помощь Юберте.
— Воды, друзья, воды! — повторил Валентин.
— Не двигайтесь, если вам дорога жизнь! — напыщенно воскликнул Ришар. — Скажите, всели в порядке на борту?
— Да, капитан, — ответили оба субъекта в один голос.
— Ришар, прекрати ломать эту нелепую комедию. Берегись, я не посмотрю, что ты мой друг!
Ришар сделал вид, что он не услышал этой угрозы.
— Хорошо, — сказал он. — Ты, Эмманюэль, сбегай на судно и возьми в провиантской каюте флакон спиртного.
— Да нет, воды, — возразил Валентин.
— Воды тоже принеси. Если эта несчастная побрезгует крепким напитком, я отдам се долю команде. А теперь, Коротышка, я передаю в твои руки свою добычу.
— Добычу, капитан? — подобно эху откликнулся Коротышка.
— Ну да, она там, в кустах, — продолжал капитан, указывая на г-на Батифоля, не подававшего признаков жизни (чеканщик сильно ушибся во время падения и, кроме того, не слишком понимая, с кем он имеет дело, боялся пошевелиться). — Присмотри за этим орангутангом, а если он попытается бежать, вспомни о храбром Биссоне, этой гордости французского военно-морского флота, и бросайся в пучину со своей жертвой, не забыв перед этим вспороть ей живот.
Коротышка, юноша лет семнадцати-восемнадцати, с умным и лукавым лицом, какие встречаются лишь у парижских мастеровых, выразил удовлетворение полученным заданием и, обернувшись к г-ну Батифолю, скорчил страшную гримасу. Однако тут же его лицо удивленно вытянулось.
— Смотри-ка! Я его знаю! — вскричал парень. — Он из моих клиентов; это папаша Батифоль, самый потертый из всех фланелевых жилетов. Ах! Не надо мне его представлять, сейчас я его хорошенько отделаю, чтобы отомстить за своих товарищей.
Между тем вернулся тот из матросов, кто откликался на имя Эмманюэль; Валентин побрызгал в лицо и на руки девушки водой, влил ей в рот несколько капель водки, и она пришла в себя.
Открыв глаза, Юберта увидела, что она лежит в окружении незнакомых людей в причудливых одеяниях и, вспомнив о грозившей ей опасности, расплакалась; однако в тот же миг она увидела бледного, страшно перепуганного Батифоля с блуждающим взглядом и стоящими дыбом волосами; вокруг него отплясывал Коротышка, изображая процедуру снятия скальпа и украшая танец домыслами своей фантазии. Забавная сцена вызвала у Юберты смех. Увидев это, достойный капитан, вероятно еще раньше решивший внести свою лепту в воскрешение девушки, принял участие в жуткой пантомиме, хотя это грозило унизить его достоинство.
Валентин, стоявший возле Юберты, стал расспрашивать девушку о том, что произошло между нею и человеком, из рук которого ее вырвал его друг.
Трое танцоров — Эмманюэль тоже присоединился к своим друзьям — время от времени прекращали бешеную пляску, чтобы послушать девушку. Господин Батифоль пытался воспользоваться этой передышкой, чтобы оправдаться, но стоило ему открыть рот, как капитан бросался к нему, хватал его за прядь рыжих волос и принимался водить лезвием ножа вокруг черепа несчастного, приговаривая или, точнее, вопя:
— Она — красавица, а ты — урод, урод и болван. Прощайся с жизнью, так как команда "Чайки" поужинает твоей тушей!
Валентин подошел к свирепому капитану и сказал:
— Послушай, хватит! Неужели в твоей проклятой голове нет ни капли здравого смысла? Пойми, надо серьезно подумать, что делать с этим человеком.
— Он наш пленник, и мы сейчас будем его казнить, — ответил Ришар, тут же придав своему голосу важный тон.
— Хватит дурачиться: мы должны сделать только одно — отвести эту девочку в Шарантон, к комиссару полиции; она подаст ему жалобу, а мы подтвердим ее показания как свидетели.
Господин Батифоль смертельно побледнел.
— К комиссару полиции? — возмущенно вскричал капитан. — Да будет вам известно, господин Валентин, что на борту моего судна я король и, следовательно, также хозяин этого острова, ибо, возможно, он был открыт мной — поэтому все преступления, которые здесь совершаются, подсудны моей верховной власти.
— С тех пор, как ты ступил на борт своей посудины, ты час от часу становишься все большим сумасбродом. Этот человек совершил проступок, за который законом предусмотрено наказание; значит, надо отдать его в руки тех, кто представляет закон, — настаивал Валентин.
— Господа, господа, — не выдержал г-н Батифоль, которого только что нарисованная перспектива испугала еще сильнее, чем кривлянье команды "Чайки".
— Молчать! — страшным голосом крикнул Ришар.
— Но, в конце концов, господа…
— Тебе приказано молчать! — повторил Коротышка, сопровождая этот приказ жестом, не допускающим возражений.
— Берегись, Ришар, — сказал Валентин, — своими дикими выходками ты навлечешь на нас беду.
— Господин Валентин, — ответил капитан "Чайки", — вы пассажир у меня на борту, и посему вас просят не мешать капитану корабля улаживать дела по своему усмотрению.
Затем, понизив голос, он продолжал:
— Скотина, не вмешивайся. Комиссар полиции, возможно, поругает этого молодца и отошлет прочь, а я хочу, чтобы было по-другому.
Валентин замолчал, то ли изменив свое мнение, то ли достаточно хорошо зная своего приятеля, чтобы понять, что бесполезно обращаться к его разуму.
— Я созываю команду "Чайки" на военный трибунал, — объявил капитан.
Двое приспешников Ришара разразились ликующими воплями, но на этот раз лишь Коротышка изобразил пантомиму перед г-ном Батифолем, по-прежнему погребенным в зарослях терновника, — он станцевал на руках, болтая ногами в воздухе.
Выбрав поваленный ствол дерева в качестве председательского кресла, Ришар уселся на него верхом и воткнул впереди себя, между колен, нож; чтобы сохранять бесстрастие, какое подобает представителю правосудия, он закурил устрашающую носогрейку, которая обычно была засунута за ленточку его шляпы.
— Пусть приведут пленника, — приказал капитан.
Двое матросов принялись подталкивать чеканщика, пока он не оказался перед лицом того, кто должен был стать его судьей.
Валентин и Юберта тоже подошли ближе; девушка с изумлением и тревогой смотрела на людей со столь необычными для нее манерами и речами и с жадным любопытством ожидала дальнейшего развития событий. Что касается Валентина, он лишь пожимал плечами и, очевидно, не собирался препятствовать приведению в исполнение какого угодно приговора, который должен был вынести суд.
— Судя по тому, что сказал один из членов моей команды, вы буржуа? — начал капитан Ришар.
— Разумеется, — ответил г-н Батифоль, начинавший понимать, что он стал участником комедии.
— И вам не стыдно в этом признаться?
— Послушайте! Вы, должно быть, смеетесь надо мной?
— Вы буржуа, урод и болван, как я уже говорил, — продолжал капитан. — Разве вам неизвестно, что тому, кто сочетает в себе три подобных порока, запрещается целовать хорошеньких девушек?
— Сударь, — ответил Батифоль, осмелевший от чересчур тяжких обвинений в свой адрес, — я хотел бы спросить, по какому праву вы беретесь меня судить, после того как дурно обошлись со мной?
— Я берусь вас судить, потому что вы виноваты, — невозмутимо возразил капитан, — и еще потому что вы хотели прибрать к рукам эту девушку. За ваше преступление вы заслуживаете смерти.
Господин Батифоль пожал плечами; теперь он был уверен, что развязка не будет для него столь неприятной, как он сначала опасался. Юберта же, воспринявшая этот спектакль всерьез, при слове "смерть" устремилась к председателю-капитану.
— Ах, сударь, — воскликнула она, — не говорите так, вы меня пугаете; у вас такой смешной и в то же время такой страшный вид, что я не могу понять, шутите вы или говорите серьезно! Ох, сударь, отпустите этого человека, пожалуйста; я его прощаю, уверяю вас; к тому же еще прежде мой дедушка провинился перед ним: мы не имели права ловить рыбу в реке, которую господин Батифоль взял в аренду. О! Я никогда себе не прошу, если с кем-то, даже с ним, случится из-за меня беда.
— Слушайте и пользуйтесь таким великодушием, если вы способны его оценить, подлый мошенник. Я готов смягчить ваше наказание из уважения к этой прелестной девочке. Припадите к нашим коленям, и я предоставлю вам возможность проявить щедрость знатного вельможи или матроса, получившего жалованье. Дайте этой девушке десять тысяч на приданое и пойдемте все вместе в Кретей есть матлот у Жамбона. Идет?
— Десять тысяч франков дочери старого воришки рыбы? Да вы что, принимаете меня за дурака, приятель?
Валентин прекрасно видел, что капитану "Чайки" не удастся с честью закончить затеянные им переговоры, и пришел на помощь другу.
— Послушайте, — сказал он г-ну Батифолю, — я не стану просить вас дать этой бедной девушке десять тысяч франков по двум причинам: во-первых, я вижу, что она порядочная девушка и, будучи таковой, не возьмет у вас денег; во-вторых, что еще вероятнее, я понимаю, что, каким бы глупцом я вас ни считал, вы не согласитесь расстаться с деньгами, чтобы загладить свою вину, какой бы тяжкой она ни была; но вы немедленно вручите той, что едва не стала вашей жертвой, разрешение на право рыбной ловли для ее деда, а не то, клянусь честью, я сам подам на вас жалобу, и не комиссару полиции, а королевскому прокурору.
Глядя на чудачества капитана "Чайки", г-н Батифоль совсем осмелел, и, несмотря на резкий и суровый тон Валентина и жесткий взгляд его стальных голубых глаз, свидетельствовавших о том, что этот человек отнюдь не шутит, чеканщик ответил:
— Рассказывайте это кому-нибудь другому! Я не дам ни разрешения, ни денег, а если вы посмеете еще раз поднять на меня руку, я сам отправлюсь к королевскому прокурору, слышите?
Капитан был явно раздосадован тем, что Валентин перебил его.
— Хотя вмешательство пассажира в судебное разбирательство, — заявил он, — полностью противоречит морским обычаям, я согласен с теми поправками, которые мой друг внес в сделанное мною предложение, с той лишь разницей, что я предоставляю вам право выбрать не королевского прокурора, а мокрый трюм.
— Да, да, мокрый трюм, — подхватили два матроса, обожавшие ввязываться во все драки.
— Идите к черту! — вскричал чеканщик, для которого слова "мокрый трюм" были китайской грамотой. — Я требую предоставить мне свободу. Если вы сейчас же меня не отпустите, я клянусь, что подам в суд на вас и на эту маленькую кривляку, которую я застал на месте преступления.
Господин Батифоль произнес эти слова самым величественным тоном и собрался было уйти, но могучая рука капитана "Чайки" вновь опустилась на его плечо и сбила его с ног. В тот же миг Коротышка достал из кармана кусок веревки и связал Аттиле руки, в то время как Эмманюэль сбегал на судно и принес оттуда стальной трос, которым гребцы пользовались, когда им приходилось плыть против быстрого течения.
— Разрешение! — повторил Ришар.
— Ни за что! Вы трусы, вы пользуетесь тем, что сила на вашей стороне. Но мы еще посмотрим, с каким видом вы будете стоять перед законным судом…
Но он не успел договорить.
Коротышка обмотал руки чеканщика тросом и привязал его конец к одной из ветвей ивы, нависавших над рекой; его товарищ помог ему натянуть канат, и г-н Батифоль вмиг оказался висящим в шести футах над водой.
— Слушай мою команду, — приказал капитан "Чайки", в то время как Валентин убеждал жертву, что в его интересах подписать требуемое разрешение.
Он, несомненно, добился бы своего, ибо чеканщик все больше впадал в панику, но капитан Ришар, не желавший оставлять неиспользованными столь точно проделанные приготовления, громко свистнул; матросы тут же отпустили трос, и с высоты, в которой он парил, г-н Батифоль был низвергнут в пучину, сомкнувшуюся над его головой.
Как только г-н Батифоль исчез под водой, лишь клокотание которой указывало на его присутствие на дне Марны, капитан "Чайки", будучи страстным приверженцем формальностей, достал часы, чтобы следить за временем, в течение которого должна была продолжаться эта пытка. К счастью для жертвы, Валентин схватил трос и навалился на него изо всех сил; невзирая на окрики друга и сопротивление обоих матросов, ему все же удалось вытащить чеканщика на поверхность.
— Я согласен, — произнес тот, болтая руками и выплевывая воду, которой наглотался. — Я согласен… Разрешение, десять тысяч франков, все что угодно, только отпустите меня, прошу вас… Караул! Караул! Караул!
Валентин протянул ему руку и помог выбраться на берег.
Господин Батифоль был настолько потрясен произошедшим и так боялся, что его подвергнут новой пытке "мокрым трюмом", с которой он только что познакомился, что сам попросил бумагу, чтобы побыстрее отделаться от требований своих мучителей.
Ему вручили обрывок того, что капитан "Чайки" высокопарно величал "судовым журналом", хотя гораздо чаще им пользовались для раскуривания трубок, нежели для увековечивания маршрутов славной шхуны.
Валентин дважды прочел то, что написал дрожащей рукой г-н Батифоль, желая убедиться в том, что разрешение составлено правильно; он не забыл также предупредить чеканщика, что если тот откажется выполнить взятые на себя обязательства, то никогда не поздно будет подать на него жалобу, которой ему угрожали.
Затем команда "Чайки" вернулась на судно, забрав с собой Юберту, которой Ришар, узнав, что она направляется в Париж, любезно предложил место пассажира на борту.
Господин Батифоль долго смотрел им вслед, прежде чем отправиться домой.
Коротышка и Эмманюэль работали веслами, а капитан стоял у руля, отдавая приказы еще более звучным голосом, чем прежде. Валентин с Юбертой сидели рядом напротив капитана, и оба друга, казалось, старались превзойти друг друга в учтивости перед девушкой.
Молодые люди кричали и пели; среди этого веселого хора слышался чистый звонкий голос и мелодичный смех Юберты.
Под влиянием этого шумного веселья Беляночка расцветала, как цветок в лучах солнца.
Когда судно скрылось за мысом Жавьо-Фламандца, г-н Батифоль стряхнул воду, которой пропиталась его одежда, и, улыбнувшись, несмотря на обуревавшую его ярость, пробормотал:
— Ну-ну, сдается мне, один из тех, кто сидит в этой лодке, отомстит за меня.
XIII
ОРЕСТ И ПИЛДД
Дружба, связывавшая двух действующих лиц, только что представших перед читателем, а именно пассажира и капитана судна, увозившего Юберту в Париж, была настолько своеобразной, что следует рассказать о ней поподробнее.
Сколь бы добросовестно Ришар Люилье ни исполнял обязанности капитана шлюпки, которую он, как мы слышали, с чисто отеческой гордостью называл шхуной "Чайка", командование ею не было единственным занятием этого человека: время от времени, в часы досуга или когда у него не было возможности поступать иначе, Ришар был скульптором.
Дело не в том, что у молодого человека не хватало таланта; напротив, начало его карьеры было не лишено блеска, о чем мы сейчас поведаем читателю.
Природа любит порой расточать обещания и наделять отдельных людей признаками гениального дарования — возможно, таким образом она дает нам почувствовать, какую ценность представляют собой подобные исключения. Многие подают большие надежды, и если поистине великих людей столь мало, то это потому, что наша добрая мать-природа крайне редко дает в придачу к способностям, на которые она так скупа, еще одно качество, необходимое для того, чтобы извлечь эти задатки из небытия, где они обретаются, — силу воли.
Провидение отказало Ришару Люилье даже в видимости этого дара; у молодого человека было и воображение, и чувствительность, и вкус, а также определенные творческие способности, но он был вялым, скептичным, безразличным ко всему, что не приносило ему сиюминутного удовольствия; как нередко случается, обстоятельства первой половины его жизни способствовали развитию его недостатков, в то время как живительные испытания — страдания и борьба, — возможно, ослабили бы их воздействие.
Казалось, все благоприятствовало юноше, делавшему первые шаги в искусстве. В 1822 году он выставил скульптурную группу — Прометея, прикованного к скале, и стервятника, раздирающего его грудь.
Успех был грандиозным; скульптор получил медаль первой степени, и какой-то англичанин приобрел его произведение за тридцать тысяч франков.
Следовало иметь иную голову, нежели ту, которой Небо наградило Ришара Люилье, чтобы устоять перед столь упоительным началом: уверовав в то, что отныне место в истории ему обеспечено и с будущим он в расчете, молодой человек принялся проматывать английские гинеи.
Поскольку юный скульптор жил широко, это продолжалось недолго. Однако вскоре у него умер отец и Ришар получил в наследство примерно восемьдесят тысяч франков, что позволило ему еще на протяжении четырех лет вести роскошную и беспутную жизнь.
Разумеется, в течение этих четырех лет скульптор не прикасался к резцу.
Когда он увидел, что его богатству скоро придет конец, он попытался снова взяться за работу, и то скорее от скуки, чем из благоразумия; однако рука юного скульптора отяжелела от праздности, утратила силу и сноровку; хуже того — после столь продолжительного бездействия его ум притупился, и Ришар не смог извлечь из него ни одного из озарений, некогда вдыхавших жизнь в его творчество.
Он с досадой отбросил резец, но настал день, когда ему пришлось еще раз попробовать им воспользоваться.
Это случилось, когда юноша остался без всяких средств к существованию.
И вот, после года непостоянных трудов, когда он то сто раз бросал работу, то сто раз с тоской возвращался к ней, Ришар, наконец, создал еще одну статую.
Однако в Салоне ее отказались принять.
Скульптор приписал эту неудачу зависти, которую он вызвал у многих своими первыми шагами в искусстве, и стал роптать на несправедливость.
В ярости он разбил созданную им статую.
Оставалось испробовать последнее средство — делать на продажу навершия настенных и настольных часов, подсвечники и различные украшения для торговцев бронзой; но, для того чтобы эта деятельность приносила доход, требуется расторопность в работе, способная возместить умеренные цены на такие изделия. Лень Ришара пришла от этого в ужас, и его гордость пришла к ней на помощь. Молодой скульптор сказал себе, что он не может бесчестить талант, удостоившийся похвал всей Франции: он предпочел прозябать в полнейшей праздности и нужде, питаясь лишь тогда, когда ему улыбалась удача при игре на бильярде или в домино; впрочем, Ришара очень любили и тепло принимали в кафе, где он проводил весь день, и, обуздав свое самолюбие, юноша порой довольствовался унизительными подачками, которыми он был обязан своему положению непризнанного гения.
Тогда-то он и познакомился с Валентином.
Ришару Люилье доводилось жить в квартирах на разных этажах, в зависимости от превратностей судьбы, и в конце концов он остановил свой выбор на комнате, расположенной под самой крышей дома.
Его соседом по мансарде оказался молодой мастер-ювелир.
Всякий раз, когда скульптор встречал этого ювелира на лестнице, тот почтительно уступал ему дорогу.
Подобное свидетельство уважения поразило Ришара, уже отвыкшего от чего-либо подобного; он заметил, что молодой человек смотрит ему вслед с непонятным любопытством; это тронуло скульптора, и он первым заговорил с соседом.
Увидев при этом на лице юноши волнение, Ришар понял, что не ошибся — тот действительно, относился к нему с восхищением. Он пригласил соседа к себе, и вскоре благодаря крайней непринужденности Ришара, позволившей робкому ювелиру справиться со своей застенчивостью, знакомство состоялось.
Валентину было в ту пору двадцать лет; будучи подкидышем, он вырос в приюте. Юноша был маленьким, тонким, щуплым, почти тщедушным, но обаяние его лица, открытого и умного, выражающего одновременно и скромность и решительность, окупало эти физические недостатки.
Кроме того, природа щедро наградила Валентина, наделив его необычайно возвышенной душой.
В том возрасте, когда обманчивые миражи обычно скрывают будущее от юношеских взоров, он понял, что в его скромном положении труд — это единственная цель, к которой следует стремиться. Он наметил себе эту цель, которая является для труженика настоящим пробным камнем, — и не в надежде обогатиться, а из чувства долга. Вместо того чтобы посвящать редкие минуты досуга забавам, привлекающим молодых людей, Валентин в свободное от работы в мастерской время воспитывал свой ум и пополнял знания, стараясь развить дарованную ему Богом любовь ко всему красивому, величественному и благородному.
Подобно тем, кто никогда не соприкасался с нелегкой стороной творческой деятельности, юноша питал странные иллюзии относительно искусства; он считал его высшим проявлением человеческого разума, и все художники казались ему полубогами, призванными осуществлять связь между простыми смертными и небесными сферами.
Узнав, что один из таких полубогов обитает рядом с ним, в такой же убогой мансарде, и к тому же еще более беден и обездолен, чем он, несчастный подкидыш, Валентин почувствовал горестное умиление и проникся горячей симпатией к соседу, ставшему постоянным объектом его размышлений.
Когда он встречал бледного, истощенного скульптора в грязной одежде, с налитыми кровью глазами, со взлохмаченными волосами и спутанной бородой, то, вместо того чтобы усмотреть в этих признаках печать лени и распутства, он, подобно всем юным, добрым и наивным душам, принимался укорять своих современников за черствость и неблагодарность.
Когда же молодой ювелир впервые переступил порог комнаты скульптора и увидел страшную нищету и еще более ужасающий беспорядок, царящие в этой жалкой конуре, крупные слезы покатились по его щекам; он молча подошел к Ришару, взял его за руку и поцеловал ее, как слуга короля целует руку своему повелителю, оказавшемуся в изгнании и терпящему нужду.
Смиренный жест Валентина был исполнен такой простоты и величия, что скульптор, для которого не было ничего святого и который вспоминал об уважении к себе лишь в тех случаях, когда ему надо было порисоваться перед другими, растрогался и не посмел схохмить, как он выразился бы в свойственном ему богемном стиле.
После нескольких дней тесного общения со своим кумиром Валентин заметил, что у этого колосса глиняные ноги, но он уже успел полюбить Ришара, и сердце приводило ему тысячу доводов во имя оправдания дружбы, которая претила его рано развившейся мудрости.
Валентин спрашивал себя, не избрало ли его Провидение, чтобы он спас этого гения от гибели. Сходство политических убеждений, прелесть общения, которую юноша впервые изведал, познакомившись с Ришаром, все это говорило в пользу его нового друга. И он решил целиком посвятить себя благородной цели возрождения художника.
Это был нелегкий труд.
Очевидно, человеческая душа в своем нравственном падении подчиняется тому же закону всемирного тяготения, что и материальные тела; сила и скорость этого падения возрастают пропорционально пройденному пути. Когда тот, кто катится вниз, достигает определенной черты, нет ничего труднее, чем обратить движение вспять или хотя бы на миг задержать его.
Скульптор как раз находился у этой черты.
Когда обоюдные признания друзей позволили Валентину вмешаться в жизнь Ришара, он попытался было упрекнуть друга в его праздности и беспутной жизни, но скульптор, который после нескольких месяцев их братства стал вести себя с приятелем бесцеремонно, не постеснялся сделать то, на что не решился при виде его искреннего сострадания: он высмеял юношу в присвоенной им себе роли ментора.
Тогда Валентин постарался смягчить это черствое сердце с помощью различных услуг, а также заботы и нежности по отношению к нему.
Будучи искусным мастером в своем ремесле, он получал большое жалованье и смог сделать небольшие сбережения; как-то раз, когда Ришар терпел жесточайшую нужду, Валентин предложил другу воспользоваться этими накоплениями.
Скульптор покраснел: даже после крушения всех его надежд у него еще сохранились остатки врожденной гордости. Он беззастенчиво брал взаймы у своих собутыльников, но ему в высшей степени претило одалживать у бедного сироты деньги, по монете собранные с помощью его тяжкого труда, лишать друга последних средств, которые могли понадобиться ему уже завтра, если он заболеет или потеряет место в мастерской.
Однако Валентин сумел убедить скульптора взять деньги, предложив эту ссуду в обмен на статуэтку, которую тот мог бы сделать для него позже.
Угрызения совести Ришара улетучились вместе с последним экю из денег его бедного товарища; месяц спустя он и думать забыл об обещанной статуэтке, словно о ней никогда не шло речи.
Наконец, деликатный Валентин, превозмогая смущение, напомнил об этом приятелю, но тот, несколько смутившись, сослался на то, что не в состоянии работать в тесной мансарде.
Его друг только этого и ждал.
Он спросил, согласен ли Ришар покинуть свое жилище, и, получив утвердительный ответ, несколько дней спустя отвез друга на улицу Сен-Сабена, где без предварительных объяснений с ним уже снял и оборудовал небольшую квартиру, где они могли жить вдвоем.
Квартира, расположенная на первом этаже, состояла из двух маленьких спален и мастерской.
Она была обставлена просто, но достойно.
Валентин был наделен чуткостью, которая встречается даже не у всякой женщины; не желая вынуждать друга вновь прибегать к его услугам, чтобы обзавестись необходимыми для скульптора орудиями труда, ювелир приобрел их заранее: вращающиеся подставки уже стояли в ожидании моделей, а лепешки гончарной глины были сложены в углу мастерской.
Когда Ришар, войдя в комнату, увидел новое подтверждение любви своего друга, его сердце оттаяло, несмотря на цинизм, который он на себя напускал, и глаза его увлажнились; скульптор бросился в объятия Валентина и расцеловал его от всей души.
На следующее утро он взялся за дело, и, хотя старые привычки, с которыми он не спешил расставаться, частенько прерывали его работу, через месяц обещанная Валентину статуэтка была готова и оставалось отдать ее на отливку.
Дело было в сентябре 1830 года; оба молодых человека горячо приветствовали революцию, принципы которой они оба разделяли. Находясь под впечатлением июльских сражений, Ришар изваял скульптурную группу, которая изображала двух рабочих, водружающих трехцветный флаг над баррикадой.
Утром того дня, когда скульптор должен был завершить свой труд, он, проснувшись, захотел взглянуть на него сквозь дверной проем своей комнаты, сообщавшейся с мастерской.
Однако он не увидел на подставке статуэтку.
В тот же миг вошел Валентин с довольно внушительным мешком в руках.
Он молча подошел к постели друга, развязал мешок и золотым дождем Данаи высыпал на скульптора множество пятифранковых монет.
Ришар спросил, что это значит.
— Это значит, — ответил Валентин, — что я не стал ждать, когда ты дашь мне скульптуру, отлитую в бронзу, ибо тогда я был бы не вправе с ней расстаться. Я могу еще подождать, пока будет готова моя статуэтка, а ты должен поспешить, если хочешь, наконец, жить как приличный человек. Поэтому я решил пожертвовать твоим первым изделием, чтобы примирить тебя с коммерцией, которая одна может помешать тебе сегодня закончить свои дни под забором, подобно бродяге. Я продал твою скульптуру за пятьсот франков.
— Фабриканту, изготавливающему изделия из бронзы?
— Да.
— Для навершия каминных часов?
— Вероятно.
Ришар пожал руку друга одной рукой, а другой сделал трагический жест, совсем как дворянин на театральной сцене при виде своего опозоренного герба.
Эта гримаса не помешала нашему скульптору подобрать пятифранковые монеты из презренного металла — все до единой.
Сделав этот шаг, Валентин правильно оценил художника — вскоре тот вошел во вкус, но не работы, а этой денежной благодати. Ришар был уже неспособен на страсть; он утратил чувство изящного, и от художника в нем осталась разве что манера разговаривать; человек, столь презрительно относившийся к буржуа на протяжении первой половины своего творческого пути, ныне был вынужден считать деньги, как они. Ришар подсчитал, что тяготы труда в общей сложности намного уступают бесчисленным неприятностям нищеты, и, когда его одолевала нужда, он покорно мял гончарную глину.
Это был совсем не тот итог, к которому стремился Валентин. Он думал, что вернет звезду на небо, сделает имя друга прославленным, а вместо этого лишь пополнил витрины торговцев поделками, чуть более совершенными по форме и чуть менее избитыми по сюжету, чем соседствующие с ними товары.
Это было равносильно падению с неба на землю.
Однако самолюбие играло ничтожную роль в чувствах ювелира, и его сердце не искало какой-либо личной выгоды, поэтому полная утрата иллюзий отнюдь не повлияла на любовь Валентина к Ришару.
Вечные истины не стареют: уподобление человека плющу, который не может жить без опоры, известно давно, и оно совершенно безупречно. Валентин, у которого не было ни семьи, ни друзей, чувствовал себя одиноко среди полуторамиллионного людского муравейника, и он так привязался к другу, что они стали как бы единым целым. Он уже находил у него некоторые достоинства, которых тот был лишен, и был очарован даже недостатками Ришара.
Валентин относился к другу столь же нежно и снисходительно, как мать; на протяжении трех лет, с тех пор как они поселились на улице Сен-Сабена, он неустанно заботился о скульпторе; он побуждал его к труду, вел его дела с торговцами, ободрял, когда тот временами испытывал упадок духа, ласково бранил за лень и чудачества, прощал ему капризы и прихоти — одному Богу известно, сколько их было у Ришара! Валентин никогда не сдавался, хотя до сих пор все его усилия были безуспешными, и пытался увлечь друга более высокими целями, чем те, которые тот преследовал.
Все великое обладает сияющим ореолом, который бросает отблеск на окружающее, — это реальный факт, а не образное выражение. Сколь различными ни были возраст, воспитание и положение двух друзей, Валентин отчасти оказывал благотворное влияние на Ришара; дурные привычки скульптора слишком прочно укоренились в его душе, чтобы он мог с ними расстаться; Ришар не стал лучше, но стал не настолько плохим, каким был прежде; он оказался способен на дружбу и благодарность и в конце концов искренне полюбил Валентина, так что беспощадно убил бы всякого, кто посмел бы покуситься на жизнь молодого ювелира, и, защищая его, дал бы изрубить себя на куски; кое-что значило и то (и это был шаг вперед), что за все время их дружеской связи он сумел удержать в узде свою склонность к насмешкам и дерзким выходкам и позволял себе в разговорах с Валентином лишь своего рода почтительную фамильярность.
XIV
СТАТУЭТКА "БРАТСТВО"
Пожеланию, которое, как мы слышали, выразил г-н Батифоль, по всей видимости, суждено было осуществиться.
В результате событий, описанных в предыдущей главе, Ла-Варенна стала привычным местом остановки судна Ришара Люилье, и Валентин, которого скульптор прежде не без труда мог убедить принять участие в своих речных походах, стал постоянным пассажиром "Чайки".
Однажды утром, в воскресенье, примерно спустя месяц после того, как молодые люди впервые встретились с Юбертой, бледный и взволнованный Валентин расхаживал по своей маленькой комнате, занимаемой им в их общей квартире и обставленной с почти монашеской простотой.
У него, как и у всех тех, кого не терзают угрызения совести, честолюбие или страсти, всегда был необычайно спокойный, даже безмятежный вид. Тем более явно бросалась в глаза столь непривычная для молодого человека грусть, которая в тот день была написана на его лице.
Он долго стоял, облокотившись о камин, и смотрел на украшавшую его замечательную статуэтку друга, олицетворяющую Братство, с восторгом и умилением, как будто эта фигурка могла вернуть его назад, в те более счастливые времена, когда она была создана.
Наконец, Валентин, по-видимому, принял решение: он вздохнул, провел рукой по голове, которая уже начинала лысеть, несмотря на его молодость, и вошел в мастерскую.
В отличие от своего друга, скульптор выглядел очень веселым и, очевидно, не считал нужным скрывать своей радости: он распевал голосом скорее сильным, чем музыкальным, баркаролу, которую принято было петь на борту "Чайки".
Причина его радости, как и выбора песни, с помощью которой выражалось это чувство, красовалась на трех стульях и представляла собой три ослепительно новых костюма неаполитанских матросов.
Члены команды "Чайки", как до сих пор водится в гребном спорте, были простыми мастеровыми; по воскресеньям, следуя зову души, они превращались в моряков, объединяясь с другим, более удачливым и обеспеченным любителем катания на лодке, уже сумевшим приобрести главное средство для их досуга.
Гребцы вносили в качестве лепты в общее дело свои руки, предоставляя хозяину судна преимущество сидеть у руля; кроме того, они уступали ему право называть их пройдохами, никудышными псами и сухопутными крысами, а также награждать другими нелестными эпитетами из запаса крепких моряцких словечек. Однако тому, кто присвоил себе звание капитана, приходилось в этом поистине братском союзе брать на себя все расходы на излишества и прихоти.
А уж в области прихотей фантазия Ришара Люилье была поистине безгранична.
Он все время наряжал своих приятелей в различные матросские костюмы, которые ему удавалось раздобыть; но с некоторых пор скульптора преследовала мысль об одном новшестве, которое, по его мнению, должно было произвести неотразимое впечатление на порт Берси и прочие места на всем протяжении так называемого "марнского тура".
"Марнский тур" — это водная прогулка, которая начинается с вхождения в Марну по Сен-Морскому каналу, проходит мимо Ла-Варенны и заканчивается у места впадения этой реки в Сену.
Ришар некоторое время колебался, обуреваемый то ленью, то желанием; но несколькими днями раньше его желание, казалось, получило новый толчок: он работал без передышки целую неделю, в результате чего его гипсовые фигурки перекочевали в руки торговца, а он стал обладателем трех великолепных костюмов неаполитанских матросов.
Все было на месте: и холщовые туфли на веревочной подошве, и ярко-красные колпаки, и штаны с продольными красными и белыми полосами, оставляющие ногу наполовину оголенной, и накидки с капюшоном, такие же пестрые, как наряд арлекина.
Накидка, которая предназначалась самому капитану, в соответствии с его званием была украшена тонким золотым кантом. Ришар не переставал восхищаться обновой; он то и дело набрасывал ее себе на плечи и раскачивался, размахивая широкими рукавами, чтобы оценить всю их прелесть, а также смотрел, какое выражение капюшон придает его лицу; он мерил накидку снова и снова.
При виде этих приготовлений Валентин нахмурился и еще больше побледнел.
Однако Ришар был слишком поглощен своим занятием, чтобы обращать хоть какое-нибудь внимание на выражение лица своего друга.
— А! — воскликнул он, заметив Валентина. — Если бы ты согласился внести себя в список команды "Чайки", у нее было бы все, для того чтобы прославиться сегодня. — Ну, что ты скажешь об этом костюме? Мы будем достаточно нарядными?
— Я скажу, — ответил Валентин, — что эти одеяния были бы более уместными на карнавале в Ла-Куртиле, нежели на скамьях твоей шлюпки.
— Перестань! Ты опошляешь мою команду. Послушай, ты о чем-то жалеешь? У меня еще осталось шестьдесят франков, и через час у тебя будет все, что пожелаешь.
— Нет, ты же прекрасно знаешь, что мне не по душе маскарады. Можно ли узнать, ради кого ты тратишь столько денег?
Произнеся эти слова, Валентин так пристально посмотрел на друга, что тот слегка смутился.
— Ради кого? Ради кого? Тысяча чертей! Да просто, чтобы позлить лихих парней с "Дориды", которые столько раз, чтобы ошеломить буржуа, изображали марсовых в своих дрянных рубахах из красной бумазеи, и потом…
— Нет, — твердо ответил Валентин, — я достаточно хорошо тебя знаю и ни за что не поверю, что ты согласился работать неделю без перерыва только ради этого.
— Ладно, уж если признаваться, я задумал кое-что еще.
— Что именно?
— Я надеюсь, что эта форма прельстит того, кого мне уже давно не хватает.
— Кого же тебе не хватает?
— Юнги, черт побери! На каждом корабле, каким бы крошечным он ни был, имеется юнга. Закон предписывает это даже рыбакам. Кроме того, в этом есть свои преимущества — эго удобно в быту и приятно во время плавания: юнга сбегает за табаком, нальет вина марсовым и споет, когда у экипажа начнется загул. Мне тоже нужен юнга, но это не будет ни потаскушка, как Клара с "Дориды", ни неряха, как Карабина с "Речной колдуньи".
— И кому же ты уготовил это место?
— Черт возьми! Я не стану от тебя скрывать — той самой малышке, — ответил Ришар с наигранным легкомыслием и безразличием.
— Внучке рыбака из Ла-Варенны? Юберте?
— Ты не находишь, что она прелестна? Гибкая, как брам-стеньга, управляется с веслами, как старый морской волк, сращивает канаты так ловко, как никто в верховьях Сены, и вдобавок мила, приветлива, весела! Клянусь килем, другого такого сокровища мне не найти.
— Однако, — возразил Валентин, чей голос звучал приглушенно, а рука, опиравшаяся на спинку стула, дрожала, — прежде, чем сделать девушке такое предложение, ты должен убедиться, что она питает к тебе некоторую симпатию… что она любит или может тебя полюбить.
— Ты знаешь меня достаточно хорошо, чтобы понять, что фатовство не мой порок, — ответил скульптор, краснея. — Я не настолько глуп и не решился бы на такой шаг, не будь я совершенно уверен, что мне позволено так поступить.
Валентин некоторое время хранил молчание; он так тяжело дышал, что, казалось, сейчас задохнется, и его рука, продолжавшая опираться на спинку стула, сильно дрожала от нервного возбуждения.
— Ришар, — наконец, произнес он, — ты хорошо обдумал то, что собираешься предпринять?
— Полно! — воскликнул капитан "Чайки". — Ты сейчас откроешь с левого и правого борта перекрестный огонь из нравоучений, а меня, видишь ли, так и подмывает сказать о морали то же, что кто-нибудь другой сказал бы о шпинате. Я очень рад, что не люблю ее, ибо, если бы я ее любил, мне пришлось бы ее проглотить, а меня от нее тошнит. Следовательно, если ты собираешься читать мне нравоучения, я уйду.
— Тебе незачем уходить.
— Хорошо, тогда скажи, неужели ее придется пожалеть, если она завербуется на мой фрегат? Я люблю эту малышку всей душой.
— Нет, ты ее не любишь. Если бы ты ее любил, ты не стал бы требовать, чтобы она пожертвовала своей женской честью в доказательство любви к тебе; если бы ты любил Юберту, ты уважал бы ее и при мысли, что собираешься низвести ее до уровня тех, которые только что были тобою упомянуты, твое сердце содрогнулось бы от возмущения.
— Но, в конце концов, она мне нравится, — продолжал скульптор сердитым, почти угрожающим тоном.
— Да, и раз девушка тебе нравится, значит, надо ее опозорить?
— Опозорить! Можно подумать, что речь идет о королеве Маркизских островов!
— Ришар, неужели я слышу от тебя такие слова, ведь ты столько раз с гордостью причислял себя к простым людям? Если какой-нибудь хозяйский сынок соблазнит девушку из народа, это вполне понятно — в конце концов, чего еще от него ждать! Но если мы станем покушаться на честь своих сестер по бедности и несчастью — это же самое настоящее кощунство!
— Выходит, члены команды "Чайки" теперь навеки обречены соблазнять одних герцогинь? Нет уж, спасибо, мы на это не согласны!
— Ах, Ришар, Ришар! Не старайся быть хуже, чем ты есть на самом деле. По воле Провидения тебе удалось спасти Юберту от бесчестья, а теперь ты сам хочешь совершить злодеяние, которого тогда не допустил, заклеймив и наказав виновного у меня на глазах? Я отказываюсь в это верить, Ришар.
— Однако, — с пробудившимся в нем недоверием возразил скульптор и пристально посмотрел на друга, словно пытаясь проникнуть в его мысли, — я впервые вижу, чтобы ты так сильно интересовался какой-нибудь женщиной.
— Тебе ли, Ришар, удивляться, — ответил Валентин, делая над собой усилие, чтобы казаться спокойным, — что я проявляю участие ко всем страждущим?
— Нет, — продолжал скульптор, как бы размышляя вслух, — нет, вряд ли ты захотел бы порисоваться перед другом. К тому же, я тебя знаю: ты покрыт броней и твой панцирь надежно защищает тебя от маленького шалопая с луком и стрелами. Насколько мне известно, у тебя никогда не было любовницы.
— И никогда не будет.
— Поклянись в этом, — сказал капитан "Чайки", видимо нуждавшийся в том, чтобы друг развеял его последние подозрения.
— Клянусь! — ответил Валентин с некоторой торжественностью, словно прочитав мысли друга.
Казалось, Ришар был охвачен сильным волнением.
Живость, веселый нрав, простодушное обаяние, а также красота Юберты покорили скульптора. В течение месяца он лелеял мечту сделать девушку одновременно дамой своего сердца и юнгой своего небольшого судна, и каким бы авторитетом ни пользовался у него Валентин, тот не мог заставить Ришара отказаться от столь радужного будущего.
— Сотни тысяч чертей! — вскричал скульптор, как никогда часто прибегавший к словам из языка моряков. — Как глупо было с моей стороны показывать тебе свои флаги, прежде чем юнга ступил на борт корабля! Каким же я был дураком, когда рассказал тебе о своих планах!
— Я избавлю тебя от этих угрызений совести, Ришар, — промолвил Валентин. — Послушай, я никогда ни о чем тебя не просил, так вот, сейчас я прошу: откажись от своей затеи ради нашей дружбы.
— Постараемся! — резко ответил капитан "Чайки". — Сегодня праздник в Аржантёе, и там будут лодочные гонки; так вот, моя шхуна возьмет курс в ту сторону, вместо того чтобы совершать прогулку по Марне. Я буду пить, шуметь, валяться под столом, и горе тому, кто встанет у меня на пути! Ах! Пусть только посмеют меня разозлить! Пусть только посмеют!
Произнося эти слова, скульптор взял со стула три костюма неаполитанских матросов и сложил их; закончив фразу, он сунул сверток под мышку и ушел, не попрощавшись с другом, с недовольным и обиженным видом школьника, только что получившего внушение от учителя.
Когда шаги Ришара под аркой ворот затихли, Валентин дал волю своей печали. Опустившись на стул, он воскликнул, рыдая:
— О Боже, Боже! Она любит Ришара!
Еще долго и неподвижно он сидел в одной и той же позе, подпирая голову рукой; по его щекам струились слезы; скатываясь вниз, они оставляли на полу причудливый след.
Наконец молодой человек поднял голову и, грустно улыбаясь, сказал:
— По крайней мере, теперь я смогу с ней видеться, не подвергая опасности ни ее, ни себя… Я дал клятву.
XV
О ТОМ, КАК КАПИТАН "ЧАЙКИ"
РЕШИЛ ПОЙТИ НА АБОРДАЖ
Мы видели, что Ришар, расставшись с другом, в очень плохом настроении ушел из дома.
Скульптор шагал вдоль берега канала, направляясь к Сене, и, чем дальше он удалялся от дома, тем больше усиливался его гнев.
Ришар не выносил, когда противились его прихотям, но эта прихоть, по-видимому, была ему дороже всех остальных, ибо его досада граничила с бешеной яростью.
На ходу Ришар продолжал вести сам с собой диалог с ярко выраженной мимикой; он обвинял Валентина в нелепой показной добродетели и награждал его не очень учтивыми эпитетами; впрочем, скульптор не щадил и себя, ставя себе в упрек слабость, из-за которой ему приходилось терпеть моральное превосходство друга, и, подкрепляя свои жалобы жестами, то и дело грозил кулаком свертку, который он нес под мышкой.
Наконец, он дошел до моста Мари, где стояла его любимая шхуна.
Ришар был настолько раздосадован тем, что без возражений согласился на просьбу Валентина, что, к великому изумлению сторожа, промышлявшего стиркой белья и заодно караулившего шлюпку, не стал тщательно осматривать корпус, рангоут и такелаж своего судна, что с отеческой заботливостью делал всякий раз, когда ступал на его борт.
Он угрюмо спросил, здесь ли Коротышка и его приятель; услышав отрицательный ответ сторожа, он молча повернулся к нему спиной и уселся на одну из скамеек судна.
Бывают дни, словно помеченные черным крестом, когда у вас ничего не получается. Казалось, все объединились против скульптора, чтобы разозлить его еще больше; даже всегда столь исполнительные члены команды куда-то исчезли.
Люди, обладающие неограниченной властью, будь то короли или капитаны, даже капитаны какой-нибудь "Чайки", похожи друг на друга в одном: они не выносят ожидания. Во время этого тягчайшего из испытаний Ришар размышлял о том, как избавить себя в дальнейшем от подобных неурядиц, введя в столичном флоте порку линьком. Наконец, он заметил двух своих матросов; они спускались по лестнице набережной, поглядывая по сторонам, будто праздные гуляки, которым некуда спешить.
— Разрази вас гром, проклятые бездельники, вы можете поторопиться? — закричал на них скульптор.
Молодые люди повернули головы и, увидев капитана, ускорили шаг.
— Тысяча чертей, вы что, тоже издеваетесь надо мной? — спросил Ришар, когда его подчиненные встали перед ним на вытяжку, отдавая честь правой рукой.
— Капитан, ей-Богу, мы не виноваты, — ответил Коротышка.
— Слушай, ты лучше держи свою брехню в закрытом трюме; я и так знаю чертовы отговорки, которыми ты собираешься меня угощать, и меня уже сейчас от них тошнит: служба важнее всего!
— Капитан, — продолжал упрямый Коротышка, — дело в том, что присутствующий здесь Шалламель поделился со мной одной идеей, и я решил, что она не лишена смысла и правдоподобия.
— Шалламель — дурак.
— Я не спорю, капитан. И все же, увидев Валентина в кукушке, направлявшейся в Ла-Варенну, он подумал, что вы уехали вместе с ним, решив не явиться разок на свидание с "Чайкой"… так что…
— Ты видел Валентина в экипаже, направлявшемся в Ла-Варенну?! — вскричал Ришар, хватая Шалламеля за галстук и встряхивая его, словно дерево, с которого хотят сбросить майских жуков.
— Конечно, капитан, но… но… вы меня задушите!
— Когда же ты его видел?
— Совсем недавно, когда проходил через площадь Бастилии.
— Этого не может быть.
— Я клянусь, капитан, и вот вам доказательство: в упряжке было две лошади: белая и пегая, и Валентин смотрел в окно. Ну вот я и подумал: судно каждую неделю ходит по одному и тому же курсу; понятно, что капитану это надоело.
Ришар отпустил Шалламеля и опустился на скамью, явно ошеломленный и удрученный услышанным.
— Так надо мной посмеяться! — пробормотал он. — Ох, подлец! Он воспользовался моим дружеским расположением и сыграл на моей верности! Ах! Мне следовало остерегаться всех этих притворных вздохов и красивых чувств… Только такой дурак, как я, мог не заметить, что Валентин влюблен в Юберту, и угодить в западню, которую он мне устроил, чтобы сколько угодно любезничать с ней!
— Капитан, вы должны отомстить за себя, — сказал Коротышка.
— Разве я тебе что-нибудь говорил? — грозно осведомился скульптор.
— Нет, но ваши глаза, движения, лицо… тут и без кронциркуля ясно, что в вашем корпусе бурлит ярость, и понятно, по какой причине. Вы с Валентином старались утереть нос тому, кто влюбился бы в хорошенькую рыбачку; мыс Шалламелем не раз обсуждали это. Этот недотрога Валентин решил сделать то же самое по отношению к вам, ведь, когда вы узнали, что он в Ла-Варенне, вы так переполошились, словно услышали сигнал "все наверх!". Ну вот, нельзя допустить, чтобы такая сухопутная крыса, как он, обставила самого заправского из гребцов, какие только есть в верховьях Сены. Тут затронута честь всего речного флота; вы должны увести у него малышку, и, если вам понадобится подмога, чтобы приучить его к корабельной жизни, мы здесь, капитан. Не так ли, Шалламель?
— За весла, ребята, за весла! — вскричал Ришар, видимо приняв какое-то решение.
Членам команды хотелось показать, что они горят желанием сдержать слово, данное капитану: не прошло и двух минут, как судно было готово к отплытию и молодые люди сидели на своих местах, собираясь взяться за весла.
— Весла на воду! — приказал скульптор.
Послышалось, как весла одновременно врезались в воду, и "Чайка", легкая и стремительная, как птица, чье имя она носила, заскользила против течения.
Они шли до Шампиньи с таким напором и быстротой, какую любители речного спорта обычно приберегают для гонок, и останавливались, лишь когда Ришар сменял одного из гребцов, чтобы ускорить ход судна и дать отдохнуть товарищу.
Когда они проходили мимо ограды сен-морского парка, Ришар уступил руль Коротышке и принялся с такой яростью работать веслом, что оно гнулось как тростник под его мощными ударами.
— Не так быстро, не так быстро, капитан, — взмолился Коротышка, — бедный Шалламель не может за вами угнаться; я вынужден равняться на вас, и эти заносы замедляют ход "Чайки". Не бойтесь, мы успеем вовремя. Посмотрите, волнорез рассекает воду, не оставляя на ней ряби; "Чайка" может плыть не хуже рыбы, когда у той один плавник не длиннее другого. Стойте, стойте! — внезапно закричал рулевой.
Гребцы одновременно подняли весла, но судно, двигавшееся по инерции и подгоняемое течением со стороны Тир-Винегра, в которое они попали, продолжало лететь как стрела.
— Нет, нет! — воскликнул Коротышка, видимо осознав, что его команда не помогла достичь намеченной цели. — Весла на воду! Греби по правому борту, табань по левому борту! Так-так, пошли к берегу.
— Что случилось? — спросил Ришар.
— Вы сейчас убедитесь, что Шалламель вас не обманул; кажется, дьявол на нашей стороне, он хочет сократить нам часть пути; те, кого мы искали, перед нами.
Скульптор поспешно поднялся и встал на своей скамье во весь рост; между тем Шалламель пытался остановить шлюпку, схватившись за ветку одного из прибрежных кустов.
Ришар заметил в пятистах шагах от них, ниже по течению, лодку папаши Горемыки, с трудом поднимавшуюся по реке; Валентин правил лодкой, а Юберта сидела на корме.
Девушка и юноша были одни; как видно, старик остался на берегу.
Получив явное подтверждение того, что он называл предательством друга, Ришар смертельно побледнел; он сжал кулаки и с угрожающим видом протянул их в сторону молодых людей.
— Спасибо, Шалламель, спасибо, Коротышка, — сказал капитан прерывающимся от гнева голосом, — я сейчас сойду на берег. Отгоните "Чайку" в Шампиньи и ступайте освежиться к папаше Фристо; вы это заслужили, ребята. Я присоединюсь к вам через час.
— Капитан, — возразил Коротышка, — мы не из тех, кто опрокидывает стаканчик вина, когда товарищу нужна, может быть, наша помощь; мы пришвартуем судно и вернемся к вам.
— Нет, ребята, я должен быть один; когда вы мне понадобитесь, будьте покойны, я не забуду, что вы мои друзья, и к тому же верные друзья.
Лодка стала удаляться, а Ришар воспроизвел маневр, столь печально закончившийся для г-на Батифоля: он спрятался в ивовых зарослях и стал следить за молодыми людьми.
Между тем они вытаскивали снасти Франсуа Гишара, осматривали верши и вентеря, а также вытягивали донные удочки. И девушка и юноша казались очень веселыми; до скульптора долетали взрывы смеха Юберты, которую неловкость Валентина, не искушенного в рыбацком деле, по-видимому, очень забавляла.
Подобно всем ревнивцам, Ришар, не слышавший разговора молодых людей, вообразил, что они смеются над ним; он не сомневался, что его друг развлекает Беляночку рассказом о том, как он помешал несносному капитану "Чайки" принять участие в их развлечениях.
Скульптор дорого бы дал, чтобы услышать, о чем они говорят.
Молодым людям приходилось не просто вытаскивать удочки, а приводить их в порядок: снимать крючки, очищать и отмывать их от остатков приманки, а также скручивать лесу; несомненно, Юберта попросила Валентина помочь ей справиться с этими обычными в рыбацком ремесле хлопотами, поскольку молодые люди пришвартовали лодку и взялись за дело.
Юноша и девушка находились у нижней оконечности острова Тир-Винегр, в том месте, где, хотя оно и было глубоким, благодаря обратному течению стрелолистник и кувшинки смогли пустить корни и усеяли водную гладь своими копьевидными листьями и широкими нежно-зелеными венчиками.
Как только Ришар понял, где находится молодая пара, он снял одежду, бросился в реку и, обогнув остров вплавь, оказался у противоположной его стороны.
Когда от Юберты и Валентина его отделяло уже небольшое расстояние, он отважно нырнул и, не обращая внимания на стебли кувшинок, обвивавших его ноги, как змеи, держался под водой до тех пор, пока не увидел над своей головой черную тень, которую отбрасывала лодка в желтоватую водную глубь. Тогда Ришар тихо всплыл на поверхность и, действуя на ощупь, дотянулся до носа лодки и уцепился за конец троса.
Передняя часть лодки была приподнята на несколько футов, как у всех подобных суденышек, и надежно скрывала соглядатая от взоров собеседников, позволяя ему не упускать ни слова из их разговора.
— Бедный дедушка, — говорила Юберта, — он всегда с такой радостью берет в руки свои снасти; мне жаль, что пришлось обратиться к вам за помощью, господин Валентин, и я даже не могу поблагодарить вас как следует, потому что сильно волнуюсь.
— Он скоро поправится; я очень на это надеюсь, Юберта, и даже осмелюсь сказать, что не так сильно сожалею об отсутствии вашего деда, как вы.
— Правда, господин Валентин? Как! Вы, к кому дедушка так расположен, платите ему такой неблагодарностью? Что ж, это мило; не могли бы вы сказать, почему вам не жаль, что он заболел?
— Да потому, что вследствие его недомогания мне посчастливилось оказаться с вами наедине, о чем я и мечтать не смел.
— Полно! Вы собираетесь объясниться мне в любви, прямо, как господин Ришар. Ах, господин Валентин, постарайтесь, пожалуйста, быть таким же забавным, как он… Послушайте, начните так: "Слово моряка, малышка, я тебя обожаю!.." или: "Клянусь моим толедским клинком, мадемуазель, ваши прекрасные глаза вскружили мне голову. Перестаньте ее кружить, если не хотите, чтобы я у ваших ног пронзил себе сердце!"
Юберта передразнивала театральные интонации, движения и даже взгляды, с какими капитан "Чайки" произносил эти в высшей степени нежные тирады, заимствованные им из морского лексикона и средневековой речи, чрезвычайно модной в ту пору. Контраст между простодушным лицом девушки и мелодраматическими репликами, которые она воспроизводила, был столь комичным, что Валентин не смог удержаться от улыбки.
— Ах, если бы вы знали, как мне жаль, что господин Ришар не приехал вместе с вами!
— Вы об этом жалеете, Юберта?
— Конечно. Знаете, моя жизнь очень изменилась с тех пор, как мне посчастливилось вас встретить. Дедушка, не терпевший новых знакомств, сразу же вас полюбил, потому что вы оказали мне большую услугу, и еще… еще, потому что вы, как и он, ненавидите парижан. Вот он и отнесся к вам обоим с доверием и, естественно, стал принимать вас в нашем доме. Раньше воскресные дни были такими скучными, а теперь, когда приходят гости, они стали словно праздником. Если бы вы знали, с каким нетерпением я жду воскресенья! Какой долгой мне кажется неделя! Спускаясь с холма после обедни, я гляжу вдаль, на реку, не показалась ли ваша лодка! Я так хорошо помню ее черный флаг с красными звездами! Отругайте за меня хорошенько вашего друга; скажите ему, что он поступил очень дурно, испортив нам с вами день, и все из-за какого-то праздника в Аржантёе — вот уж невидаль!
В то время как Юберта щебетала, Валентин становился все бледнее и глаза его увлажнялись.
— Что вы делаете? — воскликнула Юберта. — Как вы смотали леску! Да ведь мне придется больше часа распутывать клубок, который вы тут сделали! Ришар куда более ловкий, чем вы.
Валентин с досадой отбросил леску.
— Что это вас так задело? О! Какой вы горячий!
— Значит, вы его любите? — с некоторой горечью спросил ювелир.
— Кого? Господина Ришара? О! Всей душой. Но послушайте! Что это копошится там, подлодкой?
— Водяная крыса… Не все ли равно? — ответил Валентин, даже не потрудившись проверить, в чем дело. — Юберта, — продолжал он взволнованно, — дитя мое, вы когда-нибудь думали о том, что порядочная девушка дарит свою любовь лишь тогда, когда она уверена, что возлюбленный попросит у нее вместе с сердцем и руку?
— Сердце? Руку? Да что вы хотите этим сказать, господин Валентин?
— Задумайтесь над моими словами, Юберта. Больше я не вправе ничего сказать вам, хотя и готов отдать за вас жизнь.
— Так вы говорите о моем сердце! — воскликнула Беляночка. — Понятно: вы считаете, что я разделяю ту пламенную страсть, которую господин Ришар уговаривает меня каждое воскресенье разрешить ему живописать мне? Одним словом, вы думаете, что я влюблена в вашего друга?
— Но ведь вы сами только что сказали…
— Ах! Вот уж поистине умора!
Юберта замолчала: вероятно, ее душил смех.
Под носом лодки больше не слышалось никаких шорохов.
— Пусть господин Ришар, — продолжала Юберта, — не воображает, что я, как вы решили, от него без ума, хотя он довольно интересный мужчина. Я испытываю к нему огромное чувство дружбы потому, что он оказал мне услугу, которую я никогда не забуду, а также потому, что он добрый, не высокомерный, и в особенности потому, что вольно или невольно он вечно меня смешит. Но влюбиться в него — ну нет! У меня и в мыслях такого не было; мне кажется, это было бы нелегко.
— Вы говорите правду, Юберта?
— Как они привыкли к выдумкам, эти парижане! Им недостаточно слова честной девушки… Да, кстати, а какое вам до этого дело? Вы что, собираетесь соперничать с вашим другом?
Вопрос Юберты подействовал на Валентина как удар электрическим током, немедленно умерив его восторженную радость по поводу того, что сердце девушки по-прежнему никому не принадлежит. Этот вопрос заставил его успокоиться и устыдиться собственного побуждения; ювелир понял, как гнусно бы он себя повел, провинившись в том, что он сам осуждал в поведении Ришара, и насколько справедливо бы тот мог обвинить его в вероломстве, если бы он попытался занять место друга в сердце девушки.
— Нет, нет, Юберта, — сказал Валентин, — я испытываю к вам чисто братское чувство, а отнюдь не любовь.
— То, что вы мне говорите, наверное, не очень любезно, но мне это больше нравится. Как славно быть друзьями — болтать, смеяться, петь, гулять, не думая ни о чем дурном, не остерегаясь друг друга, и с чистой совестью не обращать внимания на людские толки! И еще танцевать! Как это занятно! Однажды вечером я убежала из дома к переправе, где люди плясали под звуки двух скрипок. Сначала я подражала танцующим без особого удовольствия, но через несколько минут все переменилось. Музыка, которая показалась мне такой визгливой и нестройной, стала зажигательной. Она заставляла меня танцевать по ее воле, и в то же время все вокруг закружилось в вихре — деревья, дома, даже облака; мне казалось, что облака образовали бесконечную цепь, одним из колец которой я стала, и мои ноги были готовы оторваться от земли, чтобы последовать за облаками. Я думала, что сойду с ума, и это безумие было таким приятным, что мне хотелось умереть во время одного из таких мгновений. О! Вы пойдете со мной танцевать, когда в Ла-Варенне будет праздник, не правда ли, господин Валентин?
— Я не умею танцевать, Юберта.
— Вы не умеете танцевать?
— Нет, дитя мое.
— Как же вы собираетесь ухаживать за девушкой, которую полюбите и захотите назвать своей женой?
— Я предложу этой девушке руку, на которую она сможет уверенно опереться, а также сердце, которое всегда будет биться ради нее одной и в котором при жизненных бурях она сможет найти поддержку, не печалясь о прошлом и не заботясь о будущем.
— Ах! Вы рассчитываете прельстить ее именно этим?
— Да, ибо я надеюсь, что у нее будет благородная и правдивая душа, которая сможет оценить всю прелесть непорочной любви двух искренних сердец. Чтобы пленить эту девушку, я расскажу ей о счастье так, как я его понимаю. Прежде всего это будет счастье двух молодых людей, отдавшихся друг другу без всяких скрытых умыслов и ставших единым целым. Один из них будет заботлив, услужлив и прозорлив; другая — добра и верна; он станет приобщать свою подругу к красотам природы и чудесам человеческого разума, чтобы она могла разделить с ним тихую радость, которую они доставляют, а возлюбленная станет обучать своего друга таинственной нежности, которую Бог вложил в сердце женщины, и рассказывать ему обо всех своих мыслях и благих делах. Я также надеюсь покорить эту девушку более строгой, но не менее заманчивой ролью матери большого семейства, окруженной прекрасными детьми, в ком отец и мать вместе продолжают жить, причем дети на примере матери учатся терпению, честности и самопожертвованию, а у отца узнают, как своим трудолюбием служить одновременно Богу, истине и отчизне. Наконец, я смогу пообещать своей избраннице, что она упокоится смертью праведницы, тихо уснув в объятиях единственного на свете человека, которого она любила, с верой, что скоро снова встретится с ним в царстве вечности. Неужели вы думаете, Юберта, что все это не стоит бала и танцев?
Валентин говорил с воодушевлением, и его голос, жесты, а также слова, видимо, произвели на девушку сильное впечатление; она смотрела на него с вниманием, за которым таилась какая-то сокровенная мысль.
— Наверное, вы правы, господин Валентин — произнесла Юберта, чтобы что-то сказать в ответ молодому человеку, когда он закончил, но было ясно: слова девушки не выражали того, что творилось в ее душе, — наверное, вы правы, и все же танцы тоже большое удовольствие.
Затем, словно только сейчас заметив, что они с Валентином оказались одни в пустынном месте, и словно осознав, наконец, всю опасность разговора с глазу на глаз с мужчиной, Юберта с необычайной поспешностью произнесла:
— Уже поздно, и дедушка будет волноваться. Давайте вернемся, господин Валентин, я прошу вас.
Валентин отвязал лодку, и течение стало быстро уносить ее; затем он взялся за весла и направил лодку в сторону деревни.
Юберта сидела на корме; она не щебетала больше, как обычно, а оставалась безмолвной и задумчивой; ее подбородок покоился на ладони, а рука упиралась в колено; временами девушка поднимала свои голубые глаза и смотрела на молодого человека с любопытством и тревогой.
Когда они стали удаляться, из-за куста стрелолисты и ка показалась голова капитана "Чайки", вынужденного из-за движения лодки покинуть свое прежнее убежище и спрятаться в другом месте.
— Все равно, — заговорил вслух Ришар, — ты напрасно твердишь ей о добродетели; благодаря тебе я теперь знаю, как к ней подступиться. Мы идем рука об руку, дружище Валентин, и теперь самое время решить, кому достанется красотка.
Скульптор бросился в воду и переплыл реку лихими матросскими саженками; выйдя на берег, он привел в порядок одежду и направился к членам своей команды. Весь вечер у капитана был сияющий вид; он и его подчиненные, как истинные дети Нептуна, веселились до самого утра.
XVI
ПРАЗДНИК В ЛА-ВАРЕННЕ
Вернувшись в их квартиру на улице Сен-Сабена, Ришар не стал требовать у друга никаких объяснений и в дальнейшем избегал разговоров о старом Гишаре и его внучке, притворяясь, что ему это не интересно, и, таким образом, вводя ювелира в заблуждение.
В следующее воскресенье Валентин спросил скульптора, не хочет ли он отправиться с ним в Ла-Варенну; когда они вновь встретились с Беляночкой, ювелир заметил, что поведение капитана "Чайки" по отношению к девушке сильно изменилось: он по-прежнему держался с ней так же развязно, как и с прочими женщинами, но уже не допускал при общении с хорошенькой рыбачкой тех дерзких вольностей, какие позволял себе в первые дни их знакомства.
Валентин полагал, что скульптор полностью избавился от своей прихоти, и с удовлетворением заметил, что обладает достаточным влиянием, чтобы отговорить друга от его замысла; в глубине же души он испытывал безотчетную радость, выражавшуюся во все возраставшей дружеской признательности, о причинах которой Ришар догадывался. Раньше молодой ювелир считал себя обязанным сдерживать свое чувство, а теперь оно избавилось от оков и быстро овладело его душой. Об этом без труда можно было судить по его нежным взглядам на Юберту, когда он был с ней рядом, по восторгу, с каким он ловил каждое ее слово, по его задумчивому виду и печали, написанной на его лице, когда он возвращался в Париж. Однако молодой человек, по-видимому, считал, что, с тех пор как он попросил друга пожертвовать своей прихотью ради их дружбы, прошло слишком мало времени и он пока не вправе притязать на место в сердце Юберты, которое Валентин умышленно оставлял свободным, хотя, в отличие от Ришара, имел серьезные намерения по отношению к девушке. Он умалчивал о том, что происходит в его сердце, и больше не заводил с Юбертой речи о любви и браке, как в тот день, когда капитан "Чайки" подслушал их разговор на реке.
Юберта относилась к обоим друзьям примерно одинаково, испытывая к тому и другому бесхитростную симпатию, сердечное радушие и детскую нежность; однако, если бы понадобилось установить какое-нибудь различие в ее отношении к ним, то следовало бы отметить, что, по мере того как Валентин становился все более предупредительным и пылким по отношению к девушке, она отвечала ему все более холодно и сдержанно, в то же время ласково поглядывая на Ришара, ограничившего с некоторых пор свои притязания тем, что позволительно в дружеском общении. Когда Юберта оставалась с Валентином наедине, она выглядела смущенной, задумчивой и чуть ли не печальной, мало говорила и почти не улыбалась, как будто хотела, чтобы их разговор с глазу на глаз поскорее закончился. Когда же приходил Ришар, она вела себя непринужденно, со свойственной ей живостью — одним словом, вновь становилась сама собой.
Будучи мнительным, подобно всем влюбленным, Валентин, очевидно, заметил, что Юберта относится к нему и его другу с разной долей симпатии; видимо сомневаясь в искренности внучки Франсуа Гишара, а также из-за соображений, о которых мы только что упомянули, он не спешил признаваться ей в любви.
И вот настал сентябрь; в первых числах его в Ла-Варенне должен был состояться деревенский праздник.
На протяжении двух месяцев г-н Батифоль был всецело поглощен подготовкой к этому торжеству, что позволило ему отвлечься от горьких воспоминаний о своем злополучном приключении.
Лишь только стены новой деревни показались над землей, как ее создатели принялись строить несбыточные планы по поводу ее будущего, с завистью поглядывая в сторону соседних селений.
Послушать их, так правительство должно было оставить свои тревоги по поводу недружелюбного отношения к нему европейских государств и заняться благоустройством Ла-Варенны — пожаловать ей церковь, школу, пожарную водокачку, — одним словом, все те учреждения, включая сельскую полицию, которые оно без всяких споров жертвовало населенным пунктам, хотя и более многолюдным, но, безусловно, несравнимым с новым центром по части исключительной незаурядности каждого из его обитателей.
Патриоты Ла-Варенны вскоре дошли до того, что стали оспаривать у Сен-Мора право иметь ратушу, требуя для себя городских привилегий.
Как и следовало ожидать, столь честолюбивые притязания, сопровождавшиеся упреками в адрес властей, не возымели никакого успеха и были отвергнуты; тогда жители Ла-Варенны попытались вознаградить себя мелочами.
В Сен-Море уже был свой праздник, и обитатели полуострова решили последовать примеру соседей.
Господин Батифоль, подавший эту идею, всячески разжигал аппетиты земляков; он понимал значение и ценность рекламы и охотно прибегал к ней, чтобы поскорее отделаться от остававшейся у него земли, однако затея Батифоля требовала больших расходов, и это его останавливало; наконец он придумал, как осуществить свой замысел за счет сограждан и решительно встал во главе данного начинания.
Неделю спустя после получения соответствующего разрешения повсюду были развешаны большие желтые плакаты, извещавшие население Парижа и его предместий, что любители сельской жизни могут бесплатно приобрести превосходный загородный дом.
Господин Батифоль придумал хитроумный план, чтобы сбыть несколько арпанов принадлежащей ему земли по хорошей цене, — он решил разыграть их в лотерею, а билеты ее должны были распространяться среди всех участников праздника.
Что касается упомянутого загородного дома, то он существовал лишь в воображении г-на Батифоля; однако справедливо будет добавить, что тот, кому улыбнулась бы удача, вполне имел бы право его построить.
Развешанные объявления пользовались небывалым успехом; все жители восточных предместий поспешили на берег Марны; лишь один человек мог вытащить счастливый билет, но каждый надеялся, что ему повезет; те же, кому не суждено было удостоиться награды, должны были довольствоваться состязаниями на шестах, гонками лодок различных типов, играми в узлы и в кадушку, танцами и прочими развлечениями, которые г-н Батифоль, прекрасно осведомленный о пристрастиях публики, не побрезговал присовокупить к главной части своей программы.
С самого утра берег являл собой необычное зрелище.
Несколько особенно настойчивых зевак, образовав кружок, разглагольствовали о предстоящих забавах; ярмарочные торговцы вбивали молотком последний гвоздь в свои недолговечные сооружения; собаки, удивленные непривычной суматохой, лаяли; дети с изумленными личиками бродили вокруг самодельных лавочек и облизывались; виноторговцы тоже не сидели без дела. Если со стороны нельзя было судить о приготовлениях к празднику, то вблизи нетрудно было оценить их размах по отвратительному запаху горелого жира, отравлявшему на пятьсот шагов кругом всегда такой чистый воздух долины.
Господин Батифоль в черном костюме с белым галстуком расхаживал взад и вперед с важным видом генерала армии; он отдавал приказы надменным и властным тоном, следя за тем, как устанавливают буйки для гонок, водружают стяги и развешивают гирлянды листьев; он даже не брезгал порой приложить руку к делу, по его выражению, и помог рабочим поднять шест с призами.
Один лишь папаша Горемыка казался неуместным на фоне этой бурной деятельности и всеобщего веселья.
Сколько Юберта ни уговаривала старика, так охотно достававшего свою парадную шляпу в честь открытия сезона рыбной ловли, он никак не соглашался надеть праздничную одежду. Подобно тем легитимистам, что продолжали после восшествия короля Луи Филиппа на престол в августе 1830 года еще долго величать его господином герцогом Орлеанским, Франсуа Гишар не желал признавать происшедших в Ла-Варенне перемен; он решил отсидеться дома во время праздника, как поступают богатые вдовы из аристократических предместий во время народных гуляний.
— Чему мне радоваться? — говорил он Беляночке. — Тому, что в наших краях теперь все перевернуто вверх дном и я больше не узнаю тех мест, где прожил больше чем полвека? Или тому, что каждый день на моих глазах валят деревья, которые служили вехами для моей памяти, и расчищают тем самым место для какого-нибудь парижанина, который обидит тебя, дитя мое, завтра, если еще не сделал этого вчера? Чему мне радоваться? Быть может, тому, что буржуа заняли место, которое освободили дворяне? Тому, что, хотя теперь нет прежних привилегированных особ, остались прежние привилегии? Тому, что вместо шпаги, дававшей право относиться к беднякам со спесью, высокомерием и тщеславием, сегодня это позволяет делать монета в сто су? Помилуйте! Можешь веселиться, Беляночка, раз уж ты воткнула себе в волосы свои праздничные заколки, но у меня к этому душа не лежит.
— Нет, дедушка, я снова говорю вам: одевайтесь, так надо; у меня есть серьезные основания настаивать на этом.
— Что ж, выкладывай, в чем дело.
— Ну как же, дедушка! — отвечала Юберта, слегка покраснев. — Господин Валентин и господин Ришар вот-вот должны прийти, и…
— И ты хочешь, чтобы твой дед вырядился ради них? Я думаю, что господину Валентину нужно одно: лишь бы ты была красива, и, сдается мне, он будет доволен, ведь за то время, что ты прихорашивалась, я бы успел расставить полдюжины вентерей.
— Почему вы назвали господина Валентина, а не господина Ришара? — спросила Юберта, скручивая один из концов своего фартука.
— Эх! На это у меня свои причины, Беляночка, и я уверен, что в глубине души ты их одобряешь, хотя и не знаешь, что это за причины.
— Нельзя ли это узнать, дедушка? — спросила девушка с улыбкой.
— Дело в том, что господин Валентин, хотя его занятие совсем не напоминает наше, а сам он несколько смахивает на господина, внушает мне такое доверие, что я смогу умереть со спокойной душой, если прежде соединю ваши руки. Я выложил тебе все начистоту, Беляночка, будешь ли ты со мной такой же откровенной? Ну, скажи, по нраву ли тебе этот парень, как и мне?
— Дедушка, я не могу сказать, что господин Валентин мне не нравится.
— Это уже кое-что.
— Но если уж говорить правду, — поспешно продолжила Юберта, — так вот…
— Так что?
— Я не раз спрашивала себя, дедушка, я много раз думала, буду ли счастлива, если выйду замуж за господина Валентина, и я не знаю отчего, но эта мысль приводила меня в трепет.
— Эта мысль приводила тебя в трепет?
— Да, хотя я очень расположена к нему; когда я вижу Валентина, когда я слышу его голос, я вся расцветаю. И все же, когда он рядом, мне почему-то грустно — он такой серьезный, такой строгий!
— Скажи лучше: такой порядочный.
— К тому же, дедушка… Ох! Я могу вам в этом поклясться, господин Валентин никогда не говорил, что любит меня, и мы теряем время на бесполезные догадки.
— Да, да, ты права, не стоит попусту мечтать, но будь покойна, Беляночка, господин Валентин не постыдится пожать мне руку, даже если она будет высовываться из рукава рабочей блузы. Что касается его друга, я не думаю, что тот станет привередничать, ведь он сам намазывает дегтем новенькие матросские блузы, чтобы все думали, будто он плавал в них по морю. Так что не волнуйся, Беляночка, и дай мне отдохнуть.
Что же представлял собой отдых Франсуа Гишара, когда солнце было на небосводе?
Рыбак с закрытыми глазами, совершенно неподвижно сидел у очага либо перед дверью; он не спал, но и не воспринимал окружающих звуков, настолько глубоко был погружен в свои мысли и сосредоточен на своих воспоминаниях.
Юберта знала по собственному опыту, что, когда ее дед предается созерцанию картин прошлого, трудно оторвать его от этого, поэтому она не стала больше настаивать на продолжении разговора и отправилась на берег посмотреть, как подходят лодки.
Бедная девушка была задумчива; слова, произнесенные стариком, прояснили ей сложившееся положение, подобно тому как порыв ветра разгоняет на небе тучи. Однако, хотя небо очистилось, стало ли оно безмятежным? Юберта не раз задавалась одним и гем же вопросом и не находила на него ответа, так же как она не могла ответить на вопрос своего деда. Она часто спрашивала себя, кого бы предпочла видеть своим мужем — Валентина или Ришара. Доводы разума заставляли ее склоняться в пользу Валентина, но любовь к развлечениям влекла ее к Ришару.
Девушка печально и безмолвно сидела на берегу примерно с полчаса, но внезапно ее лицо прояснилось и она бросилась к хижине с криком:
— Вот они! Вот они!
Папаша Горемыка стряхнул с себя оцепенение и медленно направился к реке.
В самом деле, "Чайка" в сопровождении семи-восьми лодок, собиравшихся принять участие в гонках, показалась на повороте, который делает река ниже острова Сторожей.
В честь праздника скульптор украсил судно флагами, и члены команды облачились в свои нарядные неаполитанские костюмы; яркие флаги развевались, сверкая на солнце.
К великому изумлению Юберты, вместо того чтобы причалить у паромной переправы, как это было принято, "Чайка" отделилась от маленькой флотилии, сделала поворот и подошла к берегу в том месте, где стояли старик и его внучка.
Капитан "Чайки" тотчас же спрыгнул на берег; он весь светился радостью и гордостью в своей накидке с красной подкладкой; глядя на сияющее лицо Ришара, уместно было предположить, что причина такого ликования заключалась не только в общеизвестной и безобидной склонности скульптора к щегольству.
В отличие от него, лицо Юберты, по мере того как судно приближалось к берегу, все больше омрачалось. Она тщетно искала среди этих пестрых одеяний темный строгий костюм, который обычно носил Валентин. Когда лодка описала круг, девушка поняла, что на борту "Чайки" нет молодого ювелира.
Ришар, не спускавший с Юберты глаз с того самого мгновения, как он смог разглядеть ее на берегу, сразу заметил разочарование, написанное на ее лице. Наклонившись к членам своей команды, он тихо сказал:
— Осторожно! Будем благоразумными, как барышни! Отложим боевую тревогу до вечера.
Шалламель и Коротышка кивнули в знак согласия.
Сколь бы искренней и глубокой ни была печаль Беляночки из-за отсутствия Валентина, эта грусть в миг развеялась, когда девушка увидела Ришара, который поднимался по ступенькам, вырезанным в прибрежном дерне; она открыто рассмеялась, глядя на молодого человека, и даже папаша Горемыка, при виде так называемого капитана в красном колпаке и с голыми ногами, утратил свою постоянную серьезность и басом стал вторить смеху внучки.
Этот смех смутил бы всякого, но отнюдь не нашего блистательного красавца; Ришар не стал принимать его близко к сердцу. Он подошел к Юберте, пожал ей руку и с игривой любезностью обнял ее за талию; затем, обращаясь к Франсуа Гишару, он произнес:
— Папаша Горемыка, вы видите перед собой представителя гребцов Сены.
— А я было решил, что вы представитель торговцев вишней, ведь вы похожи на чучело, которым пугают воробьев.
— Папаша Горемыка, — продолжал капитан "Чайки", повысив тон, чтобы заглушить голос своего собеседника, — папаша Горемыка, вы старейшина здешних рыбаков, вы Нестор речного народа, принадлежностью к которому мы гордимся. От имени гребцов, собравшихся в Ла-Варение, я имею честь пригласить вас возглавить дружеский обед, который мы собираемся устроить после гонок.
— Это и вправду большая честь для меня, господин Ришар, — отвечал Франсуа Гишар, — но я не могу на такое согласиться. Вы спасли мою девочку, мы с вами почти товарищи, но из этого не следует, что я друг ваших друзей. Мы с ними имеем отношение к одной и той же стихии, это так, но используем мы ее по-разному. Они пугают рыбу, а я гребу тихонько, чтобы внушить ей доверие. Моя суровая и озабоченная физиономия нагонит тоску на ваших ребят, они же со своей стороны могут растопить мою печаль, как весеннее солнце — снег на полях, а я дорожу своей печалью, так же как они, наверное, дорожат своей радостью.
— Вам нельзя отказываться. Я предложил сделать вас почетным председателем, и все единодушно это одобрили. И потом, мы должны поднять бокалы за свободу морских просторов, за избавление рыб от порабощения и за посрамление Англии, и вам надо быть на обеде, чтобы сказать ответный тост.
Франсуа Гишар продолжал упрямиться, и капитан "Чайки" был вынужден пустить в ход все свое красноречие. Сначала он говорил убеждающе и вкрадчиво, а затем перешел на возвышенный тон; он заговорил об услуге, оказанной Юберте, призывая рыбака не отказывать ее спасителю в единственной просьбе, с которой он посмел к нему обратиться. Ришар проявил такую необычайную настойчивость, что папаша Горемыка в конце концов поддался на его уговоры.
Когда было решено, что дед с внучкой будут присутствовать на обеде, Франсуа Гишар спросил:
— Господин Валентин тоже, конечно, там будет? Почему же я не вижу его здесь?
— Может быть, он приедет, я не знаю точно, — ответил капитан "Чайки", изображая большее замешательство, чем он испытывал на самом деле.
— Неужели он заболел? — перебила его Беляночка с таким живым участием, что в глазах молодого человека промелькнула искорка гнева.
— С ним что-то случилось? — под влиянием искренней симпатии, испытываемой им к ювелиру, спросил папаша Горемыка.
В ответ Ришар подмигнул и щелкнул языком; видя, что старик не понял его намека, он отвел его в сторону и сказал, понизив голос, но достаточно громко, чтобы его слова долетели до Юберты, которая, как он видел, прислушивалась к их разговору:
— Еще бы! Вы же понимаете, что, отдав столько воскресных дней дружбе, наш приятель Валентин может, наконец, посвятить один день любви.
— Я вас не понимаю.
— Как истинный француз, Валентин повел свою возлюбленную на прогулку в Сен-Клу. Теперь вам ясно, папаша Гроза Пескарей, в чем дело, ведь мне кажется, что вы, человек добродетельный и необычайный, в свое время тоже любили позабавиться?
Папаша Горемыка лишь пожал плечами, как обычно, когда его молодой друг позволял себе какую-нибудь выходку, но Юберта побелела, как ее батистовый чепчик.
Ришар заметил это; сославшись на то, что ему нужно что-то взять на судне, он подошел к Коротышке и сказал:
— Приготовься к авралу; мне стоило сегодня большого труда все устроить; через неделю, возможно, было бы уже поздно. Пригони шхуну к девяти часам в Фалоньер, она может мне понадобиться; да не перекладывай это на Шалламеля, слышишь, Коротышка? Это добрый малый, но если он опустошит хотя бы одну бутылку, нельзя рассчитывать на его исполнительность и молчание. Присматривай за ним, а я буду готовить малышку к подъему якоря.
Ришар хотел вернуться к Юберте, но она исчезла: очевидно, девушка вместе с дедом вернулась домой.
Молодой человек последовал за ней; когда он вошел в дом, ему показалась, что Беляночка поспешно утирает глаза платком. В самом деле, ее глаза покраснели от слез.
У капитана "Чайки" было много причин не показывать, что он заметил, как огорчилась Юберта из-за отсутствия Валентина; он попытался развеселить ее своими привычными ужимками и забавными передразниваниями и, когда на губах девушки появилась улыбка, снова начал понемногу входить в забытый было им образ пылкого поклонника; однако Ришар сменил тактику: объясняясь в любви, он держался с Беляночкой так же почтительно, как Валентин.
Юберта долго оставалась смущенной и задумчивой, но затем, словно приняв внезапное решение избавиться от назойливых мыслей и сожалений, продолжавших непонятно почему терзать ее сердце, она мало-помалу стала, как и прежде, отвечать на пылкие речи капитана улыбками, насмешками и всевозможными шутками; в конце концов девушка как будто забыла о Валентине и на вид была так счастлива от присутствия скульптора, проявляя по отношению к нему столько дружеского участия, что тот почти рассердился, когда Коротышка своим приходом нарушил их приятное уединение.
Гонки вот-вот должны были начаться.
К несчастью для Ришара, "Чайка" выиграла два приза, и радость победы в присутствии Юберты, которая вместе со всеми восторженно приветствовала победителя, настолько вскружила скульптору голову, что он совсем забыл о своей роли соблазнителя.
Заметив среди зрителей г-на Батифоля, капитан "Чайки" не смог устоять перед искушением подшутить над ним.
Уж если молодой человек не приступил немедленно к осуществлению своего искусно задуманного плана, разве не мог он подойти к намеченной цели, немного поиздевавшись над лютым врагом дедушки той, которую ему хотелось покорить?
К этому заключению и пришел капитан "Чайки".
Господин Батифоль в честь такого торжественного случая решил рискнуть собственной персоной и записался в число участников лодочных гонок, которые должны были завершить водные развлечения в этот день.
Его костюм, предназначенный для состязаний, был, возможно, и не таким привлекательным, но, разумеется, столь же живописным, как костюмы членов команды "Чайки": Аттила был облачен в одеяние античного борца, с добавлением к нему, с учетом требований нынешних нравов, трико.
Тощая фигура г-на Батифоля, его сутулая спина, костлявые ноги и узловатые колени, обтянутые хлопчатобумажным трико, которое морщило, образуя множество складок, производили необычайно странное впечатление. Однако он был так счастлив в этот чудесный день, что даже не принимал на свой счет насмешливых взглядов, сопровождавших его, и по примеру атлетов не забыл натереть маслом свои руки, оставшиеся обнаженными.
Наконец, был дан сигнал к старту.
Господин Батифоль, обливаясь потом и задыхаясь, усиленно налегал на весла и лез из кожи вон, как каторжник на галерах; он опережал своих соперников и, казалось, столько усилий должны были увенчаться наградой.
Внезапно он увидел рядом с собой ухмыляющуюся физиономию скульптора: сидя в очень легкой лодке, тот следовал бок о бок с тяжелой шлюпкой злополучного чеканщика, осыпая его язвительными замечаниями.
— Сударь, — воскликнул г-н Батифоль, — то, что вы делаете, противоречит правилам!
Однако скульптор словно не слышал его слов и продолжал выкрикивать писклявым голосом, свойственным парижским сорванцам:
— Давай, папаша! Ты сейчас схватишь кролика! Ты уже держишь его за уши, старина!
Другие шутки были ничуть не лучше, однако они приводили г-на Батифоля в ярость, тем более что гребцы, оставшиеся на берегу, подбадривали своего капитана рукоплесканиями и неистовыми воплями.
В течение минуты чеканщик боролся с обуревавшим его желанием со всего маху ударить веслом по хрупкому ялику своего недруга; однако он удержался от этого, вспомнив о физической силе Ришара, в которой ему довелось убедиться на собственном печальном опыте. Он приуныл, вышел из сутолоки соревнующихся лодок и причалил к берегу, задаваясь вопросом, когда же Бог, наконец, предоставит ему возможность отомстить мерзавцу-скульптору.
По-видимому, его мольбы были услышаны.
Господин Батифоль скрылся в одном из шатров, расставленных на берегу виноторговцами для своих клиентов; в то время там почти никого не было, так как все отправились смотреть на гонки.
Однако за столиком, соседним с тем, за которым разместился чеканщик, пили вино и беседовали двое гребцов.
Один из мужчин, сидевших напротив г-на Батифоля, был ему незнаком; весьма примечательный костюм другого, обращенного к нему спиной, позволял опознать в нем члена команды "Чайки".
Погруженный в раздумья, г-н Батифоль вначале не придал значения чужому разговору, но, услышав неоднократно повторявшееся имя Ришара, он навострил уши, как охотничья лошадь при звуке рожка.
Вот что он услышал.
— Как же так, — говорил первый из гребцов, тщетно пытаясь поставить стакан, опрокинутый его приятелем, и наполнить его — как же так, Шалламель, ты, кому мы дали прозвище "Выпить бы", воротишь нос от винца?
— Да, — ответил Шалламель, заплетающийся язык и невнятное бормотание которого свидетельствовали о несколько запоздалой воздержанности, — завтра камбуз для спиртного будет открыт сколько душе угодно, но сегодня члены команды должны исполнить свой долг!
— Свой долг?
— Да, свой долг. Капитан "Чайки" почтил меня своим доверием, и я не хочу подводить капитана.
— Опрокинь еще стаканчик, и тебе будет веселее грести и сподручнее щипать[4] марнские воды.
— Если я и смогу кого-нибудь сегодня пощипать, старина, так это индюка по имени Валентин, и я не прочь это сделать, так как терпеть не могу эту мокрую курицу, которая подливает себе в вино воды, как будто торговцы не избавляют нас от таких хлопот.
— Валентина, закадычного друга Ришара?
— Да уж, закадычного друга!
При этом Шалламель выразительно махнул рукой.
— Что же случилось?
— Тсс! — прошептал Шалламель, мимикой призывая приятеля к молчанию. — Тсс! Тебе-то я могу это сказать, ведь ты мой друг и не мешаешь вино с водой, как эта сухопутная крыса по имени Валентин; все матросы братья; видишь ли, мы решили провернуть одно дельце, в результате которого Ришар станет королем гребцов, а его закадычный друг лопнет от злости и досады.
— Ну-ка, расскажи.
— Надо тебе доложить, сухопутная крыса и наш капитан приударяли за одним и тем же судном, изящной и ладно скроенной бригантиной, нежной, как сало, с клюзами из голубого бархата, вот такой величины! Одним словом, за внучкой папаши Горемыки, ты должен ее знать. Валентин хотел надуть нашего капитана, и сегодня вечером капитан приберет к рукам бригантину.
— Вот как!
— Да, но самое смешное в том, как капитан сумел отделаться от соперника, чтобы тот не попал сегодня в Ла-Варенну.
— Ну-ну, выкладывай!
— Представь себе, утром Валентин поднимается вместе с нами на борт "Чайки", чтобы плыть сюда. И вот, когда мы оказались между Красной мельницей и мельницами Гравеля, этот законченный плут Коротышка, сговорившись заранее с капитаном, делает резкий поворот; судно дает крен, мы бросаемся в другую сторону, и, естественно, все четверо падаем в воду. Как ты понимаешь, все мы, включая Валентина, умеем плавать и поэтому нянчились друг с другом не больше, чем линь со своими усиками. Стало быть, мы старались поднять "Чайку" и выловить из воды весла, как вдруг Коротышка кричит: "А где же капитан?" Валентин озирается по сторонам, мы тоже делаем вид, будто ищем капитана, но его нет и в помине. Тогда Валентин бросается в воду, и мы следуем его примеру. Он принимается нырять; мы притворяемся, что тоже ныряем, — то есть, когда видим, что он поднимается на поверхность, слегка погружаемся в воду, только и всего. Наконец, полчаса спустя мы понимаем, что нашего несчастного капитана не спасти. Для порядка мы зовем на помощь, поскольку знаем, что на берегу в этом месте нет ни души и никто нас не услышит. Стали совещаться. В конце концов было решено, что Валентин, рвавший на себе волосы от горя, так что я просто давился от смеха и раз двадцать готов был расхохотаться ему в лицо, не будь дело таким важным, отправится в Берси, чтобы заявить в полицию и найти моряков, которые смогут отыскать тело нашего бедного друга, а мы тем временем отведем судно к месту стоянки, так как совсем продрогли. Валентин убегает, продолжая причитать, но, как только он дает тягу, наш капитан тут как тут — этот чертов Ришар нырнул под сплавной лес, проплыл под ним, вынырнул с другой стороны и в течение всей комедии держал голову между бревнами. Мы поднялись на борт и начали грести изо всех сил, а потом переоделись в сухую одежду, которую оставили у команды "Дориды". Теперь этот тряпка Валентин, целый день шаривший по дну Сены, будет весь вечер ронять слезы в водичку с сиропом на улице Сен-Сабена, а мы с барышней из Ла-Варенны выйдем в открытое море.
После столь долгого рассказа Шалламель снова почувствовал жажду и, несколько изменив первоначальное решение, протянул собутыльнику свой стакан.
Господин Батифоль поднялся и вышел из шатра, потирая руки; его осенила мысль поссорить тех, кого он считал своими врагами, и ему не терпелось немедленно взяться за исполнение этого замысла.
Он одолжил у Берленгара кабриолет и, с яростью подгоняя лошадь кнутом, помчался в Париж.
XVII
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕРЕВЕНСКИХ ТАНЦЕВ
Мещанский дух, витавший над большинством из дневных забав в Ла-Варенне, ощущался гораздо меньше, когда там начались танцы.
Главный распорядитель праздника, г-н Батифоль, относившийся к этой части программы с пренебрежением, казалось, отдал все заботы о ней природе, и природа отплатила ему тем, что доставила удовольствие не чеканщику с его товарищами, а любителям всего живописного.
Танцы устроили в вязовой и буковой роще, которую называли лесом Монахов, на поляне, окруженной двойными рядами вековых деревьев.
Господин Батифоль израсходовал на декорации водного спектакля столько разноцветного коленкора, что у него не осталось ни клочка материи для того, чтобы украсить помост для музыкантов, грубо сколоченный из дерева; освещение тоже было весьма скудным — несколько коптящих масляных ламп на стволах буковых деревьев и люстра с мерцающими плошками, которая свешивалась с толстых ветвей, что распростерлись над головами танцующих, подобно рукам чудовищного великана, едва очертили посреди поляны тусклое пятно. Искусственное освещение не затмило сияния луны, посеребрившей зеленые купола легким дрожащим светом, и ее мягкие блики, просачивавшиеся сквозь листву, играли на узловатой коре близлежащих лесных исполинов.
Грохот духовых инструментов, сливавшийся с грустным шелестом деревьев, уже предчувствовавших приближение осенних холодов, а также тени танцующих, внезапно появлявшиеся в световом кругу и столь же неожиданно исчезавшие во мраке, причудливые одеяния большинства собравшихся, их песни, крики и смех, раздававшиеся в таинственной темноте, придавали этим танцам своеобразный характер первобытного веселья, что, по-видимому, должно было производить сильное впечатление на чувствительные души.
Гребцы, вместо того чтобы, как обычно, уехать до наступления ночи, пользуясь тем, что плотины, перегораживавшие Марну* были еще открыты, явились на танцы в полном составе.
Новость, которую болтливый Шалламель сообщил приятелю, стала всеобщим достоянием; слухи о намерениях капитана "Чайки" распространились среди молодых людей, и все они, движимые как духом корпоративности, так и любопытством, горели желанием узнать, чем закончится это приключение.
Те, кто не танцевал, даже вставали на цыпочки, чтобы лучше видеть Юберту, и насмешливо улыбались всякий раз, когда она краснела и опускала глаза, встречаясь с горящим взглядом Ришара. Те из гребцов, что были особенно дружны со скульптором, взялись отвлечь внимание папаши Горемыки, сопровождавшего Беляночку, и избавить товарища от этой опеки, которая могла помешать ему осуществить его замысел.
Впрочем, в этом не было никакой нужды. Франсуа Гишар, принявший участие в застолье, благодаря своей умеренности совершенно избежал опьянения, на которое рассчитывали его сотрапезники; однако во время обеда все так страстно обсуждали волнующую старика тему, так проклинали людей, присваивавших себе право собственности на водную стихию, на то, что природа, создавая ее вечно изменчивой, по-видимому предназначила ее для общего пользования всеми людьми; так часто выкрикивали нелепую фразу, казавшуюся рыбаку столь же прекрасной, как Евангелие: "Если они считают рыбу своей, пусть предъявят знак, которым Бог должен был удостоверить их право владеть ею!"; они так поносили и смешивали с грязью всех буржуа, а в особенности г-на Батифоля, что бедный старик захмелел от таких речей и шума сильнее, чем от вина, и в порыве восторга распространил свое доверие, прежде принадлежавшее лишь Валентину и Ришару, на всех этих славных парней.
Юберта, вначале сожалевшая об отсутствии Валентина, в конце концов совершенно забыла о своем друге.
Радость любит безраздельную власть, и, пока она царит в нашем сердце, там не остается места для прочих чувств.
Хотя вздохи, время от времени вырывавшиеся из груди девушки, и отяжелевшие от грустных мыслей веки протестовали от имени далекого друга против ее участия в веселье, Беляночка была готова беспрестанно слушать упоительные комплименты по поводу своей красоты, безоглядно предаваясь шумным забавам, чему, впрочем, не в силах была противиться ее жизнерадостная натура.
Танцы окончательно заворожили Юберту. Нам уже известно от нее самой, какое волнение носила она в своей душе; пошлая кадриль, которую девушка танцевала днем, втайне отдела, опасаясь, что он ее увидит, не шла ни в какое сравнение с колдовским очарованием ночного праздника: звуки оркестра в полумраке, пение, перемежавшееся взрывами смеха, а также пылкий восторг, с которым Ришар целый день безумолчно говорил ей о своей любви, — все это способствовало тому, чтобы волнение девушки переросло в лихорадочное смятение. Это чувство было настолько сильным, что временами, под влиянием страшного нервного перенапряжения, радость Юберты граничила со страданием; девушке казалось, что ее голова вот-вот расколется и оттуда брызнет мозг, но она была не в состоянии избавиться от столь неприятных ощущений.
Беляночка кружилась в вихре вальса; она была бледна, глаза то закрывались, то открывались и сверкали как молнии; ее великолепные волосы растрепались и развевались вокруг головы, подобно сияющему ореолу.
— Юберта, Юберта, — говорил Ришар, внимательно следивший за тем, что происходило с девушкой, — есть ли на свете более счастливые люди, чем мы? Мне кажется, что небо вертится над нами и земля подпрыгивает под нашими ногами, как мячик! Можно подумать, что нас качает и уносит буря! Ах, если бы еще ты прошептала в этот миг нежным голосом: "Я тебя люблю!" — на земле не было бы более счастливого человека, чем я.
Девушка молчала, но Ришар чувствовал, как сильно бьется ее сердце; ноги Беляночки сами несли ее вперед, все ускоряя темп.
— Юберта, можно подумать, что наши сердца слиты воедино, ведь они бьются в одном ритме; теперь это одно сердце взамен двух, Юберта; скажи, что ты никогда не позволишь им разъединиться, и тогда мне будут не страшны никакие беды, даже смерть!
— Давайте вальсировать! — воскликнула девушка.
В ответ Ришар принялся кружить ее с такой головокружительной быстротой, что со стороны было нелегко уследить за этой парой. Наклонившись к уху своей партнерши, молодой человек продолжал:
— Да, жизнь коротка; если хочешь вкусить ее радости, надо поспешить, ведь Бог не оставляет между кубком и губами промежутка, потребного для размышлений.
— Эти музыканты просто спят на своих местах!
— Скорее, скорее, деревенские скрипачи! — вскричал капитан "Чайки". — Ах, тысяча чертей! Они уже клюют носом над пюпитрами, как салаги, впервые взявшиеся за весла, а ночь еще только начинается. Давай лучше поедем в Париж, Юберта, я отведу тебя в танцевальный зал, где музыка такая стремительная, что тебе за нею не угнаться.
— Нет, нет! — испуганно пролепетала девушка.
— Поедем, поедем, — повторял Ришар, — ты придешь в восторг от яркого света, роскошных туалетов и нежных звуков оркестра; мы будем плясать под музыку до утра, и наши сердца будут трепетать в одном ритме.
— О, не говорите так, господин Ришар, умоляю вас!
— Чего же ты боишься? Разве меня не будет рядом? Может ли отеческая забота о дочери или братская забота о сестре сравниться с нежностью влюбленного по отношению к своей подруге? Кто посмеет коснуться хотя бы волоса на твоей голове, зная, что я буду защищать его, это сокровище, которое мне дороже всех сокровищ мира?
— О господин Ришар, Валентин так бы никогда не сказал.
— Валентин? — сказал скульптор без тени смущения. — А знаешь, чем он сейчас занимается? Как и мы, предается наслаждению — разве не этот закон правит повсюду? Поедем, поедем! Я так хочу радоваться твоему счастью и гордиться, видя, как волшебное зрелище, которое предстанет перед твоими глазами, благодаря мне найдет отклик в твоей душе! Не бойся, Юберта, поедем!
— Я не знаю… Мой бедный дедушка…
— Мы вернемся раньше, чем он успеет заметить твое отсутствие; впрочем, даже если он обнаружит его, что ж… я скажу ему… я скажу ему, что люблю тебя, что ты любишь меня… и ему не останется ничего другого, как благословить нас.
В последних словах скульптора прозвучала ирония, совершенно не вязавшаяся с его прежними речами, когда, уговаривая Юберту, он был вынужден пустить в ход весь свой пыл. Однако девушка была слишком простодушной и чистосердечной, чтобы заметить это.
— Господин Ришар, — спросила она, — вы действительно готовы это сделать?
— А как же иначе, тысяча чертей!
— Вы так сильно меня любите, что не постыдитесь жени…
— Люблю ли я тебя! Люблю ли я тебя! Послушай, если бы даже Бог и дьявол были здесь и слушали нас, я ответил бы на твой вопрос точно так же, как сейчас.
С этими словами скульптор наклонился к Юберте и запечатлел поцелуй на ее лбу.
Беляночка вздрогнула, словно не в силах справиться с волнением.
— Братцы, пожалуйста, дайте пройти! — вполголоса произнес Ришар.
Беспорядочные ряды танцующих вмиг расступились перед ним как по волшебству; они снова сомкнулись так быстро, пары продолжали кружиться так неистово, в то время как капитан "Чайки" уводил Юберту, что те, кто наблюдал за происходящим со стороны, даже не успели ничего заметить.
И тут на лесной поляне появился молодой человек с бледным осунувшимся лицом, в забрызганной грязью одежде.
Это был Валентин.
Следом за ним шагал г-н Батифоль, потиравший руки от радости; на губах чеканщика играла злобная улыбка.
Валентин с мучительным беспокойством окинул взглядом толпу танцующих, стараясь заглянуть в ее глубь; он обошел танцевальную площадку кругом, но не увидел ни своего друга, ни Юберты; грудь его вздымалась от волнения; он провел рукой по своему залитому потом лбу и тяжело вздохнул.
Молодой человек подошел к помосту, где размещались музыканты; обогнув его, он неожиданно оказался перед папашей Горемыкой, который сидел под деревом в окружении новых знакомых и рассказывал им о своих рыбацких подвигах с тем присущим старикам самодовольным многословием, что столь хорошо описал Гомер, и встречающимся как у королей, так и у рыбаков.
Валентин подбежал к Франсуа Гишару и, бесцеремонно растолкав тех, кто толпился вокруг старика, воскликнул:
— Где Юберта?
— Юберта? — переспросил старик, ошеломленный этим внезапным появлением Валентина.
— Куда вы дели вашу внучку? Отвечайте! — потребовал молодой человек.
— Я мог бы сказать, что это не ваше дело, господин Валентин, но я лучше скажу о ваших глазах то же, что обычно говорю о снастях наших буржуа: хоть они сделаны из настоящих ивовых прутьев и правильно сплетены, все равно проку от них никакого! Вы, должно быть, слабы глазами, раз не разглядели Юберту, которая танцует там с вашими друзьями и молодежью своего возраста?
— Эх, Гишар, Гишар, вы глупец!
— О господин Валентин, не годится вам бранить меня, ведь лишь из уважения к вам и господину Ришару я позволил Беляночке пойти на это веселье, которое, как вам известно, не соответствует ни моим вкусам, ни моим правилам.
— Но ее там уже нет, уже нет! — воскликнул молодой человек, будучи вне себя от отчаяния.
— Как нет? — пробормотал папаша Горемыка с таким ужасом, словно внезапно оказался перед бездонной пропастью. — Ее там нет? Но не может быть этого, она, наверное, где-то рядом… Юберта, Юберта! — закричал он в полный голос и стал метаться внутри образовавшегося перед ним людского круга.
Однако вопль старика остался без ответа; рыбак застыл на миг, словно сокрушенный ужасной новостью, а затем повернулся к Валентину и с невыразимой тоской вскричал:
— Но где же она? Где же она?
Молодой человек молча склонил голову — как сильно ни обидел его Ришар, Валентину претило выдавать друга на расправу старику.
— Нет, нет, я не могу в это поверить, — продолжал папаша Горемыка, упорно не желавший видеть свет истины, забрезживший в его душе, — Юберта, моя малышка, мое единственное дитя! Нет, не может быть, господа, вы, наверное, решили посмеяться надо мной, несчастным стариком, который сходит с ума от беспокойства. Нехорошо, верно, смеяться над нежностью деда и потешаться над его седыми волосами, но я все равно вас прощаю, только верните мне внучку, господа, пожалуйста, не продолжайте эту жестокую игру. Я так ее люблю! Видите ли, это не удивительно — когда Юберта была еще малышкой, я схоронил ее мать и бабушку, свою дочь и жену; я баюкал и воспитывал внучку, она выросла у меня на руках, я люблю ее как отец и как мать одновременно… И потом, у меня ничего больше нет; у других есть какие-то забавы и желания, золото, титулы, множество тога, что их радует, а у меня лишь она одна. Это луч солнца, озаряющий мой дом и делающий его менее мрачным, я и умереть не смогу без улыбки Юберты. Верните мне ее господа, я заклинаю вас!
Видя, что окружавшие его люди хранят молчание, старик продолжал:
— Ах, черт побери! Если это правда, если у меня в самом деле похитили внучку!.. Если мою девочку околдовали!.. Если один из этих гнусных распутников заманил ее в свои силки… О! Горе мерзавцу!
— Успокойтесь, папаша Гишар, успокойтесь, — сказал Валентин.
Однако рыбак словно не слышал его слов; в этот миг старик заметил в толпе г-на Батифоля, бросился к нему и с такой силой вцепился в его галстук, что едва не задушил чеканщика.
— Это ты, негодяй, — закричал папаша Горемыка, — это ты, подлый мошенник, отнял у меня внучку… Мне известны все твои козни, только ты способен на подобное гнусное похищение… Отвечай, что ты сделал с ней, или я сейчас раздавлю тебя, как червяка, даже если мне не сносить за это головы!..
— Господин Гишар, я клянусь вам… — пролепетал чеканщик, — отпустите меня… Правосудие… На помощь! Господин Валентин, спасите меня!
Валентин и еще несколько человек с большим трудом вырвали г-на Батифоля из рук старого рыбака.
— Ступайте, ступайте, — сказал ювелир папаше Гишару, — возвращайтесь домой, я провожу вас.
— Домой! Домой! Но ведь там нет моей бедной Беляночки, и я даже не знаю, где она! Как я могу вернуться домой, о Боже! — завопил несчастный старик и принялся рвать на себе волосы.
Большинство гребцов уже ушли, потрясенные этой сценой, которой они никак не ожидали; между тем г-н Батифоль привел в порядок свою одежду, пострадавшую от насильственных действий его соседа, и подошел к рыбаку.
Подобно гребцам, хотя и по другой причине, г-н Батифоль рассчитывал на совершенно иную развязку; страдания папаши Горемыки не могли удовлетворить злопамятного чеканщика, жаждавшего отомстить и прочим участникам этой истории.
— Вы только что обвинили меня в преступлении, — произнес он. — Так вот, я помогу вам отыскать вашу внучку.
— Вы? — переспросил рыбак.
— Да, я; но нельзя терять ни секунды; я знаю, что они ушли минут десять назад и сейчас плывут вниз по течению. Однако плотина закрыта; им придется вытащить лодку на берег и волоком перенести ее на другую сторону шлюза.
Если пойти напрямик, через поле, мы будем у плотины раньше, чем они.
— Пошли! — вскричал старик и бросился в лес.
Валентин хотел было его удержать, но папаша Горемыка был уже далеко, и молодому человеку ничего не оставалось, как последовать за рыбаком.
Господин Батифоль устремился за ними; он был уверен, что Ришар так просто не отдаст свою добычу.
Трое мужчин двинулись через поле, шагая прямо по пашне, перепрыгивая через ямы и перелезая через ограды; они направлялись к тополям Кретея, темневшим на горизонте.
Валентин и Батифоль запыхались; дыхания папаши Горемыки не было слышно, и, тем не менее, он все время опережал своих спутников.
Наконец, они добрались до плотины.
Папаша Горемыка первым достиг цели; он принялся шарить в зарослях камыша, пытаясь увидеть, не примят ли он чем-нибудь тяжелым и не осталось ли на сырой земле следа от киля лодки, которую волочили по ней.
— Может быть, они уже прошли! — предположил г-н Батифоль.
— Нет, — возразил Франсуа Гишар.
— Тихо! — приказал Валентин. — Вот и они.
В самом деле, в нескольких сотнях шагов от них, выше по течению реки, послышался равномерный плеск весел; вслед за этим в ночной тишине послышался сильный и звонкий голос Ришара. Молодой человек пел:
Пусть моцион вершат другие —
Не надо чинных нам утех,
Ведь любят души кочевые Веселья шум и громкий смех.
Мы часто парус распускаем,
Когда с небес струится сон,
Объятья звездам раскрываем И солнцу низкий шлем поклон.
Эй, горожане, не зевайте,
Не тратьте попусту минут,
Ворота, окна закрывайте —
Матросы бравые идут!
Затем несколько мужских голосов подхватили припев.
— Юберты нет в лодке, Валентин, ее с ними нет, — промолвил папаша Горемыка, в душе которого вновь ожила надежда. — Эх, Бог мой, мы ведь не заглянули в хижину, может быть, Беляночка уже вернулась домой.
— Молчите, — в свою очередь произнес г-н Батифоль.
Молодой человек продолжал:
Вот наш корабль под флагом полным Неспешно по реке плывет И рассекает носом волны,
Как конькобежец режет лед.
Я укротил волну-плутовку,
Она — во власти моряка И языком ласкает ловко У судна гладкие бока.
Эй, горожане, не зевайте,
Не тратьте попусту минут,
Ворота, окна закрывайте —
Матросы бравые идут!
Однако в этот раз, когда мужской хор повторил последние слова, папаша Горемыка издал глухой стон и опустился на землю, закрыв руками лицо.
Старик узнал голос Юберты, подпевавшей гребцам.
Между тем Ришар затянул третий куплет:
А там, на берегу, под ивой Накрытый стол заждался нас.
Вперед, мой экипаж ретивый,
Причалим с песнями тотчас!
И до рассвета мы на славу,
В неистовом хмельном чаду,
Повеселимся всей оравой,
Как тысяча чертей в аду!
Эй, горожане, не зевайте,
Не тратьте попусту минут,
Ворота, окна закрывайте —
Матросы бравые идут!
— Безбожники! — прошептал г-н Батифоль.
Возмущенный безнравственной песней, он сделал шаг вперед и вышел из кустов, где притаились его спутники. Вероятно, люди, сидевшие в лодке, заметили его темный силуэт, отражавшийся в посеребренной лунным светом воде, так как Ришар немедленно приказал членам своей команды остановиться.
— Кто там? — спросил он.
Папаша Горемыка не шевелился, словно не видя и не слыша того, что происходит вокруг.
— Кто там? — повторил Ришар свой вопрос.
— Мадемуазель Юберта, — ответил Валентин, не обращая внимания на вопрос своего бывшего друга, — мадемуазель Юберта, здесь ваш дедушка; он хотел бы с вами поговорить.
— Дедушка, дедушка! — воскликнула девушка. — Ах, господин Ришар, позвольте мне сойти, я умоляю вас.
— Полный вперед! — вскричал капитан "Чайки", не отвечая на мольбы Юберты. — Мы перепрыгнем через плотину, вместо того чтобы причаливать к берегу. Внимательно следите за маневром и вовремя переходите на корму, когда мы окажемся на стремнине, так чтобы "Чайка" сразу же выпрямилась.
— Господин Ришар, господин Ришар — продолжала просить Юберта, — я же сказала, что хочу видеть дедушку, я хочу вернуться к нему. Господин Ришар, отпустите меня!
— Что вы теряете время, глядя на ее ужимки? — обратился капитан к членам своей команды — Ну же, вперед, тысяча чертей!
— Ришар, вы трус и подлец! — закричал Валентин.
— Эй, вы, красавец-гребец, кто так любит угрожать судом другим, — произнес г-н Батифоль, — сдается мне, что вы сами скоро попадете в его руки.
— Ришар, я заклинаю вас, — снова взмолилась Юберта, — если вы и вправду любите меня, как говорите, позвольте мне вернуться к дедушке. О! Не доводите меня до отчаяния! Боже мой, вы же обещали мне такое неземное счастье, неужели вы хотите, чтобы наша совместная жизнь началась с проклятий бедного старика?
Увидев, что скульптор подал знак Шалламелю и Коротышке удвоить свои усилия, девушка продолжала:
— Если вы не сделаете того, о чем я вас прошу, я сейчас же брошусь в реку!
Капитан "Чайки" сердито выругался, но в то же время с такой силой рванул руль, что судно, находясь всего в нескольких футах от ревущего водопада, развернулось и стало приближаться к берегу.
— Папаша Гишар, — произнес Валентин, которого обуревали самые противоречивые чувства, и тронул старика за плечо, — папаша Гишар, не падайте духом, ваша внучка возвращается.
— Кто возвращается? — спросил старик, расправив плечи. — Неужто вы думаете, что девушка может вот так бросить своего деда, а затем вернуться к нему, как это случается в легкомысленных любовных связях?.. Кто ко мне возвращается? Сойти вниз по тропинке нетрудно, но дороги назад уже не существует. Нет у меня больше внучки; пусть мне больше не говорят о той, которую я любил; память о ней не то, что память о покойных, — она не смягчает боль, а делает ее нестерпимой.
— Дедушка, дедушка, — воскликнула Юберта, выпрыгнув из лодки на берег, — простите меня, я умоляю вас!
— Что вам от меня надо? — вскричал старый рыбак, отталкивая руки девушки, пытавшейся обнять ноги деда, стоя перед ним на коленях. — Что вам от меня надо? Я вас не знаю.
— Вы не знаете меня, Юберту?
— Здесь нет Юберты, я вижу перед собой распутную женщину, которая стала игрушкой в руках негодяев; она предается вместе с ними разврату и распевает постыдные песни. Нет, моя Юберта была благоразумной и чистой девочкой, но Юберты больше нет. Вы — моя внучка? Разве вы посмеете теперь войти в комнату, где умерли ваши мать и бабка, непорочные и святые, как ангелы Господни. Помилуйте! Если бы вы посмели туда войти, потолок рухнул бы на вашу голову.
— О Боже, Боже! — воскликнула несчастная Беляночка, ломая руки от отчаяния.
— Папаша Гишар, — произнес Валентин, — вы слишком суровы к этому ребенку; я не думаю, что Ришар настолько презренный негодяй, и, хотя беда и велика, все еще можно поправить.
— О Ришар, Ришар, — обратилась Юберта к скульптору, умоляюще сложив руки, — вспомните, что вы мне обещали, скажите это моему дедушке.
Однако Ришар не спешил с ответом.
— Этот мнимый мастеровой соблазнил тебя, — продолжал папаша Горемыка, — и, как все распутники, он отомстит тебе за деда, которого ты оскорбила. Прощай!
Старый рыбак собрался было уйти, но Юберта вцепилась в его руки с удвоенной силой, которую придало ей отчаяние.
— Дедушка, дедушка, — просила она, — позвольте мне сопровождать вас, позвольте мне уйти с вами. Я ни в чем не виновата, я еще достойна тех воспоминаний, о которых вы печалитесь!
— Кому ты это докажешь? Нет, прежней девушки больше нет, лишь замужняя женщина может войти в мой дом. Пусть этот человек, опозоривший вас в глазах людей, загладит свою и вашу вину, тогда мои двери будут для вас открыты, тогда я прощу вас, если смогу, а пока даже не переступайте порога моего дома, ибо я первым стану поносить вас, да просите Бога, чтобы я подождал несколько дней, прежде чем проклясть вас.
Произнеся эти слова, старик вырвался из объятий внучки и, поднявшись на крутой берег, стал быстро удаляться.
Юберта лишилась чувств.
Душевные страдания, которые испытывал Валентин, в сочетании с глубоким впечатлением, которое произвела на него эта сцена, казалось, парализовали его волю; он даже не попытался остановить папашу Горемыку и не пошел за ним следом, но, когда Беляночка упала на землю и послышалось, как ее голова с глухим стуком ударилась о траву, он устремился к девушке.
Однако капитан и члены команды "Чайки" опередили его — они пытались поднять ее.
— Что вам надо? — грубо спросил Ришар, когда его бывший друг подошел к Юберте.
— Вы еще спрашиваете?
— Я запрещаю вам прикасаться к моей любовнице.
— К вашей любовнице? Нет, нет, это неправда! Каким бы испорченным вы ни были в моих глазах, вы все же не подвергли бы Юберту такому унижению и не дали бы деду ее проклясть, будь она и в самом деле вашей любовницей.
Ришар лишь расхохотался в ответ; его смеху вторили двое гребцов, а затем к ним присоединился и г-н Батифоль.
— Нет, Юберта вам не любовница, а если это так, то надо быть законченным подлецом, чтобы этим бахвалиться.
— Если вы не умеете ухаживать за женщинами, это еще не значит, что вы можете грубить мужчинам, — с наигранным спокойствием произнес скульптор.
— Ришар, ради всего святого, что еще осталось для тебя на земле, скажи мне: эта женщина — твоя любовница?
— Когда девушка бросает папашу, чтобы последовать за юношей, весьма вероятно, что этих молодых людей связывают какие-то тайные узы. Впрочем, Валентин, если ты предпочитаешь и дальше тешить себя подобными иллюзиями, я охотно предоставлю тебе это право.
— Вера спасла немало мужей, — вставил Шалламель.
— И у этого господина есть все задатки, чтобы стать таким мужем, — добавил Коротышка.
Валентин не удостоил насмешников ответом; он испытывал невыносимую боль — его сердце было разбито, и последняя надежда покинула его, но, подобно всем людям с закаленной душой, молодой человек не утратил хладнокровия даже под непосильным бременем горя.
— Ришар, — произнес Валентин окрепшим, но все еще дрожащим от волнения голосом, — Ришар, ты воспользовался юностью и наивностью этой девочки, тут уж ничего не поделаешь, но ведь в глубине души ты порядочный человек и, стало быть, обесчестив Юберту, ты не станешь обрекать ее на гибель.
— Я последую твоему совету, Валентин, ты же мастер давать советы, когда сам можешь извлечь из них выгоду!
— Ты женишься на этой девушке, — сказал Валентин, пропустив слова Ришара мимо ушей.
— Да, тебе будет выгодно, если Юберта выйдет замуж за твоего друга.
— Ты женишься на ней, потому что это справедливо; ты дашь мне слово, не так ли?
— Нам не к спеху; мы с Юбертой подумаем об этом, когда состаримся.
— Ты немедленно женишься на ней.
— Вот как! Ты даже не оставишь мне времени побриться? Кто же может заставить меня на ней жениться?
— Я.
— А если я откажусь?
— Я убью тебя, Ришар, — ответил Валентин тихим голосом, в котором, тем не менее, слышался свист клинка, рассекающего воздух.
— Ах-ах! — воскликнул скульптор, все больше оживлявшийся, по мере того как его друг становился спокойным и сдержанным. — Похоже, ты бесишься от неразделенной любви. Ты бросаешь мне вызов, и, поскольку я не хочу, чтобы ты хотя бы на миг подумал, что я испугался пустых угроз такого сосунка, как ты, я его принимаю.
— Значит, до завтра.
— Да, до завтра.
И Ришар взял Юберту на руки, собираясь отнести ее в шлюпку.
Но Валентин выхватил из рук Шалламеля цепь, с помощью которой тот удерживал судно, и мощным ударом ноги оттолкнул его от берега.
"Чайка" немного покружила на месте, пока ее не подхватило течение; она нехотя покорилась его силе, а затем ускорила ход, понеслась как стрела, на миг показалась среди широкой пелены, которую образовывала падающая в шлюз вода, и вместе с ней провалилась в бездну — от прелестной шхуны не осталось ничего, кроме нескольких обломков рангоута, качавшихся на волне.
И тут из темноты послышался громкий вопль Ришара:
— Валентин, я тоже клянусь, что завтра убью тебя!
— Пусть будет так, — прокричал в ответ Валентин, — до завтра осталось недолго ждать, но все это время я, как и ты, буду рядом с Юбертой и узнаю, правда ли то, что ты мне сказал.
— А это мы сейчас посмотрим, — насмешливо произнес молодой человек и тут же устремился в поле; несмотря на обременявшую его ношу, он мчался столь стремительно, что последовавший за ним Валентин вскоре потерял его в темноте из виду.
XVIII
КОМНАТА ВАЛЕНТИНА
Ночью Валентин обошел весь полуостров; он стучался в двери всех здешних кабачков, но так и не нашел Ришара, и никто не смог сказать ему, по какой дороге ушел его бывший друг.
Злоключения, преследовавшие молодого ювелира на протяжении суток в результате подлого обмана капитана погибшей "Чайки", а также после похищения Юберты, оставили след на его одежде — она была забрызгана грязью, пропитана водой и порвана колючим кустарником. Мучительная боль, терзавшая душу Валентина, отражалась на его лице, но в его хилом с виду теле жил необычайно стойкий дух: придя к выводу, что скульптор несомненно воспользовался судном одного из своих приятелей, чтобы добраться до города, он решил не ждать, когда начнут ходить экипажи, и мужественно двинулся в путь пешком.
Между тем стало светать; на горизонте, над окаймляющими город холмами показались красновато-серые полосы; вскоре молодой человек вышел на чрезвычайно длинную дорогу, которая тянется от Венсена до заставы Трона.
Валентин ускорил и без того быстрый шаг — он считал делом чести оказаться дома прежде, чем там появятся Ришар и его секунданты; слова, с которыми скульптор принял вызов ювелира, продолжали звучать в его ушах набатом и несли ему утешение; в этих словах были сосредоточены все помыслы Валентина, и на них основывались все его надежды; он был вправе рассчитывать, что его бывший друг сдержит свое обещание, так как знал, что Ришар храбр, ведь они бок о бок сражались на баррикадах во время Июльской революции.
Вот почему он не пошел в свою мастерскую, а провел весь день на улице Сен-Сабена, ожидая Ришара. Охваченный лихорадочным нетерпением, Валентин не мог усидеть на месте — он расхаживал по комнате быстрым шагом, то открывал, то закрывал окно и вздрагивал при каждом звуке дверного колокольчика.
Это отнюдь не означало, что сердце молодого ювелира было охвачено неудержимым желанием мести: испытывая страдания, благородные и возвышенные натуры становятся еще более великодушными. Подобно драгоценным металлам, они предстают во всем блеске своей чистоты, когда объяты пламенем.
Какие бы муки ни испытывал Валентин, он думал не о себе, а о тех, кого любил. У него не было надежды на благоприятный для него исход предстоящего поединка, да он и не хотел такого исхода. Смерть Валентина никого не могла тронуть, никто не стал бы оплакивать его кончину, в то время как убийство Ришара причинило бы боль Юберте. Поэтому он безропотно смирился с предстоящим ему самопожертвованием и в своем удрученном состоянии, вызванном жестоким разочарованием в любви, думал о смерти как о покое, как о тихой пристани после бури, и размышлял над тем, каким образом его гибель может принести пользу Юберте. Валентин не сомневался, что последняя просьба умирающего, павшего от руки друга, окажет благотворное воздействие на разум и, возможно, душу скульптора. Он уже мысленно подготовил текст этого пожелания, касавшегося будущего счастья внучки Франсуа Гишара.
В таком ожидании он провел весь день. Между тем стало смеркаться, и вдоль домов протянулись тени; настала ночь, Валентин все еще продолжал ждать, но никто не приходил.
И тут тревожная догадка пронеслась в его голове: возможно, с Юбертой случилась какая-то беда.
Это предположение повергло молодого. человека в ужас; он тотчас же выскочил из дома и принялся обходить всех приятелей Ришара, а также, как и в предыдущую ночь, когда он рыскал по полуострову, заглядывать во все кабачки, где тот обычно бывал. Однако в Париже, как и в Ла-Варенне, его поиски не увенчались успехом.
В понедельник любители гребного спорта довольно часто предаются своей излюбленной забаве; поэтому Валентин направился в сторону Берси и стал бродить вдоль набережных.
В самом деле, вскоре он увидел небольшую флотилию, бороздившую Сену во всех направлениях, однако не решился обратиться к гребцам; он боялся их острых языков, но не из-за себя, а потому, что язвительные насмешки неизбежно должны были бросить тень на Юберту.
Временами, когда Валентина охватывало отчаяние, он говорил себе:
"К чему все эти поиски? Что теперь даст мое вмешательство? Разве уже не ясно, что Ришар не солгал и Юберта его любовница? Зачем добиваться истины, которая лишь сделает мои страдания еще более тяжкими?"
В такие минуты молодой человек пытался отвлечься от своих мыслей; он сворачивал на одну из улиц, ведущих в глубь города, но, стоило ему сделать несколько шагов, как какая-то непреодолимая сила заставляла его поворачивать назад и направляться к реке.
Так он подошел к какому-то ресторану с ярко освещенным фасадом.
К ресторану примыкала открытая терраса, окруженная огромными каштанами; позади нее раскинулся сад, откуда доносились звуки оркестра.
В этом месте проходил бал любителей гребного спорта.
Валентин направился к танцующим, но, когда он увидел пеструю, шумную, лихорадочно движущуюся толпу, ему стало страшно.
Неужели Юберта находилась среди этого сброда? Неужели простодушная, невинная и прелестная девушка так быстро погрузилась в эту адскую бездну, где царят разврат и все прочие пороки?
Валентин содрогнулся от этой мысли; он боялся увидеть здесь Юберту.
Он свернул на липовую аллею, показавшуюся ему безлюдной.
В конце аллеи, у стены террасы, стояли столики; за одним из них сидели двое — мужчина и женщина.
Валентин долго к ним приглядывался, пока не убедился, что глаза его не обманули: это были Ришар и Юберта.
Он собрался было подойти к сидящим, поддавшись помимо воли одному из тех порывов неистовой ярости, которую не в силах избежать даже лучшие из людей, но, приблизившись, заметил, как сильно изменилась девушка за минувшие сутки.
Казалось, за это время она утратила всю свою свежесть, придававшую такое очарование ее лицу, и разучилась улыбаться; Юберта была бледна, и ее веки покраснели от слез; время от времени ее щеки покрывались пунцовыми пятнами, словно нервное возбуждение приводило в движение ее застывшую кровь; девушка сидела, поставив локоть на стол и подперев голову рукой, перед тарелкой, полной яств, к которым она даже не притронулась. При виде этой унылой скорбной позы Валентин почувствовал, что его гнев, который он хотел в порыве мести обрушить одновременно на девушку и скульптора, куда-то исчез. Призрачная надежда забрезжила в его душе: то, что он видел, не было похоже ни на любовь, ни на греховное забытье; скорее на лице Юберты можно было прочесть угрызения совести, а также отчаяние от положения, в котором она оказалась.
Ришар произносил перед ней необычайно пылкую речь, но он говорил так тихо, что Валентин не мог расслышать его слов. Время от времени скульптор подносил руку к сердцу, как бы призывая его в свидетели того, что он говорит правду; в заключение он даже поднял вверх руку, словно актер, произносящий на сцене клятву. При виде этого жеста лицо Юберты, до этого, казалось, безучастно внимавшей своему спутнику, прояснилось, в ее глазах показались слезы, и взгляд смягчился; девушка схватила руку скульптора и поднесла ее к губам, глядя на него с благодарностью.
— Сдержите ваше слово, Ришар, — промолвила она, — и я не только позабуду горе, которое вы мне причинили, но и, клянусь, буду вам самой верной и послушной женой на свете.
Валентин не стал больше слушать и быстро, не оглядываясь, пошел прочь.
Когда он подошел к перекрестку, сзади послышались чьи-то поспешные шаги и голос, окликавший его по имени.
Ему показалось, что он узнал голос Ришара.
Он отдал бы десять лет жизни, чтобы избежать встречи с бывшим другом, которого ненавидел теперь столь же сильно, как раньше любил, но скульптор уже почти догнал его.
— Постой! — вскричал он. — Постой, Валентин, можно подумать, что ты меня боишься.
Услышав эти слова, Валентин резко повернулся и пошел навстречу молодому человеку, который тут же подбежал к нему.
Ришар выглядел таким растерянным и смущенным, что Валентин проявил великодушие и не стал упрекать бывшего друга в том, что напрасно прождал его целый день.
— Что вам от меня нужно? — спросил он.
Скульптор ответил, пожимая плечами:
— Тебе не кажется, что нам пора объясниться? Ты действительно хочешь, чтобы мы разорвали друг друга на куски из-за женщины?
— Нет, — с трудом выдавил из себя Валентин.
— Тем лучше, тысяча чертей, так как я тоже этого не хочу.
— Я рад, что вы одумались, Ришар.
— Это не меня надо благодарить, а Юберту… Она заставила меня поклясться, что я не буду драться с тобой на дуэли.
— Это вполне понятно, — с горечью произнес Валентин.
— Ей потребовалась целая эскадра обещаний, но в особенности она настаивала на этой клятве, — продолжал Ришар, как обычно разразившись громким смехом.
Валентин чувствовал, что ему нечем дышать.
— Впрочем, ты и сам понимаешь, что, даже если бы она этого не потребовала, дуэль все равно бы не состоялась — не мне забывать о том, скольким я тебе обязан.
— Считайте, что мыв расчете; прощайте!
— Ну, полно, — сказал Ришар с величавой снисходительностью, присущей счастливым людям, — я не желаю, чтобы у тебя был такой вид, от которого за льё разит моргом; я ведь помню, как вокруг нас бешено плясали пули, и в нашем славном Париже есть мостовые, омытые и твоей и моей кровью… Тысяча чертей! Если бы я только знал, что ты так дорожишь Юбертой!..
"И он еще думает, что любит ее", — подумал Валентин, выражая эту мысль тяжелым вздохом.
— Послушай, я скажу тебе то, что ты твердил мне столько раз: "Будь человеком, черт побери!" Существует лишь одно непоправимое горе — тридцать два фунта бронзы в виде посмертного бюста, а от того, что делает твое лицо таким кислым и исторгает из твоей груди такие вздохи, которые могли бы заставить "Чайку", если бы она еще была цела, мчаться со скоростью десять узлов, мне известно немало лекарств. Пойдем со мной на танцы, я покажу тебе там одну славную фигурку.
— Нет, Ришар, оставь меня.
— Пойдем, не пройдет и получаса, как затишье придет на смену буре. Пойдем, и, когда Юберта увидит нас вместе, она убедится, что я не убью тебя, чего она так боялась. Может быть, тогда она решится войти на танцевальную площадку, куда не хотела даже заглянуть. Пойдем со мной, и ты увидишь, что я вывернусь наизнанку, чтобы загладить свою вину перед другом.
— Я прошу тебя лишь об одном, Ришар, — серьезным и твердым гоном произнес Валентин.
— Говори, я заранее согласен, даю тебе слово мужчины! Я хотел сказать: слово моряка, забыв, что у меня, как у какой-нибудь сухопутной крысы, больше нет шхуны.
— Ришар, я скажу тебе то же самое, что недавно говорила Юберта: сдержи обещания, которые ты ей давал, и, возможно, если тебе хоть сколько-нибудь дорога моя дружба, ты когда-нибудь ее вернешь.
Скульптор некоторое время молчал; очевидно, последняя фраза Валентина, подобно порыву ветра, вмиг развеяла все его сожаления и дружеское расположение к бывшему товарищу.
— Ладно, — произнес он, стараясь спрятать свою досаду под видом оскорбленного достоинства, — ладно, но при условии, что никто не будет вмешиваться в мои дела.
— Пусть будет так, — ответил Валентин, — лишь бы Юберта была счастлива, и какая разница, что я не буду причастен к этому ее счастью. Прощай!
Скульптор довольно холодно простился со своим бывшим другом, но, когда тот прошел несколько шагов, окликнул его.
— Кстати, — сказал Ришар, — завтра я пришлю кого-нибудь на улицу Сен-Сабена за своей рухлядью.
— Не утруждайте себя, — возразил Валентин, — мне предложили работу в Лондоне, и я согласился; послезавтра я смогу освободить вам квартиру.
— Правда?.. Что ж, тем лучше! — воскликнул скульптор, не скрывая радости, — хотя халупа Коротышки и располагается под самыми небесами, она не очень-то похожа на Олимп, чтобы проводить в ней медовый месяц.
Два дня спустя Ришар явился на улицу Сен-Сабена.
Привратник передал ему ключи от квартиры и сообщил, что его бывший друг уехал накануне вечером.
Скульптор тотчас же отправился за Юбертой; Валентин содержал квартиру в такой чистоте, что она выглядела чуть ли не нарядной, и Ришар, показывая ее девушке, испытывал горделивое удовлетворение.
Он провел Беляночку в мастерскую и показал ей гипсовые статуи, эскизы и другие предметы, на которые она смотрела с детским любопытством.
— А что там? — спросила девушка, остановившись возле двери, расположенной напротив комнаты Ришара.
— Это комната Валентина, — ответил скульптор, — хочешь туда зайти?
— Нет, — ответила Юберта, заливаясь краской.
Однако Ришар этого не заметил.
— Он оставил ключ, давай его уберем, не стоит злоупотреблять доверием друга.
С этими словами он спрятал ключ в полой голове одной из гипсовых статуй.
Но едва только скульптор вышел, Юберта достала ключ оттуда, куда его положил на ее глазах Ришар, вставила его в замочную скважину комнаты Валентина, чуть-чуть поколебалась и, повинуясь какому-то властному порыву, повернула ключ и открыла дверь.
В комнате ювелира царил полный беспорядок.
Ящики комода были выдвинуты — в спешке перед отъездом Валентин не успел их закрыть.
Постель была не разобрана, но продавлена, как будто кто-то катался по матрацу, а покрывало было покрыто пятнами грязи.
Перед камином лежала статуэтка "Братство", разбитая на мелкие куски.
Юберта благоговейно собрала эти обломки, не зная, от чего они были, и разложила их на кровати.
На подушке отпечаталась голова Валентина; Юберта поднесла к ней руку и почувствовала на полотне странную сырость — ей показалось, что это были следы слез.
Девушка опустилась на колени и долго молилась.
XIX
ГЛАВА, КОТОРАЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ ТЕМ,
ЧЕМ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ ВО МНОГИХ ЛЮБОВНЫХ ИСТОРИЯХ
Ришар добился всего, чего он желал, и все же его начавшаяся счастливая жизнь не состояла из сплошных удовольствий, как он рассчитывал.
Потрясение, перевернувшее все существование Юберты, оставило в ее душе след, который, по-видимому, не мог легко изгладиться. Веселая и общительная девушка стала на улице Сен-Сабена серьезной, печальной и молчаливой; она по-прежнему была мягкой и кроткой, но теперь эта кротость больше напоминала смирение. Юберта, никогда не тратившая время на размышления, сделалась угрюмой и часами предавалась раздумьям, мысленно переносясь в мир мечтаний.
Скульптор напрасно прибегал к своим уморительным шалостям; он усердствовал впустую, изображая петуха, собаку, скрежет пилы, жужжание ползущей по оконному стеклу мухи, хотя прежде эти чудачества неизменно веселили бедную Беляночку; Ришар не сумел стереть с ее лба уже слегка обозначившиеся бороздки морщин; ему едва удавалось изредка вызывать снисходительную улыбку на ее губах, причем выражение лица Юберты было таким, что эта улыбка скорее казалась еще одним выражением грусти.
Хотя Ришар отнюдь не собирался в данном случае играть роль Пигмалиона, он не сразу отказался от надежды снова вдохнуть жизнь в эту плоть, внезапно ставшую мрамором; он попытался призвать на помощь кокетство Беляночки, принес ей платье и несколько украшений и вознамерился воспользоваться ее тягой к удовольствиям, которая была ему хорошо известна; но девушка равнодушно отнеслась к его подаркам и осталась безразличной к его предложениям развлечься — шелк так и остался лежать в коробке из магазина, а Юберта ни разу не согласилась пойти со скульптором на танцы или в театр, как он того хотел; и, когда, устав от этой борьбы и желая во что бы то ни стало вывести ее из этого бесчувственного состояния, Ришар попросил ее совершить под руку с ним сентиментальную прогулку по берегу канала, она промолвила:
— Позже, когда я стану вашей женой, я буду делать все, что вы пожелаете, но сейчас, как мне кажется, я сгорела бы со стыда, если бы встретила на улице кого-нибудь из знакомых.
Скульптор нахмурился и больше не настаивал.
Он оказался в положении любителя птичьего пения, который, желая присвоить право на это удовольствие, ловит в сети славку из своего сада и сажает ее в клетку, но тем самым навсегда лишает себя веселого щебета, радовавшего всю округу.
Ришару пришлось свыкнуться с жизнью в четырех стенах, не соответствовавшей его привычкам; однако эта новизна так притягивала его, что на этот раз, поддавшись очарованию неведомого, он постепенно смирился с непонятной, по его мнению, причудой своей возлюбленной и принялся играть в семью молодоженов столь же самозабвенно, как прежде командовал экипажем "Чайки".
Чтобы быть справедливым к скульптору, следует признать, что, возможно, он не только всего-навсего уступил влиянию, которое оказывали на его душу фантазии. Неспособный на долгие размышления, он был не в силах понять, в каком положении оказалась Юберта по его вине; тем не менее он, вероятно, смутно осознавал, что взял на себя серьезные обязательства по отношению к внучке рыбака, и это чувство заставляло его совершать действия, несовместимые с его привычками.
Во всяком случае, в течение недели скульптор мог бы превзойти самого образцового из мужей квартала Маре, который издавна славился своими примерными супругами.
Так, по утрам он наливал молоко из жестяной банки и оспаривал у своей подруги право развести огонь в чугунной печи, которая обогревала мастерскую и которой с появлением Юберты были предоставлены кулинарные полномочия. Ришар не стыдился отложить резец, чтобы проверить, как варится мясо в горшке; он казался счастливым и гордым, когда наливал суп в большую миску, прежде служившую для замачивания полотна, в которое он заворачивал свою глину, и садился рядом с Юбертой за стол. Этот стол отличался не столько роскошью своего убранства, сколько проявлением находчивости его хозяев, умудрявшихся использовать вместо кухонной утвари, которая встречается даже в самых бедных домах, но неизменно отсутствует в быту художников, подобных Ришару, всевозможные безделушки, валявшиеся в мастерской.
Сколь бы приятными ни были эти домашние хлопоты, они в конце концов надоедают. Ришар пресытился ими довольно быстро, тем более что Коротышка застал его как-то раз за занятием, не подобающим капитану, даже если это капитан речного флота: скульптор глубокомысленно чистил картофель, в то же время приглядывая за рагу из баранины,^потрескивавшим в чугунном котелке. Коротышка не смог удержаться от насмешливой улыбки. Бывший капитан с досадой отшвырнул картофельные клубни и резец, которым он переворачивал мясо, и с тех пор передал хозяйские функции, приличествующие женскому полу, своей подруге. Юберта приняла их с той же покорностью, какую она уже проявила, позволив Ришару соблазнить ее; но, сколь ни ничтожны были подобные средства в борьбе со скукой, начавшей его томить, их стало не доставать скульптору.
Он много спал, зевал, снова пытался развеселить свою любовницу; когда же ему стало понятно, что все его усилия напрасны, он стал подумывать о работе как о своей последней надежде.
Когда у человека с такой порывистой натурой, какой обладал Ришар, возникала какая-нибудь идея, она немедленно порождала какую-нибудь другую.
Итак, рассуждал скульптор, он возьмется за дело и создаст статую Веледы, благодаря которой вновь одержит победу на выставке.
Предвкушая грядущий успех, Ришар внимательно приглядывался к Юберте.
Вследствие снедавшей ее тоски девушка уже лишилась пышных форм, ни в коей мере не позволявших ей походить на друидскую жрицу.
Теперь из нее могла получиться превосходная Веледа.
Ришар немедленно поделился с Беляночкой своим планом.
Юберта была слишком невежественной, чтобы понять художественные термины, которыми пользовался скульптор для обозначения прелестей, призванных принести ему успех, но, как только она выяснила, какое одеяние требуется для роли Веледы, ее стыдливая натура восстала; сначала решительно, а затем возмущенно девушка отвергла предложение скульптора.
Для этой честной и открытой души, еще не испорченной уловками художников, публичный показ ее тела был чудовищным унижением.
И тут буря, давно назревавшая в сердце Ришара, грянула во всей своей ярости.
Да, он совершил плохой поступок и сделал глупость; эта очевидная истина, которую скульптор до сих пор отказывался признать, привела его в дурное расположение духа, и он рассердился на самого себя, а бремя этой досады пало на Юбергу.
С бесподобной непосредственностью, свойственной эгоистам, он принялся осыпать упреками девушку, которую сам же выманил из родного дома, воспользовавшись ее минутным ослеплением, однако он не постеснялся возложить на свою подругу всю ответственность за связь, которая должна была, по его словам, сковать его жизнь, охладить его творческий дух и к тому же истощить источник его вдохновения.
Пока он говорил это, Юберта растерянно смотрела на него; она слушала его безмолвно и неподвижно и время от времени проводила рукой по своему лбу, как бы убеждаясь, что еще жива и все происходящее не привиделось ей во сне.
Ришар не стал, впрочем, ждать ответа девушки и вышел из мастерской, сильно хлопнув дверью.
Стоило ему немного пройтись по улице, как его лицо прояснилось. Дышать свежим воздухом, наслаждаться окружающими звуками и движением, ощущать собственную жизнь, бежать прочь от тоски, которая, как он на миг испугался, может перекинуться на него, — вот и все, чего скульптор желал в глубине души.
С этого дня Ришар вновь превратился в прежнего капитана "Чайки".
Он опять стал встречаться со своими давними друзьями и вернулся к былым привычкам: поздно вставал, уходил из дома и возвращался далеко за полночь.
В первые дни, возвращаясь, он открывал дверь своей квартиры с некоторой опаской, ожидая, что Юберта встретит его слезами, капризами и упреками. Однако, к его великому удивлению, она не говорила ему ни слова о его длительных отлучках. Подобное безразличие несколько задело самолюбие скульптора, но, с другой стороны, оно столь превосходно сочеталось с его любовью к независимости, что, хотя в глубине души Ришар затаил обиду на подругу, он притворился, что не обратил на него внимания.
Следует объяснить, по какой причине Юберта пришла к подобной безропотности, столь необычайной в ее положении.
Некий полководец, знавший толк в храбрости, говаривал: "Такой-то был храбрецом тогда-то". Эти слова, относящиеся к мужской смелости, столь же справедливы для женской добродетели.
Природа не создает ничего совершенного — сколь бы искренней ни была эта добродетель, она может на миг поддаться присущим ей человеческим слабостям, и при этом не перестает быть добродетелью. Минутная слабость не может взять верх над добродетелью; самое глубокое здравомыслие, самая большая добропорядочность прекрасно знают тот час, когда они склонялись к земле, как дерево, стонущее под порывом бури.
Если этим чувствам достало счастья, чтобы искушение не подстерегало их в такой час, им удается устоять; они могут благодарить за это Бога, но им не следует кичиться своей победой, ибо, пока верхушка дерева гнулась от урагана, вражеская рука вела подкоп под его корни и, вместо того чтобы выпрямиться, дерево упало на землю.
Юберта не была столь удачливой: подобно несчастному дереву, на которое обрушилась буря, она сгибалась до тех пор, пока не сломалась, и Ришар смог взять власть над девушкой в тот миг, когда она уже не принадлежала себе, оказавшись во власти отчаяния.
Когда Юберта более хладнокровно посмотрела на то, что с ней случилось, она тотчас же стала проклинать свою беду и первой ее мыслью было искупить собственную вину смертью. Лишь две причины совершенно разного свойства удержали ее от этого шага. Во-первых, она ни за что не хотела, чтобы из-за ее злой доли погиб Валентин, о котором Беляночка, с тех пор как она принадлежала другому, думала со странным для нее самой волнением. Во-вторых, обещания, на которые не скупился Ришар, позволяли ей надеяться, что наступит день, когда совершенная ею ошибка будет исправлена, и это станет последней радостью, которую она обязана была доставить своему несчастному деду. Поэтому Юберта превозмогла свое отвращение и согласилась остаться с Ришаром; она пошла на сожительство с ним, в ожидании того, когда они вступят в брак, а это, по уверению скульптора, должно было произойти, как только ему удалось бы соблюсти необходимые формальности.
Однако, когда Юберта принесла себя в жертву, она убедилась, что переоценила свои силы; тогда же ее охватила тоска, о которой уже упоминалось.
Нельзя сказать, что она ненавидела Ришара; напротив, ей бы хотелось его любить. Она удивилась, а затем пришла в негодование, когда обнаружила, что ее сердце противится ее воле; девушка попыталась бороться с собственным сердцем, но ей никак не удалось его обуздать. Привлекательные, как ей казалось раньше, качества Ришара каждый день улетучивались у нее на глазах, подобно тому как гаснут звезды, когда солнце появляется на горизонте; это светило, от лучей которого бледнело небо, было неким ликом, который вставал перед ней, словно призрак, наполняя ее одновременно болью и тревогой: болью, поскольку она уже не надеялась увидеть его на этом свете; тревогой, поскольку любовник столько раз повторял Юберте, будто она является его женой перед Богом и их союзу не хватает лишь освящения, придуманного людьми, что она считала пришедшую ей в голову мысль преступлением.
Беляночка надеялась, что, когда она выйдет замуж и сможет по праву позволить себе развлечения, от которых была вынуждена отказываться из-за своего двусмысленного положения, она обретет энергию, которая ей была необходима для того, чтобы преодолеть отвращение к Ришару и забыть о влечении к его бывшему другу, в чем она не решалась себе признаться.
Однако время шло, и чувство скульптора к рыбачке охладело; он больше не заговаривал о том, что надо узаконить узы, которые связывали его с соблазненной им девушкой, а когда она осмеливалась робко напомнить ему о том, что было для нее последней надеждой, Ришар отвечал:
— Нам незачем спешить!
Этот ответ окончательно привел Юберту в отчаяние; ее душа, сожалевшая о прошлом, разочарованная в настоящем и страшившаяся будущего, изведала все муки, какие только можно испытать.
Беляночка была и слишком мягкой и слишком гордой, чтобы жаловаться; она стала плакать, все больше погружаясь в скорбь, которую ничто не могло рассеять (как нам известно, Ришар почти все время оставлял свою подругу одну).
Одиночество привлекательно для скорбящих сердец, но в нем также таится немало опасностей.
Предавшись мечтаниям, Юберта вновь увидела знакомый образ, появление которого заставило ее вздрогнуть; она погрузилась в его созерцание — это стало ее единственным утешением; мало-помалу девушка осмелела и начала называть этот призрак по имени, так что тень приняла ясные очертания; затем она стала заходить в комнату Валентина, где не была с того самого дня, как поселилась на улице Сен-Сабена; ей казалось, что в этом тесном помещении ей дышится легче, чем в просторной мастерской, и в стенах, где жил Валентин, ее сожаления становятся менее тягостными; она испытывала необычайно сладостное ощущение, прикасаясь к вещам, которые трогал он; когда она плакала на подушке, некогда впитавшей влагу его рыданий, слезы, катившиеся из ее глаз, были менее горькими и обжигающими; как-то раз Беляночка весь день склеивала обломки разбитой статуэтки, и этот день пролетел тихо и незаметно; она ощущала неимоверное облегчение в этом поклонении реликвиям прошлого, занимающем столь большое место в религии памяти; в то же время она невольно начала сравнивать человека, о любви которого даже не подозревала, с человеком, чья прихоть сыграла столь роковую роль в ее судьбе; она поднимала глаза к Небесам и спрашивала с почтительным упреком:
— Боже! Почему же этот, а не тот?
В этот день Юберта поняла, что несомненно погибнет, если с помощью решительных мер не избавится от страстного чувства, поселившегося в ее сердце.
Выйдя из комнаты Валентина, она закрыла за собой дверь и выбросила ключ во дворик, куда выходили застекленная дверь, заменявшая окно в комнате молодого ювелира, и широкие окна, через которые свет проникал в мастерскую.
У девушки был только один способ остаться порядочной, сохранить душевную чистоту и верность по отношению к Ришару, несмотря на его вину перед ней: ей надо было найти забвение в своем горе, и она решила добиться этого любой ценой.
Она не стала ложиться спать, дождалась Ришара и заявила ему, что завтра же отправится вместе с ним на танцы, куда он так хотел ее отвести.
Скульптор воспринял эту новость с глубоким удовлетворением, ибо похищение внучки рыбака из Ла-Варенны и сопутствовавшие этому обстоятельства наделали много шума среди любителей гребного спорта. У бывшего капитана "Чайки" то и дело спрашивали, почему он не приводит свою новую подругу на собрания экипажей верхнего течения Сены, и подшучивали над его ревностью — то был несправедливый упрек, так как скульптор скорее предпочитал хвастаться своей любовницей, нежели в одиночестве любоваться своим сокровищем, коль скоро это сокровище было молодой и красивой женщиной.
На следующее утро Юберта отправилась за провизией; завернув за угол улицы Предместья Сент-Антуан и выйдя на Шаронскую улицу, она неожиданно столкнулась с Матьё — паромщиком.
Беляночка вздрогнула; при виде Матьё она бросилась ему навстречу, тут же вспомнив о своем деде.
Однако паромщик отвернулся, сделав вид, что не заметил ее, и направился дальше.
Это презрение к ней отозвалось в сердце Юберты болью, но она не отступила и схватила паромщика за руку.
— Матьё, скажите пожалуйста, как дела у моего дедушки! — взмолилась Беляночка.
— Хороши они или плохи, не все ли равно, — отвечал селянин, пытаясь вырвать свою руку, — по-моему, ты уже доказала, что тебе нет до этого никакого дела.
— О! Я умоляю вас, Матьё, ответьте, — продолжала упрашивать его Юберта, — вы так добры и отзывчивы: хотя вы и сами бедны, ни один нищий не отошел от вашей двери с пустыми руками; не откажите же в милостыне словом той, что просит ее у вас со смирением и раскаянием в сердце!
Отчаяние, написанное на лице девушки, по-видимому, тронуло паромщика.
— Эх, Юберта, Юберта, — произнес он уже более мягко, — ты была украшением нашего полуострова, как же ты могла так быстро стать его позором?
Услышав этот упрек, Юберта опустила голову.
— Бывает, что родители противятся шашням дочери, а она все равно хочет выйти замуж за своего дружка — это еще можно понять, но как же тебя, Юберта, угораздило влюбиться в развратника?
— Он на мне женится, Матьё.
Матьё пожал плечами.
— Постарайся его поторопить, — с явной насмешкой произнес паромщик, — если он промедлит, ему придется отложить свадьбу на полгода.
— Почему?
— Да потому, что ты будешь в трауре, черт возьми!
— В трауре?.. Ах! Дедушка, мой бедный дедушка!
— Еще бы! Видишь ли, Юберта, слезы, что мы проливаем над покойницами, которые были честными женщинами, это, в конце концов, всего лишь вода, но, если наши дети творят то, что сделала ты, мы плачем кровью!
— О Боже мой, Боже мой!
— Франсуа еще держится, старается не показывать, что ему плохо, но все видят, что он еле жив. Старик по-прежнему продолжает расставлять свои снасти, чтобы позлить наших буржуа, а тем никак не удается обнаружить места, где он их забрасывает, но он делает все так медленно, с таким трудом управляется с веслами, которые когда-то казались в его руках легче перышка, что сразу становится ясно: смерть уже дышит ему в затылок. Слушай, когда я вижу, как, повесив голову, он плывет по реке, бледный и худой как мертвец, или когда он, бедняга, опустив глаза, словно чего-то стыдится, проходит мимо, я не могу удержаться от слез, иначе моя голова могла бы лопнуть, как переполненная бочка. Ах, если бы не господин Валентин…
— Господин Валентин, Матьё! Что ты такое говоришь?
— Я говорю, что, если бы этот добрый малый не утешал Франсуа, старик давно бы отправился на тот свет… Ах, у парня просто золотое сердце, не то, что у того обманщика, который прикидывался простым рабочим…
— Стало быть, господин Валентин живет в Ла-Варенне?
— Конечно, нет, но он бывает там по три-четыре раза в неделю, и тогда бедный старик немного оживает. Они уходят в дом и сидят там взаперти; моя жена даже слышала 11-272 однажды, проходя мимо вашей хижины, как они оба рыдали… Эх, Юберта, будь ты чуть-чуть умнее, ты нашла бы себе прекрасного мужа, и тебе не пришлось бы швырять свой свадебный убор из флёрдоранжа на ветер, который пригнал в наши края эти окаянные лодки, чтоб их черти забрали!
— Валентин! Значит, он. любил меня?.. О Боже мой, Боже мой, что вы такое говорите, Матьё?
— Любил он тебя или не любил, дочка, теперь уже все равно. Правильное решение лучше напрасных сожалений; думай сейчас только об одном: если ты хочешь, чтобы твой дед благословил тебя перед смертью, нужно поторопиться, а не то будет поздно.
— Ах, Матьё, — вскричала Юберта, лицо которой внезапно раскраснелось, а глаза засверкали, — не сегодня, так завтра я пообещаю дедушке, что скоро смогу заслужить его прощение, либо сойду в могилу раньше, чем он!
Попрощавшись с паромщиком, девушка поспешила на улицу Сен-Сабена.
Хотя утро уже было в разгаре, Ришар, как обычно, еще спал; Юберта разбудила его, когда вошла в спальню, сильно хлопнув дверью. Открыв глаза, скульптор увидел свою любовницу, стоящую у его постели; она вся дрожала и смотрела на него блуждающим взглядом.
— Что с тобой? — чуть ли не испуганно воскликнул он.
— Ришар, дедушка при смерти.
— Черт возьми! Черт возьми! Бедный папаша Горемыка, какая жалость! Ведь хотя мы в последний раз расстались, не подав друг другу руки, я признаю, что это был славный старик и что он здорово орудовал веслами. Слушай, — продолжал скульптор с добродушием, граничившим у него с растроганностью, — если твой дед заболел, значит, он не может рыбачить, а если он не будет рыбачить, деньги перестанут течь в его карман. В его хижине всегда больше пахло рыбой, чем достатком. Я поспешу закончить модель для пары подсвечников, которую мне заказали, и ты сможешь послать своему деду немного денег, так чтобы он не догадался, что они от тебя.
— Ришар, ему нужны не деньги.
— Я понимаю, лучше было бы помочь старику скинуть лет двадцать, но, ей-Богу, ты же не можешь требовать от меня, чтобы я сотворил чудо.
— Исполни свой долг, как порядочный человек, Ришар, и будь что будет. Может быть, это продлит дедушке жизнь; во всяком случае мы не будем мучиться угрызениями совести, считая, что свели его в могилу.
— Перестань! — вскричал скульптор с горячностью, в которой никогда не испытывают недостатка те, у кого нечиста совесть. — Ты сейчас опять примешься ныть по поводу брачного благословения?
— Ришар, ты же поклялся мне честью, что я стану твоей женой.
— А разве это не так? Что тебе дадут четыре латинских слова, которые пробормочет над нашими головами священник?
— Право преклонить колени у смертного одра моего единственного родного человека.
— Это чистое ребячество, и я не настолько глуп, чтобы принять в этом участие. Брак — это "De profundis"[5] любви, а я хочу любить тебя всегда; да, я дал эту клятву и собираюсь ее сдержать — я дорожу ей, ибо чувствовал бы себя подлецом, если бы бросил тебя.
— Ришар, — продолжала Юберта, вставая перед любовником на колени и умоляюще складывая руки, — сама я придаю этому так мало значения, что, если бы дело было только во мне, я не пыталась бы получить это утешение, досаждая тебе своей просьбой, но речь идет о моем деде, который заботился обо мне с самого моего детства, о несчастном старике, вся жизнь которого страшно исковеркана. Ришар! Ришар! Я заклинаю тебя: не отказывай мне в этой просьбе, назови меня своей женой перед Богом и людьми, как ты обещал, а я клянусь, что в этом качестве не буду для тебя слишком тяжелой обузой.
— Нет и еще раз нет: я не пойду на поводу у твоей прихоти. Если мы свяжем себя по рукам и ногам, то возненавидим друг друга уже через месяц! Особенно я, ведь когда я чувствую на своей шее цепь, мне хочется разорвать ее. Нет, нет, Юберта, давай лучше будем ворковать, как голубки, пока сохранятся наши перышки, но ни в коем случае не следует любить друг друга по воле закона. Что до меня, я никогда на это не соглашусь.
— Даже если это будет стоить жизни не только старику, но и его внучке, не так ли? — холодно, гордо и почти спокойно произнесла Юберта, вставая.
— А ты что, тоже заболела? Не сбегать ли за доктором, не позвать ли священника?
— Дай Бог, чтобы я заболела! — печально сказала Юберта. — Может быть, болезнь избавит меня от последних угрызений совести.
Ришар лишь рассмеялся в ответ.
Скульптор был очень рад, что Юберта дала ему повод свести их разговор к шутливому тону, который больше всего устраивал его, поскольку таким образом он мог легко выйти из неловкого положения. Молодой человек принялся осыпать Беляночку язвительными замечаниями и шутовскими насмешками.
Однако девушка, казалось, не слышала его.
Между тем на Ришара произвело впечатление то выражение, с каким Юберта произнесла свое мрачное пожелание; как у всех эгоистов, озлобленность его была недейственной; он отказывался пожертвовать свободой ради счастья своей возлюбленной, но очень бы огорчился, если бы с ней случилась беда; поэтому он сдержался и стал вести себя по отношению к ней любезно и приветливо; несмотря на то что девушка не обращала внимания на его попытки к сближению и отвергла предложение помочь старику, он остался в мастерской и целый день прилежно трудился над подсвечниками.
Юберта же весь день была угрюмой и задумчивой.
Это молчание не насторожило Ришара, так как он приписал его беспокойству девушки по поводу болезни папаши Горемыки; между тем наступил вечер, и, устав от своего непривычного усердия, скульптор почувствовал потребность прогуляться, чтобы развеять печали минувшего дня.
Обернув свою модель влажным полотном и убрав орудия труда, Ришар слегка поколебался и спросил Юберту:
— Ну что, пойдем на танцы?
— Нет, нет, в другой раз, — ответила она, — сходи туда один.
— Я не настаиваю, ведь я чувствую, что не следует плясать, когда бедный старик прикован к постели и страдает, хотя, в конце концов, ему от этого ни холодно, ни горячо, но раз ты не хочешь…
— Я еще раз говорю: не сегодня; ступай же, прощай, прощай, дружок, — сказала Юберта скульптору, который разговаривал с ней, в то же время собираясь выйти излома.
— Как странно ты со мной прощаешься! Полно, ты же не собираешься опять приставать ко мне со своими глупостями, как утром; послушай, будь благоразумной, и позже, когда мы будем не такими ветреными, то, возможно, подставим наши головы под кропило господина священника, словно новенькое судно, которое спешит выйти на всех парусах в море.
— Да, друг мой, я буду благоразумной, тебе больше не придется на меня жаловаться, будь уверен, я тебе это обещаю.
С этими словами Юберта подошла к своему любовнику ближе, чтобы он поцеловал ее в лоб; затем он ушел, на вид чрезвычайно довольный полученным заверением.
Как только он вышел за порог мастерской, Юберта опустилась на колени перед стулом, на котором она только что сидела, и залилась горькими слезами.
Когда она поднялась с колен, было уже совсем темно; девушка направилась в комнату Валентина.
Но лишь когда Беляночка стала шарить рукой по двери в поисках ключа, она вспомнила, что выбросила его.
В тот же миг ей почудилось, что кто-то, крадучись, ходит по комнате.
Она спросила, кто там, но ответа не последовало.
Юберта пребывала в таком расположении духа, что ее трудно было напугать; она зажгла свет и отправилась искать ключ.
Лишь эта комната во всей квартире выходила на дворик, о котором мы упоминали; чтобы попасть туда, Беляночке пришлось выйти из мастерской, достичь конца прохода, ведущего к дому, и открыть калитку, которая вела из этого прохода во двор, — на все это ей потребовалось несколько минут.
Когда Юберта, прикрывая рукой свечу, чтобы ее не задуло ветром, вошла во двор, первое, что бросилось ей в глаза, был ключ, блестевший на траве, которая пробилась среди каменных плит.
Схватив ключ, Беляночка быстро вернулась домой; она не заметила, что привратник и его жена, обратившие внимание на волнение девушки, изумленно смотрят на нее из своей каморки.
Теперь Юберта могла войти в комнату Валентина.
Распахнув дверь, девушка с удивлением обнаружила, что маленькая комната, легко охватываемая одним взглядом, была пуста, все вещи стояли на своих местах, порядок нигде не был нарушен, даже на занавесках сохранились сборки, которые она сделала в первые дни своего одиночества, когда наводить чистоту в комнате, где жил молодой ювелир, доставляло ей особенное удовольствие.
Однако, не успела она сделать и шага, как попятилась с испуганным криком.
Юберта заметила на полу статуэтку "Братство", которую она с таким трудом собрала из обломков и склеила, а затем с чрезвычайной осторожностью поставила на мраморный камин; теперь же скульптура снова была разбита на мелкие куски.
Подойдя ближе, Юберта тотчас же убедилась, что это произошло отнюдь не случайно: гипсовая статуэтка была буквально стерта в порошок, словно ее нарочно топтали ногами, чтобы она не воплотилась вновь.
— Ах! — воскликнула девушка. — Он здесь, он здесь; это правда, и он, конечно, знает, что произошло; может быть, он слышал наш утренний разговор. Бог говорит мне, что грешница должна принести себя в жертву, чтобы невинные души не страдали по ее вине.
С этими словами Юберта лихорадочно приступила к необычным приготовлениям.
Она тщательно заделала все отверстия и щели, через которые в комнату мог просочиться воздух, закупорила дымоход, заперла на засов застекленную дверь, выходившую во двор, а затем положила в печь большое количество угля и подожгла его.
Когда основание угольной пирамиды начало окрашиваться в алый цвет и во все стороны полетели сверкающие искорки, Юберта заперла дверь, ведущую в мастерскую, как прежде закрыла дверь во двор, и, едва она возвела эту последнюю преграду между собой и жизнью, печальная улыбка промелькнула на ее губах.
Она решила, что последние свои мысли вправе посвятить человеку, о любви которого ей стало известно слишком поздно.
Юберта поправила свой убогий наряд, тщательно расчесала перед зеркалом Валентина свои роскошные волосы и легла на кровать молодого человека.
Затем, шепча целую молитву, наверное прощальные слова любви, она закрыла глаза и стала ждать смерти, которую должны были быстро принести ей ядовитые испарения, уже наполнявшие тесную комнату.
XX
ЕЩЕ ОДНО ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТОГО,
ЧТО НА ЭТОМ СВЕТЕ НЕТ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Ришар был крайне удивлен, не получив вне дома удовольствие от привычных забав, на которое ему давал право рассчитывать его большой опыт.
Едва он переступил порог танцевального зала, как у него уже обнаружилась раздражительность. По его мнению, масляные лампы коптили, бросали на все зеленоватый свет, а корнета-пистон — новый инструмент, в ту пору только-только приобретавший известность, — жутко резал слух. В ответ на назойливые приветствия завсегдатаев этого места, считавших своим долгом поздороваться с такой важной персоной, как бывший капитан "Чайки", Ришар лишь корчил недовольные гримасы и бормотал нечто малоприятное.
Впрочем, у скульптора хватило ума понять одно: виной тому, что все ему казалось омерзительным, было его собственное дурное настроение, охватившее его в заведении, которое ему приходилось бранить. Он решил развеять это дурное настроение с помощью танцев и занял место в кадрили, но и это ему не помогло. Молодой человек старательно выполнял фигуры и позы, напоминавшие прыжки грядущего канкана, но его танец был как никогда неловким и невыразительным, колени дрожали, а ноги цеплялись одна за другую; к тому же навязчивые мысли то и дело парализовывали его движения, мешая доводить до конца сносно начатые па: он замирал с поднятой ногой, в причудливом положении, в то время как его лицо хранило серьезное и озабоченное выражение, странным образом не вязавшееся с тем, как двигались его конечности.
Тогда Ришар подумал, что ему, возможно, удастся утопить на дне бокала ту смутную тревогу, которую он позднее назовет предчувствием.
Он принялся осушать одну за одной, без передышки, вызывая всеобщее восхищение, дюжину гигантских кружек емкостью около полулитра, которые гребцы прозвали бакенами; аплодисменты зрителей польстили самолюбию бывшего капитана, но не избавили его от беспокойства, которое он испытывал; вино затуманило его разум, но не сделало радужными мысли, разрушавшие безмятежное спокойствие, обычно царившее в его голове; эти мысли, напротив, становились все более и более мрачными.
В звоне стаканов ему чудился жалобный голос Юберты, а также ее зловещее пожелание, которым завершилась их утренняя беседа.
Если верить тому, что впоследствии Ришар рассказывал, то фиолетовые пятна от пролитого вина на скатерти напоминали ему ярко-красный цвет крови.
Молодой человек встал и направился к выходу, хотя столь ранний уход был отнюдь не в его правилах; в ответ на дружный протест собутыльников он заявил, что ему пора идти домой.
Когда Ришар вышел на улицу, его навязчивая тревога усилилась и он невольно ускорил шаг.
Подойдя к дому на улице Сен-Сабена, он с немалым удивлением заметил, что ни привратника, ни его жены нет в их каморке.
Он постучал в дверь своей квартиры, но ему никто не ответил; сердце Ришара сжалось, и он попытался, разбежавшись, выбить дверь. Это ему не удалось, но тут же молодого человека осенила другая мысль, и он направился во дворик.
К великому его изумлению, дверь в квартиру со стороны двора была открыта.
Войдя туда, он увидел, что из комнаты Валентина исходит яркий свет, очертивший на стене, которая была обращена к квартире, красноватый прямоугольник, и в нем виднелся силуэт человека, расхаживавшего взад и вперед.
Яростный гнев и ревность, тотчас же охватившие скульптора, заставили его забыть о своих мрачных предчувствиях — упорное молчание Юберты и присутствие в пустовавшей комнате постороннего человека явно указывали на измену.
Неясный страх, который только что испытывал Ришар, сменился жаждой мести, и он устремился навстречу тем, кого считал виновными.
И тут на пороге появился мужчина, очевидно услышавший шаги во дворе, вымощенном камнем. Ришар узнал в нем Валентина.
— Вы, конечно, меня не ждали! — вскричал любовник Юберты, охваченный неистовой яростью.
— Напротив, я ждал тебя, — ответил Валентин взволнованным голосом, в котором, невзирая на напускное спокойствие ювелира, не вязавшееся с его потрясенным видом, сквозила угроза, — я ждал тебя; иди же, посмотри на то, что ты натворил!
С этими словами Валентин схватил своего бывшего друга за руку, потащил его в комнату и подвел к кровати.
На постели лежала неподвижная, мертвенно-бледная Юберта с побелевшими губами и закрытыми глазами, обведенными синеватыми кругами.
— Великий Боже! — воскликнул Ришар. — Ей требуется помощь.
Он хотел было броситься к своей любовнице, но рука Валентина, эта тонкая, изящная и слабая, почти женская ручка, которая внезапно, казалось, обрела стальные мускулы, удержала его.
— Ах! — с горечью сказал ювелир. — Неужели ты думаешь, что я дожидался твоих советов, прежде чем сделать все, что в человеческих силах, чтобы вернуть Юберту к жизни.
— Надо хотя бы позвать врача, позвать врача!
— Он сейчас придет, но будет слишком поздно! Ты убил ее, Ришар, ты убил ее; смотри, подлец, она уже мертва!
— Этого не может быть! — вскричал скульптор, став таким же бледным, как лежавшая девушка. — Нет, этого не может быть! Смотри, ее рука еще совсем теплая.
Потянувшись, он дотронулся до руки Юберты, безжизненно свисавшей вниз.
— Ришар, — воскликнул Валентин, — я запрещаю тебе прикасаться к этой женщине.
— Запрещаешь?
— Помнишь ту ночь на берегу Марны, когда ты похитил Юберту у деда? Ты оттолкнул меня, когда я хотел прийти ей на помощь; ты сказал мне: "Это моя любовница". Тогда Юберта была еще жива; теперь, когда она умерла, я запрещаю тебе осквернять ее своим прикосновением.
— Валентин, Валентин, — произнес скульптор, изо всех сил пытаясь сдержать свой гнев, — ты бредить, у тебя помутился разум, опомнись!
— Смерть избавила ее от всех страданий, самым мучительным из которых было принадлежать тебе.
— Валентин!
— Посмей теперь попросить Бога вернуть Юберту, того самого Бога, перед которым ты постыдился назвать ее своей женой.
— Валентин, ты оскорбляешь меня, невзирая на мое горе, но берегись!
— Вот как! Ты считаешь правду оскорблением? Тем лучше, это облегчает мне задачу, Ришар. Ты думал, что, раз меня сломило постигшее нас с Юбертой несчастье, я перестал о ней думать и разлюбил ее; ты думал, что, раз она осталась без защиты и поддержки, ты теперь можешь вести себя по отношению к ней как угодно подло и трусливо.
— Валентин, — вскричал скульптор, покраснев от гнева, — мое терпение скоро лопнет, берегись, берегись!
— Я терпел два месяца, а тебе придется потерпеть еще несколько секунд. Да, я здесь уже два месяца, — продолжал он, указывая на соседний дом, смутно видневшийся в темноте, — я ни разу не говорил с Юбертой, но видел ее время от времени и читал на ее лице огорчения, которые ты ей доставлял. Я делил с ней все мучения и тревоги, которые ты ей причинял. Я видел, как она бледнеет и худеет с каждым днем… я видел, как она подходит все ближе к краю могилы, которую ты уготовил ей при жизни… И все же я продолжал ждать, говоря себе: "Нет, человек может взбунтоваться против тех, кто его притесняет, либо против досаждающих ему врагов, но он не способен убить несчастное создание, повинное лишь в любви к нему; никто не способен на такое злодеяние, особенно, если мужчина поклялся сделать свою подругу счастливой. Нет, Ришар сжалится над ней…" И вот как ты пожалел ее!
— Разве я мог вообразить, что ей взбредет такое в голову?..
— Ты не думал, что она предпочтет умереть, нежели жить в бесчестье? В самом деле, Ришар, ты не мог этого предположить; ты прав, но я, тот, кто знал, какое благородное сердце бьется в груди этой бедной девочки, я должен был давно прийти к ней и сказать: "Вам следует как можно скорее уйти от презренного негодяя, который обманул вас; не переживайте и держите выше голову — вот рука порядочного человека, вы можете на нее опереться".
Казалось, Валентин забыл о присутствии Ришара; он продолжал говорить, как бы размышляя вслух:
— Ах! Это правда, это чистая правда!.. Если бы я так поступил, Юберта осталась бы жива и мы сейчас слышали бы ее голос… О Боже мой, Боже мой, как мне плохо!..
В порыве отчаяния молодой человек устремился к телу девушки, заключил его в объятья и принялся осыпать лицо Юберты поцелуями, в то же время яростно проклиная ее обидчика.
Каким бы черствым ни было сердце Ришара, сколь бы унизительной ни была сейчас его роль, он был потрясен и крупные слезы катились по его щекам.
Внезапно Валентин резко поднялся и вскричал:
— Теперь ты понимаешь, Ришар, что я хочу лишь одного — отомстить за Юберту?
— Хорошо, — ответил скульптор, — завтра я буду в твоем распоряжении.
— Завтра?.. О чем ты говоришь?.. Завтра, безумец?.. Да разве я знаю, доживу ли до завтра… и захочет ли Бог, чтобы завтра взошло солнце и осветило землю, на которой ее больше нет?.. Нет, не завтра, а немедленно.
— Где же мы будем драться, безумец?
— Здесь, возле тела покойной.
— Помилуй! Я ни за что не соглашусь на такой поединок.
— Ты будешь драться, потому что я тебя заставлю.
— Каким образом?
— Я заставлю тебя, повторяя, что ты трус!
— Трус!
— А если этого недостаточно, я готов плюнуть тебе в лицо.
— Черт побери! Ты, наконец, замолчишь? — вскричал скульптор и так сильно толкнул приблизившегося к нему Валентина, что тот упал на кровать.
— Да, жалкий трус! — продолжал ювелир. — Ты пользуешься тем, что наши силы неравны и я безоружен; это меня не удивляет — разве ты уже не сделал себе щит из моей любви и моего уважения к Юберте? Трус, трус, трус!
С этими словами Валентин погрозил скульптору кулаком.
Глаза Ришара засверкали, и лицо исказилось от гнева.
— Хорошо, — сказал он, — давай драться; я, в свою очередь, клянусь, что скоро в этой комнате будет два трупа. Я схожу за оружием и вернусь через несколько минут.
Он повернулся, чтобы уйти.
— Оружие? — воскликнул Валентин, останавливая скульптора. — Ах, да, господин художник может убивать только по правилам; к тому же ты привык обращаться с оружием и не прочь воспользоваться своим преимуществом. Нет, я — простой мастеровой и буду драться с помощью того, что попадется мне под руку; закрой только дверь во двор!
— Как хочешь! — вскричал Ришар. — В таком случае, я возьму кузнечный молот, чтобы размозжить тебе голову. Ты поплатишься за свои оскорбления!
Ришар направился к двери, а Валентин тем временем сходил в мастерскую, вернулся оттуда с длинным и острым железным циркулем, каким обычно пользуются плотники, и тщетно пытался разломать его.
— Дай его мне, — сказал Ришар, нетерпеливо выхватывая циркуль из рук Валентина, — побереги свои силы, они тебе сейчас потребуются.
Перевернув циркуль, он покрутил его в руках и разделил надвое в месте соединения двух ножек, в результате чего появилось два кинжала, длина каждого из которых составляла примерно шесть дюймов.
— Выбирай, — сказал Ришар, — и давай поспешим; теперь мне не терпится убить тебя, Валентин!
Валентин схватил клинок, который протягивал ему бывший друг, и бросил последний взгляд на Юберту.
Между тем скульптор обернул свое запястье носовым платком, закрепил оружие в одной из складок платка и принял оборонительную позу.
— Ну же, иди сюда, — произнес он, — и пусть твоя кровь падет на твою голову! Ты сам этого хотел!
Валентин ничего не ответил — его взгляд был по-прежнему прикован к покойной.
— Скоро я отомщу за тебя, Юберта, либо последую за тобой, — прошептал он.
Затем он обернулся и приготовился к бою, не принимая никаких мер предосторожности, к которым прибегнул скульптор.
Ришар стоял спиной к кровати — с таким же расчетом, как он тщательно закреплял свое оружие, он выбрал это место: свеча стояла у изголовья Юберты, свет бил Валентину в глаза, тогда как сам скульптор оставался в тени.
Возможно, он также не хотел видеть тела девушки — единственного свидетеля этой страшной дуэли.
Как бы то ни было, было ясно, что Ришар, подобно его бывшему другу, решил драться не на жизнь, а на смерть.
Ноги противников соприкасались, и стальные клинки находились всего лишь в двух дюймах друг от друга; их схватка, как это бывает во всех схватках мужчин, началась с поединка глаз — каждый стремился пронзить соперника взглядом, прежде чем проткнуть ему грудь оружием.
Рассчитывая на свою физическую силу в рукопашном бою, Ришар хотел броситься на Валентина, но тот стремительно приблизил острие циркуля к его лицу. Скульптор отскочил назад, но недостаточно быстро — он почувствовал, что стальной наконечник оцарапал его лицо и по нему потекла кровь.
Он занял прежнюю позицию и попытался с помощью резких неожиданных выпадов сбить противника с толку.
Однако Валентин был легким и проворным. Отражая удары обеими руками, он ловко увертывался от клинка неприятеля, в то время как скульптор снова почувствовал укол циркуля — теперь на плече.
Испытывая стыд от того, что не может справиться с человеком, которого он до сих пор считал слабым как ребенок, Ришар еще больше рассвирепел, но эта ярость отнюдь не ослепила его.
Он решил прибегнуть к первоначальной тактике и стал выжидать благоприятной минуты, чтобы, не раздумывая, ринуться на противника.
Валентин разгадал этот замысел, как будто страстное желание отомстить за Юберту наделило его даром ясновидения.
Проявив сноровку опытного борца, он не только избегал смертельных объятий врага, но и сумел, схватив скульптора за ногу, повалить его на спину.
Только спинка кровати помешала Ришару упасть на пол.
Воспользовавшись своим преимуществом, Валентин немедленно схватил неприятеля и сжал его в своих объятиях.
Таким образом, рука, в которой скульптор держал оружие, оказалась зажатой между телами противников и была не в состоянии пошевелиться.
Валентин поднял клинок над головой соперника, собираясь пронзить его грудь.
Несмотря на свои отчаянные усилия, Ришар был обречен, но поднятая рука ювелира неожиданно застыла в воздухе.
Бросив взгляд на Юберту, Валентин увидел, что она открыла глаза и наблюдает за поединком, не понимая, что происходит.
Холодный пот заструился по его лицу; его волосы встали дыбом, и циркуль выпал из рук; ему показалось, что Юберта, бледная как полотно, с безумным взглядом, сделала какой-то жест и открыла рот, тщетно пытаясь что-то сказать; это жуткое видение заставило Валентина попятиться.
Вскоре он снова обрел голос, но лишь для того, чтобы испустить страшный крик — клинок соперника пронзил его грудь.
В ответ на крик Валентина раздался другой, слабый, невнятный и мучительный вопль.
Ришар оглянулся — ему почудилось, что кричала Юберта.
Однако глаза девушки были закрыты, а губы сжаты — должно быть, Валентину померещилось, что она жива.
Шум упавшего на пол тела заставил Ришара обернуться.
Скульптор отбросил циркуль и судорожно схватился за голову.
Он посмотрел сначала на тело Юберты, казавшееся неподвижным трупом, а затем перевел взгляд на Валентина, бившегося в агонии у его ног.
И тогда с ревом еще более страшным, чем предсмертные судороги Валентина и неподвижность Юберты, он бросился из комнаты, крича:
— Я убил их! Я убил их!
Между тем в комнате, где скульптор оставил свои жертвы, происходило нечто странное: молодой человек приближался к смерти, а девушка возвращалась к жизни.
Валентин и в самом деле не ошибся: Юберта открывала глаза и приходила в движение.
Удушье девушки продолжалось не настолько долго, чтобы окончательно ее убить.
Свежий воздух, проникавший в комнату со двора и из мастерской, сделал то, чего не удалось неумелому Валентину, несмотря на все его старания: парализованные легкие Юберты мало-помалу заработали, кровь вновь заструилась по жилам, и артерии начали пульсировать, но это возрождение шло так медленно, что Ришар не успел его заметить.
Однако постепенно признаки жизни становились более явными — веки Юберты открылись, и тусклый безжизненный взгляд стал оживать.
Шум в ее ушах уменьшился, и туман, застилавший глаза, незаметно рассеялся; в то же время к ней вернулось сознание.
Она начала распознавать окружающие предметы и звуки.
Услышав вздох, она приподнялась и увидела Валентина, который лежал на полу, протягивая к ней руки; на его губах застыла кровавая пена.
— Валентин! — пролепетала девушка.
Услышав свое имя из уст той, которую он считал мертвой, молодой человек собрал остатки сил и пополз к ней.
В конце концов его дрожащая рука коснулась руки девушки, и благодаря ее помощи он прислонился к кровати.
— Ах! — пролепетала Юберта. — Валентин, друг мой, что с вами случилось?
Валентин хотел было ответить, но не смог произнести ни слова из-за внутреннего кровотечения; ему лишь удалось разорвать свой сюртук, жилет, рубашку и обнажить рану.
Эта рана, расположенная под самым сердцем, была едва заметной и напоминала укус пиявки.
Увидев ее, Юберта все поняла, ибо к ней тотчас же вернулась память.
Она соскользнула с кровати, опустилась на колени и прижалась губами к ране друга.
В тот же миг Валентин пробормотал ее имя со вздохом; девушка сразу же почувствовала, какой тяжестью налилась его голова.
Она испуганно подалась назад.
Теперь Валентин лежал с закрытыми глазами, и с его бледных окровавленных губ срывались предсмертные хрипы.
Юберта смотрела на него безумным взглядом, а затем внезапно разразилась нервным, отрывистым, жутким смехом и вскричала:
— Хорошо, что ты соединил нас, Ришар; ты понял, что я люблю одного Валентина, и теперь мы с ним обручены навечно.
XXI
ОФЕЛИЯ
Когда Ришар вернулся в комнату Валентина вместе с приглашенным им врачом, он вскричал от изумления и в ужасе попятился.
Юберта была жива, а Валентин казался мертвым.
Девушка сидела на полу, прислонившись к кровати, с застывшим взглядом, в котором читалось лихорадочное возбуждение.
Она положила голову Валентина себе на колени и нежно баюкала его, напевая одну из тех колыбельных, что матери поют детям перед сном.
Услышав возглас Ришара, Юберта подняла голову и протянула руку к пришедшим, потревожившим ее покой.
— Тсс! Не будите его! — сказала она сухим, холодным тоном, свойственным безумцам или тем, кто бредит. — Он устал и заснул, и это неудивительно — ему пришлось проделать долгий путь, чтобы встретиться со мной.
Девушка взмахнула рукой, словно пытаясь разогнать туман, мешавший ей узнать вошедших, и продолжала:
— Завтра — наша свадьба; спасибо, что вы пришли; мы ждем лишь моего дедушку, чтобы пойти с ним в церковь. Не волнуйтесь, если он будет задерживаться, я схожу за ним, я знаю дорогу.
Затем она снова запела колыбельную.
Ришар отступал назад, до тех пор пока не наткнулся на обшивку стены; он стоял, прислонившись к ней и схватившись за голову, и старался сдержать рыдания, готовые вырваться из его груди.
Врач первым нарушил тишину.
— Бедное дитя лишилось рассудка, — сказал он, — надо отвезти ее в другое место или хотя бы поместить в соседнюю комнату, чтобы я мог оказать помощь раненому.
Ришар хотел было выполнить пожелание доктора, но у него не хватило духа дотронуться ни до Валентина, ни до Юберты; он опустился на стул и зарыдал.
И тогда вместе с привратником, пришедшим ему на помощь, врач попытался вырвать из рук девушки окровавленное тело ее друга, но она с такой силой стала цепляться за одежду Валентина, что доктор испугался, как бы от этих толчков у умирающего не усилилось кровотечение.
Тогда он решил подыграть бедной девушке, чтобы добиться своего.
— Позвольте же вашему жениху одеться к свадьбе, — сказал он, — и сами тоже оденьтесь, ведь вы не можете пойти в церковь в таком виде.
Юберта кивнула в знак того, что она понимает, о чем просит ее врач, и беспрекословно последовала за ним в мастерскую.
Он вернулся один и закрыл за собой дверь между смежными комнатами, чтобы спокойно перевязать раненого.
Ришар же безмолвно и неподвижно сидел на прежнем месте.
Врач осмотрел рану, но не решился обследовать ее зондом, так как она показалась ему очень опасной. В подобных случаях человеческий организм порой приходит на помощь лекарям — кровь свертывается, и образовавшийся сгусток останавливает кровотечение.
Однако зонд может уничтожить такой сгусток, и тогда больной умирает не от своей раны, а от руки врача.
При этом существует только один способ спасти человека — пустить ему кровь, чтобы дать ей другой выход.
По мере того как кровь Валентина изливалась из вены в тазик, к его телу, которое только что казалось трупом, постепенно возвращалась жизнь.
Наконец, дыхание раненого полностью восстановилось, его глаза открылись, приобрели осмысленное выражение и стали осматривать комнату, явно стараясь кого-то отыскать.
Когда его взгляд упал на Ришара, тот встал со стула и сделал шаг вперед, пробормотав имя своего бывшего друга.
Раненый еще не мог говорить, но его губы шевелились, и на лице читалась явная тревога.
— Юберта там, — сказал Ришар, указывая на дверь мастерской, — она спасена.
Валентин вздохнул, и радость промелькнула в его глазах.
— Она жива, — прошептал он, — слава Богу! Все остальное неважно.
Скульптор подошел к раненому и опустился перед ним на колени.
— Валентин, мой бедный Валентин, — тихо произнес он, — о, если бы ты знал, как я страдаю, ты простил бы меня, несмотря на мою вину, я в этом уверен.
Валентин посмотрел на скульптора с горестной улыбкой, приложил к губам палец, как бы призывая его к молчанию, и обратился к доктору, глядя на свою руку, с которой еще сбегала струйка крови:
— Сударь, я боюсь, что вы напрасно затрудняете себя. Увы! Я чувствую, что получил смертельный удар, и, может быть, это даже к лучшему.
— Зачем отчаиваться, сударь? — возразил врач. — Раны, подобные вашей, опасны, но не всегда приводят к смертельному исходу, и все же я хотел бы знать, что именно с вами произошло.
Ришар, который сидел, закрыв лицо руками, раздвинул руки и посмотрел на Валентина с испугом — врач, без сомнения, заметил бы это, если бы все его внимание не было сосредоточено на больном.
— О, сударь, все очень просто, — стал объяснять Валентин. — Я люблю девушку, которая находится в соседней комнате. Вернувшись домой, я нашел ее лежащей на постели рядом с растопленной печью. Юберта была без сознания, и я решил, что она умерла; не желая жить без нее, я воткнул себе в грудь ножку этого циркуля. Пусть никого не беспокоят из-за моей смерти; это самоубийство, и если кто-либо в этом усомнится, вы подтвердите мои слова, не так ли?
Ришар спрятал голову под одеялом; он плакал и стонал, как плачут и стонут дети.
Выпущенная кровь перестала течь, и врач наложил на рану повязку.
Когда он закончил, Валентин спросил:
— Сударь, вы только что сказали неправду, по-видимому, считая, что должны успокоить меня, и я вам за это благодарен, но, если вы хотите, чтобы моя признательность была еще сильнее, обращайтесь со мной как с мужчиной. Сколько времени мне осталось жить?
— Я повторяю, сударь, — продолжал доктор, — что, если вы не будете волноваться и никаких осложнений не случится, вы, вероятно, поправитесь.
Валентин перебил его с грустной улыбкой:
— А если предположить, что волнения и осложнений не избежать, сколько у меня осталось времени?
Врач посмотрел на больного, взор которого был исполнен решимости, и решил ничего от него не скрывать.
— Вы просите меня о печальном одолжении, — произнес он, — но, когда нас спрашивают так настойчиво, нам приходится говорить правду. Так вот, если исключить волнение и осложнения, вы можете выздороветь, но при малейшем осложнении или малейшем волнении вы можете умереть от удушья.
— Ах, сударь, сударь! — воскликнул Ришар. — Скажите снова, что он может выжить, скажите мне, что он будет жить.
— Довольно, Ришар, довольно, — перебил его Валентин. — Еще раз спасибо, доктор, а теперь я хотел бы остаться наедине с моим другом.
Скульптор, казалось, страшился разговора с глазу на глаз, к чему так стремился раненый, но врач прошептал ему на ухо:
— Я пока займусь девушкой, ей может понадобиться моя помощь.
Ришар вздрогнул и сказал:
— Хорошо, идите.
Врач ушел в соседнюю комнату, привратник вернулся в свою каморку, и Валентин и Ришар остались одни.
Скульптор умоляюще сложил руки, продолжая просить у Валентина прощения.
Однако тот произнес с той же грустной кроткой улыбкой:
— Что Бог делает, все к лучшему, мой бедный Ришар; очевидно, это несчастье должно было произойти, чтобы открыть тебе глаза на истинное положение вещей и заставить уважать святые законы справедливости и чести. Наверное, Бог потребовал мою жизнь в обмен на совершенное им чудо, но если моя смерть может упрочить ваше с Юбертой счастье, то я ни о чем не жалею, Ришар, уверяю тебя.
— Нет, нет, я не верю, что ты умрешь, умрешь от моей руки! — вскричал скульптор, принимаясь рвать на себе волосы. — Нет и еще раз нет! Это невозможно!
— Ришар, не будем терять драгоценное время, ведь смерть может прийти ко мне в любую минуту, даже сейчас, и я не успею договорить эту фразу до конца. Однако я не хочу умереть, не услышав от тебя слова о том, что твои страдания не ограничатся пустыми сожалениями, а сделают твою душу благороднее, то есть заставят тебя признать свои ошибки и загладить свою вину перед Юбертой.
Скульптор, по-видимому, боролся с обуревавшими его чувствами, но молчал.
Это молчание испугало Валентина.
— Боже! — воскликнул он, пытаясь поднять руки к Небу. — А я-то думал, что мои муки не будут напрасными!
— Нет, черт побери! — вскричал Ришар. — Они не напрасны! Юберта станет моей женой, как бы тяжело мне это ни было. Ах! На этот раз можешь мне поверить — я клянусь тебе, Валентин, клянусь всем, что для человека свято на земле!
— Я верю, верю тебе, — сказал раненый, сжимая руку друга своей слабеющей рукой, — каким бы легкомысленным ты ни был, у тебя доброе сердце; ты не захочешь отягчать свою совесть сожалениями о том, что солгал старому товарищу, который скоро покинет тебя навсегда. Но зачем говорить о грустном? Поверь, если ты сделаешь счастливой Юберту, ты станешь счастливым и сам.
Вы, распутники, говорите о браке с таким же презрением, как атеисты о Боге. Но, несмотря на все насмешки неверующих, святой союз между женщиной и мужчиной по-прежнему остается единственным залогом счастья и покоя на этом свете. Откажись от своих порочных привычек, Ришар, порви со своей беспутной и беспорядочной жизнью; труд — это самая благородная из всех целей человека, а в том новом положении, которое тебя ждет, он становится первейшей обязанностью. Ты с некоторым опозданием поймешь истинную ценность этого понятия, но, начав следовать его заповедям, ты оценишь радость труда.
Мои нравоучения тебя утомляют, бедный Ришар, ты так часто мне это говорил; потерпи еще немного, это моя последняя проповедь. Послушай, я уже не даю тебе советов, а обращаюсь к тебе лишь с одной просьбой. Юберта молода, она только начинает жить, она скоро меня забудет; к тому же ты не сможешь ревновать ее к покойнику.
В ответ на этот призыв Ришар разрыдался.
— Напоминай ей иногда обо мне, когда вы будете сидеть вдвоем у камина; пусть она тоже повторяет мое имя вслед за тобой!
Ришар пожал руку друга.
— Теперь я знаю, — продолжал раненый, — что не все, нет, нет, не все умирает вместе с нами; когда моя душа покинет тело, она всегда будет находиться поблизости от вас; моя любовь к вам окажется сильнее смерти, и, как мне кажется, когда мой дух будет вас видеть и слышать, будучи не в силах с вами говорить, счастье от того, что Юберта произносит мое имя и, возможно, плачет, вспоминая обо мне, не сравнится ни с каким блаженством, которое нам сулят в загробной жизни.
Ришара душили слезы; наконец, ему удалось выдавить из себя несколько слов.
— О! Я никогда не забуду тебя, Валентин, — промолвил он, — а что касается Юберты…
— Ришар, — произнес раненый умоляющим голосом, перебивая друга, — Ришар, нельзя ли мне в последний раз перед смертью увидеть ее?
Скульптор ничего не ответил.
— О! — воскликнул Валентин с упреком в голосе.
Скульптор почувствовал, сколько мучительной боли было в этом обыкновенном возгласе.
— Невозможно! — сказал он. — Я клянусь, Валентин, что это невозможно.
— Невозможно? — переспросил раненый, чьи зрачки сильно расширились. — Почему же? Знаешь, Ришар, ты вызвал у меня странное подозрение. Уж не обманул ли ты меня, сказав, что Юберта жива? Ришар, я хочу видеть ее, живую или мертвую, я хочу этого, слышишь?
Как ни пытался скульптор удержать друга, тот все-таки приподнялся, опираясь на одно колено.
— Что ты делаешь, несчастный! — вскричал Ришар. — Тебе же запретили волноваться и двигаться.
— Я пойду к Юберте, раз ты не хочешь привести ее ко мне.
В тот же миг из комнаты, где находилась девушка, послышались невнятные крики.
Валентин узнал голос Юберты.
— Что там происходит? — спросил он, пытаясь встать на ноги. — Отчего она кричит?
— Ради Бога, Валентин, — взмолился Ришар, — ради всего святого, не сейчас, позже!
— Разве ты не слышишь? Юберта кричит, она зовет на помощь.
Шатаясь, Валентин направился к двери.
— Что ж! — воскликнул Ришар, — Придется сказать тебе правду: Юберта…
Он замялся.
— Ну, что с ней? — спросил Валентин.
— Она сошла с ума.
Раненый вскрикнул и затем захрипел; он покачнулся, обернулся и рухнул на пол, подобно выкорчеванному дереву.
На крик Валентина и раздавшийся в ответ не менее страшный крик Ришара, а также на шум упавшего тела прибежал врач.
Вдвоем с Ришаром они бросились к раненому и подняли его.
Глаза Валентина были широко открыты, но взгляд их был тускл и неподвижен; его губы еще шевелились, но не могли произнести ни звука; затем его тело забилось в предсмертных судорогах, а изо рта вырвался мучительный вздох.
Вместе с этим вздохом отлетела душа Валентина.
— Ничего не поделаешь, — сказал Ришару врач, — он умер.
Бледный, плачущий, сотрясаемый нервной дрожью, скульптор некоторое время неподвижно стоял на коленях возле тела своего друга и молился — в некоторые минуты молитва сама вырывается наружу из глубины нашей души, даже если наши губы не знают ее слов.
Затем Ришар подумал, что если Валентин прав и что-то остается от нас после смерти, то лучше всего он мог бы доказать душе покойного свою скорбь, проявляя нежную заботу о Юберте.
Скульптор в последний раз поцеловал друга, закрыл его рот и глаза и, шатаясь как пьяный, направился туда, где он оставил девушку.
К его великому удивлению, врач был там один.
Дверь комнаты, выходившей во дворик, была открыта…
— Где Юберта? — вскричал Ришар угрожающим тоном, в котором в то же время слышалась мольба.
— Она хотела отправиться на поиски деда, который все не приходил, — ответил врач, — а я пытался ее удержать, поэтому она кричала.
Услышав ваши крики, я отпустил девушку и побежал к вам.
— О! — воскликнул Ришар. — Горе мне, горе!
Он бросился прочь из комнаты и помчался к привратнику, чтобы расспросить его.
Привратник заметил, как Юберта с растрепанными волосами выскочила из дома, и поспешил за ней. К сожалению, после несчастного случая входная дверь оставались открытой.
Он лишь заметил, что девушка, смутно видневшаяся в темноте, метнулась в сторону Сент-Антуанского предместья.
Он звал Юберту по имени, но тщетно — она скрылась за углом Шарантонской улицы.
Ришар устремился в указанном направлении, чтобы попытаться догнать ее.
Ночь была холодной и дождливой.
У скульптора оставалась только одна надежда. Он запомнил слова Юберты: "Дедушка задерживается, я схожу за ним".
Скорее всего она должна была выбрать знакомый путь, по которому ходила столько раз, когда носила в Париж улов папаши Гишара и приносила ему оттуда деньги.
Поэтому Ришар направился к заставе Трона, вглядываясь в каждую женщину, следовавшую по венсенской дороге, но ни одна из них не была Юбертой.
Впрочем, прохожие попадались редко; когда он дошел до заставы, пробило полночь.
От заставы Трона до Венсена тянется длинная прямая дорога.
Ришар надеялся, что увидит ту, которую он искал; однако он миновал Венсен, Жуэнвиль и Сен-Мор, не встретив ни единой души.
Временами скульптор останавливался и осматривался вокруг; ему очень хотелось позвать Юберту, но он не решался этого сделать, не понимая причины своей робости.
Очевидно, Ришар боялся собственного голоса.
Дойдя до Сен-Мора, он свернул с главной дороги и пошел напрямик, через поле, в деревню Ла-Варенна, которая состояла в то время всего из нескольких домов, расположенных на берегу реки.
Среди этих домов хижина Франсуа Гишара выделялась своей ветхостью.
Скульптор приблизился к ней с трепещущим сердцем и дрожащими ногами.
То был единственный дом, сквозь ставни которого пробивался слабый свет.
Этот свет на миг показался Ришару лучом надежды.
Молодой человек подошел к окну.
Как он и предполагал, ставни не были заперты изнутри.
Он осторожно отодвинул одну из них.
Несмотря на поздний час, папаша Горемыка еще не ложился спать.
Он сидел у камина, и лампа, стоявшая на деревянном выступе, освещала его лицо.
Оно было бледное и безжизненное, словно лицо покойника.
Старик был неподвижен, как статуя; его можно было бы принять за мертвеца, если бы время от времени крупные слезы, капавшие с его ресниц, не текли по морщинистым щекам.
Было ясно, что Юберта здесь не появлялась.
Ришар тихо отпустил ставень; невыразимая боль сдавила его сердце, и он чувствовал, что эта боль теперь всегда будет мучить его.
Затем скульптор подумал, что, вероятно, дойдя до Жуэнвиля, Юберта свернула на тропинку, вьющуюся вдоль берега Марны, и, если он пойдет в обратном направлении, то безусловно встретится с девушкой.
И он двинулся в путь.
Он так долго шагал во мраке, что его глаза уже привыкли к темноте.
Поравнявшись с окраиной Шенвьера, молодой человек заметил маленький ялик, скользивший вниз по течению, то есть в сторону Ла-Варенны.
Скульптор спустился на берег и окликнул гребца, но тут из-за облаков показалась луна, осветившая поверхность Марны, и Ришар убедился, что в лодке никого нет.
Дойдя до острова Сторожей, он остановился.
Ему показалось, что среди верб и ивовых зарослей промелькнула женская фигура в белом.
Это неясное видение то появлялось, то исчезало. Сердце Ришара готово было выскочить из груди, и холодный пот струился по его лбу.
Наконец, собравшись с духом, он крикнул:
— Юберта! Юберта!
Женщина в белом замерла и, по-видимому, стала прислушиваться, но почти тотчас же она снова склонилась к земле.
Наверное, она рвала цветы.
— Юберта! — еще раз позвал Ришар.
— Это ты, Валентин? — откликнулся знакомый голос.
Сердце скульптора подпрыгнуло в груди.
— Да, — ответил он.
— Подожди, я сейчас, — послышался тот же голос.
Женщина спустилась сквозь ивовые заросли к реке и шагнула вперед, словно, подобно апостолу, она была одарена способностью шествовать по водам.
Внезапно раздался крик.
Ришар тщетно пытался разглядеть в темноте неясный силуэт — Юберта исчезла.
Молодой человек на миг остолбенел от неожиданности и ужаса, а затем бросился в воду.
Он много раз нырял и после четверти часа бесплодных поисков выбрался на берег, спрашивая себя, не пригрезилось ли ему все это во сне.
XXII
ПАПАША ГОРЕМЫКА
Уровень воды в Марне поднялся из-за постоянных дождей; река разлилась, сделавшись желтой и мутной. Для рыбаков настала прекрасная пора: рыба поднялась из глубины и плавала у берегов либо на затопленных участках земли.
Все, кто только мог держать в руках удочку, воспользовались удачным моментом и пропадали на реке с утра до вечера, а порой и с вечера до утра, с наслаждением предаваясь любимому занятию.
Франсуа Гишар тоже принимал участие в состязании с рекой: будучи одним из самых азартных игроков, он пытался заглушить свое горе с помощью труда и развлечения.
Хотя старик лег спать почти в три часа ночи, на рассвете он уже вышел из дома и медленно побрел вдоль берега, ибо, как говорил Матьё-паромщик Юберте, его руки стали слишком слабыми, чтобы бороться с течением.
Кроме того, расставляя свои снасти, рыбак по-прежнему принимал меры предосторожности.
Папаша Горемыка не заблуждался относительно теперешнего благодушия г-на Батифоля; чеканщик подпускал соседа к реке исключительно потому, что надеялся выведать некоторые его излюбленные места, в чем якобы и заключался весь секрет невероятной удачливости, которую молва приписывала старому рыбаку.
Поравнявшись с Шампиньи, Франсуа Гишар отвязал свою лодку, пришвартованную у берега, отчалил и принялся вытаскивать из воды первый вентерь.
Рыбак был один и потому не мог, занимаясь делом, в то же время бороться с течением при помощи вёсел; поэтому, добираясь до очередного места, где находились его орудия лова, он сначала внимательно обозревал окружающую местность, втыкал в дно реки два длинных шеста, окованных железом, чтобы закрепить лодку на месте, а затем принимался шарить в воде багром в поисках снасти.
Папаша Горемыка миновал остров Сторожей и собрался поднять на поверхность свой третий вентерь, как вдруг остановился, весь дрожа.
Его крюк уперся во что-то, встретив странное сопротивление, и умудренный опытом старик немедленно догадался, в чем дело.
Он понял, что сейчас вытащит из воды утопленника.
Рыбак поднял багор, и на поверхности показались и стали кружиться в водовороте складки белого одеяния.
Увидев женское платье, старик почувствовал непонятный страх и ненадолго замер.
Он отвернулся и уже хотел отправить труп, чей бы он ни был, обратно на дно реки, но, внезапно передумав, наклонился к воде, схватил тело утопленницы за пояс, поднял и положил в лодку.
Затем старик встал перед покойницей на колени и уставился на нее безумным взглядом.
Щеки его стали мертвенно-бледными, по лбу струился пот.
Это была Юберта!
Дед сразу же узнал свою внучку, хотя ее белокурые волосы, обвившись вокруг головы, закрывали лицо; впрочем, как только багор нащупал мертвое тело, неистово забившееся сердце подсказало рыбаку, что это была она.
На лице Юберты, казалось, застыла тихая улыбка; в руках у нее были увядшие цветы — тот самый букет, который она, как Офелия, собирала у реки, когда услышала голос Ришара.
Франсуа Гишар не мог оторвать взгляда от покойной, в то время как его лодку уносило течением; рыбак не замечал, что вслед за ним по берегу бежали люди, к которым вскоре присоединились крестьяне, работавшие в поле.
Отбросив мокрые волосы внучки, старик вытер ее перепачканное тиной лицо; он водил рукой по ее глазам, пытаясь их открыть, по ее губам, стараясь их закрыть; казалось, он воскрешал в памяти родные черты, которые любовь запечатлела в его душе.
Наконец, лодка с телом Юберты поравнялась с окраиной деревни — та самая лодка, в которой прошло детство утопленницы, в которой она провела восемнадцать лет, в которой она пела и смеялась.
Все не занятые делом жители Ла-Варенны бросили свои дела и сбежались на берег.
Франсуа Гишар причалил напротив своего дома.
Люди хотели помочь старику перенести туда внучку, но он отказался от предложенной помощи, не желая, чтобы кто-нибудь прикасался к дорогим его сердцу останкам.
Открывая дверь ногой, рыбак остановился и, прижавшись губами ко лбу внучки, которую он держал в руках, произнес:
— Теперь ты можешь покоиться на ложе, где умерли твои мать и бабка; ты заслужила это своими муками, бедное дитя!
Старик положил Юберту на кровать и запер за собой дверь.
Вечером Матьё-паромщик отважился зайти к рыбаку, чтобы узнать, не нужно ли еще чего-нибудь его старому другу.
Юберта лежала на широкой кровати под саржевым балдахином, освещенная небольшой лампадой, которая висела над ее головой.
Напротив сидел ее дед; он держал одну из холодных как лед рук внучки и напряженно, жадно вглядывался в посиневшее лицо покойной.
Старик поблагодарил Матьё и, поскольку тот продолжал настойчиво предлагать свою помощь, сказал:
— Да, окажи мне одну услугу. Сходи в Париж и расскажи господину Валентину о том, что случилось, а затем попроси его прийти завтра на похороны Юберты. Я уверен, что господин Валентин, как и я, скажет тебе за это спасибо.
Матьё, которому предстояло проделать туда и обратно девять льё, не стал возражать и немедленно ушел. Гонец вернулся около трех часов ночи и нерешительно сообщил папаше Горемыке, что, когда он пришел в Париж, гробовщики заколачивали гроб, в котором лежал г-н Валентин.
При этом Матьё добавил, что похороны должны были состояться на следующий день, в одиннадцать часов утра.
Казалось, папаша Горемыка не слушал слов паромщика, однако он услышал их, поскольку ответил:
— В тот же самый час, что Юберта! Бедные дети!
На следующий день, в половине одиннадцатого утра, траурная процессия двинулась в путь от хижины Франсуа Гишара. Старик сам положил Юберту в гроб и следовал за гробом до сен-морского кладбища, где покоились мать и бабушка девушки.
По дороге он не проронил ни единой слезинки и наблюдал за всем ходом погребения с мрачным спокойствием, наводившим ужас на немногочисленных соседей, которые его сопровождали.
По-видимому, глаза рыбака исчерпали весь запас своих слез; лишь его воспаленные веки были огненного цвета, как железо после кузнечного горна.
Когда комья земли застучали по крышке гроба с тем особенным звуком, который невозможно забыть, если услышишь его хотя бы раз, Матьё хотел увести своего старого друга.
— Еще рано, — возразил тот.
Старик подождал, пока могилу не засыпали.
Затем он преклонил колени и благоговейно поцеловал холмик, указывавший то место, где Юберта обрела вечный покой, и, повернувшись к собравшимся, сказал — Поистине, теперь вы можете звать меня папашей Горемыкой.
Следующей ночью обитатели прибрежных домов были разбужены неким зловещим светом, видневшимся посреди реки и озарявшим все ее течение. Все побежали на берег и увидели пылающую лодку Франсуа Гишара: рыбак собрал сети, верши и вентеря — одним словом, все свои снасти — и поджег их.
Этот костер из нитей и сухого дерева горел с такой силой, что нечего было и думать потушить его.
Соседи поспешили в хижину старика; дверь была закрыта только на щеколду, но в доме никого не было.
Люди не заметили, как Франсуа Гишар покинул Ла-Варенну, и больше никто и никогда его не видел. Что стало с ним? Куда он ушел? Где он умер? Это никому не известно!
Исчезновение старого рыбака развязало руки честолюбивому г-ну Батифолю. Как только большая вода спала, чеканщик обследовал русло реки и, обнаружив вентеря старика, которые тот не успел вытащить из-за своей жуткой находки, наконец, узнал, где расположены места, изобилующие рыбой.
С тех пор г-н Аттила Батифоль слывет самым искусным рыбаком на берегах Марны, от Шарантона до Ла-Кё, и соперники упрекают его в том, что он слишком возгордился своим успехом.
Что касается г-на Падлу, он, пребывая в неведении относительно участи папаши Горемыки, так и не решился завладеть вожделенным клочком земли, из-за которого он столь деятельно присоединился к триумвирату, так жестоко притеснявшему бедного старика.
Ришар некоторое время был мрачен и избегал людей, но мало-помалу утешился. Абсент тогда только что вошел в моду благодаря нашей африканской армии, убив в ней столько храбрецов, которых не брали ни пули, ни арабские ятаганы, и в употреблении этого напитка скульптору суждено было добиться самых блестящих успехов.
Александр Дюма
Парижане
и
провинциалы
I
МАГАЗИН "КОРОЛЕВА ЦВЕТОВ И ЦВЕТОК КОРОЛЕВ"
Старый Париж уходит от нас!
Признаемся, что мы скорбим всей душой не столько об его исчезающей живописности, сколько о невозвратно утраченной истории.
Разумеется, мы с удовольствием любовались этими домами с выступающими и остроконечными крышами, с фасадами, которые смотрели на прохожих, как бы говоря нашим предкам, что здешние домовладельцы — важные особы; этими зданиями, потемневшими от времени, с нарисованным или высеченным на углу изображением Мадонны, которое представало вечерами в дрожащем свете фонаря; этими окнами, узкими, как бойницы, но полными подлинного очарования своей вытянутой, удлиненной формой и увенчанными стрельчатым трилистником; этими резными деревянными фризами — скромными парфенонами каких-то безвестных Фидиев, — дающими представление о наивном и исполненном религиозного духа искусстве средневековья; этими узкими улочками с их контрастом света и тени — излюбленным сюжетом живописцев; этими застывшими, словно подлинные вехи крепостной стены Карла VI, башенками с черновато-серыми остроконечными крышами, украшенными флюгерами. Но в особый восторг в этом старом Париже, разрушение которого мы оплакиваем, приводят нас памятники, еще целые или уже ставшие развалинами, красноречивые свидетели важнейших событий нашей истории: это стены дворца Сен-Поль, отбрасывавшие свою тень на лоб мудрого короля Карла V; это образ Богоматери, у подножия которого, на улице Барбетт, оборвалась эта почти кровосмесительная и все же такая поэтичная любовная связь герцога Орлеанского, прославившаяся в веках скорее благодаря его супруге Валентине, чем его любовнице Изабелле; это Венсенский замок, где добрый король Людовик IX читал молитвы, а г-н де Бофор вешал раков в знак своей ненависти к знаменитому плуту Мазарино Мазарини; это замок Тампль, где кровавым потом истекала королевская власть; это тюрьма Аббатства, откуда вышли жертвы 2 и 3 сентября; наконец, все эти остатки других эпох, кажущиеся вехами истории: с их помощью летописец восстанавливает прошлое, историк описывает настоящее, а философ справляется о будущем.
Напрасные сожаления! Как мы уже сказали в первой строке этой главы, старый Париж уходит от нас.
Все исчезает, рушится под кирками рабочих: и достопамятные следы прошедших веков; и эти старые улицы со странными названиями, часто весьма циничными, а порой просто неприличными; узкие и грязные улочки, обладавшие, несмотря на эти два неудобства, достоинством контраста и, благодаря непрекращающейся суете их многочисленных обитателей, выглядевшие на фоне праздной, беспечной и роскошной жизни города беспокойным, вечно озабоченным улеем, исполняющим нравственное предназначение жизни — необходимость постоянно трудиться. Все это превращается как по мановению волшебника, вышедшего из мастерской классической архитектуры, в огромные, широкие, тщательно вылизанные проспекты, которым, несмотря на восхищение парижских буржуа, с гордостью взирающих на них, вполне можно поставить в упрек монотонное однообразие их великолепия. Очаровательные лавочки и мастерские, с детства привычные нашему взгляду, мало-помалу исчезают, не поведав нам, что стало с их скромными обитателями, как исчезли те балаганные подмостки на бульваре Тампль, где жители предместий изумлялись шутовским выходкам Бобеша и Галимафре, в то время как провинциал застывал на месте от восторга, увидев в приоткрытую дверь, охраняемую служащим Курция, добродетельную Сусанну, одеяние которой состояло лишь из ее собственного целомудрия, меж двух похотливых старцев, и бессмертный суд царя Соломона с фигурами настоящей матери, обманщицы и ребенка, которого чуть было не разрубили на две части!
Прощай, старый Париж! Прощай Париж Филиппа Августа, Карла VI, Франциска I и Генриха IV! Полукруглые своды, стрельчатые арки, круглые витражи прожили свой гранитный век; владельцы домов обязаны заново красить или очищать их фасады каждые три года; строительный шнур торжествует, малярная кисть царствует!
Еще несколько лет — и от семнадцати прошедших веков, начиная с терм Юлиана и кончая Триумфальной аркой на площади Звезды, от всех этих разрушающихся памятников не останется ничего, кроме воспоминания, смутного и неопределенного как тень, уцелевшего лишь в памяти некоторых фанатичных поклонников живописности.
Однако, как ни быстро исчезает всякий след на земле, не может быть, чтобы те наши читатели, что достигли зрелого возраста и живут в Париже, уже забыли даже название той улицы, из которой вырос Севастопольский бульвар.
Мы имеем в виду старую и почтенную улицу Бур-л’Аббе.
Улица Бур-л’Аббе представляла собой некий просвет, появившийся благодаря случаю (мы говорим "благодаря случаю", потому что наши славные предки даже и не задумывались о тех гигиенических требованиях, которыми озабочены современные городские власти) в сплетении улочек и переулков, соединявших улицы Сен-Дени и Сен-Мартен. Хотя ей было далеко до блеска и величия ее прославленного преемника, столь безжалостно поглотившего ее, улица Бур-л’Аббе была чище и шире соседних улиц, на ней гораздо легче дышалось и по ее тротуарам можно было даже отважиться прогуляться, имея некоторую возможность уклониться от брызг грязи или столкновения с повозками, безостановочно сновавшими взад и вперед по ее мостовой.
Итак, в 1846 году улицу Бур-л’Аббе или, точнее (поскольку мы говорим о целом, подразумевая его часть), острый угол, образовавшийся там, где Бур-л’Аббе выходила к улице Гренета, занимала — сегодня мы сказали бы "украшала" — лавка, вывеска которой сохранила дух вычурной простоты наших предков.
На доске, подвешенной на стыке двух стен, висел гигантский цветок, лепестки которого по какому-то волшебству, не имевшему ни малейшего отношения к садоводству, переливались всеми цветами радуги. Это чудо искусства, чтобы помочь тем, кто мог принять цветок за экзотическое растение из страны феи Морганы или королевства Титании, окружала следующая надпись:
"У КОРОЛЕВЫ ЦВЕТОВ И У ЦВЕТКА КОРОЛЕВ"
Под этой любезно-предупредительной вывеской с чисто купеческим самодовольством, с той поры широко вошедшим в моду, хозяин лавки — сегодня мы сказали бы "магазина" — поместил свое имя, написанное большими золотыми буквами, словно одного этого имени было достаточно, чтобы показать городу и двору, чего они вправе ждать от "Королевы цветов и Цветка королев".
Эти сияющие прописные буквы сливались в слово из двух слогов: "ПЕЛЮШ".
Правда, несколько искусственных букетов, несколько пирамид фруктов из раскрашенного воска и жуткая подделка апельсинового дерева с висящими на нем плодами могли рассеять смущение любопытного невежи и более или менее точно указать занятие предпринимателя, носившего столь изысканную и благозвучную фамилию.
Господин Пелюш и в самом деле изготавливал искусственные цветы и плоды.
Если вы хотите знать наше откровенное мнение о том промысле, каким занимался один из героев нашей истории, то с присущей нам прямотой признаемся, что мы небольшие поклонники подобного никчемного таланта, требующего огромных затрат терпения и денег, чтобы получить более чем несовершенную подделку весенних сокровищ, которые природа столь щедро дарит всем нам. Мы никогда не могли понять ни страсть, которую женщины питают к этим уродцам из батиста, воска, перьев или бумаги, ни зачем они втыкают их в свою прическу и прикрепляют к платьям, в то время как луга, леса, сады, поля, цветники, кустарники и оранжереи отвечают таким богатым, таким легкодоступным, таким благоухающим разнообразием растений на столь естественное желание каждой из них стать еще более изящной и красивой.
Однако надо быть справедливым даже к тем вещам, к которым питаешь отвращение: отметим, что за последние годы искусство разного рода Наттье и Баттонов достигло значительного развития.
Но зато следует добавить, что, к стыду парижан и их вкуса, в этом искусстве, как и во многих других, совершенство редко служит мерилом успеха. Множество фабрикантов разорилось, пытаясь довести до наивысшей точки это соперничество с природой, но все эти дерзкие и безрассудные попытки новоявленных Икаров и Фаэтонов в большинстве случаев кончаются крахом.
Но мы никоим образом не относим эти слова к достопочтенному г-ну Пелюшу. Его коммерческие способности помогали ему обнаружить склонности людей, с которыми он жил в одну эпоху, и тем самым обойти этот подводный камень; тайное чутье подсказало г-ну Пелюшу, что его современники предпочитают дешевые изделия и с равнодушием — а если сказать точнее, с пренебрежением — относятся к прекрасному. Он угадал стремление к пышной роскоши скупых буржуа, даже не подозревая этого. Черпающий силу в своей природной пошлости и воистину избранный Господом, чтобы стать сыном века, г-н Пелюш, в то время как его собратья напрасно пытались осуществить честолюбивые бесплодные проекты, оставался верен культу и производству того, что на коммерческом жаргоне принято называть "дешевка", и, подобно праведнику Горация, с полной безучастностью относясь к тому грохоту, с которым вокруг него рушились империи, продолжал при Бурбонах младшей ветви, точно так же как он делал это при Бурбонах старшей ветви, наводнять Францию, Европу, Старый и Новый Свет своим флёрдоранжем из тонкой замши и своими красными букетами пирамидальных соцветий с россыпью шариков из золотистого стекла, в огромном количестве расходившимися в Южной Америке, где они употреблялись во время религиозных церемоний.
Наконец, именно он самостоятельно стал производить и сбывать во множестве те ужасные наборы цветов и фруктов, которые накрывают стеклянным колпаком, без сомнения, для того, чтобы даже у слепцов не возникало искушения принять их за то, что они изображают; это национальное украшение, которое провинциальные хозяева гостиниц непременно ставят по обе стороны от часов и водружают на комоды и которое, преодолев Средиземное море, равно как и океан, напомнило мне во дворце Кьятамоне, что французская промышленность — царица вселенной и что в благословенном королевстве Фердинанда II, куда не проникают ни наши газеты, ни наши романы, ни наши драмы, продукция г-на Пелюша благодаря просвещенному вкусу королевских обойщиков сумела отвоевать права буржуазии. Таким образом, пародируя природу, вышеупомянутый метр Пелюш сумел, покровительствуемый все тем же могучим гением посредственности, добиться того, что скромное состояние, оставленное ему отцом, основавшим "Королеву цветов и Цветок королев", в его руках мало-помалу достигло огромных размеров.
Это состояние в самом деле во много раз превышало сумму, необходимую г-ну Пелюшу, чтобы обеспечить ему не только независимое, но и роскошное существование. Имея высокий чин в национальной гвардии, он получил красную ленточку — предел всех тщеславных желаний буржуа. Оставшись в сорок пять лет вдовцом с единственной дочерью на руках, он вторично женился на продавщице из своего магазина. После пяти лет замужества новая г-жа Пелюш, похоже, не собиралась подарить мадемуазель Камилле братьев или сестер; тем не менее, имея достаточно оснований подумать о том, чтобы отдохнуть от трудов и насладиться жизнью, г-н Пелюш после тридцати пяти лет неустанных сражений — но не на полях Беллоны, а на полях Флоры, — по-видимому, нисколько не помышлял об отставке.
Вовлеченный в круговорот дел, поглощенный заботами коммерции, г-н Пелюш избежал разрушительного влияния страстей молодости. В тридцать лет он женился; в тридцать два г-жа Пелюш-первая, как мы уже сказали, сделала его отцом девочки, которую, несмотря на свою любовь к ней, он сразу же, как только это стало возможно, поместил в пансион, чтобы заботы и тревоги отцовства не отвлекали его от дел. Затем потекли годы, но за все это время невозмутимый коммерсант даже и не подумал бросить любопытный взгляд за пределы того круга, в котором он вращался. Вот почему в самом сердце Парижа, рядом со своим сейфом, до отказа набитым банковскими билетами, этот образчик парижского Прюдома оставался, так же как и дикарь с Ван-Дименовой земли или Новой Каледонии, несведущ в радостях жизни, не более чем символом которых для определенных характеров служат деньги.
Он откровенно признавался, что не понимает, как человека может волновать в жизни еще что-то, кроме купли-продажи.
Лишь привычка внушала ему порой в его деле некоторые из тех порывов, что совершенно ошибочно приписывают только страсти; но когда вдруг эта лихорадка овладевала им, то он гораздо больше помышлял о счастье заниматься коммерцией, чем о счастье обогатиться.
Безусловно, после проведения блестящей инвентарной описи, когда с пером в руке, высунув кончик языка в уголке губ, переводя дыхание лишь в конце каждой колонки, г-н Пелюш подсчитывал суммы, поднимавшие его актив, он испытывал глубочайшее удовлетворение, но гораздо больше от того, что они свидетельствовали о его ловкости и удаче, чем от того, что они увеличивали его состояние.
Господин Пелюш любил торговлю ради торговли, ради спора с клиентурой, ради возможности доказать превосходство своих подделок над природой и, наконец, как художник любит искусство ради искусства.
Судя по этому вступлению, возможно чересчур многословному для нашего читателя и, однако, весьма краткому по сравнению с тем, что нам еще предстоит рассказать, можно было бы поставить сто против одного, что этот фанатик текущего счета, конторских книг и гроссбуха умрет на поле брани, то есть на углу улиц Бур-л’Аббе и Гренета, с резинкой во рту, на ложе из бумаги, набитой пестиками и тычинками из навощенных нитей, как и подобает хозяину "Королевы цветов и Цветка королев".
Но Судьба распорядилась иначе; Судьба, единственное языческое божество, которое пережило античный пантеизм и, все столь же могущественное и почитаемое, перешло от наших предков к нам.
Посмотрим же, каким средством воспользовалось это слепое божество, чтобы нарушить покой г-на Пелюша.
II
ГЛАВА, В КОТОРОЙ ЧИТАТЕЛЬ,
УЖЕ ПОЗНАКОМИВШИСЬ С ПЕЛЮШЕМ, ЗНАКОМИТСЯ С ЕГО ДРУГОМ МАДЛЕНОМ
У г-на Пелюша был друг.
Этого друга звали Мадлен; он был того же возраста, что и продавец цветов. Бог, ведающий рождениями, предопределил им увидеть свет вблизи друг от друга. Детьми они играли вместе в одни и те же игры, повзрослев, ни на миг не теряли друг друга из виду, за исключением семи лет, пока Мадлен оставался на военной службе.
За эти семь лет его службы состоялась Испанская кампания 1823 года, в которой Мадлен участвовал вопреки своим убеждениям: он имел либеральные воззрения и даже предчувствовал веяния республиканского образа мыслей.
Пелюш и Мадлен не могли обходиться друг без друга, и тем не менее они служили доказательством того лукавого удовольствия, с каким случай ради своей забавы сводит вместе два характера, предначертанные природой для взаимной неприязни.
Насколько г-н Пелюш был методичен и любил порядок в делах; насколько он был совершенно равнодушен к любым другим удовольствиям, кроме тех, что находил в изучении бухгалтерских книг или в своих семейных привязанностях, деля их между женой и дочерью, которую регулярно каждое воскресенье и каждый четверг забирал из пансиона на улице Сен-Клод в Маре; насколько он был постоянен в образе жизни и сдержан в словах, этот добропорядочный национальный гвардеец, приверженец порядка, а следовательно, сторонник Луи Филиппа, не допускающий ни малейшей дискуссии по поводу своей любви к королю и его августейшей фамилии, — настолько, напротив, Мадлен был жизнерадостен и криклив; настолько он любил шумные и рискованные удовольствия, предавался ночным похождениям, а в разговоре постоянно вставлял более чем легкомысленные шуточки, но никогда не делал этого в присутствии своей крестницы, мадемуазель Камиллы Пелюш; настолько он, наконец, казалось, был готов превратить — пусть даже заранее, пусть даже в счет далекого и кабального будущего — в маленькие материальные радости скромные доходы, полученные им от продажи самых ничтожных товаров парижской мелкой торговли.
Мадлен продавал те детские игрушки, благодаря которым добрый отец семейства доставлял радость своим отпрыскам, тратя несколько су на каждого.
Но, будучи помимо своей воли настоящим торговцем, Мадлен, в противоположность своему другу Пелюшу, просиживающему за конторкой с шести часов утра до одиннадцати вечера и закрывающему магазин по воскресеньям лишь в два часа пополудни, уходил из дома в семь часов утра под тем благовидным предлогом, что ему необходимо выпить свой ежедневный утренний стаканчик, и возвращался, лишь когда у него уже не было другого выхода, и при этом он переступал порог магазина с такими тяжелыми вздохами, что они могли разорвать сердца чувствительных людей. Но чаще всего, следует сказать, эти неуместные вздохи имели следствием лишь одно — они разжигали благородное негодование г-на Пелюша, к которому торговец игрушками считал уместным наведываться всякий раз, выходя из кафе, где он проводил лучшую часть своих дней. Что же касается его ночных вылазок, то, вместо того чтобы из скромности скрывать их от глаз своего друга, Мадлен, возвращаясь с городских или загородных танцев, никогда не забывал, даже если ему приходилось ради этого сделать большой крюк, сильным ударом кулака по ставням магазина "Королева цветов" заявить о своем приходе и крикнуть при этом:
— Доброй ночи, Пелюш!
А по воскресеньям (хотя в этот день возможность продать детские игрушки была особенно велика, учитывая просто невероятное число ребятишек, казалось буквально выраставших из-под земли на мостовых Парижа в эти двенадцать праздничных часов, когда солнце освещает день отдыха), вместо того чтобы открывать свою витрину в обычное время, как делал его друг Пелюш, и закрывать двери и ставни не ранее двух часов пополудни, Мадлен (и вовсе не потому, что он боялся предписаний полиции или гнева Церкви, но потому, что предавался воскресной праздности во всем ее великолепии) не открывал даже глазок в двери, даже уголок глазка — напротив, его лавка оставалась наглухо закрытой с десяти часов вечера субботы до семи часов утра понедельника.
Где Мадлен проводил воскресенья, никто не мог бы сказать; да он и сам не знал этого заранее. Он опускал в карман десять, пятнадцать, даже двадцать франков и отправлялся в поисках приключений; возвращался же он порой после весьма бурно проведенного дня в два-три часа ночи, причем почти всегда с пустыми карманами (и это в том случае, если возвращался).
Легко понять, что распущенность Мадлена причиняла неподдельное огорчение владельцу "Королевы цветов". Он глубоко и искренне страдал из-за беспорядочного образа жизни своего старого друга. Конечно, г-ну Пелюшу было нетрудно порвать с человеком, имеющим столь порочащие его привычки, и весьма часто г-жа Атенаис Пелюш, урожденная Крессонье, его вторая супруга, еще краснея от некоторых солдафонских историй, рассказанных во всех подробностях в ее присутствии новобранцем 1820 года, ставшим ветераном в 1846-м, давала мужу подобный совет. И столь же часто продавец цветов клялся своей честью, что, как только Мадлен появится у него, он найдет дверь магазина открытой, но его собственное сердце будет для него закрыто. Напрасные обещания, бесполезные клятвы: едва заметив из-за конторки, где он восседал, через стекло витрины своего друга, заворачивающего за угол улицы Бур-л’Аббе, в шляпе, сдвинутой набок, и с засунутыми в карман руками, идущего энергичной, уверенной походкой, г-н Пелюш, повинуясь закону притяжения и уступая центростремительной силе, увлекающей спутник к светилу, бросался ему навстречу, опасаясь, как бы супружеская преданность г-жи Пелюш не заставила ее выполнить в отношении двери магазина ту клятву, которую ее супруг давал и так плохо держал в отношении своего сердца.
Более того — пусть Кант и г-н Кузен, эти два великих философа, объяснят эту странность, если смогут! — незаметно, мало-помалу, привязанность г-на Пелюша к Мадлену стала еще сильнее, возможно благодаря упорству, с каким его друг оставался верен своим порокам. Владельцу "Королевы цветов" доставляло удовольствие то моральное превосходство, которое он испытывал, глядя на выходки своего старого приятеля. Он не упускал ни малейшей возможности прочесть Мадлену строгое поучение; недоставало лишь того, чтобы тот выслушивал напыщенные речи продавца искусственных цветов с таким же вниманием и наслаждением, с каким сам оратор ловил раскатистое звучание своих фраз, неизменно заканчивавшихся следующими патетическими словами, которые г-н Пелюш произносил, подняв глаза и воздев к небу руки:
"Несчастный! Ты катишься в пропасть!"
Мы же, вслед за Ларошфуко, утверждавшим, что в несчастье друга, как бы дорог он ни был нашему сердцу, всегда есть нечто доставляющее нам удовольствие, осмелимся сказать, что в нравственных несовершенствах Мадлена было нечто весьма льстившее самолюбию его друга Пелюша и что Мадлен, раскаявшийся и добродетельный, каким бы хотел его видеть г-н Пелюш, стал бы после своего исправления менее интересным для владельца "Королевы цветов", чем Мадлен теперешний, как бы порочен он ни был.
Впрочем, мой долг правдивого историка вынуждает меня признать, что этот закоренелый грешник выказывал себя весьма покладистым человеком. Он со стоическим смирением переносил все упреки, которыми его другу было угодно осыпать его, когда, как уже говорилось, г-н Пелюш, впадая в пафос, пытался устрашить преступного Мадлена, напоминая о бледных призраках нищеты, болезней и смерти, которые, пошатываясь, надвигались, чтобы покарать его за скандалы. Тогда Мадлен униженно склонял голову и всегда приводил в свое оправдание один чрезвычайно странный довод, который не заслуживал бы быть упомянутым в повествовании, предназначенном изобразить превратности его жизни, если бы это повествование не должно было бы со всей добросовестностью представлено на суд нашего читателя.
По утверждению Мадлена, он так горячо любил свежий воздух, привольную жизнь, простую и непринужденную деревенскую обстановку, что рассматривал эту непреодолимую потребность покинуть Париж, охватывающую его по воскресеньям, как физическую и моральную необходимость найти забвение от несчастья быть обреченным вести городской образ жизни.
Однажды Мадлен предстал перед владельцем "Королевы цветов" в неурочное время.
Лицо торговца игрушками пылало такими яркими красками — хотя это и была пятница, то есть не только будний день для коммерсантов, но и день поста для христиан, — лицо Мадлена, повторяем, пылало такими яркими красками, его взгляд так сверкал, наклон шляпы так бросался в глаза, а его походка выдавала столь чрезмерное возбуждение, что г-н Пелюш, увидев друга в подобном состоянии, побледнел, но тут же опустил голову под полным упреков взглядом супруги.
Госпожа Атенаис Пелюш, урожденная Крессонье, внушала своему мужу нечто вроде того боязливого уважения, которое Юнона вызывала у Юпитера.
Мадлен открыл дверь с таким проворством, что зазвенели стекла, и, размахнувшись, закинул внутрь магазина шляпу; описав параболу, она разбила колпак масляного светильника, а упав, смяла букет фуксий, который г-жа Пелюш укладывала в картонную коробку; после подобного приветствия, вполне уместного в Шомьере и совершенно неподобающего в таком уважаемом магазине, как "Королева цветов", Мадлен немедленно принялся исполнять возле прилавка самые выразительные хореографические па из своего репертуара.
Госпожа Пелюш обеими руками закрыла свое красное от стыда лицо.
Господин Пелюш, бледный от гнева, бросился на друга, схватил его в охапку и, упрекая его в том, что тот запачкал дотоле незапятнанные лепестки "Королевы цветов", попытался сдержать размашистые движения рук разнузданного танцора и парализовать беспорядочные взмахи его длинных ног.
Попытки г-на Пелюша унять Мадлена бесславно провалились; будучи выше и сильнее друга, Мадлен увлек его против воли в этот вихрь и заставил проделать вместе с ним все эти прыжки, которые должны были немало заинтересовать вольтижеров из роты Пелюша — те случайно проходили мимо и, привлеченные шумом и непривычным оживлением в магазине, заглянули в его дверь, оставшуюся приоткрытой.
Внезапно возбуждение Мадлена прошло и без всякого перехода он разрыдался, порывисто обнимая своего старого товарища с видом человека, охваченного глубокой скорбью и жаждущего дружеского участия.
Перед лицом этого неожиданного взрыва горя г-н Пелюш не знал, что и думать; он уронил руки вдоль тела и с грустью посмотрел на Мадлена, предположив, что торговца игрушками внезапно поразило безумие и что одно из множества несчастий, которые он предсказывал тому и которые гнев Божий держал занесенными над его головой, в конце концов обрушилось на его приятеля. От этой мысли г-н Пелюш едва не лишился чувств и, не осмеливаясь ни о чем расспрашивать друга, беспокойно огляделся вокруг, отыскивая какой-нибудь ориентир среди обуревавших его сомнений, луч света, способный выявить истину.
Мадлен, словно догадавшись о том, что происходило в уме торговца цветами, поспешил вывести его из этого замешательства. Рыдая, он поведал другу, что один из его дядей скончался и что это событие послужило ему одновременно источником самой горячей радости и самого искреннего горя. Он добавил, вытирая слезы и улыбаясь, подобно Авроре, сквозь затихающие рыдания, что покойный дядя сделал его своим единственным наследником; эта новость доставила торговцу игрушками столь сильное удовлетворение, что у него не хватило слов и, чтобы передать это чувство должным образом, ему пришлось прибегнуть к пантомиме.
Подобно Гаргантюа после кончины его супруги Бадбек и рождения его сына Пантагрюэля, Мадлен продолжал рыдать, рисуя трогательную картину превосходных качеств усопшего, и хохотать как безумный, перечисляя все удовольствия, радости и наслаждения, которые виделись ему на горизонте, когда он думал о шестидесяти тысячах франков, оставленных его дядей; они должны были помочь ему решить неразрешимую до тех пор материальную и нравственную проблему: вот почему его глаза одновременно увлажнялись слезами то томительного горя, то пьянящей радости.
Господин Пелюш, успокоившись насчет состояния рассудка Мадлена, слушал друга с важным и задумчивым видом.
Торговец цветами не мог пропустить предоставившуюся ему возможность выступить с высокопарным нравоучением. Он начал с милости Провидения, соблаговолившего остановить свой милосердный взгляд на грешнике, дабы тем самым побудить его к раскаянию, затем еще раз подробно перечислил все роковые случайности беспутной жизни и горячо поздравил друга с тем, что тому удалось избежать неотвратимо грозящего ему наказания. Наконец, когда его мысли приняли более определенное направление, г-н Пелюш стал намечать, как Мадлену следует употребить эти деньги, чудом свалившиеся на него с неба; с прозорливостью, присущей ему в отношении коммерции, он обрисовал, какой размах должен придать его друг своей торговле; он охватил взглядом все многочисленные операции по производству и продаже товара, не упустив самой незаметной подробности. В проникновенной же заключительной части, разрывая, подобно Калхасу, завесу будущего, он изобразил Мадлену картину ожидавшего его успеха, который непременно придет, если тот будет следовать советам своего друга; торговец цветами попытался дать приятелю почувствовать тайное наслаждение, которое испытывают, откладывая экю за экю, луидор за луидором, и гордость, которую испытывает негоциант, когда он, как говорят в задних комнатах лавок, становится обладателем своего "дела". Господин Пелюш раскрыл перед Мадленом блаженство от безошибочно проведенной описи товаров, постарался пробудить честолюбие друга, поведав о зависти и восхищении, с какими и собратья по ремеслу и все окружающие будут следить за его успехами. Он закончил тем, что пальцем указал счастливому наследнику, словно на сверкающую точку в пространстве, на кресло, которое ждет капитана гвардии — зимой в Тюильри, а летом в Сен-Клу — за столом конституционного монарха, на кресло, которое Мадлен когда-нибудь сможет, вероятно, занять подобно ему, Пелюшу, владельцу "Королевы цветов", уже трижды восседавшему в нем.
Мадлен, как обычно, дал своему другу Пелюшу излить эти потоки многословного красноречия, но, когда тот закончил свои наставления, торговец игрушками ответил ему с той самоуверенностью, какую придает обладание шестьюдесятью тысячами франков: его делает счастливым и осушает слезы, которые исторгает из его сердца скорбь, вызванная смертью бедного дяди, именно приятная перспектива освободиться от цепей, которые он так давно волочит на своих ногах; теперь, когда у него появилась возможность осуществить мечту, лелеемую им всю жизнь, этот без конца ускользающий от него призрак, — удалиться на покой в какую-нибудь деревню, не заботясь более ни о продаже, ни о прибыли, ни о барышах, ни о потерях и убытках, он, как только шестьдесят тысяч франков попадут в его карман, не согласится ни на час отсрочить этот счастливый миг и сейчас же отправится к нотариусу в контору, где старшим клерком служит его племянник, и подпишет акт, который сделает его владельцем небольшого домика в пяти или шести льё от Парижа; впрочем, признался Мадлен, он уже присмотрел себе этот домик на склоне холма Вути, в ста шагах от Уркского канала, с местоположением, позволяющим ему удовлетворять все свои пристрастия, какие он вынужден был до тех пор сдерживать в себе, то есть тягу к садоводству, рыбной ловле и охоте.
Господин Пелюш был уничтожен этим столь ясным и недвусмысленным заявлением.
В самом деле, если до той поры Мадлен и не извлекал большой выгоды из поучений своего богатого и добропорядочного товарища, то, по крайней мере, он хотя бы всегда безропотно выслушивал их. Вот почему то, как он в этот раз отнесся к словам г-на Пелюша, то, каким языком он заговорил с ним, было совершенно новым для хозяина "Королевы цветов" и произвело на него впечатление возмутительного мятежа.
Ведь его друг не только своим непочтительным, пренебрежительным отношением осквернял святыню — то есть коммерцию, не только нес ересь за ересью, утверждая, что капитал не является орудием для преумножения самого себя и что тот, кто им обладает, в состоянии найти себе лучшее занятие, чем удваивать, утраивать или учетверять его: он может тратить деньги; Мадлен к тому же в своем резком ответе позволил себе кое-какие намеки на глупость людей, обрекающих себя на вечные труды, заботы и тревоги лишь с единственной целью увеличить свое богатство, столь же бесполезное в их руках, как мешок с устрицами, содержимое которого они так никогда бы и не отведали; богатство, от которого смерть отрывает их в то время, когда ее меньше всего ждут, так и не давая им хоть на миг познать его истинную цену.
Этот намек, надо признать, ранил чувствительность г-на Пелюша.
Какое-то мгновение он колебался.
Под болезненно-мучительным впечатлением от удара, нанесенного его чувствам неограниченного властителя, старая его привязанность к неблагодарному Мадлену на какую-то минуту потеряла свою силу.
И все же душа г-на Пелюша пребывала в нерешительности.
Должен ли он выказать этому несчастному отступнику презрительное сочувствие, которое полагается проявлять по отношению к добровольному безумию?
Или же ему следует предаться величественному гневу, которого заслуживает подобная дерзость?
В крайнем возбуждении своих нервов г-н Пелюш слепо избрал второе.
Он схватил Мадлена за рукав и театральным жестом указал ему на дверь.
Госпожа Атенаис подняла вверх обе руки с букетом фуксий, словно благодаря Небо за столь долгожданную милость, которую она уже не надеялась обрести.
Что касается Мадлена, то он воспринял случившееся самым веселым образом и даже попытался обнять своего друга Пелюша, однако тот поспешно отошел назад с презрительной улыбкой:
— Ну уж нет!
Видя это, продавец игрушек пожал плечами и, громко смеясь, переступил порог "Королевы цветов". Негодующий г-н Пелюш с треском захлопнул за ним дверь, но веселый смех Мадлена все еще долетал до хозяев магазина.
Когда г-н Пелюш, вздыхая, с мокрыми от слез глазами взобрался на свой табурет, обитый красным утрехтским бархатом, на котором он, как на троне, восседал за прилавком, дверь вновь распахнулась, и в проеме возникло смеющееся лицо Мадлена.
— Твой гнев пройдет, Анатоль! — крикнул торговец игрушками товарищу. — Но вот что никогда не пройдет, так это мое дружеское отношение к тебе. Пелюш, расстояние не будет мне помехой, и ты увидишь, что я не забуду тебя. Первый карп, которого я поймаю, первый кролик, которого я убью, первый салат, который я выращу, принесут тебе весть обо мне; и если когда-нибудь ты решишься порвать свои цепи и оставить свою каторгу, то приезжай ко мне в Вути, мой бедный невольник гроссбуха, и я научу тебя, как помещать свои деньги под сто процентов удовольствия, веселья и хорошего настроения.
И, закрыв дверь, Мадлен исчез.
III
ГЛАВА, В КОТОРОЙ ГОСПОДИН ПЕЛЮШ НАЧИНАЕТ СОМНЕВАТЬСЯ В СВОЕМ ПРИЗВАНИИ
Расправа, учиненная им над Мадленом, стала большим событием в жизни г-на Пелюша.
Мы уже сообщили или, точнее, дали понять, как и за что он любил Мадлена; разрыв почти полувековой дружбы произвел на хозяина "Королевы цветов" сильное впечатление, и он остался недоволен собой.
Оскорбительные сомнения, громко высказанные вслух торговцем игрушками по поводу истинности счастья тех, кто добровольно приковывает себя к механизму торгашества, помимо прочего породили большую сумятицу в голове достойного г-на Пелюша, чьи мысли до тех пор следовали строгой системе.
Он пожимал плечами, смеялся от жалости, наедине с собой вслух размышлял о том, как мало значения рассудительный человек должен придавать мнению такого неразумного человека, как Мадлен; но, несмотря на все это, несмотря на сознание своего превосходства, ему никак не удавалось освободиться от этого навязчивого воспоминания. А одно сравнение, к которому прибег торжествующий наследник, дерзко позаимствовавший его у животного царства, особенно часто приходило ему на ум. Когда г-н Пелюш думал об этом, а это бывало по двадцать раз в день, он чувствовал, как холодный пот выступает у него на лбу; и тогда он начинал ерзать на своем табурете, словно желая доказать самому себе, насколько беспочвенно и неправдоподобно то оскорбительное сходство, которое Мадлен пожелал установить между честным коммерсантом и раковиной, намертво прикованной к скале.
Сидел ли г-н Пелюш не шелохнувшись, пристально глядя в свой гроссбух и, судя по его внешнему виду, целиком погрузившись в стратегические комбинации дебета и кредита, или же, казалось, был поглощен сортировкой продукции своих мастерских, в его голове билась лишь одна навязчивая идея: потребовать от своего ума новые доводы, которые с еще большей убедительностью доказали бы ему, что его фанатичная преданность коммерции была самым ярким проявлением физического и морального блаженства на этой земле!
Но, увы, боги, чья высочайшая сущность подвергается сомнению, перестают быть богами.
То, что подспудно творилось в потрясенной душе г-на Пелюша, долго ничем не обнаруживало себя, поэтому г-жа Пелюш, весьма сведущая в закорючках, с помощью которых записывают себестоимость и продажную цену товара, была неспособна хоть что-нибудь прочесть по тому зеркалу души, что называется физиономией.
Однако, замечая непривычное волнение г-на Пелюша, она время от времени с удивлением посматривала в сторону мужа.
Мы полагаем, что настала минута познакомить нашего читателя с г-жой Атенаис Пелюш, урожденной Крессонье.
Когда г-н Анатоль Пелюш — не будем долее скрывать это несколько вычурное имя, данное при крещении владельцу "Королевы цветов" (впрочем, Мадлен его уже поведал читателям), — когда, повторяем, г-н Анатоль Пелюш выбрал мадемуазель Атенаис Крессонье среди всех барышень, обращавших на себя внимание в его магазине, и возвел ее в ранг супруги и хозяйки заведения, он поступил так вовсе не потому (поспешим сказать это в назидание тем, кто мог бы приписать ему подобные мысли), что его соблазнили округлые формы, миндалевидные глаза и бархатистая кожа мадемуазель Атенаис. Нет, г-н Пелюш, благодарение Богу, оценивал эти ничтожные соблазны не выше того, чего они заслуживают. Лишь только предрасположенность к коммерции, которую он заметил у этой интересной молодой особы, склонила чашу весов в ее пользу и предопределила его выбор.
И действительно, как с несказанной гордостью говорил продавец цветов, мадемуазель Крессонье была рождена для то pro в л и. Она в высшей степени обладала теми отрицательными качествами, которые, сочетаясь у женщины с присущими ей от рождения хитростью и двуличностью, превращают ее в настоящего Талейрана прилавка.
Таким образом, мадемуазель Атенаис Крессонье, ставшая г-жой Пелюш, вовсе не была чужда тому бурному процветанию, которое "Королева цветов" переживала в последние годы.
Но развитие коммерческих наклонностей мадемуазель Атенаис Крессонье нельзя, как в случае г-на Пелюша, рассматривать как следствие некоей привычки и приписывать их некой чуть ли не платонической страсти к превратностям коммерческих сражений. Госпожа Пелюш была гораздо более практичным человеком, чем ее супруг; она любила коммерцию не ради самой коммерции, а ради тех прибылей, которые та давала, ради тех денег, что она приносила. Будучи молодой и привлекательной, эта женщина любила золото, как любят его некоторые ростовщики и как любили его древние маги; ее завораживали его рыжеватые переливы, металлическое позвякивание; она ощущала, как все ее тело пронизывала магнетическая дрожь, когда в ее пухлую ручку опускалась золотая монета.
Если бы, подобно Пифагору, мадемуазель Атенаис могла вспомнить свои прошлые существования, то безусловно ей пришлось бы признаться, что во времена Юпитера она была Данаей.
Только что по поводу г-жи Атенаис Пелюш мы говорили о хитрости. Хотелось бы, чтобы наш читатель правильно истолковал значение этого слова в данных обстоятельствах. Очень часто бывает, что хитрость негоцианта, хитрость, свойственная его натуре, не имеет ничего общего с интеллектом, это лишь некое чутье, присущее породе двуногих, и ничего более. Стоя за прилавком, г-жа Атенаис Пелюш способна была бы обмануть самого Бога Отца и навязать ему кудель под видом шелка; но вне рамок своего официального существования она была столь наивна, а точнее, столь глупа, что этим вызывала к себе интерес.
Теперь легко понять, почему все признаки, указывающие на то, что ее супруг утратил свою привычную самоуверенность, ускользнули от ее проницательности.
Тем временем друг Мадлен и его неразумные решения стали неизменным предметом всех разговоров цветочника.
Пребывая в стенах магазина, г-н Пелюш и не помышлял отвлекать внимание г-жи Пелюш вопросами, не касающимися изготовления и продажи их продукции, настолько глубоко он был убежден в важности своих обязанностей и величии своей подвижнической обязанности; но как только оба супруга оставались в темной задней комнате, служившей столовой, г-н Пелюш давал волю своему негодованию, которое в течение шести часов он был вынужден вынашивать в своей груди.
Зачерпнув ложку супа и управляясь в ней с помощью вилки — г-н Пелюш благоговейно соблюдал старый обычай буржуа есть суп двумя руками, — продавец цветов, предоставленный в эти минуты самому себе благодаря прекращению всяческого общения с покупателями и товаром, пускался в злокозненные размышления, предназначенные служить темой для вариаций, которые он полагал себя вправе исполнять.
И тогда звучала целая симфония.
Все три четверти часа, пока длилась трапеза, г-н Пелюш изливал горечь своих мыслей, которые рвались наружу из его уст, сталкиваясь по пути с поглощаемой им пищей: под вареное мясо и первое блюдо, подаваемое после закуски, он высокомерно жаловался на бывшего торговца игрушками, оплакивал гибельный путь, на который того увлекло роковое безрассудство; под жаркое раздавались самые оскорбительные эпитеты, с помощью которых торговец цветами пытался определить умственные способности своего бывшего друга; наконец, когда подавался салат и изюм, обида его сердца прорывалась стремительным бурным потоком. И тогда, шаг за шагом отдаваясь во власть необузданных чувств, он уверял, что, выставляя напоказ свою склонность к сельской жизни, Мадлен просто-напросто хотел скрыть свои пороки, уклониться от порицаний истинного друга; он заявлял, что неминуемо — иначе и быть не может — дело кончится тем, что однажды утром Мадлена найдут умершим от скуки, раскаяния, огорчения и нищеты в его лачуге, как презрительно именовал хозяин "Королевы цветов" новое жилище своего приятеля.
В эти дни безудержного красноречия г-н Пелюш доходил до того, что грозил другу смертью от мгновенного внутреннего возгорания или же от белой горячки.
Было условлено, что в дни, когда в магазине появлялась мадемуазель Камилла Пелюш, эту чистую, невинную душу не должна пятнать грязью картина беспутной жизни Мадлена; и когда молодая девушка обеспокоенно спрашивала, нет ли известий о ее крестном отце, которого она так сильно любила, но больше не видела, г-н Пелюш довольствовался тем, что говорил ей с интонацией, горечь которой никому не удалось бы воспроизвести:
— Твой крестный, Камилла, совершает увеселительную прогулку.
Эти слова сопровождались резким нервным смехом, так сильно напоминавшим г-же Пелюш смех Мефистофеля, который во времена своей юности она слышала в театре Порт-Сен-Мартен, что при звуках голоса своего супруга бедная женщина невольно вздрагивала.
Тем временем Мадлен, нисколько не интересовавшийся всеми этими ядовитыми выпадами своего друга Пелюша — впрочем, он о них даже и не подозревал, — думал лишь о том, как сдержать свои обещания.
В одно прекрасное утро кучер небольшой повозки из Виллер-Котре доставил в "Королеву цветов" корзину, где, по его словам, лежали карп и угорь, и сразу же уехал, так как доставка была оплачена заранее.
Госпожа Пелюш высоко ценила в искусстве кулинарии бережливость, поэтому она весьма благосклонно приняла эту посылку, которая теперь, когда г-же Пелюш не приходилось больше терпеть бурные визиты бывшего торговца игрушками, почти примирила ее с ним.
Господин Пелюш бросил косой взгляд на эту широко раскрытую корзину: на подстилке из зеленой травы и в самом деле переливалась серебристая чешуя огромного карпа и закручивался спиралью великолепный угорь.
В это время один из приказчиков магазина принес записку, выпавшую из корзины.
В ней было всего несколько строчек:
"Подумать только, что лишь от тебя зависит познать настоящее блаженство, ощутить, как бьется в груди твое сердце, когда рыба порядочных размеров трепещет у тебя на крючке!
Бедный Анатоль!
Мое почтение сударыне, наилучшие пожелания моей крестнице.
Кассий Мадлен".
Вы видите, что мы идем от открытия к открытию. Мадлен, рожденный при Консульстве отцом-республиканцем, получил в крестильной купели имя тирано-убийцы — Кассий; но, поскольку, желая отпраздновать годовщину того памятного дня, когда Мадлен искупил первородный грех, вы бы тщетно искали в календаре день поминовения святого Кассия, друг Пелюша решил, что ему желательно отмечать свой праздник 1 ноября, то есть в День всех святых.
Да простят нам это отступление, которое, на наш взгляд, имеет свое назначение. Мы принадлежим к числу тех, кто верит, что имена оказывают влияние на судьбу и характер человека, и мы могли бы провести здесь длинное философское исследование этих двух имен и этих двух характеров: Анатоль Пелюш и Кассий Мадлен.
Но мы предпочитаем вернуться к нашему повествованию.
Господин Пелюш разорвал записку и отшвырнул обрывки как можно дальше от себя.
Несколько дней спустя на адрес г-на Пелюша прибыла еще одна огромная корзина, и доставка ее также была уже оплачена.
Корзина до краев была наполнена овощами и фруктами, а поверх этих аппетитных съестных припасов лежал целый ворох простых полевых цветов, которые тем не менее были очаровательны.
Госпожа Пелюш отважилась на следующее замечание:
— Мне кажется, что сельский воздух сделал господина Кассия гораздо любезнее, чем это получалось у городского.
Супруга Пелюша взяла манеру называть Мадлена господином Кассием, переняв ее у двух друзей, привыкших обращаться друг к другу по имени, данному при крещении.
Впрочем, имя Кассий казалось ей гораздо более мужским, чем имя Мадлен, которое, напоминая о женщине и о Евангелии, плохо соответствовало общественному положению и полу торговца игрушками.
К этому новому дару прилагалось следующее послание:
"Я шлю тебе, дорогой Анатоль, образцы продукции моей мастерской. Не удивляйся, если ты обнаружишь некоторую разницу между цветами и фруктами, присланными мною, и теми, что находятся в твоем магазине. Конечно, я сам выполняю всю подготовительную работу, но ведь моим первым подручным является Господь Бог. Ах! Если бы ты хотя раз смог оценить то наслаждение, какое испытываешь, видя, как из почки благодаря твоему уходу вырастает одна из тех прекрасных роз, которые пахнут совсем иначе, чем клей; если бы ты смог познать то трепетное чувство, какое вызывает скромная вишня начиная с того дня, когда она стоит словно в снегу, вся усыпанная цветами, и до того времени, когда эти цветы постепенно превращаются в плоды, которые можно есть, не опасаясь, что металлическая проволока вопьется тебе в десны, то в тот же миг рассчитал бы всех своих мнимых цветочников и поспешил бы последовать моему примеру, продав свое каторжное дело другому невольнику.
Бедный Анатоль!
Мое почтение г-же Пелюш; мои наилучшие пожелания моей крестнице.
Кассий Мадлен".
Было очевидно, что мрачные предсказательства… — мне кажется, что я соорудил новое слово; клянусь честью, тем лучше для Академии! — что мрачные предсказательства г-на Пелюша сделали Мадлена весьма напористым, либо упоение деревенской жизнью вызвало у него горячее желание обращать других в свою веру.
Но и в том и в другом случае невинные насмешки деревенского жителя в адрес горожанина произвели болезненное впечатление на лавочника. Постоянное возбуждение и перенапряжение его ума начинало приводить именно к тому результату, которого он опасался: оно лишало столь дорогое его сердцу занятие той мощной притягательности, которая таилась в нем до сих пор. Господин Пелюш уже далеко не с прежней поспешностью распечатывал письма клиентов, его оставляли безразличным промахи служащих; дважды он поймал себя зевающим с риском вывихнуть челюсть во время разборки текущих счетов и уже со страхом стал задаваться вопросом, что станет с ним, если этот ужасный Мадлен прав, и не допустил ли он сам ошибку, посвятив жизнь бесконечному набиванию деньгами своего сейфа.
Между тем коммерческое положение торгового дома Пелюша потерпело некий урон, который — поспешим сказать об этом, чтобы успокоить наших читателей, — был примечателен лишь тем, что оказался первым в его деловой практике.
IV
ТОРЖЕСТВО МАДЛЕНА
Несмотря на недовольство г-жи Пелюш, для которой всякая продажа, не связанная с оплатой наличными, относилась к разряду недозволенных сделок, г-н Пелюш открыл довольно значительный кредит одному своему бывшему служащему, ставшему торговым агентом.
Легко возбудимая натура женщин наделяет их даром предвидения. Кумекая сивилла, Дельфийская пифия, Аэндорская прорицательница, пророчица Кассандра — вот те, что подтверждают наше заявление и оставляют далеко позади себя старого зануду Калхаса и бретонца Мерлина.
Госпожа Пелюш точно предсказала мужу, что, отдавая в кредит эту сумму, он поступает весьма рискованно.
Бедный молодой человек был несчастлив в своих начинаниях: он не смог свести концы с концами и выполнить обязательства по отношению к своему кредитору; не желая пережить то, что юноша расценивал как свое бесчестие, он пустил себе пулю в лоб.
Господин Пелюш потерял тридцать тысяч франков — сумма, не имевшая для него ни малейшего значения. Однако, хотя с г-жой Пелюш при этом известии случился нервный припадок, хотя отныне она не могла говорить о том, что называла "наша беда", не проливая потоки слез, ее отчаяние нельзя было сравнить с потрясением, которое испытал ее муж, узнав об этом несчастье.
Даже если бы хозяин "Королевы цветов" вложил свой последний грош в сомнительный договор, имеющий неясный исход, то и тогда он не выглядел бы более подавленным.
Он часами просиживал на своем табурете, сдвинув брови, с отсутствующим взглядом, устремленным внутрь себя, погруженный в свои размышления, безразличный и более того — бесчувственный ко всему творящемуся вокруг.
Этот молчаливый уход в самого себя, столь чуждый обычному поведению и характеру г-на Пелюша, достиг такой степени, что г-жа Пелюш, устрашенная последствиями, которые он мог бы иметь, осушила свои слезы и положила конец причитаниям, чтобы попытаться утешить мужа. Но, вопреки намерениям молодой женщины, все ее попытки помочь ему, казалось, напротив, лишь усугубляли уныние хозяина "Королевы цветов".
Бережливая Атенаис приписывала это мрачное настроение г-на Пелюша влиянию злополучных пяти цифр, резавших глаза в статье доходов и потерь — в графе потерь.
Она ошибалась.
Эти тридцать тысяч франков, вышедшие из его сейфа, чтобы никогда туда больше не вернуться, составляли ничтожнейшую из забот, одолевавших торговца цветами. Он пожертвовал бы суммой, в четыре раза большей, чтобы вновь обрести утраченное безмятежное спокойствие души, то спокойствие, что некогда делало его равным богам.
Подобно любовнику, который после измены несравненной любовницы замечает, что его страсть к ней остыла, г-н Пелюш с тревогой спрашивал себя, как и чем ему удастся заполнить пустоту, образовавшуюся в его существовании.
Его самолюбие, которое двадцать лет непрерывных успехов немало укрепили и развили, помимо прочего, было жестоко оскорблено тем, что судьба будто встала на сторону Мадлена, заставив его самого склониться под тяжестью столь неожиданного несчастья. Это предательство Фортуны в то время, когда он нуждался в ее бесконечных милостях, чтобы поддержать пошатнувшуюся убежденность в своей правоте и разбить доводы противника, показалось ему ужасной несправедливостью судьбы.
Поэтому, несмотря на настойчивые просьбы и ласки жены, хозяин "Королевы цветов" оставался безутешен.
Но это было еще не все: меланхолия г-на Пелюша выражалась не только в моральных, но и физических проявлениях. Господин Пелюш был человек, которого в его квартале называли красавцем; это значило, что у него были полные щеки, глаза навыкате, ярко-красный румянец, выступающий вперед живот. И что же?! Щеки г-на Пелюша вытянулись, цвет лица потерял живость красок, делавших его похожим на один из тех восковых плодов, которые он ранее с такой гордостью изготавливал в своей мастерской. Его затуманенный взгляд усматривал в пространстве, на небе, невидимую и необъяснимую загадку. Наконец, его живот, который был столь же неподвижно величествен, как и у знаменитого Брийа-Саварена, вместо того чтобы сохранить свою блистательную округлость или даже увеличить ее, как честолюбиво надеялся его владелец, опал до такой степени, что однажды г-н Пелюш с ужасом заметил, что ему необходимо прибегнуть к унизительной помощи подтяжек, если он хочет, чтобы его брюки не сползали ниже положенного уровня.
Именно в это время г-жа Пелюш, испуганная переменами, произошедшими с ее мужем, решила прибегнуть к лечебному средству — окончательно забрать из пансиона свою падчерицу Камиллу; она знала, как сильна любовь г-на Пелюша к своей дочери, и нередко расценивала эту любовь как слабость; теперь отцовские чувства стали ее надеждой, и она рассчитывала, что влияние девушки разгонит хандру, захватившую ее супруга.
Мадемуазель Камилла Пелюш, которую мы до сих пор скрывали или почти скрывали от глаз читателей и которая сейчас выходит на сцену, должна была вскоре отпраздновать свое семнадцатилетие; ее красота не принадлежала к числу тех, что неизбежно привлекает взгляд и вызывает восхищение. Но стоило хоть один раз обратить на эту девушку внимание, как глаза сами собой неустанно возвращались к ее лицу, и уже невозможно было его забыть. Ее глаза, хотя и небольшие, сверкали сквозь двойную завесу ресниц, столь длинных и шелковистых, что они еще сильнее подчеркивали либо веселое, либо печальное выражение голубых зрачков. Рот ее был великоват, но его красила улыбка настолько благожелательная и добрая, что едва ли кто-нибудь замечал, как эта улыбка открывает зубы ослепительной белизны. Остальные черты лица Камиллы были безупречно правильными; ее милое личико обрамляли две каштановые косы необычайной густоты, и девушка умела укладывать их так очаровательно, как это свойственно только женщинам со вкусом, которые причесывают себя сами.
Это то, что касается ее внешности; скажем же теперь несколько слов о ее характере.
Мадемуазель Камилла Пелюш служила новым доказательством той утешительной истины, высказанной некоторыми оптимистами, что природа вознаграждает тех, кто в детстве был лишен ласки матери и ее наставлений, ранним развитием ума и большой работоспособностью.
Действительно, Камилла научилась всему, чему можно было научиться в пансионе; она довольно чисто говорила по-английски, приятным голосом пела романсы, аккомпанируя себе на фортепьяно, и замечательно рисовала цветы.
Отсутствие материнского внимания, всегда заботливого и доброго, но порой расслабляющего, ускорило зрелость ума Камиллы, и, ничего еще не зная о жизни, она благодаря тайному чутью с первых же слов мачехи поняла свою роль в отцовском доме.
С тактом, которого недоставало г-же Пелюш, девушка тут же угадала, что волнение, подмеченное ею на лице отца, нельзя объяснить незначительной денежной потерей, жертвой которой он стал. Она поняла, что лишь большие изменения, если только не полная перемена в привычках и занятиях отца, благотворно скажутся на его здоровье и станут тем лекарством, какое ей поручила найти г-жа Пелюш. И тогда с полнейшим самоотречением, в котором нельзя было и заподозрить малейшей неестественности, она стала легкомысленной и ветреной, не смущаясь сурово сдвинутых, словно у Юноны, бровей мачехи. Камилла утверждала, что после столь долгого заключения в Маре, то есть в одном из самых удаленных кварталов Парижа, она не может обходиться без развлечений, шума, движения. Вынужденный сопровождать дочь во время ее ежедневных прогулок от Бульваров к Елисейским полям и от Елисейских полей к Булонскому лесу, обязанный присутствовать вместе с ней на всех спектаклях, вкушать от всех удовольствий, к каким Камилла теперь проявляла такое безудержное пристрастие, г-н Пелюш внезапно должен был расстаться со своими привычками домоседа.
За все свои сорок восемь лет г-н Пелюш не прошел столько дорог, сколько заставила пройти его дочь за две недели этого увеселительного стипль-чеза.
Это отчаянное средство оказало на него довольно своеобразное воздействие.
Господин Пелюш, суставы которого несколько утратили гибкость от почти полувекового бездействия, всегда с трудом трогался с места. Он какое-то время сопротивлялся настойчивым просьбам Камиллы, прежде чем уступить высказанному ею новому капризу. Его необходимо было подстегивать нежными ласками, чтобы он решился взять разгон, то есть надеть себе на голову шляпу и облачиться или в свой деловой редингот, или, когда того требовали обстоятельства, в свой голубой мундир с золотыми пуговицами. Он так любил дочь, питал такую слабость к той, которую считал, по его заверениям — и мы можем поверить ему в этом на слово, — самым выдающимся творением, созданным его талантом цветочника, что в конце концов всегда покорялся ее воле.
Мало-помалу под благотворным влиянием Бульваров, Тюильри и Булонского леса, где, как известно каждому, воздух не имеет ничего общего с воздухом улиц Бур-л’Аббе и Гренета, его сомнения исчезали, тусклый взор оживлялся, и он вновь становился разговорчивым и общительным, обретая шаг за шагом самую искреннюю и беззаботную веселость. О "Королеве цветов" в течение трех недель никто из них не заговаривал, словно улица Бур-л’Аббе была на другом конце света; г-н Пелюш в удивлении останавливался перед чем-нибудь и засыпал Камиллу вопросами, ведь все было непривычным для этого старого дикаря, чуждого цивилизации: дочерняя любовь вырвала его из затворничества в мастерских, и он, подобно ребенку, всему удивлялся и радовался.
Влияние этих неведомых ему ранее чувств довело г-на Пелюша до восторженного состояния. В театре он проливал искренние слезы над несчастьями молодой героини, козни второстепенного персонажа вызывали у него яростное возмущение; на бегах — а ведь хозяин "Королевы цветов" никогда не имел ни малейшего понятия о том, что такое бега, — он выкрикивал громкие "ура", которые, говорят, пришли к нам с противоположной стороны Ла-Манша; присутствуя же на параде, он притоптывал в такт звукам военного оркестра. Наконец, когда г-н Пелюш шел под руку со своей дорогой Камиллой, он был так горд красавицей-дочерью, что позволял своей шляпе занимать наклонное и вызывающее положение, так сильно возмущавшее его некогда у Мадлена.
К несчастью, как только он возвращался домой, как только занимал свое место за дубовой конторкой, а приказчики клали перед ним целые кипы счетов, которые торговец цветами должен был занести в гроссбух, за несколько секунд совершалось обратное превращение, и под влиянием этого ужасного воздействия цветочник становился еще более печальным, более мрачным и угрюмым, нежели был до этого. Тяжелые вздохи, которые у него даже не было сил скрывать, вырывались из его груди, и не раз Камилле казалось, что отец украдкой смахивает слезу нарукавниками из голубого перкалина, защищавшими сукно его редингота.
Ежедневные наблюдения Камиллы раскрыли ей секрет упадка душевных сил отца; она выяснила то, в чем даже г-н Пелюш не осмеливался признаться самому себе, а именно, что равнодушие и даже отвращение сменили прежнюю коммерческую увлеченность владельца "Королевы цветов", и девушка поняла, что, если они хотят спасти отца, его необходимо вытащить из состояния расслабленности, в котором он мог лишь прозябать.
Однажды она решилась поделиться своими здравыми размышлениями с мачехой.
Безусловно, общественное положение г-жи Атенаис Пелюш во многом превосходило те надежды, какие она могла питать в девичестве, но все же молодая женщина не могла без содрогания подумать о том дне, когда состояние, которое она была призвана разделить, перестанет увеличиваться; полученная прибыль теряла в ее глазах всякое значение, когда г-жа Пелюш думала о тех деньгах, которые ей не удастся приобрести; поэтому, едва Камилла заговорила с ней о необходимости отказаться от "Королевы цветов", особенно после пережитой ими потери, Атенаис громко раскричалась. Она назвала опасения Камиллы выдумками пансионерки и достаточно язвительно заметила, что, если бы капризы испорченного ребенка не отвлекали г-на Пелюша от его занятий, он бы уже вполне поправился; под конец она запретила девушке забивать голову отца подобным вздором.
Этот выговор сильно опечалил Камиллу, и она больше не осмеливалась предлагать отцу новые прогулки.
Шли последние дни августа.
В субботу около четырех часов пополудни г-н Пелюш меланхолично готовил зарплату своим работникам, когда, подняв глаза к потолку, — с недавних пор он приобрел эту губительную привычку, — он увидел человека, который, стоя под его окном, казалось, следил за всеми его движениями со странным вниманием.
На голове этого человека была фетровая шляпа с широкими полями, и ее край, прижатый к стеклу, к которому прислонил свое лицо нескромный незнакомец, загораживал от г-на Пелюша большую часть физиономии этого назойливого любопытного.
Манера незнакомца одеваться показалась торговцу цветами столь же странной, сколь и причудливой. Но внимание г-на Пелюша привлекла даже не его голубая хлопчатобумажная блуза, а высокие кожаные гетры с застегивающимися голенищами, сделанная из кожи и сетки сумка, которую он носил через плечо, два рога с медными застежками, болтавшиеся под обеими руками, и, наконец, двуствольное ружье, видневшееся из-за его плеча и ничем не напоминавшее то оружие, которое правила предписывают носить национальным гвардейцам.
В эту минуту небольшой уголок лица неизвестного, открытый для г-на Пелюша, исказила невероятная гримаса. Цветочник побледнел как полотно; он подпрыгнул на своем табурете и с чувством, заставившим г-жу и мадемуазель Пелюш поднять головы, закричал:
— Мадлен!
Это в самом деле был Мадлен, который с привычным для него шумом уже открывал дверь, Мадлен, который, возвращаясь после пяти месяцев разлуки в магазин своего старого товарища, казалось, продолжил тот взрыв смеха, что был начат им, когда он выходил из этих стен. Это был Мадлен еще более веселый, более шумный, более радостный, чем когда-либо, и однако, этот Мадлен столь мало походил на прежнего, что узнать его можно было, лишь сосредоточенно вглядываясь в него.
Было нечто основательное — и следовало это признать, глядя на нынешнего Мадлена, — в сельских увлечениях, заняться которыми стесненность в средствах та к долго мешала бывшему торговцу игрушками, принося ему тем самым огромный вред; теперь же под влиянием нового существования, размеренного и спокойного, во всем его облике произошли коренные перемены. В противоположность г-ну Пелюшу, похудевшему и побледневшему, Мадлен утратил свою худобу и заметно располнел. Острые углы его лица, словно вырезанные лезвием ножа, сгладились, во взгляде появилась живость, никак не связанная с алкогольным перевозбуждением; спина распрямилась, цвет лица, некогда желтый от бессонных ночей и красноватый от чрезмерных возлияний, принял под влиянием свежего воздуха тот теплый, смуглый оттенок, что служит характерным признаком здоровья и силы.
В общем, Мадлен помолодел ровно настолько, насколько г-н Пелюш постарел.
Хозяин "Королевы цветов" с первого взгляда заметил все эти перемены, и, пока Мадлен почтительно приветствовал г-жу Атенаис, нежно обнимал Камиллу, к которой он всегда, как мы говорили, относился с отцовской заботливостью, цветочник попытался обуздать порывы своего раздражения, подавить мучительные болезненные чувства, появлявшиеся в нем при виде того контраста, который представлял этот успешный итог на фоне его собственного неблагополучия, и со спокойным и безмятежным выражением лица ответить на все насмешки, какие он ожидал от своего друга.
И, словно забыв все, что случилось, он пошел навстречу Мадлену, протягивающему руки для объятия.
И тогда бывший торговец игрушками рассказал своему старому товарищу, что, приехав на несколько дней в Париж за новым охотничьим снаряжением, он не захотел пройти мимо "Королевы цветов", не пожав руки владельцу заведения.
Но, рассказывая все это, Мадлен против воли не мог оторвать взгляд от Пелюша и, казалось, был сильно удивлен переменой к худшему, произошедшей во внешности его старого товарища. Он смотрел на Пелюша со своего рода оцепенением, отведя от него глаза лишь для того, чтобы вопрошающе посмотреть на г-жу Пелюш и свою крестницу.
Камилла отлично поняла значение этого взгляда и приложила пальчик к губам, предупреждая крестного, что все расспросы по этому поводу неуместны.
Госпоже Пелюш хотелось достойно ответить на проявленную Мадленом щедрость садовода и рыболова, и она предложила ему с не свойственной ей любезностью разделить их семейный обед.
Хозяин "Королевы цветов" с восторгом поддержал это предложение; несмотря на все усилия, ему с трудом удавалось владеть своими эмоциями, поэтому он был бесконечно рад возможности получить несколько часов, чтобы прийти в себя. Но в то же время, чтобы доказать Мадлену, что ничто не изменилось в его привычках, г-н Пелюш несколько раз повторил, что, поскольку обед будет лишь в пять часов, ему нужно привести в порядок свои конторские книги, так как обязанности коммерсанта для него даже превыше удовольствия побеседовать с другом.
Сельский житель под предлогом, что ему надо сделать еще кое-какие покупки в квартале, вышел вместе с Камиллой, которая, желая спокойно переговорить с Мадленом, попросила у отца разрешения сопровождать своего крестного.
Час обеда собрал всех четверых в маленькой столовой торговца цветами, о которой уже шла речь.
Господин Пелюш, возбужденный, словно ему предстояло драться на дуэли, подготовил целый набор доказательств, призванных не оставить камня на камне от клеветнических утверждений Мадлена, если тот попытается очернить радости коммерции, и показать ему, что удовольствие от производства бумажных цветов и отправки их в четыре части света остается, невзирая на карпов, угря и фрукты, присланные Кассием, самой важной обязанностью человека на земле.
Но, к несчастью, цветочнику так и не удалось поделиться результатами своих размышлений.
Мадлен был, как обычно, весел и, не принимая вызова, пропускал мимо ушей коварные выпады, с помощью которых г-н Пелюш пытался свести разговор к этим интересующим его вопросам, послужившим причиной его ссоры с другом и тех жестоких разочарований, что последовали за этой ссорой. Если Кассий говорил о прелестях своего нового образа жизни, если он делился со своими хозяевами наслаждением, полученным им от охоты, рыбной ловли и садоводства, то делал он это с таким добродушием, что щепетильности владельца "Королевы цветов" не удалось найти ничего оскорбительного в его словах.
Даже привыкнув ничему не удивляться, г-жа Пелюш не смогла скрыть изумления, вызванного этим перевоплощением Мадлена. Нет, он не стал элегантным человеком, его внешность продолжала оставаться грубой; но он утратил то насмешливое расположение духа, жертвой которого обычно становилась хозяйка дома, и за все время обеда ни разу не допустил в отношении ее ни одной из тех странных выходок дурного вкуса, ни одной из тех пошлых двусмысленностей, на которые торговец игрушками прежде был так щедр и которые делали его поистине невыносимым.
Итак, время обеда превратилось для г-на Пелюша в целую цепь разочарований, а для г-жи Пелюш — в целую цепь сюрпризов.
И когда Мадлен, которому еще предстояло проделать восемнадцать льё, чтобы добраться до своего крова, простился со своими друзьями, не забыв заверить г-жу Пелюш, что ей еще предстоит отведать плоды его охоты, точно так же как она уже отведала плоды его рыбной ловли и садоводства, та с присущей ей простодушной бестактностью не смогла удержаться и не заметить мужу, что не следовало выдвигать нелепые доводы против намерений Мадлена, которым суждено было завершиться столь блестящим результатом.
Господин Пелюш ничего ей не ответил; пока служанка собирала со стола, он ходил взад и вперед по тесной комнате, испытывая страшное волнение и даже не давая себе труда скрыть его.
Вдруг, как бы уступая внезапному порыву, торговец цветами взял свою шляпу и впервые в жизни вышел из дома без определенной цели.
Он долго бродил по улицам Парижа либо следуя за толпой, либо останавливаясь, когда она замирала, — в общем, будто занимаясь бесцельным шатанием, за которое он столь презрительно осуждал художников и простаков, но на самом деле он был настолько поглощен своими мыслями, что в течение получаса простоял перед витриной гидравлических инструментов, хотя, разумеется, не мог проявить к ним столь большого интереса.
Это было первое серьезное развлечение г-на Пелюша. И мы увидим, к чему оно его привело.
V
ГЛАВА, В КОТОРОЙ МЫ УВИДИМ,
КАК ГОСПОДИН ПЕЛЮШ, САМ ТОГО НЕ ВЕДАЯ, ГОТОВИТСЯ К ТЯЖЕЛЫМ ИСПЫТАНИЯМ
Вывели г-на Пелюша из этого состояния шутовские выходки какого-то мальчишки.
Возвращенный к реальностям этого мира, он понял всю нелепость своего положения, краска стыда пятнами выступила у него на скулах, и он бросился прочь, спрашивая себя, до чего может довести человека непривычное волнение.
Было одиннадцать часов вечера. Некоторые магазины уже закрыли свои витрины. Свет вывесок и рекламы стал постепенно бледнеть; экипажи, хотя и встречались реже, вместе с тем мчались гораздо быстрее, шум стихал: ночной Париж вступил в свою вторую фазу.
Хотя это был тот час, когда г-н Пелюш сам привык закрывать снабженные штырями ставни магазина "Королева цветов", он не чувствовал ни малейшего желания спать; прогулка, которую он совершил, правда, остудила его пылающий лоб, но, благодаря испытываемому цветочником ощущению блаженства, внушила ему лишь одно желание: продолжить это движение, которое так соответствовало возбужденному состоянию его души. Однако он смутно представлял себе то беспокойство, какое должны были испытывать в это время г-жа Пелюш, урожденная Крессонье, и мадемуазель Камилла, его дочь.
Никогда на своем супружеском веку г-н Пелюш не возвращался в столь поздний час.
Это соображение заставило его положить конец своим бесцельным странствиям, сориентироваться и попробовать отыскать путь домой.
Некоторое время он вел себя словно путешественник, заблудившийся в девственных лесах Америки и пытающийся определить дорогу по пучку травы, по стволу дерева, по утесу или скале необычного вида; некоторое время, повторяем, он пристально рассматривал двери и окна домов, считая постыдным для себя, выросшего в Париже, читать название улицы, на которой он находился, на услужливых табличках, установленных городскими властями в начале и конце улиц, чтобы облегчить маршрут провинциалам; не прибегая к столь унизительному для себя способу, он определил, что его беспорядочные скитания привели его в тот старый Париж, притоны которого стали тогда так широко известны благодаря знаменитому роману.
Этот роман был опубликован в "Газете дебатов". Однажды г-н Пелюш, услышав, что это лучшее парижское издание и по этой причине любимая газета короля Луи Филиппа, оставил "Конституционалиста" и подписался на "Газету дебатов". С той минуты г-н Пелюш, от своего имени и от имени своей семьи отвергавший всякое легкое чтение, тем не менее полагал себя обязанным сделать исключение для романа с продолжением, печатающегося в "органе нашего правительства", как он высокопарно и почтительно величал газету.
Поэтому, войдя в сумрачные улочки Сите и вновь ощутив влияние окружающего, г-н Пелюш стал думать меньше о Мадлене и больше о Поножовщике и Грамотее, так что мало-помалу насмешливая физиономия бывшего торговца игрушками перестала вставать в его воображении, уступив место знаменитым преступникам, описания криминальных подвигов которых скрашивали его досуг.
На каждом шагу он принимал фантастические тени, которые дрожащий свет газовых фонарей отбрасывал на стены, за силуэт бандита, готового поступить с ним, как с принцем Родольфом; холодный пот выступал у г-на Пелюша на лбу, и он чувствовал дрожь во всех членах.
Хотя г-н Пелюш носил двойные серебряные эполеты и гордился своим званием капитана, быть может, даже больше, чем званием владельца "Королевы цветов", он считал себя обязанным проявлять храбрость, лишь возглавляя свою роту.
Наконец торговец цветами попал в свой квартал. Фасады домов, представшие его взгляду, выглядели как лица добрых старых знакомых, однако он все еще не успокоился до конца.
Тем не менее, когда он узнал ныне уже исчезнувшую, подобно многим другим, улицу Шевалье-дю-Ге, ему пришло в голову, что где-то рядом находится караульное помещение роты того легиона, в состав которого входил и он, поэтому г-н Пелюш принял соответствующую осанку, чтобы пройти перед часовым с безмятежным видом и достоинством, соответствующими его высокому положению в гражданском ополчении.
Но, к своему величайшему изумлению, г-н Пелюш не услышал на мостовой улицы отзвука размеренных шагов часового и напрасно попытался отыскать в темноте некий силуэт и сверкающие отблески, какие отбрасывает дуло ружья с примкнутым к нему штыком.
Ночь, сменившая один из самых жарких августовских дней, была теплой и душной, и на небе не было ни облачка, так что у постового не имелось ни малейшего предлога, чтобы укрыться в караульной будке. Господин Пелюш заподозрил нарушение в несении службы, и, хотя дежурной была вовсе не его рота, он воспользовался предоставившимся случаем, чтобы лишний раз доказать свои усердие и бдительность. Кроме того, после довольно бурных переживаний, которые ему пришлось испытать, он был не прочь взять реванш, в свою очередь слегка припугнув кого-нибудь.
Господин Пелюш направился к будке, заглушая звук собственных шагов и принимая чрезмерные предосторожности, подобно краснокожему индейцу, вышедшему на охоту за скальпами в безлюдье американских лесов.
На некотором расстоянии от поста его невероятно заинтриговал равномерно повторяющийся звук от столкновения двух предметов.
Разумеется, часовой не спал; но в то же время представлялось весьма вероятным, что он не полностью отдавал свои силы заботам о безопасности города, доверенного его неусыпной бдительности.
Господин Пелюш, спрятавшись с левой стороны будки, высунул голову и заглянул внутрь нее.
Внутри будки можно было разглядеть ружье и медвежью шапку часового, который, повесив свой головной убор на кончик штыка, освободил голову и руку от бремени, по-видимому казавшемуся ему бесполезным.
Сам же часовой прислонился к освещенной фонарем правой стене будки и скрашивал свое дежурство, играя в бильбоке с ловкостью, какой позавидовали бы даже миньоны Генриха III.
Перед таким забвением того, что г-н Пелюш полагал самым священным долгом и обязанностью, торговец цветами почувствовал, как все его личные заботы мгновенно улетучились. Он уже было намеревался захватить оружие нарушителя и заставить задрожать того от ужаса при крике: "Поверка часовых!", который, по его мнению, должен был раздаваться в ушах постового не менее звучно, чем трубный зов к Судному дню, и дошел даже до того, что задался вопросом, не следует ли ему призвать на голову провинившегося громы и молнии дисциплинарного суда, но, рассудив, что в этом случае позор падет на всю национальную гвардию Парижа, а следовательно, и он сам, будучи ее капитаном, окажется в некоторой степени замаран, г-н Пелюш решил проявить снисходительность, и его сознание одобрило эту мысль.
Он вышел из своего укрытия и внезапно предстал перед часовым, издав лишь звук "Гм!", на его взгляд прозвучавший устрашающе.
Национальный гвардеец выронил бильбоке, правой рукой отстранил г-на Пелюша, кинулся в будку и, не замечая того, что его медвежья шапка сделала оружие безопасным, а его жест комичным, наставил штык на человека, в ком он заподозрил вора или бунтовщика.
Господин Пелюш с величественным хладнокровием отстранил штык.
— Слишком поздно, сударь! — воскликнул он с горячностью. — Слишком поздно! Именно такие национальные гвардейцы, как вы, делают или, точнее, позволяют делать революции; именно они своим оружием открывают дверь кровавой арены мятежей непримиримым врагам наших институтов власти и общественного строя.
— А! Вот оно что! — сказал национальный гвардеец, успокоившись при виде того, что он имеет дело с простым буржуа. — Кто вы такой?
— Начальник, сударь, — сказал г-н Пелюш, принимая важный вид.
— Начальник?! Я не знаю других начальников, кроме тех, что носят мундир, а когда я сам надеваю форму, то считаю себя начальником над всеми буржуа на земле. Проходите мимо, а не то я всажу вам штык в живот.
— Сударь! — вскричал г-н Пелюш. — Хотя я и не командую вашей ротой, возблагодарите Небо, что на мне сейчас нет знаков отличия, ибо в противном случае я был бы беспощаден. Да, история доносит до нас, что при подобных обстоятельствах первый консул не погнушался занять место заснувшего часового, и искусство отразило этот великодушный поступок, запечатленный в наших воинских анналах. Конечно, сударь, если бы вы, как этот бедный солдат, могли бы сослаться в свое оправдание на усталость после десяти побед, я бы не колеблясь последовал примеру, данному мне великим человеком; но, я спрашиваю вас, что бы он сделал, если бы увидел, как его солдат, забыв о защите родины и охранении поста, предается развлечению, которое едва ли можно простить человеку даже в более нежном возрасте? Возблагодарите Небо, повторяю вам, за то, что ваше недостойное поведение не видел никто, кроме меня, а главное — за то, что я сейчас не на службе. Облаченному в одежду простого горожанина, мне дозволено обойти молчанием ребяческую шалость, в которой вы провинились и которая, если она станет известна, покроет позором все гражданское ополчение.
Часовой слушал г-на Пелюша с удивленным и в то же время с насмешливым лицом. Было очевидно, что высокопарно-торжественный стиль, употребленный хозяином "Королевы цветов" для изъяснения с ним, произвел на караульного определенное впечатление. Вступление этой речи, которое одобрил бы сам г-н Прюдом, похоже, поразило его больше всего. Он отвел штык, уперся прикладом в землю, надел на голову свою медвежью шапку, подобрал бильбоке, облокотился на ствол ружья и, глядя на моралиста, спросил:
— Так, значит, вы не любите бильбоке, капитан Пелюш?
— A-а, наконец-то вы меня узнали! — воскликнул хозяин "Королевы цветов", в восторге от полученного доказательства его известности, которая была целью его самых честолюбивых надежд.
— Черт возьми! Вы торгуете цветами на улице Бур-л’Аббе. А вот господин Бондуа, торгующий пухом и пером, вовсе не похож на вас, он пойдет на что угодно ради бильбоке.
— А кто этот господин Бондуа, торгующий пухом и пером? — высокомерно спросил г-н Пелюш.
— Мой капитан, вот кто! Если бы вы пришли минут на десять пораньше, то застали бы нас играющих вместе.
— Дурной пример, сударь, дурной пример. В гражданской жизни все французы равны перед законом, но на военной службе воинская субординация должна соблюдаться.
— О! Не стройте из себя такого гордеца, всем известно, что вы славный малый, господин Пелюш.
И ладонью он похлопал г-на Пелюша по животу.
— Национальный гвардеец! Национальный гвардеец! — вскричал г-н Пелюш, отскакивая назад. — Вы забываетесь!
— Напротив, я не забываюсь ни на минуту, и доказательство тому то, что я хочу сделать вам подарок, держите!
И постовой протянул г-ну Пелюшу одну из тех славных рабочих рук, черную и мозолистую, которая говорила о труде и надежности.
Но, как Сципион Назика, г-н Пелюш отдернул свою руку, завел ее за спину и откинулся назад с таким видом, что это на мгновение придало ему смутное сходство с героем, взятым им себе за образец.
— Национальный гвардеец, — произнес он, — знаете ли вы, что после моей снисходительности к ва)ч предложение о подарке мне звучит почти как оскорбление?
Постовой рассмеялся.
— О! — воскликнул он. — Это как посмотреть, капитан; подарок, который я хочу вам сделать, не может запятнать ваше бескорыстие, столь хорошо всем известное: это всего лишь несколько лотерейных билетов, и я не хотел бы ничего другого, как передать их в ваши руки…
— Не продолжайте, национальный гвардеец, — прервал его г-н Пелюш, простирая руку вперед, словно человек, дающий клятву или приносящий присягу. — Охранительное правительство, при котором мы имеем счастье жить, в своей мудрости ликвидировало эти гибельные розыгрыши и рискованные игры, поглощавшие гроши бедняков и крохотные сбережения рабочих; вы взяли в руки оружие, чтобы защищать законы, а не нарушать их.
— Командир, эта мораль сделала бы честь любому, кто носит офицерские эполеты, и я лишь скажу вам в ответ, что если бы это зависело от меня, то на следующих выборах вы бы стали шефом батальона. Но дела есть дела, не так ли? И в наши дни дела не у всех идут так блестяще, как у владельца "Королевы цветов". Поэтому неудивительно, что заботы о них преследуют простого национального гвардейца, даже когда он стоит на посту. Впрочем, разве сам папаша Долибан не подает нам пример счастливого сочетания долга короля-граждан и на и обязанностей отца семейства?
Напомним, что "папаша Долибан" было дружеское прозвище, которое дали королю Луи Филиппу его сторонники.
— Господин Пенсон! Господин Пенсон! — вскричал г-н Пелюш, впервые называя своего собеседника по имени. — Если бы вы знали меня лучше, то вам было бы известно, что я никогда не позволю, чтобы в моем присутствии этим нелепым прозвищем называли августейшего монарха, которого нация поставила во главе страны. Именно подобное неуважение порочит династии, господин Пенсон; и, когда враги порядка объединяются, как они это делают теперь, с целью нанести урон тем институтам, которым трон обязан своим счастьем и процветанием, каждый порядочный француз обязан противопоставить этим разрушителям двойной заслон: свой штык и свои чувства.
Национальный гвардеец, которого г-н Пелюш назвал господином Пенсоном, едва заметно повел плечами, но, вероятно, он рассчитывал сбыть свои лотерейные билеты начальнику, так как продолжал с хитрым видом:
— Вы весьма красноречивы, капитан, и я не напрасно утверждал на последних выборах, что вас следует послать в Палату, но следует быть честным до конца… Вы отлично знаете, что я не играю в бильбоке, когда требуется защищать наши лавки и колотить республиканцев. Мы встречались с вами в деле, господин Пелюш, в тот день, когда было довольно жарковато! И я клянусь, что во всем батальоне нет национального гвардейца, кто лучше меня знал бы, что вы заслужили красную ленту, алеющую теперь в вашей петлице. Вы должны быть охотником, капитан: это спокойствие, это самообладание, которое я видел у вас под огнем, служат тому доказательством. Капитан, вы должны быть охотником.
Этот поворот сразу же вернул цветочника к мыслям, внушенным охотничьей страстью его друга Мадлена.
Его губы искривились в высокомерной улыбке.
— Нет, господин Пенсон, нет, — сказал он, — это развлечение никогда не привлекало меня. Я считаю, что серьезный человек может лучше распорядиться своим свободным временем, нежели тратить его на подобное занятие, и горжусь тем, что в этом вопросе мое мнение совпадает с мнением великого поэта, писавшего в тысяча восемьсот тридцатом году в одном из куплетов водевиля, название которого я, правда, забыл:
С дичи они начинают,
Однако ж народом кончают!
И тем не менее, — продолжал г-н Пелюш не без горечи, — у меня есть друг, который утверждает, что в преследовании и уничтожении невинных животных заключена пес plus ultra[6] человеческого блаженства.
— Мадлен! Ваш друг Мадлен! Бывший торговец игрушками с нашей улицы. О, если бы у него были ваши деньги, капитан, мне не пришлось бы разыгрывать мое сокровище в лотерею. Однако вот это должно вас устроить: вы берете мои билеты и, естественно, как капитан, выигрываете ружье, после чего дарите его вашему другу Мадлену
— О каком ружье говорите вы?
— Вы не знаете моего ружья?
— Нет.
— Ружья Пенсона?
— Я уже имел честь вам сказать, что я не знаю его. Но соблаговолите поспешить, так как, да простит меня Господь, я слышу, как звонят четверть двенадцатого.
— В двух словах я вам расскажу эту историю, капитан. Будучи одновременно военным человеком и предпринимателем, вы не могли не заметить на последней Выставке ружье, которое произвело необычайно сильное впечатление: это высшее достижение гравировки, резьбы и оружейного мастерства одновременно. Ствол из дамасской стали, приклад черного дерева, ударный механизм и отделка из литой стали, а все вместе, дерево и металл, покрыто такой изумительной резьбой, чеканкой и гравировкой, что стоило бы лишь придать изделию форму обруча, и оно превратилось бы в дамское колье. Мне вручили медаль; но от славы нет никакой прибыли, командир. Вот скоро уже три года, как это сокровище из серебра пребывает в моем магазине и вызывает там восхищение знатоков. Все, кто приходит купить его, говорят: "Это прекрасно! Это великолепно! Это восхитительно!" Но что толку! Все эти восклицания подразумевают лишь одно: "Это слишком дорого!" Клянусь честью, видя это, я решил разыграть ружье в лотерею с капиталом в две тысячи франков, хотя эти деньги не покроют и половины той суммы, в которую оно мне обошлось. Цена билета пять франков, и, конечно же, раз речь идет об оружии, я в первую очередь подумал о капитане, которому я обязан его показать! Итак, вот четыре номера, отложенные мною специально для вас, господин Пелюш.
В то время как оружейник Пенсон произносил заключительную часть речи, в голове у хозяина "Королевы цветов" разгорелась настоящая борьба между заговорившим в нем тщеславием и строгостью его принципов бережливости. Он не решался ответить отказом на просьбу, столь учтиво высказанную ему подчиненным, в добрых отношениях с которым г-н Пелюш к тому же был заинтересован в преддверии торжественного дня выборов, но, с другой стороны, он прикинул, что двадцать франков, которые с него потребовали, ему придется внести в статью расходов, и выбрал половинчатый вариант, щадивший как его отношения с избирателем, так и его кошелек.
— Я изложил вам, — наконец произнес он, — свое отношение к азартным играм, которые общество осуждает, а закон отвергает. Поэтому как капитан я не могу принять ваше предложение и купить лотерейные билеты; но, сняв с себя официальные полномочия, как согражданин и как друг я прошу вас, господин Пенсон, дать мне один из ваших номеров.
Оружейник, кому, похоже, не особенно пришлось по вкусу это половинчатое решение, не оправдавшее его надежд, некоторое время пытался оспаривать намерения г-на Пелюша, но тщетно. Капитан был непреклонен, его не тронула ни хитрая лесть, ни блестящие перспективы выигрыша, который, по словам оружейника, был бесспорен, хотя четыре билета давали в четыре раза больше уверенности, чем один. Он ни на шаг не отступил от намеченного им плана.
Он взял один билет, заплатил за него и, отдав Пенсону новые наставления об обязанностях солдата под ружьем, вернулся домой, где нашел жену и дочь сильно обеспокоенными той непривычной выходкой, какую он позволил себе.
Это происшествие, которое на первый взгляд могло показаться довольно незначительным, чтобы привлечь чье-то внимание, имело для судьбы г-на Пелюша, как мы и заподозрили в предыдущей главе, непредвиденные последствия.
Прошло две недели, и владелец "Королевы цветов" конечно же и думать забыл о купленном билете, как вдруг оружейник с вытянутым жалким лицом принес ему ружье.
Номер билета, купленного г-ном Пелюшем, хотя и купленного вопреки его желанию, оказался счастливым.
Не существует маленьких удач, и те из них, что выпадают исключительно по воле случая, льстят тщеславию человека отнюдь не меньше, чем любые другие.
Это событие, результаты которого было невозможно предвидеть, вначале обрадовало владельца "Королевы цветов" и тут же вывело его из меланхолии.
VI
КАК ВСЛЕДСТВИЕ ЭТОГО ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГОСПОДИН ПЕЛЮШ, ПО-ПРЕЖНЕМУ САМ ТОГО НЕ ВЕДАЯ, ОКАЗАЛСЯ ВООРУЖЕН КАК… ОХОТНИК
И тем не менее, когда г-н Пелюш попросил оружейника повторить только что сказанное, голос его дрогнул, а лицо слегка побледнело.
— Повторяю, господин Пелюш, — проговорил оружейник, — билет под номером шестьдесят выиграл ружье, а поскольку именно вы взяли номер шестьдесят, то за свои жалкие сто су вы приобрели оружие ценою в четыре тысячи франков.
Господин Пелюш не придал особого значения обладанию предметом, совершенно ему ненужным. Однако, согласно утверждениям оружейника, этот предмет имел значительную рыночную стоимость, и если хозяин "Королевы цветов" не мог оценить выигрыш как знаток оружия, то, будучи деловым человеком, он не мог не испытывать удовлетворения от удачно совершенной сделки.
Несколько мгновений г-н Пелюш был ошеломлен и повторял про себя эти три слова: "Четыре тысячи франков", как вдруг с лихорадочной поспешностью сунул руку в карман своего редингота.
Он вытащил оттуда несколько бумаг и просмотрел их одну за другой, но среди них не оказалось счастливого билета.
Исследовав все глубины своего кармана, г-н Пелюш вынужден был признаться самому себе, что не знает, что сталось с его билетом.
— Но ведь это не имеет значения, мой дорогой господин Пенсон, — сказал он, совершенно потерянный, оружейнику, — вы же знаете, не правда ли, что именно у меня был этот номер шестьдесят?
— Иначе говоря, — ответил г-н Пенсон, перед которым забрезжила надежда сохранить свое ружье, — я знаю, что я вам его дал; да, но вы ведь могли уступить ему кому-нибудь из ваших друзей.
— Никогда, сударь! Никогда! — вскричал хозяин "Королевы цветов". — Уступить номер шестьдесят?! Никогда!
— Но вы могли его потерять.
— Даже если я его потерял, он все равно принадлежит мне, сударь.
— А если его нашел кто-то другой, если этот другой представит мне этот билет?
— Это будет мошенник, господин Пенсон, вор, заслуживающий каторги.
— Но, тем не менее, я не смогу отказать и не отдать ружье человеку, который предъявит билет, кем бы он ни был.
Господин Пелюш, осознавший всю основательность этого рассуждения, зарычал от ярости.
При этих звуках г-жа Пелюш, уже взволнованная теми несколькими словами, что донеслись до нее издали, оставила прилавок и подбежала к супругу.
Господин Пелюш, продолжая выворачивать карманы, рассказал ей, что происходит, и тотчас же ее лицо приняло еще более мрачное и унылое выражение, чем лицо торговца цветами.
Но г-жа Пелюш была чрезвычайно аккуратным человеком. Каждый вечер она опустошала карманы мужа и тщательно разбирала все бумаги, находившиеся там. Господин Пелюш, будучи образцово-верным супругом, не боялся, что в его карманах, кроме разного рода деловых писем, вдруг окажутся еще какие-нибудь записочки, и, вместо того чтобы воспротивиться подобной бестактности, поощрял жену.
Все деловые письма и счета или то, что походило на них, г-жа Пелюш складывала в соответствии с их назначением и степенью важности в ячейки шкафа.
Она собирала также в ящик бумаги, сохранившие достаточно чистого места, чтобы вывести на них общую сумму счета, а те, что были годны лишь для изготовления обертки или бирок с адресами, отдавала приказчику.
Госпожа Пелюш, урожденная Крессонье, придерживалась мнения тех, кто утверждает, что маленькие экономии лежат в основе больших состояний; она доказывала свою теорему с помощью вычислений, которые начинались с двух отложенных лиардов, а заканчивались миллионным капиталом.
Лотерейный билет представлял собой карточку. Ее, вероятно, отдали приказчику в магазине. Приказчик в свою очередь должен был написать на ней адрес и прикрепить ее к одному из отправляемых ящиков.
Однако отправили ли уже ящик, к которому был прикреплен злополучный билет?
Вот в чем был вопрос.
Стали искать, и счастливый случай пожелал распорядиться так, что не только утверждение г-жи Пелюш оказалось правильным, но и этот ящик не был еще отправлен.
Мы сказали "счастливый случай"! Если бы летописцу, повествующему о событиях, было дозволено приоткрывать завесу будущего, то мы сказали бы скорее "злосчастный случай"!
Когда г-н Пелюш взял адрес из рук своей супруги, когда он окончательно удостоверился, что этот адрес был не что иное, как лотерейный билет под номером 60, у него вырвался вздох облегчения, и он постарался вернуть драгоценному кусочку картона его первоначальную форму и состояние, разглаживая и затирая дырочки, оставленные кнопками.
У г-на Пенсона же, напротив, вырвался грустный вздох разочарования.
Но все же, к чести его будет сказано, как только он удостоверился, что на билете г-на Пелюша действительно стоит выигравший номер, он немедленно стал показывать то чудо, которое должно было стать наградой победителю.
Он снял кожаный чехол, и взорам присутствующих предстал во всем блеске красоты футляр черного дерева, отделанный черненым серебром.
Госпожа Пелюш не смогла сдержать возглас восхищения: привыкшая к расчетливой бережливости, характерной для существования буржуа, она была ослеплена искрящимся великолепием футляра и не могла поверить, что эта роскошная резьба и тончайшие инкрустации были выполнены ради какого-то ружья. Она винила себя в том, что плохо расслышала, и ожидала, что на ее глазах из футляра появится по меньшей мере корона конституционного монарха.
Несмотря на особые права, которые давали оружейнику и его авторство, и его желание сбыть свой товар, он нисколько не преувеличивал красоту и достоинства своего творения, когда говорил о нем. Сквозная резьба на прикладе черного дерева представляла сцену поединка льва с буйволом. Отточенность работы соответствовала дерзкому замыслу художника и превращала эту часть резьбы в подлинное произведение искусства редкостной красоты. Можно было подумать, что мастер творил по модели Бари, а Бари подправлял работу мастера. На корпусе ударного механизма, спусковой скобе и других металлических частях резец, ведомый умелой и одновременно твердой рукой, выгравировал лианы и изящнейшие деревца тропических лесов; среди их листвы искусной чеканки то здесь, то там выглядывали различные представители животного мира, какие обитают в этих лесах. Две змеи, обвившиеся вокруг поваленного ствола банановой пальмы, служили курками. Все это было высечено, выгравировано, вычеканено и вырезано с изумительным совершенством, достойным работы средневекового мастера золотых и серебряных дел.
Оружейник смотрел на г-на Пелюша с горделивым удовлетворением художника, который уверен в успехе произведения, выставленного им на суд восхищенного знатока, однако он удивлялся, что до сих пор не слышит криков восхищения, которые, по его убеждению, должны были послужить ответом на немой вопрос, читавшийся в его выразительном взгляде.
Но г-н Пелюш и его супруга оставались равнодушными. Это ружье не принадлежало к числу тех предметов, что были способны пробудить их восторг.
Действительно, и он и она были одинаково неспособны оценить художественное достоинство творения, каким бы бесспорным оно ни было. Воспоминания о маленьких немецких фигурках по два франка за коробку, которыми они скрашивали детство мадемуазель Камиллы, причиняли значительный вред прелестному куску черного дерева, находившемуся у них перед глазами. Они не видели существенной разницы между тем и этим.
Однако г-н Пелюш все же в конце концов заметил, что оружейник, похоже, ждет, когда он выскажет свое мнение, и непринужденным гоном знатока воскликнул:
— Это мило! Черт возьми, это очень мило! И если, в чем я нисколько не сомневаюсь, дальнобойность этого ружья соответствует его внешним достоинствам, то, очевидно, с ею помощью можно добыть при желании немалое количество дичи.
Оружейник с глубочайшим изумлением посмотрел на г-на Пелюша. Он, казалось, не понял того, что представлялось столь очевидным владельцу "Королевы цветов".
— О! — воскликнул он. — Что касается этого, то вам стоит лишь подарить его вашему другу Мадлену, и клянусь, капитан, что, приладившись как следует, он с восьмидесяти метров уложит девять кроликов из десяти.
Подобное предложение возмутило г-на Пелюша, при одном звуке этого имени вернувшегося к своим печалям. Он поспешно закрыл футляр и опустил ключ в карман.
— Мне кажется, дорогой господин Пенсон, — произнес он, — что в моих руках это ружье поведет себя не хуже, чем в руках господина Мадлена.
— Но, — настаивал оружейник, — господин Мадлен редкостный стрелок!
— Редкостный стрелок! Подумаешь, велика трудность, черт возьми, убить животное на расстоянии в несколько дюжин шагов, когда одной дробинки достаточно, чтобы свалить его, а в ружье их закладывают несколько сотен. Если когда-нибудь я стану охотником, дорогой господин Пенсон, то, понимаете ли, я хотел бы по крайней мере добавить к этому удовольствию радость от преодоления трудностей и предложил бы стрелять в зверей и птиц, будь это даже коноплянка, только пулями, давая таким образом дичи хотя бы одну возможность на спасение.
Госпожа Пелюш также казалась сильно озабоченной с той минуты, когда оружейник сделал намек в отношении Мадлена.
— По правде говоря, Пелюш, ты определенно совершил бы ошибку, я не скажу подарив, но одолжив этот прекрасный футляр Кассию, который ломает все, что попадает в его руки, — вспомни, он всегда одалживал у меня зонтики и возвращал их Бог знает в каком виде!
Затем она обернулась к оружейнику:
— Вы говорите, сударь, что себестоимость этого оружия равна…
— … четырем тысячам франков, сударыня.
— Я бы не стала вкладывать собственные деньги в подобное дело, — заявила г-жа Пелюш, покачав головой.
Оружейник тяжело вздохнул. К сожалению о том, что его шедевр выиграли всего за пять франков, примешивалась боль от того, что он достался полнейшим невеждам. Мастер откланялся, бросив на то, что стоило ему стольких трудов, ночных бдений и забот, нежный и любящий взгляд, исполненный страдания, словно отец, оставляющий дочь в монастыре.
Когда он ушел, г-жа Пелюш повернулась к мужу:
— Четыре тысячи франков, да это просто смешно! Там из чистого серебра всего одна эмблемка величиной с ноготь. Тебя надули, господин Пелюш.
VII
РАСЧЕТЫ ГОСПОЖИ ПЕЛЮШ, УРОЖДЕННОЙ КРЕССОНЬЕ
Господин Пелюш взял ружье обеими руками и отнес его в спальню, затем спустился вниз и занял свое обычное место в магазине.
Но не прошло и десяти минут с тех пор, как ружье было поднято наверх, а г-н Пелюш и пяти минут не просидел на своем табурете, как ему вновь пришлось преодолеть восемнадцать ступеней, ведущих на антресоли, чтобы спустить ружье вниз.
Слух о необыкновенной удаче, выпавшей на долю г-на Пелюша, разнесся по кварталу.
Один из соседей лично захотел оценить великолепие ружья владельца "Королевы цветов"; со шляпой в руках и улыбкой на губах он просил г-на Пелюша позволить ему насладиться видом этого шедевра.
После него пришел второй сосед, за ним — третий, четвертый, и эти посещения приобрели размах настоящей процессии.
Господин Пелюш, чтобы избавить себя от необходимости по сто раз в день бегать вверх и вниз по лестнице, то есть в общей сложности "проглатывать", как он образно выразился, по три тысячи шестьсот ступенек ежедневно, принял решение выставить раскрытый футляр на стуле около своей конторки.
Этот все возрастающий приток посетителей и восхищение знатоков заставили г-на Пелюша предположить, что ему посчастливилось гораздо больше, чем он мог представить себе в самом начале, слушая громкие восхваления со стороны г-на Пенсона, которого он заподозрил в том, что тот судит о своем товаре так же пристрастно, как и сам г-н Пелюш имел обыкновение судить о своем. В итоге, хотя ружье и находилось все время перед глазами г-на Пелюша и не испытывало никаких волшебных превращений, подобных тем, что вызывали восхищение образованной публики в "Бараньей ножке" или "Лесной лани", это привело к тому, что, чем больше он показывал его другим, тем меньше мог насмотреться на него сам. И порой ему даже случалось, когда он оставался в одиночестве, открывать футляр ради собственного удовольствия и с заинтересованностью и любопытством разглядывать оружие.
Впрочем, мы не сообщим ничего нового нашим читателям, сказав им, что г-н Пелюш вовсе не был человеком без недостатков; это ружье, по крайней мере так полагал хозяин "Королевы цветов", возвращало ему часть его былого превосходства над Мадленом, превосходства, как он был вынужден признаться самому себе, полностью утраченного им после того, как его друг неожиданно получил наследство.
Поэтому, относясь день или два совершенно равнодушно к тому, что пальцы посетителей оставляли следы на сверкающем корпусе ударного механизма или на дамасской стали стволов его прекрасного ружья, г-н Пелюш пришел к тому, что стал тщательно вытирать каждое из этих пятен; короче говоря, ему надоело без конца протирать стволы и корпус ударного механизма, и он попросил г-жу Пелюш написать самым красивым почерком на полоске бумаги следующее указание, которое он видел на прошлой Промышленной выставке:
"Смотрите, но не трогайте руками".
Когда наступал вечер, г-н Пелюш с удивлением замечал, что дневные часы пролетали с невероятной быстротой; он даже не имел возможности ни разу зевнуть, хотя у него с некоторого времени то и дело от судорожной зевоты сводило челюсти.
Он еще не решался приписать именно ружью честь подобного облегчения своих нравственных страданий, которые так мучительно досаждали ему. Однако, когда на третий день вечером г-н Пелюш поднялся с чудесным оружием в свою спальню, он так осторожно опустил футляр черного дерева на мраморную полку комода, что в его действиях почувствовалось некое почтение к этому предмету.
День коммерсанта не кончается в ту минуту, когда он закрывает свою лавку, как это могут вообразить себе люди несведущие. После долгих часов физической работы наступает время волнений, надежд, больших или маленьких тревог. Честолюбивые помыслы не нуждаются в сне, и в этом они под стать честолюбцам. В семьях буржуа спальня — это настоящий рабочий кабинет. Именно там, объединенные общими устремлениями — устремлениями к наживе, — супруги размышляют, подсчитывают, прикидывают, черпают новые силы в поддержке друг друга и набираются опыта, обмениваясь впечатлениями.
Следуя обычаям и традициям, г-н Пелюш и его супруга никогда не желали друг другу спокойной ночи, не обсудив одно за другим все события дня, не подсчитав полученную прибыль и не определив, что они могут ожидать от той или иной операции. Именно во время этих интимных бесед хозяйка и хозяин "Королевы цветов" останавливали свой обеспокоенный взгляд на сомнительных клиентах или, по крайней мере, ставших в их глазах таковыми вследствие тонкого чутья недоверчивой Атенаис (только по одному ее смутному подозрению их вычеркивали из кредитного раздела гроссбуха). Равным образом эти минуты г-н Пелюш избирал для того, чтобы излить в лоне супружества избыток упоения, в которое его приводил смотр национальной гвардии или обед во дворце.
Разумеется, из ряда вон выходящее событие, случившееся утром, служило весь вечер и два последовавших за ним дня темой для семейных бесед хозяина и хозяйки "Цветка королев".
Впервые в жизни г-н Пелюш проявил сдержанность и скрытность в отношении Атенаис, состоявшей в браке с г-ном Пелюшем на условии общности имущества супругов; он понимал, что не ему одному принадлежит результат этой блестящей коммерческой операции, которую он осуществил, получив взамен монеты в пять франков предмет ценою, возможно, в тысячу экю или в четыре тысячи франков. Он предугадывал существование между собой и этим предметом некой близости, значения которой он до конца не осознавал, но испытывал ее притягательность, как железо испытывает притяжение магнита. Господин Пелюш был рад, что его так резко вырвали из грустного оцепенения и ему на какое-то время удалось найти, как он выражался несколько иносказательно, вкус к чему-либо, но в то же время его гордость восставала при мысли, что он признает правоту Мадлена, если согласится придать некоторую ценность пустяковым безделушкам, презираемым им до тех пор. Находясь в таком расположении духа, он опасался, как бы одно неосторожное слово не выдало г-же Пелюш его душевное состояние, и в общении с ней сохранял дипломатичное молчание.
Но та, будучи не в силах, несмотря на всю свою проницательность, даже заподозрить, что творилось в голове мужа, пошла прямо к цели.
Мы уже говорили, что, каковы бы ни были художественные высоты, на которые притязал шедевр г-на Пенсона, для г-жи Пелюш эти достоинства могли быть выражены лишь в цифрах. Она в самом начале, как вы видели, некоторое время сомневалась в истинности столь высокой цены ружья, ставшего собственностью г-на Пелюша, а вернее, их общей собственностью; однако единодушное восхищение всех посетителей успокоило ее на этот счет, она уже мечтала лишь о том, чтобы извлечь наилучшую возможную выгоду из этого нежданно доставшегося им предмета, и с непосредственностью людей, которыми владеет навязчивая идея, за минуту адресовала мужу, желая узнать, что он собирается делать с этим ружьем, десяток вопросов, не дав ему даже времени ответить хотя бы на один из них.
Несколько ошеломленный такой говорливостью своей половины, г-н Пелюш заколебался; но затем он попытался ответить общими фразами, такими, как: "Надо посмотреть", "Об этом стоит подумать", "У нас еще есть время решить этот вопрос". Так что г-же Пелюш не составило труда распознать за этими колебаниями вздорное желание, недоступное ее пониманию, оставить у себя данную вещь, которую она считала совершенно бесполезной для их коммерции.
— Все равно, — сказала она, — надо будет что-то решать, Пелюш. Подумай, три тысячи франков, пущенные в оборот, дают минимум десять процентов прибыли, то есть триста франков в год, а если добавить к тремстам франкам еще триста, то получишь шестьсот франков, а шестьсот франков…
— Ты забываешь о сложных процентах, жена! — вскричал г-н Пелюш, впервые позволяя себе безобидную насмешку в отношении той, которая имела честь носить его имя. — Разве мы недостаточно богаты, козочка, чтобы позволить себе маленькую прихоть?
— Утверждают, Пелюш, что если каждое утро в течение года есть сырые яйца, то это убивает человека, — серьезно ответила Атенаис. — Прихоти, видишь ли, то же самое, что сырые яйца: привыкаешь каждый день начинать с какой-либо прихоти, а на триста шестьдесят пятый день просыпаешься в долговой тюрьме.
— Атенаис, Атенаис! Вы сошли с ума! — вскричал г-н Пелюш, почувствовав, как при этих словах ледяная дрожь пробежала у него по позвоночнику. — Припомните-ка, что последняя опись товара показала полмиллиона. И потом, видишь ли, — добавил он, возвращаясь к супружескому "ты" и льстя г-же Пелюш, — мое политическое положение требует, чтобы я тем или иным способом поощрял искусства. Посмотри-ка на короля Луи Филиппа, его без малейшего риска можно принять за образец, когда речь идет о бережливости, но разве недавно ты не читала в правительственных ведомостях, что Версальская галерея стоила ему двенадцать миллионов? Мы конституционные наследники больших вельмож, козочка, а положение обязывает.
Последний довод, и это вполне понятно, вовсе не убедил г-жу Пелюш, возобновившую свои настояния с горячностью, столь характерной для женского упрямства: нечто вроде предчувствия заставляло ее расценивать появление в доме этого простого орудия охоты как зачаток грядущего несчастья.
Этой упорной, энергичной атаке г-н Пелюш со своей стороны противопоставил пассивное сопротивление, которое, постоянно колеблясь между да и нет, становится непобедимым, потому что оно неуловимо. И в конце концов оно просто утомляет атакующего.
Устав от спора, г-жа Пелюш заснула, утешая себя мыслью об отмщении. Ей снилось, что ее желания исполнились; что г-н Пелюш выставил ружье на торги и знатоки, проявив упрямство, подняли цену шедевра г-на Пенсона до двенадцати тысяч франков, а эти двенадцать тысяч франков ушли на то, чтобы изготовить огромнейшую гирлянду из искусственных роз и спиралью обвить ею от подножия до самой вершины башню святого Иакова; правительство же, которое пришло к удачной мысли об этом украшении, оплатило его "Цветку королев" на корню из расчета три франка за розу. И, поскольку этот шедевр цветочного искусства насчитывал шестьдесят тысяч роз, г-н и г-жа Пелюш заработали, внеся всего пять франков, чистую прибыль в размере ста семидесяти девяти тысяч девятисот девяноста пяти франков, что было весьма приятным результатом.
А все сны г-на Пелюша занимал только его друг Мадлен. Но он снился ему не таким бодрым, улыбающимся и насмешливым, каким был во время своего последнего посещения "Королевы цветов", а побледневшим от досады, пожелтевшим от зависти, бросающим на чудесное ружье своего старого друга косые взгляды, и в них чувство восхищения, которое ему не удавалось скрыть, боролось с алчной завистью.
Это видение оказало решающее влияние на намерения г-на Пелюша; ему показалось, что этот сон, вышедший из роговых ворот, давал ему объяснение происходящего.
Его унижало счастье, которым светился Мадлен; г-н Пелюш предположил, что если ему в свою очередь удастся унизить Мадлена, то он вновь обретет безмятежное спокойствие ума и душевный покой, утраченные им. Он пообещал себе безоговорочно доказать своему торжествующему товарищу, что превосходство такого человека, как он сам, то есть Пелюш, простирается на все, чем ему угодно заняться, начиная с легкомысленных, пустячных развлечений, которые были презираемы им в течение полувека, и кончая серьезными делами, которые он постоянно вел и целью которых наметил богатство и славу.
Вот почему, проснувшись, он заявил супруге твердым тоном, не допускающим ни малейших возражений, что ни за какую цену не расстанется со своим оружием прежде, чем даст возможность Мадлену прийти в восхищение от его вида.
VIII
СИМПТОМЫ ОБОСТРЯЮТСЯ
Существование некоторых личностей устроено так, что достаточно сломаться в них какому-нибудь колесику, чтобы весь механизм перестал работать. Мы видели, что сила привычки сделала с течением времени подчиненное положение Мадлена необходимым условием для счастья г-на Пелюша. В тот день, когда, вопреки его предсказаниям, нечто вроде душевной склонности избавило бывшего торговца игрушками от тиранической любви его товарища, г-н Пелюш испытал сильный приступ досады; но затем мало-помалу на смену досаде пришла зависть, и уж это чувство, едва проникнув в сердце цветочника, полностью поглотило его.
Влияние мелких страстей на мелочные умы не знает предела.
С того самого дня, когда г-н Пелюш увидел возможность с блеском отплатить Мадлену за свою неудачу, когда с дерзкой уверенностью, которую дает привычка к успеху, он счел, что ему будет легко взять верх над Мадленом в той области, где цветочник сам чувствовал себя побежденным, он жил лишь одним устремлением, одной мыслью — вступить в единоборство, в котором, по его мнению, ему предстояло одержать блестящую победу.
В пору душевного смятения, последовавшего за его разочарованием, он, хотя коммерческие дела и потеряли для него свою чарующую притягательность, по крайней мере делал вид, что занимается ими. Однако, с тех пор как, на его взгляд, он нашел лекарство от своих тревог, г-н Пелюш даже не старался скрыть отвращение, возникавшее в нем при виде всего, что напоминало накладную.
Можно было подумать, что его ружье внушает ему необыкновенную страсть, нечто похожее на ту, какую Пигмалион испытывал к творению, вышедшему из-под его резца.
Двадцать раз в день он поднимался в свою спальню.
Войдя, Пелюш останавливался перед комодом, где лежал футляр, вставлял ключ, поворачивал его в замке и открывал крышку черного дерева с тем благоговейным почтением, какое индеец проявляет по отношению к ларцу, где хранится его идол.
В течение часа он, застыв, с восхищением любовался драматической охотничьей сценой, которая в ажурной резьбе и рельефной чеканке на прикладе и корпусе ударного механизма ружья представала его взору.
Эта страсть возмещала г-ну Пелюшу отсутствие у него художественного вкуса, и под влиянием этого нового для него чувства он стал испытывать восторг, которого эта восхитительная работа была безусловно достойна.
Насытившись радостями созерцания, г-н Пелюш переходил к радостям действий.
Он по очереди доставал из бархатных отделений части ружья, присоединял приклад к стволам, ставил ударный механизм — о! и тогда он наслаждался зрелищем целого, так же как ранее наслаждался видом каждой части.
Затем цветочник упивался звуками, какие издавали пружины курка, когда он на него нажимал.
И наконец с удалью, выдержанной в лучших традициях гражданского ополчения, г-н Пелюш вскидывал ружье на плечо, делал несколько шагов по комнате, глядя на себя в зеркало и восхищаясь своей выправкой, и внезапно, принимая то же самое зеркало за цель, перебрасывал ружье в левую руку, прицеливался, сопровождал свои движения возгласом "Паф!" и оборачивался — настолько его воображение было перевозбуждено и настолько он при этом забывался, — и оборачивался, повторяем, чтобы насладиться разочарованием Мадлена.
Разумеется, если бы г-н Пелюш не закрывал тщательнейшим образом все задвижки и засовы на дверях, прежде чем изобразить свое будущее в этом представлении без слов, и если бы г-жа Пелюш застала его врасплох за этим занятием, то достойная женщина, безусловно, предположила бы, что ее муж совершенно сошел с ума.
Впрочем, она уже испытывала некоторые опасения по поводу разума бедного Пелюша.
Эти маленькие охотничьи шалости, которые он позволял себе совершать, не покидая своего домашнего очага, были не единственным заметным отступлением от его повседневных привычек.
Из семи чудес света г-н Пелюш до сих пор полагал лишь одно действительно достойным этого наименования, при том что оно не принадлежало к античному перечню чудес. Париж — вот что хозяин "Королевы цветов" признавал величайшим творением природы и человеческого могущества, Париж, который он с крайней бесцеремонностью называл "мой славный Париж". Что касается величественных видов, живописных пейзажей, то он не считал их достойными внимания серьезного человека. Сен-Жермен, Бельвю, Сен-Клу для него всегда были лишь хаотичным смешением деревьев и валунов, которые, по его мнению, заслуживали бы гораздо большего восхищения, если бы рука человека придала им гармоничные пропорции, обратя их в деловой лес и строительный камень, — другими словами, в новое состояние, одновременно обнаруживающее, как говорил цветочник, величие Творца и предприимчивый ум его творения, то есть человека.
Испытывая страстную привязанность к городу, г-н Пелюш редко отваживался покидать его границы, даже когда воскресная праздность позволяла ему выводить свою супругу и свою дочь на прогулку. Ни разу он не поддался коварным искушениям Мадлена, красочно живописавшего прелести тенистых холмов, у подножия которых Сена и Марна закручивались серебристой спиралью. Большого труда стоило уговорить его выбраться на экскурсию в Ботанический или Люксембургский сад, в Тюильри, и всегда он при этом старался сосредоточить внимание своих спутников на тех строениях, что виднелись сквозь чахлую и пыльную листву деревьев, неприятно — как не без горечи замечал г-н Пелюш — сокращающих обзор.
Поэтому г-жа Пелюш была крайне удивлена, когда в первое же воскресенье после появления в их доме ружья она услышала из уст супруга предложение провести вторую половину дня в Венсенском лесу; но ее изумление возросло еще больше, когда она увидела, что г-н Пелюш выбирает для прогулки самые безлюдные аллеи, ведет своих спутниц в самые густые заросли, беспокойно вслушивается в пение птиц в кронах деревьев, пытается разглядеть их в сплетении ветвей и среди листвы, и, вскидывая трость, берет их на мушку, приговаривая при этом "Паф!" в подражание звуку выстрела, как он это уже делал на наших глазах в конце всех своих упражнений в спальне.
Эти предвестия заболевания супруга настолько взволновали г-жу Пелюш, что она завязала с ним долгую беседу, желая убедиться, что он пребывает в здравом рассудке. Мадемуазель Камилла в определенной степени помогла мачехе успокоиться на этот счет.
Вопреки народной пословице, гласящей: "Яблоко от яблони недалеко падает", мадемуазель Камилла не унаследовала ни одной черты характера своего отца. Грусть, которую природа являет в лесных чащах, и дыхание любви, которое на каждом шагу дает о себе знать в полях — в устилающих их цветах, в бороздящих их ручьях, в усыпающих их купах деревьев и в населяющих их птицах, — заставляли слегка биться сердце, предрасположенное к нежности, и пробуждали смутное, но восхитительное волнение в уме, чуть склонном к романтике. И пока г-н Пелюш с тростью в руках предвкушал свою будущую ловкость, Камилла со своей стороны бросалась в погоню за какой-нибудь бабочкой или стрекозой. Она бежала, чтобы сорвать веточку жимолости с еще не опавшими, несмотря на поздний сезон, цветами, до крови обдирала пальцы, составляя букет из усыпанных красными ягодами веток шиповника, хотя мачеха твердила ей, что в коробках магазина она найдет их в гораздо большем количестве и в десять раз красивее.
Видя, что ее супруг и Камилла ведут себя словно вырвавшиеся на волю лошади, г-жа Пелюш, не переставая грустно повторять, что ее муж заметно переменился, была вольна предположить, что это результат обычного действия деревенского воздуха на некоторые организмы, и, придя к этому утешительному заключению, она отказалась от мысли прибегнуть к помощи врача, как намеревалась вначале.
Эти прогулки повторялись три или четыре раза и охватывали все основные места парижского пригорода.
Господин Пелюш в конце концов стал ждать воскресенья с нетерпением, напоминавшим чуть ли не тревогу, ибо, возвращаясь вечерами в эти благословенные дни в магазин, ставший для него чем-то вроде тюрьмы, — цветочник мог бы его сравнить со Свинцовыми кровлями Венеции или Шпильбергом, если бы ему довелось читать Казанову или Сильвио Пеллико, — он подсчитывал количество жертв, убитых его воображением, и презрительно представлял тот жалкий отчет, который, вероятно, в этот час могла дать охотничья сумка Мадлена.
Под влиянием этих непрерывных волнений он задумал сделать еще один шаг к конечной цели своих мечтаний, дополнив свое охотничье снаряжение.
Но это решение было столь ответственным и было чревато такими расходами, что г-н Пелюш не мог думать о нем без содрогания и целую неделю прокручивал его в голове, прежде чем серьезно задумал приступить к его исполнению.
В глубине души г-н Пелюш выказывал большие притязания на абсолютное господство, но в действительности, особенно если предположить, что прекрасная Атенаис олицетворяла для него сразу две Палаты, никогда еще конституционный монарх, царствуя, не правил так мало.
Господин Пелюш был полновластным хозяином, когда следовало исполнить желания его супруги, однако, едва речь заходила о его собственных стремлениях, всегда возникало какое-либо препятствие, мешавшее их осуществлению.
И поскольку г-жа Пелюш неоднократно возобновляла попытки превратить шедевр г-на Пенсона в денежную наличность, г-н Пелюш предчувствовал, что она будет ярой противницей тому, что означало бы вступление в фактическое владение этой роскошной игрушкой.
И как супруг, привыкший к семейному игу, г-н Пелюш колебался.
Цветочник уже раз десять побывал в лавке оружейника, чтобы справиться о приспособлениях, которые ему потребуются, когда он станет доказывать Мадлену, что настоящие люди везде и во всем остаются таковыми, но все десять раз он возвращался к себе, так и не согрешив, то есть не поддавшись на корыстные предложения оружейника, рассчитывавшего ни много ни мало навязать г-ну Пелюшу образцы всех товаров, хранившихся в его лавке.
Новая выходка Мадлена предопределила судьбу г-на Пелюша.
В магазин "Королева цветов" прибыла третья корзина. Ее содержимое состояло из двух красных и четырех серых куропаток, великолепного бедра косули и, как обычно, письма отправителя.
Письмо было составлено в следующих выражениях:
"Мой дорогой Анатоль!
Твоя кухарка сумеет, надеюсь, достойно справиться с куропатками; но рагу, которые она тебе готовит, тушеная баранина с картофелем, отварная телятина, фрикандо со щавелем, безусловно, неспособны довести ее мастерство до уровня, необходимого для той важной части добычи, что я посылаю тебе. Поэтому позволь мне дать тебе некоторые советы. Я никогда не утешусь, если, не желая того, с самыми добрыми намерениями дам повод осрамить тебя в глазах твоих гостей.
Остерегайся называть эту часть "ляжка " или "окорок", что создаст скверное впечатление о твоем охотничьем образовании. Говорят: "бедро" или "задняя ножка". Разделай ее должным образом и остерегайся заместить знаки ее благородства, то есть копытца, из которых ты можешь сделать себе подвеску для звонка, на какой-нибудь ужасный цилиндр из накладного серебра. Аккуратно нашпигуй ее самым свежим свиным салом и замочи по крайней мере на неделю в шабли, ароматизированном петрушкой, тимьяном, лавровым листом, чесноком, луком и морковью, — все это послужит ей подстилкой. Затем надо три четверти часа жарить ее на вертеле, подавать горячей, есть в собственном соку, и я осмелюсь утверждать, что никогда тебе не доведется отведать ничего подобного, даже за столом избранного тобою короля.
Почему я не могу также разделить с тобой, дорогой Пелюш, тот превосходный аппетит, который вызывают у меня всякий день пять часов охоты и редкостных удовольствий?! Почему ты не можешь сесть подобно мне и рядом со мной перед задней ножкой или бедром косули, когда в твоем сердце говорят, с одной стороны, властные устремления желудка, а с другой — восторженные воспоминания, пробуждаемые в тебе видом этого бедра или этой ножки! Лишь тогда ты мог бы горделиво заявить, что познал подлинное счастье.
Твой друг, искренне тебя жалеющий,
Кассий Мадлен.
P.S. Не стоит и говорить, что если тебе когда-либо придет желание, как тому римскому поэту — который ни тебе ни мне не известен, — отложить на завтра все серьезные дела и приехать провести в Вути беззаботный счастливый день, то ты всегда будешь здесь желанным гостем. Не говоря о том, что я познакомил бы тебя с молодым и красивым малым двадцати пяти лет, владельцем четырехсот пятидесяти арпанов земли и ста арпанов леса, который, "е охотясь сам, позволяет мне охотиться в его владениях столько, сколько я захочу.
И кто знает? Моей крестнице Камилле восемнадцать лет, а я сказал тебе, что этому красивому малому двадцать пять!
Случались и более невероятные вещи".
IX
ВЗРЫВ
Господин Пелюш ходил по магазину взад и вперед, читая послание Мадлена, и, хотя утверждают, что наибольший интерес в письме представляет именно постскриптум, а в этом постскриптуме открывались красочные и неизведанные горизонты на путях будущности его любимой Камиллы, следует признаться, что вовсе не постскриптум проник прежде всего в сердце г-на Пелюша.
Итак, хозяин "Королевы цветов" ходил по магазину взад и вперед, читая послание Мадлена.
Окончив чтение, он в гневе скомкал бумагу в руках и сделал резкое движение, направляясь к кассе.
Но перед кассой, находившейся под особым попечительством Атенаис, восседала сама хозяйка магазина. Она хотела закончить составление счета, перед тем как перейти к изучению подарка Мадлена, выставленного на конторке.
Господин Пелюш продолжал мерить шагами магазин, дрожа от нетерпения и кипя от ярости, бросая время от времени угрожающие взгляды на супругу, неподвижно, словно статуя Торговли, подсчитывающую дебет и кредит.
Сделав очередной шаг, он оборачивался и смотрел, не освободилось ли место, и всякий раз видел невозмутимую г-жу Пелюш, пересчитывающую, несмотря на безупречную правильность своих арифметических расчетов, по два раза итоговый результат в каждой колонке, дабы удостовериться, что она не допустила ошибки.
Наконец, Атенаис подвела окончательный итог.
Все это время г-н Пелюш не мог удержаться от судорожных гримас, доказывавших, какую досаду и какое раздражение вызывала в нем эта помеха его страстным желаниям. Никогда еще составление счета не казалось ему такой долгой процедурой, и он охотно, не колеблясь, пожертвовал бы прибылью, которую обещал этот счет "Цветку королев", только бы сократить его вполовину.
Но вот г-жа Пелюш встала.
До сих пор занятая более важными заботами, она бросила лишь поверхностный взгляд на доставленную дичь. Но теперь ей казалось, что наступило время по-хозяйски рассмотреть эту внушительную посылку.
И действительно, на первый взгляд г-жи Пелюш подарок Мадлена стоил от тридцати пяти до сорока франков.
В то время как Камилла нежно гладила куропаток и целовала их, шепча: "Маленькие несчастные птички!", г-жа Пелюш ощупывала им живот, желая удостовериться в округлости грудок.
После этого она приподняла за копыто ножку косули, прикинув ее вес с такой точностью, словно у нее в руках были самые правильные весы, и движением губ выразила мужу свое полнейшее удовлетворение. Она только осмелилась заметить, что, по ее мнению, ароматизированное шабли можно превосходным образом и с выгодой заменить орлеанским уксусом, что обойдется гораздо дешевле и придаст куда более тонкий вкус мясу.
Господин Пелюш, казалось, сидел, словно Куаутемок, на горящих углях.
Наконец Атенаис собрала в кучу куропаток и ножку косули с аккуратной и величественной обстоятельностью, отличавшей все ее действия, как самые незначительные, так и самые важные; потом она взяла куропаток в одну руку, другой обхватила ножку косули и приказала рассыльному собрать сено, в которое они были завернуты, и спрятать корзину, где лежал подарок. Придирчивым взглядом проверив работу каждой из мастериц, она велела Камилле следовать за ней и в конце концов исчезла в коридоре, ведущем в погреб и на кухню.
Господин Пелюш больше не владел собой — еще минута, и он был бы способен совершить какое-нибудь насилие, чтобы овладеть деньгами, необходимыми для исполнения его желаний.
Он следил через квадратики стеклянной двери за своей женой и дочерью, пока те не скрылись в полумраке коридора. Не видя и не слыша их больше, он одним прыжком оказался у прилавка, резким движением открыл ящик кассы, запустил руку в отделение пятифранковых монет, вытащил целую пригоршню денег, кинул их в карман и, не обращая ни малейшего внимания на изумленное выражение, появившееся на лицах присутствующих, и даже не потрудившись взять трость и шляпу, он с такой поспешностью выскочил на улицу, что его можно было принять за вора, убегающего после кражи.
И действительно, г-н Пелюш только что украл общее имущество супругов.
Он отсутствовал около часа.
Возвращаясь, владелец "Королевы цветов" издалека, как только это позволяло ему зрение, увидел супругу на пороге магазина.
Продавщицы и служащие рассказали ей о случившемся, и она с глубочайшим волнением ждала возвращения мужа, намереваясь потребовать у него решительных объяснений.
Она следила за г-ном Пелюшем слишком внимательным взглядом, чтобы не заметить рассыльного, который следовал за ним, согнувшись под тяжестью объемистого свертка.
Женщина уже было открыла рот, чтобы издали окликнуть мужа, однако г-н Пелюш, чтобы избежать объяснений, которые так страшили его, внезапно свернул влево и скрылся в проходе, общем для всех обитателей дома, с быстротою клоуна, проходящего сквозь английский люк.
Все больше и больше изумляясь действиям г-на Пелюша, столь мало напоминавшим его обычное поведение, Атенаис испытала такое потрясение, что ей потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя.
Наконец, подстрекаемая двойным жалом огорчения и ревности и предполагая, пусть и несправедливо, что за всем этим, вероятно, скрывается женщина, она, неслышно ступая, поднялась по лестнице, подошла к двери спальни, прислушалась и, не уловив ничего, кроме восклицаний, показавшихся ей возгласами радости, резко распахнула дверь.
Зрелище, поразившее ее взгляд, приковало Атенаис к порогу, и она от удивления потеряла дар речи.
Господин Пелюш поспешно освободился от своей повседневной одежды и на глазах рассыльного, взиравшего на него с восхищением, облачился в только что купленный им охотничий костюм.
Этот наряд показался г-же Пелюш не менее фантастическим, чем наряд Мефистофеля.
В самом деле, г-н Пелюш вместо своего редингота делового человека, белого пикейного жилета, оливковых панталон, ботинок со шнурками и шляпы, слегка расширяющейся кверху, был одет в куртку из зеленого вельвета, на каждой из пуговиц которой была изображена какая-нибудь сцена охоты; жилет из замши величественно спускался до самых бедер; штаны из того же зеленого вельвета, что и куртка, прикрытые сверху жилетом, внизу были заправлены в длинные кожаные гетры, доходившие до колен; на ногах торговца цветами красовались ботинки на двойной подошве. Голову его прикрывала изящная шляпа из черного бархата. За спиной г-на Пелюша висела огромная охотничья сумка, а на груди сталкивались, подобно кожаному снаряжению гражданского ополчения, мешочки для дроби и пороховницы всех форм и размеров.
Само собой разумеется, что в руках он держал шедевр парижского оружейного дела и вел перед зеркалом настоящий залповый огонь, издавая "Пиф!" и "Паф!" на все лады; можно было подумать, будто он исполняет знаменитую арию Марселя из пятого акта "Гугенотов".
Госпожа Пелюш все поняла, испустила крик отчаяния и закрыла лицо руками.
Но было слишком поздно; при виде собственного отражения в столь воинственном облачении г-н Пелюш ощутил, как его чувство самоуважения перерастает в подлинный восторг; теперь — и это самое поразительное — он был настроен не менее воинственно, чем в тот день, когда впервые надел форму капитана национальной гвардии и 14 мая отправился защищать общественный порядок.
Правда, в настоящее время ему предстояло сражаться вовсе не с анархистами, а с г-жой Пелюш, и из защитника конституционной власти, каким он был до сих пор, г-н Пелюш превращался в бунтаря, восстающего против супружеской власти.
Он призвал на помощь всю свою решимость, повернулся на каблуках и, со стуком опустив на пол приклад ружья, спросил.
— Ну, и что дальше?
— Как что дальше? — в ужасе переспросила г-жа Пелюш.
— Да, чего вы хотите?
— Я хочу потребовать у вас, господин Пелюш, отчета в вашем непонятном поведении.
— И отчет будет вам незамедлительно дан, сударыня, — произнес, выпрямляясь, г-н Пелюш. — Вы сказали, что ружье в четыре тысячи франков — это бесполезный капитал; так вот, я хочу попытаться заставить этот капитал приносить прибыль!
— Каким образом?
— Делая то, что делает Мадлен, то есть стреляя куропаток, кроликов, зайцев и косуль.
— Но они обойдутся вам гораздо дороже, чем вы сможете выручить за них.
— Любое деловое начинание, госпожа Пелюш, требует первичного капитала, а мои вложения вовсе не разорительны — пять франков!
— А порох, а дробь, а эта куртка, эти гетры, этот жилет, эта охотничья сумка?
— Знаете ли вы, Атенаис, сколько это все стоит? — произнес г-н Пелюш, смягчая тон перед тем, как назвать цифру. — Двести пятьдесят франков.
— Двести пятьдесят франков! — в испуге вскричала г-жа Пелюш. — Вы думаете, что такие деньги валяются на дороге?
— Нет, госпожа Пелюш, но их можно найти под букетом роз, а розы, слава Богу, рождаются в ваших руках.
Госпожа Пелюш не узнавала своего мужа. Он предстал перед ней в совершенно новом свете, он вел себя одновременно вызывающе и галантно.
— О Анатоль! Анатоль! — воскликнула она, воздевая руки к Небу. — Ваша гордость погубит вас, как она погубила Сатану!
— Что же! Да, — отвечал г-н Пелюш, — я гордец и, признаюсь, испытываю унижение при мысли о счастье Мадлена. Со своими двумя тысячами пятьюстами ливрами ренты он затмевает меня, выступая в роли благодетеля; меня, кто, продавая и покупая из расчета пяти процентов прибыли, может получить двадцать пять тысяч ливров ренты — ведь при последней инвентарной описи, госпожа Пелюш, мы насчитали пятьсот двадцать две тысячи франков. Я хочу предстать перед ним во всем своем превосходстве, и если из ружья за сто пятьдесят франков он убивает куропаток, кроликов, зайцев и косуль, то из ружья за четыре тысячи франков я должен убивать слонов и жирафов.
— Господин Пелюш, вы сошли с ума!
В эту минуту Камилла, заслышав шум, робко поднялась наверх и появилась на пороге комнаты отца.
Господин Пелюш, увидев девушку, почувствовал, что в ее лице он найдет поддержку.
— Сошел с ума?! — воскликнул он. — Я призываю Камиллу рассудить нас.
— Меня, отец? — удивленно переспросила его дочь.
— Да. Как ты находишь меня в этом костюме, дитя мое? — спросил г-н Пелюш, любуясь собою.
— Вы великолепны, отец.
— А вот моя супруга, — заметил г-н Пелюш, — так не думает.
И высокомерным жестом он указал на г-жу Пелюш.
— Как?! — воскликнула Камилла. — Разве вы не находите, что этот костюм идет моему отцу гораздо больше, чем его ужасный редингот и уродливая шляпа?
— Да, — пробормотала г-жа Пелюш, — но двести пятьдесят франков…
— Ну и что же? Разве мой отец и вы недостаточно богаты, чтобы позволить себе, когда потребуется, прихоть, потратив двести пятьдесят франков?
— Мадемуазель, — ответила ей г-жа Пелюш, — когда имеешь дочь на выданье, то никогда не можешь считать себя достаточно богатым.
— Сударыня, — возразила Камилла, — если бы я могла предположить, что вам и моему отцу приходится идти ради меня на подобные жертвы, то я скорее бы предпочла стать учительницей в моем бывшем пансионе.
— Вы слышите, госпожа Пелюш: это дитя преподнесло вам хороший урок философии.
— Философия — это прекрасно, но дайте в приданое за вашей дочерью хоть всю философию в мире, и посмотрим, найдете ли вы ей мужа.
— К счастью, — робко продолжала Камилла, — миг моей разлуки с вами еще далек. Но когда он наступит, то, я надеюсь, найдется какой-нибудь достойный и честный молодой человек, который полюбит меня, не принимая в расчет чуть большее или чуть меньшее количество мешков с деньгами в моем приданом. Я хочу быть выданной замуж, сударыня, а не выторгованной моим мужем и проданной вами.
Госпожа Пелюш, без сомнения, намеревалась ответить одним из тех умозаключений, что заставили бы смутиться ее падчерицу и мужа и поставили бы их на место, но послышался голос старшей продавщицы магазина.
Она звала г-жу Пелюш, чтобы та срочно заняла свое место за конторкой, так как только владельцы "Королевы цветов" могли дать необходимые разъяснения по возникшему вопросу.
Господин Пелюш не мог спуститься вниз в своем наряде, поэтому Атенаис пришлось оставить поле сражения Камилле и своему супругу.
Едва только ее мачеха исчезла на лестнице, как Камилла подбежала к отцу.
— Что случилось, дорогой отец? — спросила девушка.
— Случилось то, дорогое дитя, — ответил г-н Пелюш тоном человека, только что одержавшего свою первую победу и осознающего всю ее важность, — что сегодня вечером мы отправляемся навестить твоего крестного Мадлена и пробудем у него две недели.
— Вместе? — робко спросила Камилла.
— Да, вместе, вдвоем: ты и я, и больше никто.
— О! Как вы добры, дорогой отец! — вскричала Камилла, обеими руками обнимая г-на Пелюша за шею.
Затем, подумав, она добавила:
— Но… моя мать?
— Твоя мать? — промолвил г-н Пелюш. — Она будет присматривать за магазином, ведь госпожа Пелюш домоседка по своей природе.
X
ОТЪЕЗД
Господин Пелюш напоминал Суллу г-на де Жуй — он мог порой менять свои намерения, но в своих решениях был так же непоколебим, как сама судьба.
В своем великолепном костюме, с которым он не пожелал расстаться, но все же оставив дома ружье, г-н Пелюш немедленно пошел заказывать два места на экипаж, отправляющийся от "Оловянного блюда".
Не стоит и говорить, что торговец цветами вышел через общую входную дверь дома.
Нет ничего удивительного в том, что появление Юпитера-Пелюша во всем его блеске и величии поразило Атенаис — Семелу, ведь точно так же были поражены и его соседи, которые, увидев, как он шествует мимо, выбежали на порог своих домов и принялись кричать, не будучи, однако, уверены, что не ошиблись:
— Господин Пелюш!
И вслед за первым восклицанием следовало второе, свидетельствовавшее о том, какой степени достигло удивление соседей:
— Это, несомненно, он!
Это напомнило г-ну Пелюшу, как однажды, выходя из театра Порт-Сен-Мартен, где давали "Марино Фальеро", он слышал, как повторяли имя Казимира Делавиня, и, надо сказать, владелец "Королевы цветов" испытывал некоторую гордость от того, что он пользуется такой известностью в квартале.
В результате в его походке появилась не свойственная ему развязность, а у того, кто позволяет себе так ходить, это означает высшую степень удовлетворения самим собою.
Чтобы придать походке еще большую непринужденность, г-н Пелюш вытащил из охотничьей сумки хлыст, который торговец скобяными изделиями уговорил его купить для дрессировки собаки, хотя г-н Пелюш не только не имел собаки, но и проявлял непреклонную решимость никогда не допустить того, чтобы хоть одно четвероногое собачьей породы переступило порог магазина "Королева цветов". Но торговец скобяными изделиями, непременно желая дополнить охотничье снаряжение г-на Пелюша, настоял на своем, заметив, что многие из щёголей от коммерции носили по воскресеньям шпоры на сапогах, хотя и не держали в своих конюшнях лошадей; довод, из которого следовало, что г-н Пелюш спокойно мог иметь хлыст в своей охотничьей сумке, хотя у него и не было собаки с конурой.
В те времена экипаж из "Оловянного блюда" был единственным видом прямого сообщения между Парижем и Виллер-Котре. Каждый вечер он отправлялся из Парижа в восемь часов и, проделав за двенадцать часов восемнадцать льё, прибывал в пункт назначения каждое утро в восемь часов. От Виллер-Котре было три часа езды до Шато-Тьерри, родины Лафонтена, час — до Ла-Ферте-Милона, родины Расина, и сорок минут — до Вути, родины Мадлена.
Господин Пелюш заказал два места в купе — одно для себя, другое для Камиллы, величественно внес за них пять франков задатка и пообещал быть во дворе гостиницы без десяти минут восемь.
И наконец, чтобы быть уверенным в том, что ему удастся сдержать это обещание, он сверил свои часы с часами гостиницы.
Затем, избрав уже другой путь из опасения, как бы во второй раз произведенное на соседей впечатление не оказалось менее сильным, чем первое, он вернулся к себе не через общую входную дверь дома, а через дверь магазина, и тем решительным и не допускающим возражений тоном, какого ранее г-жа Пелюш никогда не слышала у него, сказал дочери:
— Камилла, будьте готовы к половине восьмого; экипаж отправляется ровно в восемь, и нам надо быть во дворе гостиницы без четверти восемь.
Затем, вытащив часы, г-н Пелюш добавил:
— Сейчас пять. Пора за стол!
Обед прошел в молчании. Госпожа Пелюш приняла вид мученицы и отказалась от всякой пищи. Господин Пелюш, напротив, ел за четверых: все подряд и помногу.
После обеда г-н Пелюш поднялся к себе в комнату. Ему не терпелось вновь увидеть себя в зеркале во всем своем величии. Он взял ружье и возобновил свои маневры.
Это заняло у него час.
Прозвонило семь часов.
Господин Пелюш подумал, что пора укладывать вещи в багажную сумку или, точнее, багажные сумки. Он позвал Камиллу, велел ей положить в один дорожный портфель полотенце, шесть рубашек и два жилета, в другой — его мундир капитана национальной гвардии, здраво рассудив, что, если ему придется наносить визиты в провинции, где большинство жителей стоят на боевом посту кто в чем, его мундир будет подобен истинному чуду и доставит ему такое уважение, которое затмит все достоинства Мадлена, какими бы они ни были в глазах этих людей.
Сборы Камиллы были недолгими: соломенная шляпка с широкими полями (девушка собиралась украсить ее букетом из полевых цветов, которые она сорвет во время своих будущих прогулок и которые она, уже видев их образчики, упорно считала гораздо более свежими, яркими и изящными, чем те негнущиеся блеклые цветы, что изготовляли в магазине ее отца), дорожное платье, которое было на ней и которое в то же время должно было служить ей в ненастные дни, и, наконец, два белых платья: одно с поясом из шотландки, другое — из голубого атласа; эти платья должны были чудесно выделяться на фоне серых стволов деревьев и зеленых зарослей кустарника.
В половине восьмого оба путешественника и их багаж были готовы. Господин Пелюш хотел выйти через общую входную дверь, но не потому, что боялся жены: он страшился самого себя. Его решимость достигла такого накала, что он был способен грубо обойтись со всяким, кто попытался бы противостоять его воле.
Но Камилла не хотела, чтобы ее родители, к которым она, несмотря на все их странности, питала глубокую дочернюю любовь и почтительную нежность, расстались, затаив в сердце злость. Ведь недаром говорят, когда речь идет о ссорах влюбленных или супругов, что стоит только начать.
Спускаясь на ощупь по лестнице, г-н Пелюш на пол пути почувствовал, как его ласково обняли женские руки, и сразу узнал голос жены, которая произнесла следующую фразу, явно продиктованную Камиллой:
— Впервые вы покидаете меня и поступаете следуя своим желаниям. Бог направляет вас. В ваше отсутствие я буду заботиться о наших общих интересах!
Господин Пелюш, ощутив дыхание Атенаис на своем лице, заметил, что его гнев тает, как снег под лучами майского солнца, и, если бы он не подумал о том, какое огорчение причинит Камилле, изменив свое решение, он в тот же миг отложил бы в сторону свою охотничью куртку, жилет буйволовой кожи, длинные гетры, пороховницу и мешочек для дроби, чтобы вновь надеть свой деловой редингот, расширяющуюся кверху шляпу, светло-коричневые панталоны, ботинки со шнуровкой и занять прежнее место за кассовой книгой, усевшись на свой табурет, обитый утрехтским бархатом.
Госпожа Пелюш поняла, какая борьба развернулась в сердце мужа, и она предвосхитила его ответ:
— Вам необходимо развлечься, друг мой, и вы обещали доставить это удовольствие Камилле, а ведь она святая, которую Бог вознаградит за ее любовь и уважение к нам. Итак, поезжайте к вашему другу Кассию и повеселитесь там от души. Я задержала вас сейчас лишь для того, чтобы дать это напутствие, ибо не хочу, чтобы вы изводили себя напрасными угрызениями совести. Но только обещайте мне пробыть там не долее двух недель. Я не смогу вынести более длительной разлуки.
— Нет, нет, госпожа Пелюш, я обещаю вам это, — произнес бунтарь, задыхаясь от волнения. — Черт возьми, вы настоящее сокровище, Атенаис! Поцелуй свою мать, Камилла, и попроси у нее прощение для меня.
Три головы сблизились в темноте. И три сердца слились в едином объятии и тройном поцелуе.
На соседней церкви раздался пронзительный бой часов.
— Без четверти восемь! — вскричал г-н Пелюш.
— В путь! Поезжайте! — сказала г-жа Пелюш. — Раз путешествие — дело решенное, то бесполезно откладывать его на завтра и терять пять франков задатка.
Они обнялись в последний раз, и г-н Пелюш с Камиллой выбежали на улицу и быстрым шагом направились к "Оловянному блюду", в то время как г-жа Пелюш, стоя на пороге входной двери дома и проливая потоки слез, с таким отчаянием и нежностью махала им вслед, словно они отправлялись в кругосветное путешествие.
XI
О ЧЕМ МЕЧТАЛА МАДЕМУАЗЕЛЬ КАМИЛЛА В КУПЕ ДИЛИЖАНСА,
ПОКА ГОСПОДИН ПЕЛЮШ СПАЛ
Господин Пелюш и Камилла, вдвойне счастливая и оттого, что отправляется в это путешествие, и от самого путешествия, которое ей предстояло, шли так быстро, что оказались во дворе гостиницы "Оловянное блюдо" без пяти минут восемь.
Кондуктор вначале встретил их ворчанием, но, видя, как мало вещей у этих двух путешественников, и будучи польщен доверием, которое г-н Пелюш оказал ему, сдавая в багаж свою медвежью шапку и саблю, то есть самое дорогое, что было у него на свете после жены и дочери, и самое святое на земле после его гроссбуха, он смягчился и объявил хозяину "Королевы цветов", словно преподнося ему хорошую новость, что его спутником в дороге будет очаровательный молодой человек.
При этих словах г-н Пелюш нахмурил брови и посмотрел на Камиллу, давая ей понять, что она не должна иметь никаких контактов с "очаровательным молодым человеком", хотя и будет находиться с ним в одном купе.
Господин Пелюш несколько запоздал, заказывая места, поэтому вместо первого и второго ему достались лишь второе и третье, то есть место в углу кареты рядом с дверцей и место посередине.
В ту минуту, когда г-н Пелюш задавался довольно сложным вопросом, как устроиться таким образом, чтобы сохранить за собой место в углу и вместе с тем не допустить общения Камиллы с очаровательным молодым человеком, его будущий попутчик предстал перед ними собственной персоной.
Это был и в самом деле красивый и изящный кавалер двадцати пяти-двадцати шести лет в безупречном дорожном костюме: куртка, панталоны, жилет и фуражка из одного и того же серого английского сукна с рыжеватым оттенком. Ниже гетр, изготовленных из той же самой ткани, сверкали лаковые парижские туфли. У молодого человека были великолепные черные волосы, густо закрывавшие виски, и едва заметные усики, такие же черные, как и волосы. Цвет его глаз под красиво очерченными бровями трудно было различить в темноте, но они, очевидно, должны были довершить общее впечатление миловидности и утонченности его лица.
Подойдя к дверце купе и увидев женщину, он, не зная еще, молода она или стара, красива или безобразна, отбросил далеко в сторону свою сигару и, вытащив из кармана платок, обтер им губы, усы, волосы, чтобы уничтожить тот отвратительный запах, который так щедро расточают курильщики вокруг себя даже тогда, когда они не курят.
Сильный аромат вербены достиг ноздрей г-на Пелюша, и он пробормотал сквозь зубы "мюскаден", хотя запах, распространившийся от взмахов платка, не имел ничего общего с мускусом.
Молодой человек поднес руку к фуражке, приветствуя хозяина магазина "Королева цветов".
— Сударь, — начал он, — будучи первым в списке, я имею право на лучшее место в купе.
— Я это знаю, сударь, — ответил г-н Пелюш.
— И благодаря этой счастливой случайности, — продолжил молодой человек, — я могу предложить его мадам или мадемуазель и буду весьма рад, если она примет мое предложение.
Камилла уже открыла рот, чтобы поблагодарить молодого человека, но г-н Пелюш опередил ее.
— Нет, сударь, — ответил он, — моя дочь займет место в углу, а я сяду посередине. Ни я, ни моя дочь не имеем чести столь близко вас знать, чтобы быть вам чем-либо обязанными.
— Нельзя ничем быть обязанным, сударь, путешественнику, который лишь исполняет долг благовоспитанного человека, уступая свое место женщине. Соблаговолите, сударь, подняться в карету и располагайтесь там как вам будет удобно, я же займу место, которое останется свободным.
Затем, повернувшись к кондуктору, он спросил:
— Рассыльный из гостиницы принес вам мою дорожную сумку, Левассёр?
— Да, господин Анри, — ответил тот, — будьте спокойны.
— Спасибо, мой друг, — сказал молодой человек.
— О! Не стоит благодарности. Служить другим — это обязанность, но служить вам, господин Анри, — это удовольствие.
— Этот молодой человек носит имя претендента, — пробормотал г-н Пелюш. — Должно быть, он какой-нибудь аристократ.
— Отец! — Камилла, опасаясь, что молодой человек услышит эти слова, сжала руку г-на Пелюша.
Но молодой человек ничего не слышал или сделал вид, что ничего не слышал.
— По местам, господа пассажиры, отъезжающие в Виллер-Котре! По местам!
— Садитесь, дочь моя, и займите мой угол, — величественно произнес г-н Пелюш.
Камилла поднялась в экипаж, робко взглянув на молодого человека, словно просила у него прощения за недостаточную учтивость отца.
Молодой человек улыбнулся и едва заметно поклонился.
Господин Пелюш поднялся вторым, увидел, что Камилла заняла то место, которое он ей указал, и сел посередине.
— Садитесь, господин Анри, — произнес кондуктор, уже готовясь закрыть дверь за юношей, а самому подняться в кабриолет, венчающий крышу дилижанса.
— Рядом с тобой наверху есть место, Левассёр? — спросил молодой человек.
— Как, наверху? В моем кабриолете? — переспросил изумленный кондуктор.
— Да, наверху.
— Ну, конечно же, там есть еще место, но, даже если бы его и не было, для вас всегда бы нашлось одно! Но почему, господин Анри…
— Что же! Тогда, мой дорогой Левассёр, закрывай дверцу, — промолвил молодой человек, взявшись за ремни, облегчавшие подъем на верхний этаж кареты. — Твое купе слишком мало, а я не хочу никого стеснять.
После этих слов он вскарабкался по узким железным ступеням, вделанным в дилижанс, с ловкостью и проворством, свидетельствовавшими о его серьезных занятиях гимнастикой.
Кондуктор закрыл дверцу.
— Согласитесь, отец, — сказала Камилла г-ну Пелюшу, который, не церемонясь, устраивался в углу, оставшемся свободным благодаря переселению третьего пассажира на один этаж выше, — согласитесь, вот молодой человек редкой любезности.
— Полно! — ответил г-н Пелюш. — Мы вовсе не должны быть ему признательны; все это проделано ради того, чтобы покурить там в свое удовольствие.
Камилла собиралась взять под защиту очаровательного молодого человека — она и в самом деле находила его очаровательным, — но, поскольку г-н Пелюш в этом отношении, похоже, ни за что на свете не согласился бы изменить свое мнение, она сочла, что благоразумнее будет промолчать.
Впрочем, что ей было за дело до того, какое мнение об этом молодом человеке ее отец составил и с характерным для него упорством отстаивал, ведь она видела этого попутчика лишь мельком и, вероятно, никогда больше его не увидит, когда, покинув экипаж, они расстанутся?
Итак, Камилла промолчала, а поскольку ночь была восхитительной и дул свежий, но ласковый ветерок, она открыла окно, облокотилась на раму и принялась мечтать.
Мадемуазель Камилла принадлежала к тем гибридам, перед которыми садовник замирает, преисполненный удивления и радости, открыв в них непредвиденные качества и неожиданное изящество оттенков. Отданная в хороший пансион, она не только получила превосходное начальное образование, но вдобавок к этому все ради тех же целей коммерции ее обучили английскому языку и рисованию. Это изучение английского, которое должно было ограничиться навыками, достаточными для того, чтобы бегло говорить на языке газет "Таймс" и "Морнинг Пост" с юными мисс и элегантными леди, если случай привел бы их в магазин "Королевы цветов", Камилла простерла до чтения старых и современных поэтов Великобритании: Грей, Колридж, Саути, Томас Мур и особенно Байрон, произведения которого в 1840 году были еще весьма популярны во Франции, стали ей хорошо знакомы, а романы Вальтера Скотта занимали после упомянутых нами поэтов первое место в ее скромной библиотеке. Что касается рисования, которое все в тех же коммерческих целях должно было ограничиться лишь изучением цветов, то Камилла придала ему более широкий характер, изображая цветы лишь как некую деталь и всегда окружая их видениями своего воображения, рождавшимися либо под впечатлениями какого-нибудь красочного описания на страницах ее любимого романиста, либо под воздействием поэтических творений обожаемых ею стихотворцев "Озерной школы". Но поскольку от нее хотели вовсе не этого, то Камилла всегда инстинктивно скрывала сначала от своих учителей, а затем от родителей эту тайную сторону своих занятий. Господин Пелюш и его супруга с восхищением наблюдали за тем, как Камилла после выхода из пансиона не только рисовала те цветы, какие существовали в природе, но и придумывала такие, каких не было нигде и никогда; восхищение родителей достигло крайней степени, когда они услышали, как она изъясняется с редкими посетителями с другой стороны Ла-Манша, которых известность г-на Пелюша привела в магазин "Королева цветов", на языке, непонятном ни для хозяина, ни для хозяйки этого заведения, и делает это с легкостью, свидетельствующей об углубленном изучении ею этого языка. Поэтому все, о чем бы ни попросила Камилла для своих занятий рисованием или английским — книги или бристольский картон, — все это безоговорочно ей предоставлялось. И стоило Камилле в любое время дня сказать: "Отец, я иду заниматься английским", либо: "Мама, я отправляюсь рисовать", — подкрепив это заявление поцелуем, как ей тут же предоставлялась полная свобода, и не было случая, чтобы г-ну Пелюшу или Атенаис пришло в голову проверить, в самом ли деле Камилла поднялась к себе ради этих занятий или же она это сделала с совсем другой целью.
Наш долг историка вынуждает нас сказать то, о чем совершенно не подозревали родители Камиллы: чаще всего, уйдя к себе в комнату, девушка доставала из коробки лист бристольского картона, оттачивала карандаш, собираясь приняться за рисунок, но не рисовала; или же она выбирала в своей библиотеке книгу, раскрывала ее, но не читала.
Что же она делала?
Она мечтала.
Этим прелестная Камилла также отличалась от своего отца и мачехи, которые никогда не предавались мечтам, — лишь по ночам им снились порой сны; Камилла же грезила в основном наяву.
О чем же она мечтала?
Неразрешимый вопрос. Чтобы понять мечты шестнадцатилетней девушки, надо самому быть шестнадцатилетним. Прихотливое воображение рисовало в ее уме фантастические пейзажи; в волшебных садах ее грез ей чудились куртины идеальных цветов, свежих и благоухающих; каждый день ей виделся новый эдем, освещенный светом золотой зари или синеватых сумерек и только что вышедший из рук сотворившего его Господа, поселившего там лишь бабочек и птиц: в этом раю пока недоставало венца творения, то есть человека.
И действительно, какой мужчина среди тех, кого видела Камилла в своем ли пансионе, в магазине ли на улице Бур-л’Аббе и даже во время прогулок в Венсенском лесу или в Роменвиле, — какой мужчина был достоин войти в этот земной рай, ходить по его девственной траве, вдыхать его струящийся прозрачный воздух? Поэтому эдем оставался пустынным, и никогда среди тех пейзажей, в которые Камилла старалась воплотить свои грезы, не мелькал образ человека.
И теперь уже читатель не удивится, если мы ему повторим, что, в то время пока г-н Пелюш старался как можно удобнее устроиться в своем углу, чтобы заснуть, Камилла открыла окно со своей стороны, высунула в него локоть, положила голову на руку и принялась мечтать.
О чем же она мечтала? Уносилась ли она мыслями в какой-нибудь новый эдем? Вставал ли в ее воображении какой-нибудь неведомый райский уголок?
Нет, девушка всего лишь задавалась вопросом, какие глаза у г-на Анри: голубые или черные, и этот важнейший вопрос поглощал не только ее мысли, но и все ее способности.
Господин Пелюш, которому не было никакого дела до того, какого цвета глаза у г-на Анри, и который, вероятно, уже и думать забыл о г-не Анри, г-н Пелюш, найдя удобное положение, спал мертвым сном и звучным, однообразным храпением отвечал на переменчивое ржание трех першеронов, тянувших дилижанс.
XII
КАК ГОСПОДИН ПЕЛЮШ ВПЕРВЫЕ УВИДЕЛ КРОЛИКОВ В ВЕРЕСКОВЫХ ЗАРОСЛЯХ, КУРОПАТОК В ЖНИВЬЕ И ЖАВОРОНКОВ В НЕБЕ
Мы не можем сказать точно, до какого часа мечтала Камилла, но мы можем утверждать, что г-н Пелюш проснулся лишь тогда, когда первые лучи солнца, проникнув через стекло дверцы, заиграли на его закрытых веках.
Было где-то около пяти или шести часов утра, то есть тот час, когда г-н Пелюш, просыпаясь, издавал свое обычное утреннее "Гм!", которым он ежедневно будил г-жу Пелюш.
Следовательно, ничего не изменилось в привычках хозяина "Королевы цветов". Он без просыпу, словно в собственной постели, проспал в купе свои обычные семь часов, которые, согласно народной мудрости, необходимы для здоровья человека.
Если бы г-н Пелюш накануне предавался тем же самым поэтическим мечтаниям, какими Камилла обольщала свое воображение, то, открыв глаза, он мог бы вообразить, что попал в один из волшебных садов, увиденных им в фантастических грезах.
Утренний ветерок, налетавший свежими порывами, доносил терпкие запахи тимьяна, вереска и чабреца, устилавших землю, а на их изящных побегах дрожали капли росы, словно несметное множество бриллиантов, в каждом из которых лучи встающего солнца зажигали сверкающую золотую искорку. Посреди этого огромного ковра из трав, фиолетовым покрывалом растянувшимся на склоне холма, поднимались, покачивая своими желтыми султанчиками, кусты дрока и березовые рощицы с трепещущей листвой и серебристой корой; чуть дальше высилась стена из величественных буков и дубов с густой кроной, через которую еще не могли пробиться лучи света.
Господин Пелюш, не до конца осознавая, где он находится, широко раскрыл от удивления глаза. Их изумленное выражение свидетельствовало о его невольном почтении к этой девственной чистоте природы, которая, подобно гуриям, каждое утро возрождалась еще более свежей и невинной.
Но взгляд его с каким-то особым интересом прежде всего остановился на серых четвероногих зверьках с длинными опущенными ушами и белыми торчащими хвостами, со скоростью молний сновавших среди зарослей вереска, кустов дрока и берез. Время от времени один из них замирал на каком-нибудь высоком бугорке, садился на задние лапы, настораживал уши, смотрел на проезжающий дилижанс и, вероятно чего-то испугавшись без причины, точно так же как перед этим остановился без всякой цели, стучал лапами по земле, а затем исчезал в какой-нибудь норке, зияющей на поверхности почвы.
Понаблюдав за этими животными, проворными, дерзкими и столь пугливыми одновременно, г-н Пелюш в конце концов стал подозревать, что это и есть кролики, и Камилла, с которой он посоветовался по этому поводу, подтвердила его догадку.
Господин Пелюш, до сих пор знакомый лишь с неповоротливыми домашними кроликами, сидящими в клетках, впервые в жизни увидел эту молнию из плоти и крови, которая называется диким кроликом.
Это зрелище погрузило и его в глубокую задумчивость; он спрашивал себя, как охотник может уследить за столь стремительными движениями и каким проворством надо обладать, чтобы выстрелить из ружья именно в тот миг, когда мушка и кролик находятся на одной визирной линии.
Спустя несколько мгновений этих безмолвных размышлений г-н Пелюш невольно покачал головой, тем самым без слов признав то, что он сознавал, каких трудов стоит ружейная охота на кроликов, особенно для человека, решившего предаться этому занятию в пятидесятилетием возрасте.
Дорога пошла под уклон, и дилижанс покатился быстрее, оставляя позади вересковые заросли, и вскоре выехал на равнину, или, лучше сказать, на обсаженную деревьями дорогу, слева от которой бескрайняя равнина тянулась до самого горизонта, а справа ее ограничивал только лес.
Эта равнина казалась не менее чувствительной к пробуждению природы, чем рощи деревьев и заросли вереска; взору путешественников открывались длинные полосы эспарцета с розовыми метелками, клевера со звездообразными листьями и рапса с золотистыми цветами, отделенные друг от друга сжатыми полями, на которых не оставалось ничего, кроме той части стеблей пшеницы, ржи и овса, что называют стерней. Среди этих коротких, в шести дюймах от земли срезанных стеблей г-н Пелюш заметил стайки из пяти-шести птиц, торопливо перебегавших от одного прямоугольника искусственного луга к другому и двигавшихся с таким необычайным проворством, что он отказывался верить, будто простые двуногие существа могут развивать подобную скорость передвижения; а поскольку, чтобы лучше разглядеть их, г-н Пелюш высунул в окно дверцы не только голову, но и все туловище, эти птицы, 14*испугавшись, взлетели и за несколько секунд скрылись из виду, и он грустно признался сам себе, что если охота на кроликов показалась ему весьма трудным делом, то охота на куропаток для него просто невозможна, даже если в руках у него ружье за четыре тысячи франков.
Время от времени внимание г-на Пелюша привлекал к себе жаворонок, запоздавший со своей звонкой песней: наверстывая упущенное время, он резко вспархивал с земли и, издавая мелодичную трель, почти отвесно взмывал вверх, пока не превращался в точку на небосводе, а его пение не начинало походить на едва слышный щебет, затем он неожиданно камнем падал вниз еще быстрее, чем взлетал, и, казалось, вновь обретал крылья лишь в трех или четырех дюймах от поверхности земли, где и исчезал между двумя комками почвы, таких же серых, как и он.
Господин Пелюш, для которого все здесь было ново, ибо до сих пор он покидал пределы Парижа лишь во время коротких прогулок с дочерью, о которых мы рассказывали, удивлялся всем этим проявлениям многообразной жизни природы и ее живительному и нескончаемому движению. В своем наивном изумлении он указывал Камилле на куропаток, бегающих по стерне, и жаворонков, исчезающих в небе, как прежде обращал ее внимание на кроликов, играющих в уголки в зарослях кустарника; и каждый из его жестов сопровождался угрозой, бахвальство которой г-н Пелюш в глубине души не скрывал даже от самого себя: "О! Если бы мое ружье не лежало в футляре!"
Что же касается Камиллы, то она следовала взглядом за жестами отца и слушала его сетования с рассеянностью, доказывавшей, несмотря на любезную улыбку, которой девушка хотела скрыть свою невнимательность, что ее заботят вовсе не кролики, куропатки и жаворонки, выводившие г-на Пелюша из себя.
Погруженные в эти впечатления, они добрались до самой нижней части долины Восьен, откуда можно было выбраться, лишь поднявшись на холм, склоны которого были настолько круты, что кондукторы непременно предлагали пассажирам подняться в гору пешком, чтобы они размяли затекшие конечности и облегчили подъем лошадям.
Так что Левассёр обратился к г-ну Пелюшу и Камилле с этим обычным предложением; но г-н Пелюш, памятуя об "очаровательном молодом человеке" и не сомневаясь нисколько, что тот воспользуется случаем и попытается вновь завязать с Камиллой ту беседу, которую г-н Пелюш, по его мнению, так осмотрительно прервал, язвительно ответил, что заплатил шестнадцать франков за то, чтобы он и его дочь проделали путь в карете, а не пешком. Кондуктор поклонился, и, поскольку они приближались к месту назначения, как выражаются путешественники, а именно там, в месте назначения, дают чаевые, он удовольствовался следующими словами:
— О! Как вам будет угодно, мы никого не принуждаем; между прочим, с вершины холма вы сможете увидеть Виллер-Котре: мы подъезжаем.
— Тем лучше, — величественным тоном заметил г-н Пелюш.
Затем, достав из кармана часы, он добавил:
— Так и должно быть, раз мы должны прибыть в Виллер-Котре в восемь часов, а сейчас четверть восьмого.
И он откинулся в угол, не обратив внимания на разочарование Камиллы, которая надеялась воспользоваться представлявшейся возможностью, чтобы узнать, какие глаза у г-на Анри — черные или голубые.
Карета взбиралась вверх так медленно, словно в нее были впряжены волы, и Камилла за время этого подъема на какое-то мгновение отвлеклась от своих мыслей, любуясь восхитительным пейзажем, разворачивавшимся перед ее глазами. И в самом деле, на первом плане открывалась панорама всей долины Восьен, заросшей ольхой, которая пламенела от первого дыхания осени, и изрезанной крохотной речушкой, которая в этой ясной атмосфере утренней свежести несла, извиваясь, свои чистые, прозрачные и мягкие воды, темнеющие, когда они протекали под густой листвой прибрежных деревьев, и, напротив, отливающие золотом и багрянцем, когда на них попадали лучи солнца. На втором плане расстилался во всю ширину долины пруд Вуалю, вытянувшийся в длину, словно озеро расплавленного серебра, на четверть льё, со своей живописной мельницей, которая, казалось, с одной стороны выходила прямо из воды, а с другой — из зарослей зелени и служила ему запрудой; а на горизонте простиралась цепочка невысоких холмов, увенчанных зелеными массивами густого леса, и на одном из них, подобно гранитному эгрету, стояла гордая и живописная башня Вез — феодальные руины XV века.
Вид этот произвел такое впечатление на сознание Камиллы, что она впервые в жизни в мельчайших подробностях рассмотрела реальный пейзаж, который, будучи творением природы, был, однако, не менее достоин занять место среди картин, созданных ее воображением.
Наконец они достигли вершины холма, и, в то время когда дилижанс остановился, чтобы лошади передохнули, а пассажиры заняли на время покинутые ими места, Камилла и г-н Пелюш в самом деле смогли различить на горизонте посреди огромного густого массива зелени маленькие белые домики городка, где им предстояло сделать недолгую остановку, предпоследнюю в их путешествии.
— О! — воскликнула Камилла. — Вот, вне всякого сомнения, Виллер-Котре, родина Демустье.
— Что это еще за Демустье? — спросил г-н Пелюш.
— Автор "Писем к Эмилии о мифологии", поэт.
Господин Пелюш ничего не ответил, но сделал такую гримасу, которая дала понять его дочери, что если у Виллер-Котре нет других достоинств, то, когда ему придет время отойти от дел, он вряд ли поселится на родине автора "Писем к Эмилии о мифологии".
После пятиминутного отдыха экипаж тронулся в путь.
Мы вынуждены несколько опередить его, так как в ту самую минуту, когда дилижанс возобновил свое движение, в гостинице "Золотой крест", где его ожидали ровно в восемь часов, происходили события, о которых необходимо сказать здесь несколько слов, чтобы не загромождать позже наш рассказ подробностями, которые могли бы показаться ненужными длиннотами, если бы мы упомянули о них в другом месте.
Итак, расскажем hie et nunc[7] то, что происходило в это время в гостинице "Золотой крест".
XIII
КАК ЧРЕВОУГОДИЕ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ САМЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ И НАНЕСТИ УЩЕРБ
САМЫМ ПРЕВОСХОДНЫМ ДОСТОИНСТВАМ
Хозяином гостиницы "Золотой крест", стоявшей в конце Суасонской улицы, в части города, противоположной той, откуда въезжал дилижанс из Парижа, был честный и добрый человек по имени Мартино. Он снискал широкую известность благодаря своим кулинарным талантам, которые по достоинству ценили путешественники, направлявшиеся из Лана в Париж и из Парижа в Лан и останавливавшиеся у него для завтрака в одиннадцать утра или для обеда в пять вечера.
Но какими бы пунктуальными ни были кондукторы этих двух вызывающих почтение колымаг, точность, с которой они останавливались перед дверью гостиницы "Золотой крест", не могла сравниться с той точностью, с какой на ее пороге появлялась большая легавая собака с коричневой шерстью, тонкими и мускулистыми ногами, длинными висячими ушами, глазами, полными огня, сверкавшими в полутьме, словно изумруды. И действительно, едва замолкал в кухне последний бой часов, как метр Фигаро — так звали собаку, — с ласковым видом входил на кухню, бросая при этом искоса взгляд на вертел, и исподтишка пробирался в обеденную залу, где для путешественников был накрыт стол.
Там он затаивался, смиренно забившись в самый темный угол.
Когда пассажиры, выйдя из дилижанса, в свою очередь входили в обеденную залу и занимали места вокруг стола, то тут и появлялся Фигаро, неся в пасти небольшую круглую соломенную подстилку, клал ее на пол на некотором расстоянии от прибывших и садился на нее с исключительно серьезным видом, опираясь на передние лапы, такой же неподвижный, как сфинкс с горы Киферон, собирающийся задать свою смертельную загадку античным путешественникам, которые направляются из Дельф в Фивы.
Этот признак хорошего воспитания и вежливой почтительности почти всегда безотказно располагал нынешних путешественников в пользу Фигаро. Ему оказывали знаки внимания, и пес отвечал сначала тихим ворчанием, высунув язык длиною в пятнадцать сантиметров и облизываясь, затем начинал жеманно любезничать с новыми знакомыми, и это в конце концов приводило к тому, что все куриные и кроличьи кости и все остатки еды на тарелках и блюдах предлагались Фигаро, который ни в коем случае ни от чего не отказывался, а позже с умиленным взором, раздувшимся брюхом, радуясь, как умеют радоваться собаки, и признательно виляя хвостом, провожал путешественников до дилижанса и заливистым лаем желал им доброго пути.
Эта маленькая комедия возобновлялась дважды вдень, то есть, как мы уже говорили, с одиннадцати до двенадцати часов дня и с пяти до шести часов вечера, и никогда ни г-н Мартино, ни его сын Огюст не замечали, чтобы Фигаро хоть раз пренебрег долгом гостеприимства.
Но нигде более, кроме как в славной гостинице "Золотой крест", где с ним так доброжелательно и почтительно обращались и где он — не то чтобы из чувства деликатности, но из разумной предосторожности — ничего не трогал: ни бараньих ножек на вертеле, ни куриц, бегающих по навозу, ни уток и гусей, барахтающихся в луже, Фигаро, ученик Бабёфа и г-на Прудона, не имел ни малейшего нравственного понятия о чужой собственности. Самые суровые меры воздействия были бессильны восполнить этот пробел в его сознании. И заметьте как следует, что мы имеем в виду не одно лишь отеческое внушение, которое делал псу его хозяин, племянник Мартино, и которое заключалось в большем или меньшем количестве пинков и ударов, нанесенных с большей или меньшей силой в зависимости от серьезности проступка, а мы говорим также о тех опасностях, которым подвергалась более чем бродячая жизнь Фигаро, и ужасные акты мщения, которые порой предпринимали против него те, чьи интересы были затронуты его ненасытной прожорливостью.
Вот почему Фигаро, обладающий изумительными охотничьими качествами, Фигаро, столбом застывающий в стойке, приносящий яйцо, не разбив его, подбирающий с превосходно навощенного пола монету в шесть лиардов, Фигаро вследствие мучившей его булимии никак не мог приучиться приносить первую штуку дичи, убитую его хозяином: если это был бекас, перепел или куропатка, то пес проглатывал их на месте, и так быстро, что охотник даже не успевал утешиться хотя бы видом кончика хвоста дичи, а если это был кролик или заяц, то Фигаро бросался на него, тут же оттаскивал в какое-нибудь углубление в земле или непроходимые заросли подальше от хозяина, чтобы успеть сожрать целого кролика или, по крайней мере, половину зайца прежде нежели карающий удар хлыста достигнет его собственных боков; затем, прекрасно сознавая свою вину, он после всяческих уверток подставлял спину для заслуженного наказания. Когда этот первый, но неизбежный эпизод охоты получал свое достойное завершение, дальше все шло наилучшим образом, и Фигаро доставлял вторую штуку дичи с редкостной ловкостью и осторожностью, если это была птица, и не повредив ни единого волоска, если это был заяц или кролик.
Мы уже говорили, что своей прожорливости Фигаро был обязан как тяжелым последствиям, связанным с самим этим пороком, так и суровым телесным наказаниям со стороны тех, за чей счет этот его порок удовлетворялся.
Так, однажды, когда пес охотился вместе со своим молодым хозяином в тех самых болотах Вуалю, которые, проезжая мимо них, видела Камилла и которые вызвали ее восхищение, охотник первым же выстрелом поразил бекаса; птица упала за кучей хвороста, высотой приблизительно в метр и длиной в три метра: она осталась здесь после того, как мельник из Вуалю срубил несколько ольх, и какой-то косарь, отправившись перекусить, прислонил к ней свою косу, так что ее ручка возвышалась над хворостом.
Собака менее проворная, менее сильная, а главное, менее прожорливая, чем Фигаро, потрудилась бы обойти кучу хвороста, но такая умеренность в поведении была не в характере Фигаро. Он разбежался и прыгнул через препятствие, словно скаковая лошадь в стипль-чезе, прыгающая через барьер.
Но едва неосторожный прыгун скрылся за хворостом, как раздался болезненный визг, и хозяин, к своему глубочайшему изумлению, увидел, что пес не возвращается.
Он тут же подбежал к куче хвороста, но, более осторожный, чем Фигаро, обошел ее.
Несчастное животное упало на острие косы, пронзившее ему при этом шею; к счастью, повреждены были только мышцы; артерия осталась целой, и ни гортань, ни пищевод не были затронуты.
В трех дюймах от собачьей морды находился убитый бекас, которого Фигаро, к своему величайшему огорчению, не мог достать, и потому он смотрел на птицу взглядом, горящим скорее от вожделения, нежели от испытываемого им страдания, хотя кровь из его раны била фонтаном.
Хозяин собаки прежде всего подобрал добычу и положил ее в охотничью сумку; эта операция вызвала у Фигаро такое разочарование, что, подняв голову, он совершенно самостоятельно освободился от лезвия косы. Подобно Эпаминонду, он сам вытащил из раны клинок.
После этого примененное к нему лечение было весьма простым: шею Фигаро промыли в чистой воде соседнего ручья, платок из кармана хозяина послужил раненому животному тампоном, а галстук — бинтом, и пес продолжал охотиться весь остаток дня, как будто ничего не случилось.
Не стоит и говорить, что рана при всей ее серьезности нисколько не повлияла на аппетит Фигаро, и поскольку первая штука дичи — а это, как мы сказали, был бекас — ускользнула от него, то вторая — коростель — мгновенно исчезла в пасти собаки.
В другой раз Фигаро, заметив на двери мясника Моприве, — надо сказать, что именно с мясниками и колбасниками у обжоры были всегда самые серьезные проблемы, — заметив, повторяем, на двери мясника баранье сердце, висящее на крюке, и думая об этом крюке, на который было насажено сердце, не более, чем рыба думает о крючке, на котором извивается червяк, неосмотрительный Фигаро прыгнул, схватил кусок вожделенного мяса и остался висеть на крюке, вонзившемся ему в нёбо.
Мясник, услышав визг жертвы, выбежал с ремнем в руках и, посчитав наказания крюком недостаточным, на славу отстегал висевшего Фигаро, после чего, взяв собаку в охапку, снял ее с крюка и поставил на лапы.
Но одновременно с Фигаро на земле оказалось и свалившееся с того же крюка баранье сердце — первопричина всего случившегося.
Едва встав на лапы, Фигаро бросился на баранье сердце и, схватив его, убежал прочь, оставив мясника настолько ошеломленным, что у него и в мыслях не было преследовать грабителя.
Неприятности, почти всегда падавшие на голову папаши Мартино, в чьей гостинице, словно в неприкосновенном убежище, преступник скрывался после каждого совершенного им нового правонарушения, заставили хозяина "Золотого креста" потребовать от своего племянника Жоржа Мартино расстаться с собакой. Вследствие этого молодой Мартино, ценивший присущие Фигаро таланты, с сожалением дал дяде разрешение договариваться о продаже Фигаро первому встречному покупателю, действуя при этом в интересах племянника и от его имени, и предоставил ему полную свободу назначать условия сделки и продажную цену собаки.
Итак, закончив это отступление, представляющееся нам совершенно необходимым, мы полагаем возможным вернуться к дилижансу и находящимся внутри него пассажирам, однако не оставляя без внимания Фигаро, с которым мы еще далеко не покончили.
Итак, в ту минуту, когда, преодолев Восьенский холм и дав немного перевести дух лошадям, Левассёр мощным ударом кнута вновь стронул с места свою громоздкую колымагу, Фигаро, преследуемый на этот раз уже не мясником, а колбасником, влетел в кухню "Золотого креста", держа в зубах окорочок. В задней ноге пса торчал вонзившийся в нее наполовину лезвия нож, который колбасник успел метнуть в беглеца.
Фигаро кинулся в спальню, забился под кровать и принялся пожирать окорочок, беспокоясь о своей задней части не больше, чем если бы она была уколота всего лишь шипом розы.
Мгновение спустя сильно запыхавшийся колбасник появился на пороге кухни.
— Ну! — воскликнул он, скрестив руки и глядя на папашу Мартино, с невинным видом шпиговавшего фрикандо. — Экий же законченный негодяй ваш Фигаро! Ему уже мало того, что он таскает мои окорока, он утащил еще и мой нож! О! Но это уже слишком!
— Во-первых, — примирительным тоном произнес Мартино, рассчитывая отстраниться от этой истории, — во-первых, кум Баке, Фигаро вовсе не моя собака, а моего племянника Жоржа.
— Надо же! Надо же! Почему же он тогда не ищет убежища у вашего племянника Жоржа? Почему он прячется здесь? Собаки, видите ли, тоже имеют разум; они спасаются у тех, кто их защищает. Итак, куманек, вы не можете отрицать, что Фигаро у вас. Я видел, как этот жулик вбежал сюда!
— Я ничего не отрицаю, дорогой Баке, — сказал папаша Мартино. — Я ничего не отрицаю, и доказательством этому служит то, что я заберу у Фигаро ваш шпиговальный нож и верну его вам.
— А мой окорочок вы мне тоже вернете?
— А вот этого я не могу вам обещать, так как вряд ли от него что-либо осталось к этому времени; но я могу вам за него заплатить.
— Заплатить мне за него?! Заплатить?! Стану я сутяжничать с вами из-за какого-то окорочка, куманек. Нет, — произнес колбасник, — достаньте-ка бутылочку доброго бургундского и покончим с этим. Хвала Господу, у меня в лавке еще хватает окорочков!
— Если вы так относитесь к этому, кум, то есть как славный малый, то признаюсь вам, как признался бы на исповеди нашему бедному аббату Грегуару, если бы он еще был жив, что я уже сыт по горло выходками этого мерзавца Фигаро. И если б он хоть раз что-нибудь стащил здесь, так ведь нет. Можно подумать, как вы только что сказали, будто он имеет разум!
— Имеет, кум, имеет… Даже и не думайте, будто этот разбойник не понимает, что делает; послушайте, он отлично все понимает, и то, что он прячется, лишь доказывает это. Собака, которой не в чем себя упрекнуть, похожа на честного человека: она никогда не прячется! Где он, я вас спрашиваю?.. Фигаро! Фигаро! Мой маленький Фигаро!.. О! Вряд ли он высунет хотя бы кончик носа!
— Подождите, кум, подождите. Пока Огюст отыщет для нас в погребе бутылочку старого бонского, я прежде всего постараюсь вернуть вам ваш нож. Ты слышал, Огюст? Бутылочку первоклассного бонского.
И папаша Мартино направился в комнату, где, как уже было сказано, нашел убежище Фигаро.
— Ты слышал, Огюст? — в свою очередь спросил кум Баке.
— Да, отец, да, кум, — ответил молодой человек лет двадцати, который стоял перед плитой, сдвинув остроконечный колпак на ухо, кокетливо завернув угол фартука и заткнув нож за пояс, и помешивал подливку, уже издававшую изумительный луковый аромат и предназначавшуюся для будущего соуса, главной приправой которого она должна была стать. — Вот только разбавлю эту подливку, и тут же спущусь в погреб. Вы ведь прекрасно понимаете, кум Баке, что на плите не оставляют подливку, когда она готова лишь наполовину.
— Да, мой мальчик, я это понимаю, — подтвердил колбасник. — Ты будешь достойным сыном своего отца.
— Надо надеяться, кум Баке, надо надеяться, — сказал, важничая, молодой соперник Вателя и Карема.
— Огюст! — крикнул папаша Мартино из своей спальни. — Ты не мог бы прислать ко мне Крошку Тома?
— Зачем, отец?
— Чтобы он залез под кровать и отыскал там нож кума Баке.
— Невозможно, отец. Он держит лошадь господина Анри де Норуа, запряженную в тильбюри, а это вам не какая-нибудь кляча, которую можно оставить без присмотра.
И в самом деле, в проеме двери, выходившей во двор, был виден грум ростом с кулачок, который, поднявшись на цыпочки в своих сапогах с отворотами, держал под уздцы прекрасную гнедую лошадь, запряженную в элегантное тильбюри.
За свой малый рост грум заслужил от насмешника Мартино прозвище "Крошка Том".
— Что ж, — заметил Баке, которому не терпелось вернуть свой нож и который, впрочем, и по природе своей был весьма любезным человеком, — я пойду подержу лошадь господина Анри.
И, преодолев четыре ступени, ведущие вниз из кухни во двор, он распорядился:
— Ну-ка, юный гроом, — он произнес это слово так, как оно пишется, — ступайте на помощь господину Мартино, он вас зовет.
— Да, come here![8], — подхватил папаша Мартино, слышавший, что так подзывал мальчика его хозяин, и видевший, как, услышав эти два слова, мальчик поспешно подбегал к нему.
— Here I am, sir,[9] — весело ответил маленький человечек, вручая поводья папаше Баке.
— Ты вытаскивать нож из бедра Фигаро, — сказал Мартино, исчерпав весь свой запас слов английского языка и заменив его неким ломаным негритянским наречием.
— I do not understand[10], — ответил грум, глядя на Мартино понятливым, но вопрошающим взглядом.
— Том вам говорит, что он не понимает, чего вы от него хотите, отец, — крикнул от своей плиты, продолжая помешивать подливку, Огюст, который запомнил несколько английских слов, подхваченных им у приезжих с противоположной стороны Ла-Манша, не говоривших по-французски.
Затем он прокричал груму:
— Under the bet!
Том понял, что это должно было означать "Под кровать!", хотя Огюст, изъясняясь на своем надуманном английском, заменил в слове "bed" "d" на "t".
В итоге Том все же нырнул под кровать, увидел нож, наполовину торчавший из бедра Фигаро, с которым он был в лучших отношениях, рассудил, что ляжка собаки не самые подходящие ножны для этого предмета, взялся за его рукоятку и потянул на себя, издав тот победный клич, какой английский жокей издает по всякому поводу:
— All right![11]
Фигаро ответил на этот победный клич болезненным поскуливанием, но при этом не перестал грызть кость окорочка, мясо которого уже исчезло.
Папаша Мартино забрал нож из рук Тома, и тот, отряхиваясь, вернулся на свое прежнее место и взял поводья из рук кума Баке.
— Вот ваш шпиговальный нож, куманек, — сказал хозяин "Золотого креста", возвращая колбаснику его оружие, предварительно тщательно вытерев лезвие о свой фартук.
— А вот и бутылочка первоклассного бонского, — произнес Огюст, ставя на кухонный стол бутылку бургундского и два стакана.
— Черт возьми! — промолвил Баке, засовывая нож за пояс своего фартука, в то время как папаша Мартино, разливая вино, до краев наполнил стакан кума и лишь до половины собственный. — Черт возьми! Раз вы решили отделаться от Фигаро, вам непременно нужно всучить его господину Анри; это славный молодой человек, и он позаботился бы о вашем псе, каким бы старым тот ни был.
— Вы прекрасно знаете, кум, что господин Анри не охотник.
— Ну так что же, тогда господину Мадлену. Уж про него-то вы не скажете, что он не охотник. Этот молодец на вскидку одной пулей разрезает белку надвое в тот миг, когда она перепрыгивает с одного дерева на другое.
— Я уже говорил с ним об этом, но он ведь отлично знает этого разбойника Фигаро! Впрочем, это не помешало бы ему взять собаку к себе, если бы у него не было уже целой своры, ведь господин Мадлен также признает, что в лесу и на равнине Фигаро — ловкая бестия. И послушайте, разве однажды, — продолжил папаша Мартино, понизив голос, — охотясь ночью в одиночку, Фигаро не удушил великолепную косулю? Он прибежал сюда весь в крови. Я сказал Огюсту: "Он что-то натворил в лесу, проследи-ка за ним". Огюст пошел за псом, и тот привел его прямо к косуле, у которой Фигаро успел съесть лишь шею и лопатку, так что нам удалось спасти филейную часть, переднюю ножку и две ляжки. Все это произошло на лесном участке папаши Боше, который проведал об этом и предупредил меня, что если он увидит Фигаро, охотящегося в лесу, одного или с кем-нибудь, то убьет его как бешеного волка. Слышишь, Фигаро, тебя предупредили. Веди себя хорошо!
В эту минуту послышалось щелканье бича, возвещающее, что дилижанс, которого ждали, как раз заворачивал за угол Суасонской улицы.
При этих звуках папаша Мартино поспешил чокнуться с кумом Баке и опустошить свой стакан в то время, как Том, выезжая на тильбюри со двора на улицу, прижался поближе к ограде, освободив всю мостовую для проезда тяжелой кареты, и та с оглушительным грохотом колес, громом цепей и хлопаньем кнута остановилась перед дверью гостиницы "Золотой крест".
Едва только дилижанс встал, Левассёр спустился с кабриолета, чтобы открыть г-ну Пелюшу и мадемуазель Камилле дверцу купе.
За ним вниз спустился г-н Анри, приветствуемый радостными возгласами Тома.
Молодой человек, может, случайно, а может, и преднамеренно оказался на земле как раз в ту минуту, когда Камилла, увидев, что дверца с ее стороны открыта, легко, как трясогузочка, спрыгнула на мостовую. Девушка мгновенно смутилась, оказавшись лицом к лицу с молодым человеком, воспоминания о котором волновали ее всю ночь, и быстро отвернулась. Господин Анри прошел вперед, чтобы помочь г-ну Пелюшу, менее проворному, чем дочь, выйти из дилижанса.
Эта учтивость молодого человека, как мы уже видели, была вовсе не по вкусу г-ну Пелюшу, так что, ворча, он вылез наружу самостоятельно. Видя это, г-н Анри почтительно приветствовал обоих путешественников и, убежденный — к своему большому огорчению, — что нет такого средства, чтобы завязать беседу с этим медведем, кого судьба дала в отцы газели, он повернулся к Тому и по-английски спросил его:
— All are well down there?
— Yes, sir, — ответил ребенок, — all right!
— And so let us away, — продолжил молодой человек, беря поводья из рук грума и усаживаясь рядом с ним с явной досадой.
Приподняв фуражку, чтобы в последний раз попрощаться с обоими путешественниками, он негромким щелканьем языка заставил лошадь тронуться с места, и та пустилась крупной рысью по дороге, которая раздваивалась в полукилометре от гостиницы "Золотой крест": одно из ответвлений вело к Новому дому на суасонской дороге, а другое — к деревне Данплё и далее к ферме Вути, куда г-н Пелюш направлялся инкогнито, чтобы застать врасплох своего друга Мадлена.
— Что сказал этот господин по-английски своему слуге? — спросил г-н Пелюш у Камиллы.
— Он спросил у него: "Все ли здоровы там?"
— Где это там?
— Не знаю, отец.
— А что ответил слуга?
— "Да, сударь, все в порядке".
— Мне кажется он сказал еще что-то?
— Он сказал: "Тогда вперед!" — и уехал.
— Гм! — хмыкнул г-н Пелюш, бросив взгляд исподлобья на тильбюри, которое быстро удалялось, поднимая облако пыли.
— У него голубые глаза! — прошептала Камилла, сомнения которой наконец были окончательно разрешены. Отныне девушка полагала, что в мире нет ничего прекраснее голубых глаз под черными бровями и такими же черными волосами.
XIV
ГЛАВА, В КОТОРОЙ ГОСПОДИН ПЕЛЮШ ПОЛУЧАЕТ САМЫЕ ЛУЧШИЕ ОТЗЫВЫ О МАДЛЕНЕ И О ГОСПОДИНЕ АНРИ
Увидев г-на Пелюша в роскошном охотничьем наряде и не заметив рядом с ним собаки, папаша Мартино и кум Баке понимающе переглянулись.
Хозяин гостиницы, как и повелевал ему долг, взял в руки свой колпак и, подойдя к г-ну Пелюшу, спросил:
— Господин и мадемуазель чего-нибудь желают?
— Очень многое, — ответил г-н Пелюш надменным тоном, который внушило ему внимание его дорожного попутчика, оказанное Камилле. — Очень многое!
— Только одно, — улыбаясь, произнесла молодая девушка.
— Тогда, — сказал папаша Мартино, — мы сначала обслужим мадемуазель. Чего же вы желаете?
— Комнату и воды, чтобы привести себя в порядок после ночи, проведенной в дилижансе, сударь.
— Маргарита, — закричал папаша Мартино, — первый номер для мадемуазель!
— Ты голодна? — спросил г-н Пелюш удочери.
— Я, отец? — переспросила Камилла. — Не знаю.
— Как это ты не знаешь?
— Извините, отец, я задумалась и не слышала ваш вопрос.
— Я тебя спрашиваю, голодна ли ты?
— Разве нам не говорили, что мы приедем к обеду?
— Да, но нам предстоит еще, и нам об этом тоже говорили, по крайней мере целый час пути. К тому же надо еще достать коляску и как следует поторговаться, ведь в провинции воображают, что сам Бог велел им обманывать парижан; все это займет у нас еще около часа, и, я думаю, будет неплохо наполнить наши желудки хорошей чашкой кофе.
— Хорошо, пусть будет кофе, отец.
— Не заставляй себя ждать, Камилла.
— Нет, отец, не беспокойтесь.
И Камилла скрылась на лестнице.
— Гм! — хмыкнул г-н Пелюш, поворачиваясь к владельцу гостиницы. — Я говорил…
— Вы говорили, что вам предстоит еще по меньшей мере час пути; похоже, господин направляется в наши края.
— Я еду в деревню Вути; знаете вы такую?
— Ну, разумеется знаю! Это в полульё отсюда, но поскольку там большой подъем, то, в самом деле, вы потратите на дорогу туда около часа, а то и больше.
— Но если вы знаете деревню, то должны знать и ее обитателей.
— От лесника до мэра, и если я могу вам помочь…
— Знаете ли вы некоего Мадлена?
— Господина Кассия?
— Да, именно господина Кассия.
— Знаю ли я его?! Ну еще бы! Да, сударь, я имею честь быть с ним знакомым.
— Черт, похоже господин Кассий пользуется уважением в округе?
— О! Что касается этого, сударь, то да, он всецело достоин уважения. На последних выборах он отказался от поста мэра.
— От поста мэра?
— Да, сударь, от поста мэра.
— Тогда меня нисколько не удивит, — заметил г-н Пелюш, покосившись на свою медвежью шапку и саблю, — если вы мне скажете, что он имеет чин в национальной гвардии.
— О! Если он не имеет чина в национальной гвардии, то лишь потому, что сам не захотел этого. Ему достаточно сказать слово, и он станет во главе национальной гвардии всего округа, не правда ли, кум? (Мартино повернулся к колбаснику, который слушал разговор, неподвижно стоя около кухонного стола.)
— Правда ли это?! — подхватил кум Баке. — Когда наш капитан господин Жюль Кретон был избран на эту должность, он сказал: "Хорошо, я согласен, но только при условии, если господин Кассий отказывается". Однако же отличный капитан этот господин Жюль Кретон, ведь он нам позволяет делать все, что мы хотим!
— Так вот, мой друг, — проговорил г-н Пелюш, увидев, что может рискнуть и что его достоинство нисколько не пострадает от знакомства с Мадленом, — не стану скрывать от вас долее, что я еду к господину Кассию.
— Тогда вам предстоит некоторое время побыть с нами. Господин Кассий — чародей. Попав к нему, никогда не знаешь, когда выйдешь обратно.
— Ну, что же, значит, я человек более сведущий, чем остальные, и могу вам заранее сказать, милейший сударь, что через две недели вы увидите, как я проследую назад.
Папаша Мартино покачал головой — жест, означающий отрицание, — и кум Баке последовал его примеру.
— Господа, — горделиво произнес г-н Пелюш, — когда занимаешься крупной коммерцией и заключаешь более чем на миллион сделок в год, не можешь себе позволить посвятить отдыху и удовольствиям более двух недель; впрочем, — прибавил г-н Пелюш, растягивая губы в высокомерной улыбке, — сомневаюсь, что развлечения, которые предложит мне мой друг Мадлен, заставят меня забыть удовольствия столицы цивилизованного мира.
— Вы охотник, не правда ли, сударь? — спросил папаша Мартино.
Господин Пелюш сделал неопределенное движение головой и плечами и бросил на свое одеяние взгляд, как бы говоривший: "Мне кажется, что это и так видно".
— Вы рыболов?
— Я могу им стать… У меня большие способности ко всем физическим упражнениям.
— Вы наездник?
— Гм-гм!.. Можно сказать, я был им в молодости. В окрестностях Парижа есть деревушка Монморанси, в которой проживал, как вам должно быть известно, философ из Женевы, великий Жан Жак Руссо, так вот, я иногда наезжал туда по воскресеньям.
— И там вы брали уроки верховой езды?
— Именно там.
— Хорошо! Охота, рыбная ловля, прогулки верхом, — продолжал хозяин гостиницы "Золотой крест", — все это вы найдете у господина Мадлена.
— Как?! — вскричал г-н Пелюш, чье удивление росло чем дальше, тем больше. — Имея полторы тысячи франков ренты, ну, самое большее две тысячи, Мадлен позволяет себе охоту, рыбную ловлю и лошадей?
— Ну, если он сам не в состоянии позволить себе подобное, то все это есть у его друзей, а это совершенно одно и то же.
— У Мадлена есть друзья, имеющие лошадей, земли и пруды?
— Конечно. Возьмите, к примеру, того молодого человека, который приехал вместе с вами в моем дилижансе…
— Так это ваш дилижанс? — прервал его г-н Пелюш. — Поздравляю вас с этим.
— Да, в нем изрядно трясет, не так ли? Но вот зимой, на плохих дорогах он имеет свои преимущества, поскольку весьма устойчив. Так вот, этот молодой человек, который приехал вместе с вами в моем дилижансе и которого дожидались здесь его грум, тильбюри и лошадь, — друг господина Мадлена.
— Господин Анри? — вскричала Камилла, которая, закончив туалет, спустилась из своей комнаты, незамеченная подошла к беседующим и услышала сказанное папашей Мартино. — Господин Анри — друг господина Мадлена?
Затем, заметив, что вопрос, пожалуй, прозвучал слишком пылко, она добавила, безуспешно пытаясь изгнать волнение из голоса:
— Не считаешь ли ты, отец, весьма удивительным совпадением то, что мы ехали вместе с другом нашего лучшего друга?
Господин Пелюш некоторое время постоял с задумчивым видом, подняв согнутый указательный палец правой руки к губам.
Затем он посмотрел на Камиллу и задумчиво произнес:
— Случайно, господин Анри не тот красивый малый двадцати пяти лет, о котором Мадлен писал мне в постскриптуме? Гм-гм!
Камилла опустила глаза под взглядом г-на Пелюша и покраснела до ушей. Она была уверена, что это был именно он.
— О! — воскликнул дядюшка Мартино. — Если господин Кассий в постскриптуме своего письма рассказал вам о красивом малом двадцати пяти лет, то, вероятно, речь шла о господине Анри, потому что он, без сомнения, самый красивый малый в департаменте. Не правда ли, кум? — продолжил владелец "Золотого креста", обращаясь к колбаснику.
Баке кивнул головой в знак согласия.
— Но этот господин Анри, должно быть, богат, раз он имеет грума, тильбюри, лошадей? — спросил г-н Пелюш, все сильнее и сильнее сжимая указательный палец, что служило у него признаком глубокого волнения.
— Да, он богат, — ответил Мартино. — И к тому же богат, как сеньор! Так вы не знаете, что он приемный сын родовитого дворянина, оставившего ему земель более чем на миллион? Вся коммуна Вути принадлежит ему. А когда он достигнет необходимого возраста, то только от него самого будет зависеть, станет он депутатом или нет, ценз не будет ему помехой.
— Вы говорите, — продолжал г-н Пелюш, следуя своим мыслям, — что он приемный сын родовитого дворянина?
— Хоть я и говорю "приемный сын", но, по моему мнению и по мнению многих других — не правда ли, кум Баке?.. (Колбасник опять утвердительно кивнул.) По моему мнению, господин Анри, вполне возможно, его родной сын. Вы ведь сами понимаете, сударь, что никто просто так не оставит свое имя, свой титул и свое состояние чужому человеку.
— А разве у господина Анри есть титул? — спросил г-н Пелюш, чей интерес к этому разговору рос с каждой минутой, в то время как Камилла в свою очередь не упустила из него ни одного слова.
— Конечно, у него есть титул, — ответил Мартино, — ведь он граф.
— Граф! Какой граф?!
— Граф де Норуа. Прекрасная земля Норуа площадью в пятьсот арпанов, приносящая двенадцать добрых тысяч ливров ренты, принадлежит ему, и он с нее никому не должен ни одного су. А есть еще три или четыре сотни арпанов земли, разбросанные то здесь, то там, под лесами, прудами и болотами. Знаете ли вы, например, зачем он ездил в Париж?
— Нет; возможно, с моей стороны это и было ошибкой, но я не стал разговаривать с этим молодым человеком. Вы отец, господин Мартино — я прочел ваше имя на дверях гостиницы, — вы отец, и мне больше нечего сказать.
— Этого достаточно, сударь. Правда, я всего лишь отец юноши, а это не совсем то же самое, что быть отцом такой красивой девушки, как ваша дочь… Но о чем же я рассказывал, когда вы меня перебили?
— Вы меня спрашивали, знаю ли я, зачем господин Анри приезжал в Париж.
— Да, именно. Так вот! Он приезжал, чтобы купить Генский лес, площадью в восемьдесят арпанов, расположенный между Малым портом и Ансьенвилем. Господин Мадлен постоянно говорил: "Досадно иметь посреди наших владений — он ведь рассматривает владения господина Анри как свои собственные, — досадно иметь посреди наших владений лес, полный кроликов и косуль, в котором нельзя охотиться". Однажды господин Анри спросил у него: "Вам сильно досаждает то, что вы не можете охотиться в Генском лесу?" — "Меня это просто выводит из себя", — ответил господин Кассий". — "Хорошо, не стоит так волноваться по пустякам, через неделю вы будете там охотиться, крестный", — пообещал ему господин Анри. И он сдержал слово.
— Как?! — воскликнула Камилла. — Господин Мадлен крестный отец господина Анри?
— Да. А что в этом удивительного, моя прекрасная мадемуазель?
— Но ведь он и мой крестный отец. Папа, как же это любопытно.
— Да, это любопытно, в самом деле, очень любопытно… — пробормотал г-н Пелюш. — Так вы говорите, что господин Анри купил Генский лес?
— За тридцать семь тысяч пятьсот франков! Позавчера у господина Омон-Тьевиля была подписана купчая, а вчера были внесены деньги, так что сегодня господин Мадлен подаст вам на ужин кроликов из нового владения господина Анри, а возможно, завтра или послезавтра и кабанов, — ведь в Генском лесу водятся кабаны.
— Черт возьми! — воскликнул г-н Пелюш, распалившись при мысли стать равным Мелеагру. — Я бы дорого дал, чтобы убить кабана.
— Вы никогда не охотились на кабана? — спросил г-н Мартино.
— Никогда, — ответил г-н Пелюш. — Но если они водятся в Генском лесу, я могу позволить себе такую прихоть.
— Знаете ли, — заметил г-н Мартино, — охота на кабана не всегда проходит гладко.
— Почему же?
— Кабан, он сам идет на охотника.
— Тем лучше, — ответил г-н Пелюш, не слишком хорошо поняв значение сказанного ему. — Тем легче его убить, если он идет на охотника сам!
— Ну-ну! — заметил хозяин "Золотого креста". — Похоже, с вами не так-то просто сладить. Впрочем, рядом с господином Мадленом можно ничего не опасаться. Скажите ему, чтобы он поставил вас рядом с собой, и цельтесь кабану в плечо. Не правда ли, кум Баке?
Колбасник сделал знак, подтверждающий, что действительно целиться надо именно так.
— Но, — произнес папаша Мартино, — я все говорю, говорю, а ваш кофе уже давно подали. Гостиница "Золотой крест" дорожит доброй славой своего кофе, поэтому не стоит его пить холодным.
— Вы правы, сударь. Идем, Камилла.
И г-н Пелюш, покровительственно кивнув обоим друзьям, прошел в обеденную залу.
XV
ГЛАВА, В КОТОРОЙ РУЖЬЕ ГОСПОДИНА ПЕЛЮША ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО ДОСТОИНСТВУ
Стол в гостинице "Золотой крест" накрывался с той аккуратностью, которая и составляет деревенский шик: скатерть и салфетки на нем были из тонкого белого полотна; тарелки — из фарфора, а столовое серебро — ложки, вилки, кофейник, молочник — было подлинным: настоящая редкость в ту пору, когда кристофль стал употребляться даже в лучших домах. И наконец, масло было только что сбито, редис сорван с грядки, яйца снесены недавно, хлеб испечен этой ночью, а сливки, своей густотой и желтизной напоминающие масло, сняты сию минуту на ваших глазах с молока, надоенного накануне вечером.
Камилла, ценившая изящество сервировки завтрака гораздо больше, чем подаваемые на него кушанья, одобрительно кивнула папаше Мартино, следовавшему за путешественниками с салфеткой под мышкой и поварским колпаком в руке.
Господин Пелюш и Камилла сели за стол, и г-н Пелюш, изучив поданные кушанья, казалось, остался так же удовлетворен ими, как Камилла — изяществом сервировки.
Но при первых же долетевших до него звуках отодвигаемых стульев персонаж, о котором все забыли за исключением, пожалуй, папаши Мартино, не терявшего из виду зародившуюся у него идею, подобно тому как г-н Пелюш не забывал о своей, подумал, что раз гости садятся за стол, то он имеет право присутствовать во время их трапезы, хотя этот час не был привычным ни для завтрака, ни для обеда.
Поэтому Фигаро вылез из-под кровати и, как ни в чем не бывало, к этому времени уже зализав свою рану, отправился за подстилкой, принес ее, положил между г-ном Пелюшем и Камиллой на почтительном расстоянии от стола и сел, ничего не выпрашивая: столь деликатному поведению способствовал, по-видимому, подготовительный завтрак, который Фигаро позволил себе за счет кума Баке.
Камилла наблюдала за действиями пса с удивлением, а г-н Пелюш — с восхищением.
Фигаро, понимавший, что двое путешественников изучают его внимательнейшим образом, облизнулся и умильно прищурил глаза, однако не позволил себе никаких нескромных просьб.
— Каналья! — пробормотал кум Баке, подойдя к двери. — Черт меня побери, если он не пролезет живым в рай.
Мартино глазами велел колбаснику замолчать.
Тот ответным жестом руки показал, что его куму нечего опасаться.
— Вот, клянусь честью, — сказал г-н Пелюш, окуная в яйцо узкий ломтик хлеба длиною в двадцать пять сантиметров, — вот прекрасно воспитанная собака.
— А как скромно она себя ведет! Посмотрите, отец, — произнесла Камилла, опуская на голову Фигаро свою изящную белую руку.
— Смело могу вам сказать, что по части скромности Фигаро не имеет себе равных.
— О отец! — воскликнула Камилла. — Его зовут Фигаро. Какое красивое имя! Но он вовсе ничего не просит.
— Конечно, он не просит, — пробормотал колбасник. — Он и не утруждает себя просьбами, мерзавец: он берет.
— Кум! — перебил его Мартино.
— Дело в том, — продолжал Баке, желая исправить зло, которое могло причинить его замечание, долетевшее, впрочем, лишь до ушей Мартино, — дело в том, что, как сказал мой кум, по части скромности ему нет равных.
— Как и в охотничьем деле, — добавил хозяин "Золотого креста".
— A-а! Он охотится?! — вскричал г-н Пелюш. — Так ты охотник, дружище?
— На три льё кругом нет ни одной собаки, за исключением Мандрена, собаки господина Мадлена, умеющей выслеживать лучше этого молодца.
— Как! Он умеет выслеживать? — спросил г-н Пелюш.
— Умеет ли он выслеживать?! — подхватил Мартино. — Слышишь, куманек, господин спрашивает, умеет ли Фигаро выслеживать?!
— Как жандарм, — ответил колбасник, восхищенный тем, что может вставить словцо, слышанное однажды им в разговоре и казавшееся ему как нельзя более остроумным.
— И кого же он ловит? — спросил г-н Пелюш, серьезно восприняв шутку кума Баке. — Бродяг, воров?
— Ха-ха! — рассмеялся папаша Мартино. — Нет, должен сказать, что до этого дело не доходит, он выслеживает кроликов.
— Он выслеживает кроликов?
— Как патруль.
— Эти дьявольские создания, я видел их сегодня утром в вересковых зарослях…
— В вересковых зарослях Гондревиля?
— Возможно… Я определил, что это вереск, поскольку он пользуется большим спросом в цветочном деле. Но я не знаю, называются ли эти вересковые заросли Гондревильскими. Так ваша собака, ваш Фигаро — по-моему, вы так ее называли — выслеживает этих животных, которые бегают как тысяча дьяволов?
— Она их выслеживает!
— А куропаток она тоже выслеживает?
— О! Куропатки, — сказал колбасник, — тут она сильна.
— Вот как! Но не такая уж заслуга, как об этом говорят, убивать дичь, когда имеешь собаку, способную ее выследить.
— Да, — заметил Мартино, — это весьма облегчает дело. Говорят, что охотник делает собаку, я же переиначил бы эту пословицу и сказал: собака делает охотника.
— И я думаю, что вы правы, сударь, — подтвердил Пелюш, откидываясь назад. — С собакой, способной так выслеживать дичь, я берусь убить столько же кроликов и куропаток, как мой друг Кассий. Вот только действительно ли Фигаро так смышлен, как вы об этом говорите?
— Хотите посмотреть, как он работает?
— Что?! Посмотреть, как он работает?
— Да, хотите взглянуть на него в деле?
— Если это не займет у нас много времени и если для этого не придется слишком далеко ехать…
— Ах! Боже мой, это дело пяти минут, всего-то и требуется выйти в сад.
— Так идемте, черт возьми! Идемте же! — сказал г-н Пелюш, вставая.
— А ваш кофе, отец? — спросила Камилла.
— Мы выпьем его, когда вернемся. Господин Мартино позаботится о том, чтобы он не остыл.
— Это дело Огюста, я же пойду с вами. Хотите взять ружье Огюста? Оно заряжено.
— О! — вскричал г-н Пелюш. — У меня есть свое собственное, сударь.
И, вытащив ключ из кармана, г-н Пелюш приготовился открыть футляр и извлечь из него свое оружие.
Ружье, привезенное из Парижа, всегда диковина для провинциальных охотников, а поскольку в провинции каждый житель — охотник, то Баке подошел, отойдя от двери, а Огюст приблизился, оставив плиту, чтобы посмотреть, что за шедевр появится из столь изящного ларца.
Никто не остался в стороне, даже Фигаро: догадавшись, о чем идет речь, он поднялся с подстилки, подошел к комоду, на котором лежал футляр, и, встав на задние лапы, передними оперся на поверхность комода.
— Посмотрите-ка на эту хитрую бестию, — сказал Мартино, — он уже угадал, в чем дело. Да, моя собачка, да, мы сейчас покажем охотнику из Парижа, на что мы способны.
— Прошу прощения, — произнес кум Баке, видя, как отдельные части драгоценного оружия, лежащие в футляре, постепенно соединяясь друг с другом, принимают облик ружья, — прошу прощения, ну и роскошь!
— А! Сразу видно хорошее ружье! Чего уж тут говорить, — заметил Огюст.
— А дело обстоит так, — решил перещеголять всех Мартино, — что я никогда не видел ничего подобного. О, никогда, никогда в жизни!
— Хотите посмотреть на него поближе? — сказал владелец ружья, весь раздувшись от гордости и обращаясь к Огюсту.
— Да, это доставит мне удовольствие, признаюсь вам.
— Ну что же, вот оно, я доверяю его вам, молодой человек.
И г-н Пелюш подал ему ружье.
Огюст, прежде чем взять оружие, вытер о фартук руки и сразу же, с видом настоящего знатока, взвел курки, на что никогда не отваживался г-н Пелюш.
— Какое удобное, — заметил он, продолжая вскидывать ружье к плечу. — И целиться хорошо! Тот, кто не посылает из этого ружья в цель три выстрела из четырех, просто мазила: вот мое мнение.
— Извините за нескромный вопрос, — проговорил кум Баке, — сколько стоит подобное ружье?
— Подобное ружье… — отозвался Огюст, так и этак вертя в руках ружье.
— Угадайте! — сказал Пелюш.
— Подобное ружье… — повторил Огюст, — если вы заплатили за него три тысячи, то это совсем недорого.
— Мастер, изготовивший его, утверждает, господин Огюст, что оно обошлось ему почти в четыре тысячи франков.
— О! Это меня не удивляет, — заметил Огюст.
— Все равно, — возразил Баке, — это красиво, это великолепно, но надо иметь шальные деньги, чтобы выложить три с половиной тысячи франков за ружье.
— Сударь, — величественным тоном произнес владелец "Королевы цветов", — когда занимаешь в обществе определенное положение и имеешь вес в промышленности, следует поощрять искусство!
— Черт! Конечно, в этом нет ничего плохого, — заявил Баке, — если только можешь себе такое позволить, но надо еще быть в состоянии сделать это. Я бы и хотел, да не могу.
Господин Пелюш покровительственно улыбнулся колбаснику.
— Идемте! Идемте! — спохватился папаша Мартино. — Вперед! На кролика! — Затем вполголоса он спросил у сына: — Ты уверен, что он все еще там?
— Да, — так же тихо ответил Огюст. — Бастьен видел его сегодня утром на грядке с капустой.
— На кролика! — повторил Баке.
— На кролика! — повторил г-н Пелюш, сердце которого билось, как это бывает во время театрального дебюта. — Ты идешь, Камилла?
— Если вы позволите, отец, — ответила Камилла, — я поднимусь в свою комнату. У меня никогда не хватит духу присутствовать при убийстве этого бедного животного.
— Камилла, — с важностью произнес г-н Пелюш, — подобные чувства недостойны дочери охотника.
И г-н Пелюш, загнав два патрона в ствол ружья, с важным видом возглавил процессию, спустился во двор и, следуя указаниям папаши Мартино, направился в сад.
Камилла же поднялась к себе в комнату, облокотилась на подоконник и, устремив рассеянный взгляд на длинную, обсаженную деревьями аллею, которая вела на дорогу в Вути, принялась размышлять об этой странной игре случая или, скорее, Провидения, давшего г-ну Анри того же крестного отца, что и ей, и совсем тихо прошептала:
— Дорогой, дорогой мой крестный Мадлен!
XVI
ГЛАВА, В КОТОРОЙ ВЛАДЕЛЕЦ ГОСТИНИЦЫ "ЗОЛОТОЙ КРЕСТ" НАХОДИТ ФИГАРО ХОЗЯИНА
Как и сказал папаша Мартино, это было пятиминутное дело, ведь требовалось лишь пройти в сад.
Капустная грядка, на которой должен был находиться убежавший кролик, великолепная прямоугольная грядка, величиной в пол-арпана земли, раскинулась среди треугольных луковых грядок и ромбовидных морковных.
Едва войдя в сад, Фигаро тут же пустился на поиски.
— Ну вы только посмотрите на него, — сказал папаша Мартино, — настоящий челнок ткача, и все под самым дулом ружья, тут уж ничего не скажешь, в двадцати шагах от охотника! Никогда больше! Глядите! Вот он взял след…
— Чей след? — спросил г-н Пелюш.
— Черт возьми! Кролика!
— Кролик! — вскричал г-н Пелюш. — Где кролик?
— Подождите! Подождите! Раз он его выследит, то вам не стоит торопиться.
— Правда, правда, — закивал г-н Пелюш. — Удивительно, какое сильное впечатление это на меня производит.
— Как! Вас так волнует какой-то жалкий домашний кролик? Что же будет, когда вы столкнетесь с косулей или кабаном? Смотрите, смотрите, — продолжал папаша Мартино, — он ведет вас все прямо и прямо. Вот оно, есть.
В самом деле, Фигаро резко остановился, вытянув шею, напружинив хвост, подняв лапу: глаза его блестели.
— Вы видите его, вы его видите? — продолжал папаша Мартино.
— Такое зрелище стоит денег, — заметил кум Баке.
— Но что он там делает? — поинтересовался г-н Пелюш.
— Но вы же отлично видите, клянусь Богом, он сделал стойку.
— Что? На кого же?
— На кролика, черт возьми.
Господин Пелюш смотрел во все глаза.
— Но я не вижу никакого кролика, — признался он.
— Но и он тоже его не видит.
— Как же он может его выследить, если не видит?
— Он его чует.
— Он его чует, — проворчал г-н Пелюш. — Но я его не чую и притом очень хочу его увидеть.
— О! Это очень легко: если мы сделаем пол-оборота и проследим за взглядом собаки, то обнаружим кролика. Впрочем, смотрите, смотрите, Фигаро приближается к нему.
В самом деле, Фигаро почти неуловимым, но полным изящества и гибкости движением чуть ли не скользил на брюхе между капустой.
Внезапно он остановился, медленно выпрямился, поднял лапу и застыл неподвижно.
— Тубо, Фигаро! — закричал хозяин "Золотого креста".
Фигаро слегка помахал хвостом.
— Он его видит, — сказал папаша Мартино.
— И я тоже, я тоже его вижу! — воскликнул Баке.
— И я тоже, — заметил Мартино.
Господин Пелюш широко раскрыл глаза.
— Это удивительно, но я его не вижу, — заявил он.
— Смотрите, вот там, там, — произнес Мартино, показывая на кролика пальцем.
— Вы видите там кролика?
— Да, там, — ответил Баке, — в направлении этого овсюга. Вы знаете, что такое овсюг?
— А! Спрашиваете! Я достаточно повидал его на шляпах.
— Вы видели овсюг на шляпах? — переспросил Баке, ничего не поняв из ответа владельца "Королевы цветов".
— Я вижу кролика! — закричал г-н Пелюш, поднося ружье к плечу.
— Подождите, — произнес Мартино, приподнимая ствол ружья Пелюша, — так вы не сможете до конца оценить Фигаро. Опустите ваше ружье и давайте угостимся понюшкой табака. Тубо, Фигаро! Тубо, моя собачка!
Фигаро оставался совершенно неподвижен, словно обратившись в камень, как собака Кефала.
Господин Пелюш и кум Баке взяли каждый по понюшке из табакерки папаши Мартино, тот последовал их примеру, и все трое принялись смаковать этот порошок, столь дорогой для Сганареля.
— А теперь скажите, — спросил папаша Мартино, — есть ли у вас газета?
— Нет.
— Если бы она у вас была, вы могли бы ее прочесть от начала до конца вместе с романом-продолжением. Если же вам необходимо нанести визит, то идите, а по возвращении вы найдете Фигаро и кролика на том же самом месте.
— Это великолепно, — сказал г-н Пелюш. — Можно мне подойти ближе?
— Настолько, насколько пожелаете. Только ступайте размеренно, иначе я ни за что не отвечаю.
Господин Пелюш шаг за шагом продвигался вперед и остановился на расстоянии трех метров от животного. Фигаро не двигался.
— Ну вот теперь, — произнес Мартино, — дело сделано, не правда ли? Вы довольны?
— Я в восторге! — ответил г-н Пелюш.
— А теперь утрите-ка нос этому разбойнику, и покончим с этим.
— Утереть нос? — переспросил г-н Пелюш. — Кому это?
— Когда мы говорим "утереть нос кролику", это значит выстрелом из ружья отсечь ему кончик носа. Вы ведь понимаете, что если стрелять в него отсюда, целясь в тело, то пуля будет подобна молоту, и от бедного животного останется одно лишь месиво.
— Понимаю, — кивнул г-н Пелюш, — понимаю. Решено, так оно и будет.
— Браво!
— Итак, момент наступил?
— Да.
— Я утру ему нос, — заявил г-н Пелюш, вскидывая ружье на плечо. — Говорю вам, я утру ему нос.
— Утрите ему нос, и никаких вопросов.
— Только в кончик носа, не так ли?
— Только в кончик носа.
— Ну же! — воскликнул колбасник. — Не будем заставлять это бедное животное томиться. Целься, пли!
Господин Пелюш выстрелил, но, вместо того чтобы отсечь кролику кончик коса, он снес ему целиком всю голову.
Поверженный кролик лежал на земле.
Фигаро бросился на него, завладел им, сделал небольшой круг, чтобы показать изящество, с каким он приносит добычу, и, вернувшись, сел у ног г-на Пелюша, держа тушку в пасти.
Господин Пелюш смотрел на него с восхищением.
— Вы видите, — сказал Мартино, — с такой собакой, как эта, надо заботиться только об одном — как заряжать и разряжать свое ружье. Однако вы несколько странно утерли нос этому кролику.
— Да, — заметил Баке, — вот то, что называется утереть нос человеку, снеся ему голову с плеч.
Господин Пелюш взял кролика за задние лапы и рассматривал его так, как начинающий охотник рассматривает свою первую добычу; затем, положив тушку в свою охотничью сумку, он сказал:
— Господин Мартино, запишите кролика на мой счет; я не хочу появиться у моего друга Мадлена с пустыми руками.
И после минутного колебания, не в силах устоять перед неудержимым напором какой-то неумеренной страсти, он добавил, распрямившись и опершись на приклад ружья:
— Господин Мартино, ваша собака продается?
— Даже если бы мой брат просил меня уступить ему Фигаро, то я бы отказал ему, сударь, — ответил Мартино. — Но другу господина Мадлена я ни в чем не могу отказать.
— Как, кум?! — вскричал Баке. — Вы согласитесь расстаться с Фигаро? О! Если бы я знал это, то Фигаро принадлежал бы только мне, и никому больше. Клянусь вам, слово Баке.
— К тому же, — продолжал Мартино, — я испытываю определенную гордость, показывая парижским охотникам, как мы в провинции натаскиваем собак.
— Мне остается лишь, — заметил г-н Пелюш, — узнать у вас цену Фигаро.
— К сожалению, Фигаро принадлежит не совсем мне.
— А кому же?
— Моему племяннику. Поэтому я обязан посоветоваться с ним. Если бы не это, сударь, я был бы весьма счастлив отдать вам Фигаро.
— Кум, ваш племянник свихнулся на охоте, и, на мой взгляд, вы бы оказали ему услугу, если бы без всяких разговоров с ним продали Фигаро.
— Возьмете ли вы в объяснениях с ним всю ответственность на себя, кум? — спросил хозяин "Золотого креста".
— Да, возьму, — решительно ответил Баке.
— Скажете ли ему, что вы подали мне этот совет?
— Конечно.
— Хорошо, сударь, — решил Мартино. — Дайте мне сто франков, и Фигаро ваш.
— Сто франков?! — вскричал г-н Пелюш. — Да что вы говорите! Сто франков за собаку?!
— Мне кажется, — возразил Мартино, — если охотник выкладывает четыре тысячи франков за ружье, он вполне может выложить сто франков за собаку.
— Сударь, — произнес г-н Пелюш, покачав головой, — я видел пуделя, который стоял на посту, курил трубку, прыгал в честь короля Луи Филиппа и вращал вертел, а за него просили всего двадцать франков.
— Вы совершили ошибку, не купив его, сударь. Только за одно вращение вертела я сам заплатил бы вам сорок… Куда вы, кум?
— Не обращайте внимания, — ответил Баке, со всех ног устремившись к двери. — Я иду к себе, но я вернусь.
— Зачем вам понадобилось идти к себе?
— Я хочу принести вам сто франков и веревку, чтобы увести на ней Фигаро.
— Минутку, минутку, господин Баке, — остановил его г-н Пелюш. — Ни я, ни господин Мартино еще не сказали своего последнего слова.
— О! Что касается меня, — заметил Мартино, — то решайте: либо вы берете за эту цену, либо нет.
— Отлично! Я беру, — сказал колбасник.
И он вновь сделал несколько шагов по направлению к двери.
— Подождите, подождите, черт возьми! — воскликнул г-н Пелюш.
— Да, подожди, — сказал папаша Мартино. — Сударь еще не знает всего, на что способен Фигаро. Вы ведь не видели, не правда ли, как я бросал мой платок в капустную грядку?
— Нет, не видел.
— Фигаро тоже.
— Возможно.
— Ну что ж! Зато сейчас вы кое-что увидите.
И, повернувшись к собаке, папаша Мартино с сокрушенным видом произнес:
— Фигаро, мой бедный Фигаро, я потерял…
Фигаро взглянул на хозяина, казалось, понял причину его отчаяния и, уткнув нос в землю, побежал прочь, идя по следу или, точнее, возвращаясь обратно по своим собственным следам.
— Куда он направляется? — спросил г-н Пелюш.
— Он отправился на поиски моего платка.
— И он вам его принесет?
— Еще спрашиваете! Он скорее утонет в пруду, чем вернется ко мне без платка.
— А если он это сделает… — сказал г-н Пелюш.
— Смотрите, смотрите, видите, как он рыщет? Вон он в моркови… теперь среди лука… и вот, наконец, в капусте… Смотрите же, смотрите… он его схватил… Иди сюда, мой Фигаро!.. Иди!..
Фигаро с видом победителя принес платок.
— Очень удобно иметь такую собаку, — заметил Баке. — Вы теряете кошелек, замечаете это лишь час спустя, говорите ей: "Фигаро, я потерял!", и она вам его приносит. Вот почему мне так хочется обладать вашей собакой, и она будет моей, кум, даже если мне придется заплатить за нее больше, чем предложит этот господин…
— Хорошо, господин Мартино, — перебил его г-н Пелюш, чувствуя, что собака ускользает от него. — Предлагаю вам пойти на взаимные уступки: я дам вам ваши сто франков, но вы не потребуете с нас плату ни за завтрак, ни за экипаж, который доставит меня и мою дочь в Вути.
— О! Раз так, сударь, — ответил хозяин "Золотого креста", — я столь счастлив, принимая у себя друга господина Мадлена, что не стану затевать споры с вами из-за этого. Дело улажено, сударь.
— Отлично! — воскликнул Баке. — Вы можете гордиться, что у вас такая редкостная собака. Она вас удивила, не так ли?
— Признаюсь, да, — согласился г-н Пелюш.
— Что же, это еще не конец.
— Конец чему, сударь?
— Конец вашему удивлению. Я вам только и твержу об этом.
— Но… — проговорил г-н Пелюш, — пожелает ли ваша собака следовать за мной?
— За таким охотником, как вы!? — воскликнул папаша Мартино. — Еще бы! Впрочем, ведь это Бастьен отвезет вас в Вути, а он знает Бастьена… Не правда ли, Фигаро, ты знаешь Бастьена?
Фигаро в ответ радостно подпрыгнул и залаял.
— Ах, сударь, — вздохнув, обратился колбасник к хозяину "Королевы цветов", — вы можете гордиться такой собакой, которая разве что не говорит.
— Да, — ответил г-н Пелюш, непринужденно закидывая ружье на плечо и вновь становясь во главе процессии. — Мне кажется, что теперь я стал настоящим охотником.
Оба кума держались позади.
— Ну-ну! — заметил кум Баке куму Мартино, подмигивая и подталкивая его локтем. — Клянусь честью, парижан, оказывается, все еще не так трудно одурачить, как я полагал!
XVII
ГЛАВА, В КОТОРОЙ ЧИТАТЕЛЬ,УЖЕ ЗНАКОМЫЙ С МАДЛЕНОМ, ЗНАКОМИТСЯ С ДОМОМ, ГДЕ ОН ЖИВЕТ
Господин Пелюш был вынужден дважды окликнуть Камиллу, так она была погружена в созерцание совершенно безлюдной дороги, на которой поэтому он напрасно искал хоть какой-нибудь предмет, способный привлечь ее внимание.
После того как зов прозвучал во второй раз, Камилла вздрогнула и поспешно прибежала к отцу, покрасневшая и смущенная, словно ее застали врасплох и уличили в каком-то недозволенном поступке.
Читатель помнит, что кофе оставался нетронутым, а поскольку его стоимость была включена в сделку, то это тем более укрепляло решимость г-на Пелюша выпить его весь до последней капли.
В это время Бастьен готовил шарабан.
Господин Пелюш торжествующим тоном известил Камиллу о своем только что сделанном приобретении, которое та одобрила от всего сердца. Оставался, правда, вопрос, как представить Фигаро г-же Пелюш и выкроить для него хоть какое-нибудь жизненное пространство в этих магазинчиках, задних комнатах лавочек и антресольных помещениях Парижа, где едва хватало места для людей. Но Камилла нашла выход: она заметила отцу, что, по всей видимости, ему придется охотиться лишь в гостях у Мадлена, и, оставив Фигаро на его попечении, он сможет пользоваться собакой всякий раз, когда возникнет такая потребность, и это избавит его от необходимости заботиться о ней в перерывах между охотами, которые он сочтет уместным делать.
Господин Пелюш принял эти рассуждения с восторгом, который усиливался при мысли, что благодаря этой сделке его расходы на Фигаро ограничатся лишь ценой покупки, ведь такой мот и расточитель, как Мадлен, не опустится до того, чтобы заставить друга оплатить кормежку его собаки.
И г-н Пелюш, не объясняя Камилле всех этих соображений, поцеловал ее за прекрасную мысль, которая у нее появилась.
После этого он отсчитал папаше Мартино сто франков, затем, отдав должное замечанию Огюста о том, что, пересекая лес Виллер-Котре, вполне можно встретить какую-нибудь дичь, он зарядил ружье и устроился вместе с Камиллой на сиденье, в то время как Бастьен скромно уселся на облучке, а кум Баке и кум Мартино подняли Фигаро и поместили его в пустое пространство позади сиденья.
Бастьен щелкнул хлыстом, и лошади тронулись мелкой рысью.
Через пятьдесят шагов Фигаро, вероятно посчитавший тряску слишком сильной, спрыгнул с шарабана и, видимо удерживаемый присутствием своего друга Бастьена, вместо того чтобы вернуться в Виллер-Котре, чего несколько мгновений опасался г-н Пелюш, побежал перед повозкой, рассекая воздух хвостом, которому, несмотря на предрассудки некоторых косных охотников, позволили принять ту великолепную форму, какой наградила его природа.
Так они достигли холма Данплё, холма с довольно крутыми склонами, именно в отношении своей отлогости не соответствовавшего требованиям ведомства мостов и дорог. В то время как г-н Пелюш рассказывал Камилле, делавшей вид, что слушает его, о поведении и приемах Фигаро и о беспримерной ловкости, с какой он сам "утер нос" кролику, Бастьен, пустив лошадей шагом, принялся насвистывать один из тех бесконечных мотивов, какие насвистывают возницы повозок, привыкшие делать длинные перегоны. И в эту минуту Фигаро, по виду которого нельзя было заподозрить, что он думает о чем-то плохом, скрылся в подлеске, необычайно густом в этом месте.
Бастьен прекратил насвистывать.
— Вам следует быть начеку, — сказал он г-ну Пелюшу.
— Почему? — спросил тот.
— Из-за Фигаро!
— Из-за Фигаро?
— Да, он вошел в лес, как будто что-то учуял там. И смотрите!
В тот же миг раздался торопливый лай, громкий шелест листвы и великолепная косуля взметнулась над канавой и в три прыжка пересекла дорогу, преследуемая по пятам Фигаро.
— Стреляйте, ну стреляйте же! — закричал Бастьен, браконьер от рождения, как все жители деревень, граничащих с лесом.
— Что? Стрелять?! — спросил г-н Пелюш, даже и не подумавший прицелиться. — Но в кого?
— В кого?! Вы спрашиваете — в кого? Тоже охотник! А косуля? Тысяча чертей! А! Отличный годовалый самец; черт возьми, если бы у меня было ваше ружье!
— Как?! — воскликнул г-н Пелюш. — Это проскочила косуля?
— А то как же! И к тому же Фигаро отлично ее гонит, он не отстает от нее ни на шаг. О, вы можете гордиться, что приобрели такую отличную собаку.
Вдруг раздался выстрел, за ним послышалось жалобное тявканье.
— Черт возьми! — сказал Бастьен. — Все-таки нам повезло, что вы не выстрелили.
— Как? — спросил г-н Пелюш, переставший что-либо понимать. — Почему это вдруг стало везением, если только что было несчастьем?
— Так, значит, вы не понимаете — спросил Бастьен, — что здесь был папаша Лажёнес?
— Кто такой этот папаша Лажёнес?
— Смотритель охотничьих угодий.
— A-а! И он нам что-нибудь сказал бы по этому поводу?
— Полагаю, непременно сказал бы. Он составил бы акт, и вы бы заплатили по меньшей мере сто экю.
— Черт! Сто экю. Ты слышишь, Камилла?
— Да, отец, — ответила Камилла, не услышавшая ни слова.
— И, — продолжал г-н Пелюш, — это он выстрелил в косулю?
— Не в косулю, а в вашу собаку.
— Как в мою собаку?! В Фигаро?!
— И смотрите-ка, смотрите, видите, как пес бежит обратно, поджав хвост. Отличная работа, мой мальчик, отличная работа! Тебя ведь предупреждали, и ты получил лишь то, что заслужил.
И в самом деле, Фигаро возвращался, летя со всех ног, хотя задняя часть его туловища была испещрена дробью, рассчитанной на кроликов. Пес одним прыжком вскочил с дороги в ту часть шарабана, в которой до этого он не пожелал остаться, и в буквальном смысле распластался там.
— Но, если я не ошибаюсь, моя собака вся в крови, — сказал г-н Пелюш. — Посмотри-ка, Камилла.
— О! Несчастное животное! — воскликнула девушка.
Вслед за Фигаро на опушке леса показался смотритель охотничьих угодий.
Господин Пелюш, будучи капитаном национальной гвардии Парижа, полагал себя выше всяких законов, к тому же ему казалось — где-то он это вычитал, не знаю где, — будто ленточка ордена Почетного легиона дает право охотиться в любом месте, поэтому он уже собирался потребовать от смотрителя объяснений по поводу повреждений, какие тот нанес Фигаро, но тут Бастьен, носом чуявший грозивший им акт, дернул г-на Пелюша за рукав со словами:
— Ничего не говорите, и предоставьте все мне. Только спрячьте ваше ружье… Что, папаша Лажёнес, этот бродяга Фигаро не меняет своих привычек? — обратился он уже к смотрителю.
— Где он? Где он? — вскричал разъяренный старик. — Я прикончу этого казака, где он?
— Вот как? Ну, он теперь далеко, папаша Лажёнес, если продолжает все так же удирать. Смотрите-ка, смотрите, видите его вон там? Ах! Как он мчится в свою конуру!
— К несчастью, — произнес Лажёнес, в прошлом, возможно, и заслуживший это прозвище, но вот уже более тридцати лет, безусловно, не имевший права его носить, — к несчастью, мое ружье было заряжено тройкой. Но для этого казака Фигаро у меня в будущем всегда будет при себе крупная картечь.
Папаша Лажёнес видел казаков в молодости, и молва даже утверждала, что он довольно ожесточенно пресекал их попытки мародерствовать в деревнях, прилегающих к лесу. Эти слухи основывались на том, что после возвращения императора, в 1815 году, он продал дюжину часов г-ну Дюге, продавцу-ювелиру, хотя никто никогда не слышал, чтобы Лажёнес получил наследство от родственника-часовщика.
Из этого следует, что эпитет "казак" служил для патриота Лажёнеса самым тяжким оскорблением, которое он мог бросить не только в лицо человеку, но и послать в адрес собаки…
— О! — вскричал Бастьен в ответ на эту ужасную угрозу. — Вы правильно сделаете, папаша Лажёнес, но будьте спокойны, вы задали псу перца, и он больше не вернется. Не хотите ли что-нибудь сообщить господину Мадлену? Мы едем к нему, и вот этот господин, его лучший друг, возьмет на себя труд засвидетельствовать ему ваше почтение.
— Мое полное и искреннее почтение, Бастьен, полное почтение. Нет, мне нечего ему сообщить, кроме того, что господин Савуа, старший инспектор, в минувшее воскресенье на построении сказал мне: "Боше (такова была настоящая фамилия смотрителя, тогда как Лажёнес было его насмешливое прозвище), имейте в виду, что, если господину Мадлену придет желание поохотиться в ваших угодьях на кролика или даже на зайца, вы должны сделать все, чтобы доставить ему это удовольствие. Я беру это на себя". О! Господин Кассий — человек, достойный уважения, а его собаки, хотя их и зовут Картуш и Мандрен, никогда не сделали бы того, слышите, никогда в жизни, что сейчас сделал этот казак Фигаро!
И, погрозив кулаком в направлении Виллер-Котре, куда, как он полагал, скрылся беглец, старый смотритель послал в адрес Фигаро самое страшное проклятие и последнюю угрозу.
Затем старик исчез в лесу, на опушке которого он все это время стоял.
— А теперь, — произнес Бастьен, обращаясь к г-ну Пелюшу, — послушайте меня, хозяин. Вот вам конец веревки; если вы мне доверяете, то быстренько привяжите Фигаро к чему-нибудь надежному, иначе у вас могут быть неприятности, прежде чем вы прибудете в Вути.
— Благодарю, господин Бастьен, — ответил г-н Пелюш. — Я привяжу его к своей ноге так, что буду чувствовать малейшее его движение.
— Что же, а ведь это отличная мысль, мысль, достойная охотника. За дело, хозяин, за дело.
Пока г-н Пелюш привязывал Фигаро к ноге, Камилла платком промокала кровь, сочившуюся из раны пса.
— Ах, отец, только посмотрите, в каком состоянии по вине этого злого человека находится бедный Фигаро!
— Это что! — сказал Бастьен, погоняя лошадь. — Этот разбойник попадал и не в такие переплеты. Едва выглянет солнце, рана быстро подсохнет.
Поскольку они уже достигли вершины горы Данплё, лошадь перешла на рысь, увлекая за собой шарабан с пассажирами.
— Ну вот, — сказал г-н Пелюш, закончив завязывать под коленкой морской узел. — Если господин Фигаро сумеет развязать это, то он редкостный ловкач.
Так как приблизительно через сорок минут путешественники достигнут конца своего пути, посмотрим, что происходит в доме г-на Мадлена, где их совершенно не ждут.
Когда встал вопрос о выборе тихого места, где Мадлен намеревался провести остаток своих дней, он, следуя одновременно загадочной, таинственной нежности, которую он всегда неизменно питал по отношению к Анри де Норуа, чьим крестным отцом, как мы уже говорили, он был, и своему увлечению охотой и рыбной ловлей, оставил в стороне вопросы живописности и остановился на Суасонё.
Итак, он решил обосноваться в деревушке Вути, входящей в коммуну Норуа.
Ему посчастливилось купить здесь нечто вроде небольшой фермы с огородом и тридцатью арпанами пахотных земель за сорок тысяч франков.
Немаловажным обстоятельством, повлиявшим на его выбор, было то, что эта ферма находилась в пяти минутах ходьбы от замка.
Именно так называли небольшую прелестную с остроконечной шиферной крышей каменную постройку времен Людовика XIII, оконные проемы и углы которой были выложены кирпичом.
Эти маленькие трехцветные замки, все еще часто встречающиеся в Нормандии, Пикардии и в той части Иль-де-Франса, куда мы ведем наших читателей, — эти маленькие замки, повторяем, затерянные в гуще деревьев разнообразных оттенков зелени, представляют собой очаровательную картину.
Но Мадлен, покупая маленькую ферму в Вути, откуда открывался вид на этот замок, исходил вовсе не из чувства прекрасного. Дело в том, что этот замок носил имя Норуа и служил жилищем Анри.
Замок, а следовательно, и маленькая ферма, которая когда-то была в его подчинении, находились на южной окраине леса Виллер-Котре, правда в наименее холмистой его части, но в то же время наиболее богатой дичью и рыбой.
Замок Норуа, располагавшийся в километре от деревни, был вершиной треугольника, в то время как две деревни — Фавроль и Ансьенвиль — служили двумя углами его основания. Сам же треугольник включал в себя равнину в сотню арпанов, с одной стороны прилегавшую к лесу Виллер-Котре, а с другой — к тому, что в Суасонё называют "ларри", то есть к крутым склонам, спускающимся к дну долины. У подножия этих склонов бежала маленькая речка Урк, которая, немного дальше превращенная в судоходную, служила для сообщения между Суасонё и Парижем.
Эта равнина или, скорее, эти ланды, господствующие над долиной, представляли собой большую пустошь, заросшую толстым ковром вереска, который, как и разбросанные по нему восемь или десять островков деревьев или, скорее, кустарника, свидетельствовал о том, что слой плодородной земли здесь очень тонок; четыре или пять тысяч арпанов возделываемой земли, составлявших остальную часть имения, находились с противоположной стороны, то есть со стороны Шуи и Ансьенвиля.
Но именно сама бесплодность этой невозделанной земли, непроходимость ее колючих зарослей и кустарника составляли в глазах Мадлена ее главное достоинство, ведь этот высокий вереск и густой кустарник были прекрасным убежищем для лесной дичи, под их прикрытием подбиравшейся к посевам, которые служили ей местом откорма.
Действительно, здесь Иоанн Безземельный нашего времени, охотник, не имеющий своего удела, европейский могиканин наконец, может — если великий святой Губерт того пожелает — время от времени тешить себя иллюзией, что он резвится на какой-нибудь княжеской ружейной охоте: то фазан в пурпурно-золотом оперении с шумом вылетит из кустов можжевельника, в котором разыскивали всего лишь невзрачного кролика; то косуля стрелой промчится среди розовых верхушек вересковых зарослей, в которых изумленный охотник рассчитывал поднять лишь выводок куропаток; а порой даже король леса — огромный олень, увенчанный ветвистыми рогами, появившись из кустарника, при лае таксы убегает, как самый ничтожный представитель иерархии зверей, и попадает под выстрел какого-нибудь бродяги: волнующий пример бренности почестей, но совершенно бесполезный для звериного рода, как и прозопопеи Боссюэ для коронованных особ.
Как бы там ни было, оставив в стороне философию, эти приятные неожиданности имели в глазах охотника едва ли не самую большую притягательность, и Мадлен, в ком за двадцать лет торговли игрушками не стерлись еще воспоминания детства, вполне здраво определил место своих будущих развлечений, последовав за чувствами, пробужденными в нем этими воспоминаниями.
И как мы сказали, он купил то, что в округе называли маленькой фермой Вути.
Это было одно из тех наполовину городских, наполовину сельских хозяйств, которые наследуют от фермы массивную постройку в один-два этажа, с маленькими квадратиками окон; грубо вымощенный двор, густо покрытый куриным пометом; лужу, владение гусей и уток; хлев, откуда идет благотворный запах хорошей молочной коровы; стены, увешанные земледельческими орудиями, а от городского и чуть ли не феодального жилья — благородные линии щипца крыши, остатки старинного флюгера и обломки герба, по которому прошелся молот 93-го года.
Эти дома похожи друг на друга в любой местности, где были небольшие землевладения и где тот же самый 93-й, неся с собой раздел имений, передал в руки крестьян эти постройки, столь хорошо известные под характерным названием "дворянская усадьба".
В те времена, когда во Франции была знать, она, как и сама нация, имела своих обездоленных; ими были как раз те, кто посвящал свою жизнь защите родины и, исполняя свой воинский долг, платил тот единственный налог, который дворянин соглашался платить, — налог кровью.
Когда младший сын дворянской семьи, тот, кого с самого начала называли "шевалье", хотя чаще всего он вовсе и не принадлежал к Мальтийскому ордену, достигал шестнадцатилетнего возраста, отец вручал ему шпагу и давал небольшое напутствие, заканчивающееся благословением.
Мать в свою очередь опускала в карман своего бедного сына — часто самого любимого — тощий кошелек с луидорами, и с этой единственной долей наследства он отправлялся в какой-нибудь гарнизонный город, где его ждало место корнета или знамёнщика. С этого времени, какими бы ни были его заслуги и его храбрость, судьба его была бесповоротно предопределена: его бедность и острая нужда в жалованье, делавшая из него наемника, обрекали его на низшие чины. И если старший в роду не приходил ему на помощь своей щедростью, то младший продвигался по службе медленно и с большим трудом; но в любом случае командование ротой и крест Святого Людовика, совершенно забытый в наши дни, служили верхом его притязаний. И когда он получал и то и другое, пролив свою кровь на всех полях сражений, которыми в любую эпоху изобиловала история Франции, тогда, если для него уже пробил час отставки, он возвращался в родные края таким же обездоленным, таким же безвестным, каким и покидал их, однако гордый тем, что ему довелось послужить королю; если ему удалось что-то отложить, если дядя оставлял ему в наследство несколько тысяч экю, то он покупал двадцать пять или тридцать арпанов земли и строил небольшой дом, похожий на тот, который только что был описан нами; крайне редко бывало, что он женился, и оканчивал он свои дни, живя на скудную пенсию и деля свой досуг между сельским хозяйством, охотой и визитами к окрестным дворянам.
Мы не знаем в подробностях историю того дома, в котором жил Мадлен, но полагаем себя вправе утверждать, что она мало чем отличалась от только что рассказанной нами.
Внутреннее убранство дома Мадлена ничем не противоречило его внешней суровой простоте.
Его нижний этаж состоял из двух смежных комнат, просторных и с высокими потолками; дверь одной выходила во двор, другая вела в сад.
Старый дворянин, который после двадцати пяти, а быть может, и тридцати лет службы построил этот дом, очевидно и не подозревал ни о каких тонкостях современной архитектуры.
Кухня, которая имела выход во двор и в которую и куры, и гуси, и утки, и собаки, и голуби имели такое же право заходить, как обитатели и друзья дома, выглядела весьма величественно, хотя ее стены и балки были черны от копоти: добрую половину стены, которая находилась справа от входа и составляла южную сторону кухни, занимал широкий камин. Этот камин, возвышавшийся на двадцать пять — тридцать сантиметров над паркетом, был украшен двумя стойками из тесаного камня с сохранившейся еще кое-где резьбой, которые поддерживали узкий наличник, расположенный на высоте по крайней мере пяти футов от пола. Огромная охапка хвороста свободно могла пылать в камине, целый баран мог жариться на его вертеле, а внутри камина и перед этим вертелом могла разместиться дюжина охотников и столько же собак.
Над каминной полкой висели два ружья Мадлена — дробовик для охоты на уток и двустволка, — тщательно упакованные в кожаные футляры.
Напротив двери, выходившей во двор, высилась плита не менее гигантских размеров, чем камин; по обе стороны от нее были пробиты две двери: одна вела в молочную, другая — в пекарню.
Дверь в стене напротив камина открывалась в соседнюю комнату, служившую гостиной и обеденной залой в торжественных случаях. В обычные дни Мадлен ел за столом на кухне, иногда, а то и чаше всего, признаемся в этом, бок о бок со слугами и даже не во главе стола, как это делали прежние феодальные сеньоры.
В убранстве упомянутой нами комнаты, служившей для приема гостей, не было ничего необычного, кроме висевшего над камином портрета, рама которого была выкрашена в белый цвет, как и все стены комнаты, полностью покрытые гипсовой штукатуркой. На картине был изображен адмирал в нарядном одеянии; предание не сохранило его имени, вероятно это был дедушка или двоюродный дед дворянина, построившего этот дом, а в девяностом году отправившегося в эмиграцию и, по всей видимости, умершего там, поскольку он так никогда ничего и не потребовал ни из своей распроданной нацией собственности, ни из миллиарда, который был выделен Палатами Реставрации на возмещение ущерба, причиненного эмигрантам.
Мадлен не тронул изображение этого неведомого Жана Барта, служившее, впрочем, единственным украшением гостиной.
Надо было покинуть эту комнату, как мы сказали, выходившую в сад, чтобы попасть на внешнюю лестницу, ведущую на второй этаж.
Этот второй этаж был занят тремя спальнями и большим рабочим кабинетом, который служил одновременно спальней метру Жаку женского пола, исполнявшему в доме бывшего торговца игрушками тройные обязанности — повара, лакея и псаря.
Из трех спален одна была комнатой Мадлена, и в ней сохранились обычная старомодная кровать, обитая зеленой саржей, и не менее старомодные кресла, обитые желтым утрехтским бархатом. Целый трофей из мешков с дробью, пороховниц, охотничьих фляг всех видов и всех размеров, над которыми скрещивались две рапиры и две сабли, которые увенчивались двумя фехтовальными масками, составлял вместе с набором более или менее обкуренных трубок ее главное украшение.
Две другие спальни всегда со дня покупки дома предназначались для г-на Пелюша и Камиллы.
Время описать эти комнаты придет, когда мы введем в них столь желанных для Мадлена гостей, которые уже готовы исполнить его самое заветное желание и которых он, однако, вовсе не ждет!
XVIII
ГОСТИ МАДЛЕНА
Пятого сентября, то есть на следующий день после того, как г-н Пелюш, нарушив все традиции супружеского повиновения, занимался странными покупками, о которых мы уже рассказали, в веселом доме, только что описанном нами, царило шумное оживление.
Окна кухни пылали, словно в них отражалось адское пламя, и сквозь их огненные блики было видно, как сновали взад и вперед силуэты Мадлена, его служанки Маргариты и толстухи Луизон — девушки, которую в особых случаях Мадлен приглашал в помощь Маргарите.
Большой стол, за которым Мадлен и те, кого, в согласии с римским правом, в провинции все еще называют фамилией, обычно ели, был перенесен из кухни в гостиную, превращенную в обеденную залу, и на нем на подобающем расстоянии друг от друга стояли восемь приборов; на другом столе, поменьше, превращенном в буфет и придвинутом вплотную к стене, в три ряда выстроились бутылки, свидетельствовавшие о том, что радушный хозяин вовсе не был намерен подвергать своих гостей ужасным мукам жажды.
Мадлен с озабоченным, но радостным видом переходил из кухни, где отдавал распоряжения насчет готовящегося обеда, в обеденную залу, где водворял на нужное место солонку или заставлял вернуться в строй непокорную бутылку, имевшую дерзость покинуть его.
Но время от времени тревога, казалось, брала в нем верх над всеми остальными мыслями и заглушала любое другое чувство; тогда он спускался по трем ступенькам крыльца, пересекал двор, выходил из ворот, поднимался на холм, возвышавшийся над дорогой, козырьком приставлял ладонь ко лбу и вглядывался в длинную сероватую линию, которая, окруженная с обеих сторон деревьями, вначале терялась в одиноко стоящей роще, затем пересекала деревню и равнину Данплё и вновь скрывалась в темном лесном массиве.
И всякий раз он шептал:
— Какой же я дурак, еще слишком рано; он может здесь появиться не раньше половины десятого.
Нечего и говорить, что только тот, кто разделял с Камиллой привязанность и любовь Мадлена, то есть г-н Анри де Норуа, мог вызвать столь горячее нетерпение и внушить Мадлену вполне разумную мысль, что глупо с его стороны ждать людей за час до того, как они должны приехать.
Но вместо Анри де Норуа прибывали другие приглашенные на это торжество по случаю его возвращения, за которым должно было последовать открытие охоты в достославном Генском лесу, доставлявшем Мадлену столько бессонницы по ночам и столько беспокойства днем.
Первый прибывший гость, который, несмотря на то что день обещал быть жарким, грелся на кухне у огня (ожидавшего лишь появления г-на Анри, чтобы быть пущенным в ход для поджаривания четверти ягненка, кролика и шести куропаток, что так и просились на вертел, а тем временем с чисто провинциальной расточительностью пожиравшего одну за другой охапки хвороста), был пожилой человек шестидесяти пяти — шестидесяти восьми лет, которого все называли "папаша Мьет" — губы крестьянина с трудом выговаривают слово "господин", когда речь идет о таком же крестьянине, как он сам.
И в самом деле, папаша Мьет представлял собой самый совершенный тип крестьянина, который мы когда-либо встречали; ведь, думаю, мы не удивим наших читателей, а особенно наших земляков из Виллер-Котре, если скажем им, что лично знали кое-кого из главных героев, которые действуют в этой истории и которых они несомненно сами смогут узнать по нашему описанию; мы даем его для того, чтобы читатель, которому предстоит провести в их обществе несколько часов, не оказался рядом с совершенно незнакомыми ему персонажами.
Для начала скажем несколько слов о папаше Мьете, поскольку он прибыл первым.
Мы уже упоминали о его возрасте, постараемся теперь правдиво обрисовать физические и моральные качества этой персоны.
На голове у папаши Мьета был остроконечный колпак, казавшийся слишком узким и слишком коротким для него, так что кисточка, вместо того чтобы кокетливо спадать на ухо, как это обычно бывает с такими головными уборами, торчала вертикально. Этот колпак венчал голову, которая от старости и от морщин, казалось, съежилась на треть. На его лице, под низким лбом и кустистыми бровями, поблескивали маленькие серые глазки, глубоко запавшие внутрь; в них светились юношеская живость и глубокий ум, но лишь тогда, когда папаша Мьет не считал нужным скрывать этот ум и приглушать эту живость, моргая, словно сова при свете дня. Отличительной чертой его лица был нос с узкими ноздрями, похожий на клюв хищной птицы. Под этим носом едва заметная ухмылка обозначала рот с тонкими и постоянно сжатыми губами, который никогда не открывался для того, чтобы сказать "да" или "нет", а только "посмотрим", "надо подумать", "возможно, это будет неплохо" и тому подобные уклончивые слова и выражения, обыкновенно употребляемые хитрым крестьянином и не дающие прямого ответа. Из-под этого умеющего молчать и почти безгубого рта далеко вперед выдавался подбородок, что является неоспоримым признаком воли, доходящей до упрямства. Виски его украшали несколько прядей седых волос: подчиняясь жесткости прически, они плотно прилегали к щекам; на затылке у него в виде некоего отростка торчал хвостик, которому черный бант придавал вид длинного и тонкого корня козлобородника.
Шея папаши Мьета исчезала в воротнике рубашки из грубого полотна, менявшейся лишь в дни бритья; этот воротник, обыкновенно совершенно свободный, по таким дням был стянут галстуком из цветного полотна и поднят вверх до самых ушей; по этим же дням на смену блузе из голубого полотна, панталонам из той же материи и того же цвета, сабо с подложенной в них соломой, чтобы защитить голые ноги, приходили голубая куртка без ворота, жилет из ситца в цветочек, выкроенный из какого-то казакина покойной г-жи Мьет, короткие штаны из зеленоватого бархата, ставшие белесыми в тех местах, где у обезьян кожа меняет цвет, и плотно обхватывающие в том месте, где должна быть подвязка, грубые чулки из серой шерсти в резинку, которые защищали почти лишенные плоти ноги с длинными ступнями, терявшимися в огромных башмаках из телячьей кожи, с украшением в виде широкой оловянной пряжки.
Этот человек, которого никто никогда не видел вытаскивающим хотя бы одно су из кармана, даже для того чтобы оплатить стул в церкви, где он регулярно каждое воскресенье слушал мессу, стоя при этом на ногах, был после г-на Анри де Норуа самым богатым владельцем округи.
Каким чудом скупости и ростовщичества сумел он клочок за клочком, перш за першем, арпан за арпаном собрать в своей иссохшей руке, напоминавшей руку самого Времени, сто пятьдесят или двести гектаров земли, составляющих его владения и разбросанных по территориям Ансьенвиля, Фавроля и Норуа, в долине, на равнине, на холмах — повсюду? Этого не мог сказать никто, и только один г-н Дерикур, нотариус в Ла-Ферте-Милоне, хранивший у себя около тысячи или тысячи двухсот актов, с помощью которых папаша Мьет стал хозяином земель, мог засвидетельствовать это.
Ради кого скупой крестьянин занимался этим собирательством, перед которым при равных условиях отступили бы самая трудолюбивая пчела или самый упорный муравей? Можно было подумать, что он делает это ради своей дочери Анжелики, если бы бедное создание не пользовалось этим состоянием, собранным столь тяжким трудом, еще меньше, чем ее отец; но нет, Мьет любил землю ради самой земли, как скупцы другого рода любят золото ради золота. И Анжелика Мьет, которая должна была унаследовать более полумиллиона, настоящая Золушка, но без ласковой феи-крестной, никогда не имела в своем распоряжении даже сантима. Всю неделю она ходила в головной косынке и лишь в воскресенье меняла ее на чепчик за пятнадцать су. Одетая зимой в юбку из мольтона, а летом — в платье из руанского ситца, она была одновременно поставщицей дров, служанкой и кухаркой. Но, правда, эта последняя обязанность доставляла ей мало хлопот, так как рацион папаши Мьета, а следовательно, и его дочери Анжелики в будние дни состоял из картофеля, выращенного им самим, и каштанов, собранных Анжеликой; лишь по воскресеньям на столе появлялись суп с капустой, кусок сала и несколько яиц, снесенных курицами, которые находили себе пропитание у соседей, а также салат, заправленный маслом из буковых орешков, которые были собраны той же самой Анжеликой в сентябре и октябре в лесу Виллер-Котре.
Несмотря на большое состояние отца, о котором бедная девушка даже не имела точного представления, она, бесспорно, была самым несчастным человеком в деревне. Служанки, простые жницы и работницы на фермах могли, по крайней мере, отдохнуть и развлечься по воскресеньям или в дни больших праздников; они танцевали под липами, где деревенский скрипач брал за свою игру по одному су за кадриль; они могли иметь жениха или, по крайней мере, любовника, с кем с наступлением вечера, окончив работу, углублялись по тропинке в лес, слушая слова любви; если же у них не было ни жениха, ни любовника, то была какая-нибудь кошка, собака или птичка, любившая их и любимая ими. У Анжелики не было ничего подобного — она не любила никого, и никто не любил ее. Ее отец был тираном, а она была жертвой, и семейные узы, столь дорогие нашему несчастному человечеству, единственное счастье которого они порой составляют, были для Анжелики каторжными оковами.
Мадлен, ради возможности охотиться на трех или четырех сотнях арпанов земли папаши Мьета делавший вид, что он благосклонно относится к старому Гарпагону, испытывал жалость к его дочери и, видя Анжелику грустной и страдающей, пригласил ее на торжество вместе с отцом; однако папаша Мьет, опасаясь, что, приняв приглашение, он допустит дополнительные траты, которые не смогут покрыть стоимость той еды, какую Анжелика, поев у Мадлена, не съест у себя дома, отказался взять девушку с собой.
Но доброе сердце Мадлена сжималось при мысли, что в то время как папаша Мьет будет сытно есть за праздничным столом, попивая славное вино, его дочь, оставшись одна дома, будет пить воду, есть картофель, испеченный в золе, и вареные каштаны, поэтому, едва увидев папашу Мьета, желавшего ничего не потерять даже из запахов и паров тех кушаний, которые он пришел отведать и добрая часть которых ему бы досталась, сидящим у огня на кухне, Мадлен тут же поручил толстушке Луизон тайно отнести Анжелике бутылку вина, кусок говядины и четверть сыра мароль (его голодная наследница тщательно спрятала, рассчитывая растянуть неожиданное лакомство на долгое время).
Со своей стороны, папаша Мьет любил и глубоко уважал Мадлена, ведь тот не безвозмездно охотился на его землях, а в знак признательности за право охоты присылал ему то зайца, то пару куропаток, то, наконец, лопатку косули, но папаша Мьет всегда воздерживался от того, чтобы самому есть эти дары, и посылал Анжелику продавать их содержателю гостиницы "Золотой крест". Когда эта нежданная удача сваливалась на старого толстосума, его дочь должна была пешком отправляться из дома в три часа утра и возвращаться в семь, чтобы домашний распорядок оставался незыблемым. Если же Мадлен при случае интересовался у своего соседа Мьета: "Ну как, сосед, хорош ли был заяц, вкусны ли были куропатки, нежно ли было мясо косули?", Мьет, моргая, прикрывал веками свои маленькие серые глазки, проводил кончиком языка по своему безгубому рту и, растянув его в подобие улыбки, отвечал: "Не говорите мне о них, господин Мадлен, у Анжелики едва не было расстройства от переедания, а я до сих пор облизываю пальчики".
Итак, как мы уже говорили, папаша Мьет, питая большое уважение к Мадлену, был убежден, что хорошо воспитанный человек не должен заставлять себя ждать, поэтому он прибыл в восемь часов утра, хотя завтрак должен был начаться где-то в половине одиннадцатого, а может, даже в одиннадцать, и уселся на табурете около очага. И всякий раз, когда Мадлен, от волнения беспрестанно сновавший по комнатам, проходил мимо него, папаша Мьет приподнимал свой колпак и привставал с табурета.
Первая карета, которую Мадлен заметил еще как неразличимую точку на дороге, быстро распознав, что это не экипаж его крестника, была небольшая двухместная коляска, влекомая крепкой и сильной лошадью. В ней сидели два человека, составлявшие прямую противоположность друг другу как по внешнему виду, так и по характеру.
Тот, кто держал поводья и время от времени награждал лошадь отеческим ударом хлыста, похоже, не слишком радовавшим животное, был веселый мужчина тридцати восьми-сорока лет, со светлыми волосами, начинавшими уже седеть; с усами, такими же светлыми и так же седеющими, как и волосы; с умным, живым, насмешливым и полным лицом, более широким внизу, чем вверху за счет непомерно раздувшихся щек; со ртом чревоугодника, с великолепными зубами, видневшимися, когда на его губах играла открытая, искренняя улыбка; с тройным подбородком: первый, служивший основанием двум другим, скрывался под расстегнутым воротником рубашки и под свободно болтающимся галстуком. Торс едущего, как и лицо, расширялся книзу по мере приближения к животу, которому его владелец безуспешно пытался придать величественный вид и который достиг просто немыслимых размеров, так что его основание, мало-помалу расплываясь, в конце концов почти целиком заполнило весь объем коляски — в ней этот человек обычно ездил в одиночестве, хотя изначально она была сделана для двоих. Но странное дело! Эта невообразимая полнота, превратившая бы всякого другого в некое бесформенное и комичное существо (впрочем, он подшучивал над ней всегда первым), удивительно шла ему и, казалось, не слишком стесняла его движения. Толстяк был одет как охотник: в куртку, панталоны и гетры серого полотна, за спиной у него висела охотничья сумка, между ногами стояло ружье, обе его ступни упирались в прекрасную легавую собаку, имевшую лишь один недостаток: следуя примеру своего хозяина, она ступила на путь преждевременной полноты; собаку звали Вальден, по имени друга, подарившего ее нынешнему хозяину.
Это был Жюль Кретон, тот знаменитый капитан национальной гвардии Виллер-Котре, кто позволял своим людям делать все, что они хотят. Как вы помните, кум Баке, рассказав об этом г-ну Пелюшу, заставил того грозно нахмурить брови.
Его спутник, который благодаря своим качествам или, если хотите, своим физическим недостаткам, прямо противоположным недостаткам Жюля Кретона, получил счастливую возможность проделать весь путь в коляске, вместо того чтобы пройти его пешком, был длинный и худой мужчина тридцати четырех-тридцати шести лет (впрочем, питая до сих пор несбывшуюся надежду выгодно жениться, он из кокетства лет на десять приуменьшал свой возраст). Он был блондин, причем его волосы имели желтоватый оттенок, а бакенбарды — рыжеватый; у него были едва заметные брови, глаза цвета голубого фаянса, которым он старался придать томное выражение, и слегка искривленный нос; рот же его портила вечная глуповато-одобрительная улыбка. Он носил рубашку с отложным воротничком на манер Колена, галстук, продетый в кольцо с оправленным топазом, соломенную шляпу с длинной развевающейся лентой в тон шляпе и костюм розового цвета, разумеется приобретенный в провинциальном магазине готового платья.
Его звали Бенуа Жиродо. Но, не находя достаточно изысканным имя основателя ордена бенедиктинцев, данное ему при крещении его славными родителями, он поменял его на имя "Бенедикт", казавшееся ему более аристократичным.
Господин Бенедикт Жиродо служил сборщиком налогов в кантоне, главным городом которого был Виллер-Котре. Приглашенный на завтрак к Мадлену, он отправился в дорогу пешком, но у подножия холма Данплё его нагнал Жюль Кретон, который, рассудив, что, как бы мало ни оставалось в коляске свободного места, его все равно будет достаточно, чтобы там разместилась худосочная персона метра Бенедикта Жиродо, обратился к нему с предложением подняться в двуколку, и сборщик налогов принял это предложение с признательностью.
Добавим, что приятнее всего польстить сборщику налогов можно было, называя его просто г-ном Бенедиктом, то есть латинизировав имя, данное ему при крещении, и умалчивая его фамилию. Зная это, Жюль Кретон никогда не упускал случая назвать его либо Бенуа, либо Жиродо, а порою даже усиливал просторечное звучание этих имен, соединив их одно с другим.
Господин Бенедикт выказывал огромные притязания на элегантность; но, к несчастью, его длинная фигура, его длинные руки с не менее длинными кистями, его длинные ноги, опиравшиеся на длинные ступни, упорно сопротивлялись этим устремлениям и относили его среди класса двуногих, называемых людьми, к той категории, к которой орнитологи относят среди птиц аистов и цапель, то есть к голенастым.
Так что мы имели право сказать, что и в плане физическом, и в плане моральном длинный, тощий и меланхоличный Бенуа Жиродо составлял, оказавшись с ним рядом, разительный контраст с маленьким, тучным и жизнерадостным Жюлем Кретоном.
Издалека, едва заметив хозяина праздника и убедившись, что тот сможет его расслышать, Жюль закричал:
— Эй! Кассий! Кассий, знаешь ли ты, почему я подстегиваю мою лошадь?
— Предполагаю, — ответил Мадлен, — чтобы приехать поскорее.
— Да, конечно. Но знаешь ли ты, почему я хочу добраться поскорее?
— Чтобы как можно быстрее пожать мне руку.
— Безусловно, но это не все: я хочу первым рассказать тебе остроумную шутку сельского стражника из Данплё.
— Замолчите, господин Жюль, ни слова! — произнес Жиродо, толкая своего спутника локтем.
— Замолчать! Мне замолчать! Я ведь рассержусь!
— Ну, давайте вашу шутку, — сказал Мадлен, беря поводья, чтобы рассказчику было легче сойти на землю.
— Он сказал, увидев Жиродо рядом со мной и меня рядом с Жиродо: "Какая жалость, что король Луи Филипп отменил лотерею, я бы поставил сто су на номер десять; вот этот номер едет мимо меня!"
Мадлен рассмеялся, но не столько шутке сельского стражника, сколько раздосадованной физиономии Жиродо.
— А ты хотя бы сделал комплимент сельскому стражнику по поводу его остроумия?
— Я поступил еще лучше! Я бросил ему сто су, сказав: "Держите, папаша Упование: если лотерею восстановят, это будет ваша ставка". Сколько этот малый получает на должности сельского стражника Данплё?
— Двести франков в год, по-моему.
— Я позабочусь, чтобы он имел двести пятьдесят. Я переговорю об этом с его мэром, моим другом Мелажем… Здравствуй, Кассий.
И поскольку, ведя этот диалог иди, скорее, монолог, Жюль Кретон выбрался из повозки гораздо быстрее, чем можно было бы предположить, то он сердечно пожал руку Мадлену, в то время как Бенуа Жиродо приветствовал его с церемониями, заимствованными им, по его мнению, у порядочного общества, о котором он без конца говорил и подражать которому имел притязание.
Вальден спустился вслед за ними, но не выпрыгнув из коляски подобно своему сородичу Фигаро, более молодому и проворному, а осторожно ставя лапы на подножку коляски; после этого пес подбежал к Мадлену и потерся о руку, прося его о ласке, в которой охотник никогда не откажет собаке, добивающейся ее.
— Ты не взял с собой Луи? — спросил Мадлен, пытаясь найти кого-нибудь, кому бы он мог передать поводья.
— Бездельника Луи? Ты знаешь, что с ним сталось? Он растолстел, да так, что не хочет больше приезжать или, точнее, больше не может ездить со мной в одной коляске. Он утверждает, что я его придавливаю. Я вас придавливал, Жиродо? Будьте откровенны!
— Нисколько, господин Жюль, нисколько.
— К счастью, — продолжал жизнерадостный капитан, — я нашел ему замену: это Вальден.
— Как Вальден?
— Да, Вальден. Он тоже толстеет, скотина! Я не знаю, в чем дело и как это получается: едва только кто-нибудь переступает порог моего дома, как тут же начинает толстеть! Так что по дороге я даже предложил Жиродо взять его на полный пансион; как бы ни сопротивлялась его природа, я все равно восторжествую над ней.
— Спасибо, спасибо, — сказал сборщик налогов, растянув в улыбке уголки рта, — я себе нравлюсь таким, как я есть.
— Даже слишком; я это знаю, и вам незачем мне говорить об этом. Итак, вернемся к Вальдену, который не жалуется, что я его придавливаю, и создает мне удобство, поскольку я ставлю на него ноги; я натаскал его так, что он заменяет мне теперь Луи.
— Не может быть! — заметил Мадлен.
— Да; когда у меня есть дела в лесу и мне надо поговорить с работниками, а для этого необходимо выйти из коляски, я даю ему в зубы поводья моей Оленухи.
— Ваша Оленуха тоже поправилась, — перебил его Мадлен.
— Я же вам говорю, что все вокруг меня прибавляют в весе. Вы знаете Турнемоля, не правда ли? Худой как щепка. Я его назначил моим писарем, и теперь он ведет мои реестры национальной гвардии. Я ему плачу за это сорок франков в год. С сорока франков не слишком-то растолстеешь. Прошел год, как он исполняет эти обязанности. Я его взвесил в тот день, когда он впервые взял в руки перо: в нем было тридцать шесть килограммов. Вчера я ему сказал: "Ты толстеешь, Турнемоль, берегись". А он мне в ответ: "Не думаю, господин Жюль". Я поставил его на те же самые весы и взял те же самые гири: тридцать девять килограммов. Он поправился на три килограмма! Говорю тебе, это неизбежно.
— Прости, я тебя перебил. Ты говорил, что даешь поводья в зубы Вальдену.
— Я даю ему поводья в пасть, он садится и сторожит Оленуху. Сам увидишь сейчас, только предоставь им действовать вдвоем. Клянусь, есть такие умные животные, что христианам должно быть стыдно.
И Жюль Кретон, подобрав вожжи, которые он небрежно забросил в коляску, вложил их в пасть собаки, оказавшейся как бы впряженной впереди лошади.
— На конюшню, Вальден! На конюшню, умная собачка! — приказал он. — Пошла, Оленуха!
Вальден направился к ферме; следом за ним тащила за собой коляску Оленуха. Вся троица — собака, лошадь и коляска — миновала ворота на двор фермы, ничего нигде не задев.
— Говорю тебе, — в восторге воскликнул Жюль, — если бы не этот разбойник Фигаро, Вальден был бы первой собакой во всем департаменте!
— Да, ему лишь не хватает дара речи, — подхватил Жиродо.
— Ему его предлагали, — серьезно произнес Жюль, — но он отказался.
— Почему же? — простодушно поинтересовался сборщик налогов.
— Чтобы не говорить глупостей.
Затем он повернулся к Мадлену:
— Спорю, что ты ждал не меня?
— Я ждал тебя, потому что я тебя пригласил.
— Хорошо, я спрошу иначе: спорю, что ты здесь не ради меня.
— Да, это так, я здесь некоторым образом из-за Анри.
— Я выехал из Виллер-Котре в семь часов, карета приходит только в восемь, сейчас девять; здесь он появится не раньше чем через двадцать минут.
— Не знаешь, папаша Жиро составит нам компанию?
— Он ни за что не упустит такой возможности. Я пообещал ему требуховую колбасу от Баке, кстати, она лежит в багажном ящике моей коляски, и зельц тоже; ради этого он отправится на другой конец света.
— Почему же ты его не привез?
— Посадив к себе на колени? Они слишком коротки для этого. На колени к Жиродо? Они слишком остры. Нет, он прибудет на лошади Флобера, это именно то, что ему надо. Она не взбрыкнет. А! Смотрите, смотрите, вот и он показался — пиано, пиано, как говорит моя дочь, которая учится итальянской музыке и весь день терзает мой слух одной восьмой и одной шестнадцатой господина Верди.
— Очаровательная молодая особа… — пробормотал сборщик налогов.
— Да, но она не для вас, Жиродо.
— Но почему же? Почему?..
— Потому что она выйдет замуж лишь за того, кого полюбит, а вас она не полюбит никогда…
— Этот господин Жюль всегда такой насмешник.
Между тем папаша Жиро подъехал к Мадлену и его гостям, сам того не заметив, так как, воспользовавшись спокойным нравом своей лошади, он читал газету. Лошадь остановилась; удивленный этой заминкой, он поднял голову и увидел, что оказался лицом к лицу со своим хозяином и двумя своими согражданами.
— Надо же! Надо же! Как, это вы, вы? — воскликнул он.
— Конечно, это мы, — ответил Мадлен.
— Так, значит, я приехал?
— Мне так кажется.
— Удивительно, удивительно, — сказал папаша Жиро, тщательно складывая свою газету и убирая ее в карман.
— Как?! — изумленно произнес Жиродо. — Вы читаете "Век", господин Жиро?! Значит, вы принадлежите к оппозиции?
— Я! К оппозиции? Я, как Базиль, учитель музыки и органист. И я читаю вовсе не "Век".
— А что же вы читаете?
— Опубликованный в нем роман-продолжение. Его автор — Дюма, один из моих учеников.
— Один из ваших учеников? — произнес Кассий.
— Охотно верю, — заметил Жюль. — Ведь я тоже ваш ученик, папаша Жиро.
— Вы учили Дюма игре на скрипке?
— Правильнее сказать, я пытался; однако у меня никогда не было более неспособного к музыке ученика. Но я упорствовал и делал это не ради заработка. Его мать, получавшая дрова[12] как вдова генерала, платила мне стружками; но это за уже преодоленную трудность. В конце концов я отказался. Проучившись три года, он так и не приладился к своей скрипке. Однажды утром я ему сказал: "Проваливай к черту и делай что хочешь". Он поехал в Париж и стал писать романы.
— Я полагаю, что он поступил правильно, — заметил Жюль. — Но раз мы выяснили, что ждем Анри, мы можем присесть, вместо того чтобы стоять.
И, подкрепив слово примером, Жюль Кретон не только сел, но и прилег; Кассий сел рядом с ним, Жиродо упорно продолжал стоять, а папаша Жиро повел лошадь к Луизон, пообещав вернуться, как только убедится, что его четвероногий спутник должным образом устроен по соседству со своей подругой Оленухой.
XIX
ГЛАВА, В КОТОРОЙ ГОСПОДИН ПЕЛЮШ И ФИГАРО ТОРЖЕСТВЕННО ВЪЕЗЖАЮТ ВО ДВОР ФЕРМЫ
Папаша Жиро, которого все его земляки, несомненно, узнают, несмотря на то что, повинуясь долгу приличия, я несколько изменил его фамилию, был самым оригинальным человеком, которого я когда-либо знавал. Родившийся в 1774 году и наслаждавшийся превосходной старостью, которую обеспечивали ему ясное сознание и здоровое тело, он был живым образцом восемнадцатого века, перенесенным в век девятнадцатый; это был крепкий старик семидесяти-семидесяти двух лет с прямой и твердой походкой, способный дать отпор кому бы то ни было, держать вилку и стакан в руке, с наслаждением завтракавший требуховой колбасой и зельцем: такого рода пища произвела бы несварение в большинстве желудков двадцатилетних молодых людей из нашего окружения. Он играл на скрипке каждый день для своего удовольствия, на органе — каждое воскресенье для наставления верующих, чествуя руками и ногами на своем инструменте все крещения и все свадьбы, исполняя одинаковое количество нот как для бедных, плативших ему простой благодарностью, так и для богатых, клавших ему два луидора в руку. Это был одновременно веселый сотрапезник и прекрасный рассказчик; он был племянник приора монастыря премонстрантов, жительствовавших в обители Бур-Фонтен, которая располагалась в одном льё от Виллер-Котре, и именно от него я услышал, как в этом убедится тот, кто возьмет на себя труд перелистать мои "Мемуары", все те монастырские и раблезианские истории, что приведены там мною. Благодаря своему превосходному характеру он становился героем всех провинциальных розыгрышей, на которые не скупятся сельские жители и обитатели замков. То ему в постель клали ежа или угря; то в его комнате в шкафу закрывали петуха, и тот пел ночью каждый час; то, наконец, его дверь распахивалась в полночь, хотя он тщательно запирал ее накануне вечером изнутри, и призрак, облаченный в длинную простыню и влачивший цепи, раздвигал полог его алькова. При виде всех этих напастей старик испытывал или притворялся, что испытывает, такой комичный ужас, что все эти истории, обрастая при пересказе все новыми и новыми подробностями и множась по мере того, как они все дальше отходили в прошлое, в конце концов превратили папашу Жиро в легендарный персонаж, который, возможно, под рукой Гофмана стал бы вторым Коппелиусом или Повелителем блох.
Помимо прочего, внешность Жиро могла бы подарить волшебнику, создавшему "Майорат" и "Кремонскую скрипку", одного из новых персонажей, которые тот создавал с помощью пера, превращавшегося в его руках в кисть. Лысый, как коленка, Жиро носил небольшой парик из коротко подстриженных светло-коричневых волос, скорее прикрывавший его голову в целях гигиены, нежели служивший украшением. На этот парик сверху надевался колпак черного шелка, и парик прилегал к нему гораздо плотнее, чем к черепу. И зимой и летом органист упорно не расставался с этим двойным головным убором, поверх которого в торжественных обстоятельствах, то есть когда речь шла о визите, ужине в городе или поездке в деревню, он надевал еще широкополую шляпу. Ее никто никогда не знавал ни новой, ни старой, она всегда выглядела совершенно одинаково.
Лицо, постоянно защищенное этими тремя плодами человеческого мастерства, худое, костистое, с яркими красками, обычно имело добродушное выражение. Но когда Жиро щекой упирался в основание своей скрипки, левую руку выгибал с легкостью, характерной для умелого исполнителя, а мизинец клал на квинту таким образом, что между пальцем и кобылкой едва оставалось место для смычка, на этом лице появлялось выражение блаженства, а во взгляде поэтическая отрешенность, и можно было подумать, что те земные звуки, какие старик извлекал из своего инструмента, соединяли его с небесными хорами, пением ангелов и архангелов.
Его платье походило на одеяние квакера. Он носил галстук, жилет, белые рубашку и жабо, коричневый редингот, ратиновые панталоны и чулки черной шерсти, засовывая их в ботинки с серебряными пряжками, всегда до блеска вычищенные.
Папаша Жиро не был ни бедным, ни богатым; он не дошел до золотой середины Горация, но и не бедствовал. Его место органиста, несколько уроков, которые он давал городским подросткам, а также пять или шесть тысячефранковых банкнот, доход с которых ему выплачивал нотариус Ниге, приносили ему тысячу двести ливров ренты, и он жил на них счастливый, как Эпикур, и пользующийся всеобщим уважением, как Нестор.
В ту минуту, когда он вышел с фермы, стряхивая светлые волоски своей лошади, приставшие к его коричневому рединготу, и направился к пригорку, где Жюль лежал, Мадлен сидел, а Жиродо стоял, хозяин дома вскрикнул от радости. Он заметил тильбюри своего крестника, Анри де Норуа, выезжавшее из леса Вути.
В одно мгновение Мадлен был на ногах, и в ту же минуту молодой человек в свою очередь заметил Мадлена. Резко прищелкнув языком, он подстегнул свою лошадь, и та за какие-то секунды преодолела те несколько сот шагов, что отделяли двух друзей, и остановилась у подножия пригорка, где уже ждал Мадлен.
Анри бросил поводья Тому, спрыгнул на землю с ловкостью и проворством умелого гимнаста и оказался в объятиях Мадлена.
— А! Ну вот, наконец, и ты, злой мальчишка! — сказал ему Кассий, утирая слезу. — Ну, что?
— Я отвечу вам, но иначе, чем дон Родриго ответил дону Диего после убийства дона Гормаса. Он сказал: "Ешьте, отец!" Я же говорю: "Охотьтесь, крестный!"
— Значит, Генский лес наш? — спросил Мадлен.
— Со вчерашнего дня в полном нашем распоряжении на правах собственности: продан, куплен, оплачен. Вы можете стрелять в нем всех, кто там есть: зайцев, кроликов, косуль — и никто больше вам не скажет ни слова.
— Тогда трубите в фанфары, — закричал Мадлен, — мы сегодня же обновим нашу покупку, слышишь, Жюль!
— Да, слышу; но ты же отлично понимаешь, что я не полезу ради забавы в этакую чащобу; это годится для тебя, похожего на лезвие ножа, или для такого угря, как Жиродо. Вы вступите в лес с наветренной стороны, а я устроюсь с противоположной его стороны, с удобством сидя на межевом столбе, и всех, кого вы спугнете, буду встречать так: "Паф! Паф!"
— Вы их убьете? — спросил Жиродо.
— Или промажу, — ответил Жюль. — Я не притязаю, как Мадлен, на то, чтобы убивать семнадцатью выстрелами семнадцать бекасов. Если стреляешь так, то пропадает всякое удовольствие… Здравствуйте, господин Анри, вы чувствуете себя хорошо, я тоже. Вот две вещи, которые доставляют мне громадное удовольствие. А вот и я! Вот и я!
И, как образно выражаются местные жители, скатившись с вершины пригорка вниз к Мадлену и Анри, он упал прямо в их объятия; оба, широко расставив руки, преградили ему путь.
— Вы хорошо сделали, что остановили меня, — произнес Жюль, весело улыбаясь, всегда готовый в первую очередь посмеяться над собой, что ему позволяло смеяться над другими. — Если бы не это, я бы мог катиться прямо до самого Данплё.
Анри сердечно пожал руку Жюлю, ибо испытывал к нему не только глубокое уважение как к порядочному человеку и честному торговцу, но еще и искреннюю дружбу как к славному малому.
— Ну вот вы и прибыли, — продолжал Жюль. — Теперь можно серьезно заняться завтраком, не правда ли, Кассий? Но это вовсе не ради того, чтобы я мог поесть. Я теперь лишь пью: говорят, что это даже заметно по моему носу.
— Дело в том, что ваш нос превращается в маленькую розочку, господин Жюль, — сказал Жиродо.
— Ничего, ему еще далеко до того, какого цвета был нос у моего отца. Ты не знал, Кассий, моего бедного отца, вот он бы заставил тебя посмеяться!.. Нет, это вовсе не ради того, чтобы я мог поесть, а ради того, чтобы посидеть за столом с друзьями. Вас утомила поездка, господин Анри?
— Нет, я доехал под парусиновым навесом, положив пальто под голову и охапку соломы под бок.
— Послушайте, а ведь это мысль. Во время моей последней поездки я думал, что мы задохнемся… Нет, не я, а мои соседи. Представьте себе, я велел рассыльному в гостинице пойти и заказать мне, как обычно, два места на дилижанс, ведь, имея два места, я еще кое-как выкручиваюсь из положения. Мой посыльный возвращается и говорит мне: "Все в порядке. Ваша просьба выполнена". Я даю ему чаевые. В восемь утра я заявляюсь в "Оловянное блюдо", подаю квитанцию, которую я даже не раскрывал, и требую от Левассёра мои два места… Идиот-рассыльный забронировал мне одно место в купе, а другое — в ротонде.
— Больше всего мне хочется как можно скорее сесть за стол, — сказал Мадлен, — но это зависит от Анри. Когда ты будешь готов, мой мальчик?
— Мне нужно время лишь чтобы переодеться и принять ванну, которая, должно быть, меня уже ждет.
— Мы даем тебе час, этого достаточно?
— Вполне.
— Ну что ж, тогда по коням! Сейчас половина десятого, ровно в половине одиннадцатого мы тебя ждем.
Анри еще раз обнял Мадлена, пожал руки Жюлю и папаше Жиро, попрощался с Жиродо, вскочил в тильбюри, и лошадь крупной рысью покатила коляску к замку Норуа.
Поскольку Мадлен не ждал больше никого, кроме своих соседей, которые, подобно Анри, должны были прибыть в условленный час, то все отправились на ферму, где, к большому удовольствию папаши Мьета, с утра не бравшего в рот ни крошки, чтобы не испортить себе предстоящую трапезу, в тот же миг был отдан приказ насадить на вертел большие куски мяса.
Прошло около получаса среди раблезианских рассказов Жиро, шуток Жюля Кретона над другими и над самим собой и обид Жиродо, всякий раз готового рассердиться, но вся кий раз вновь обретающего свое хорошее настроение благодаря искренней, заразительной веселости Жюля, как вдруг послышались торопливые, частые и звонкие удары кнута, возвещающие прибытие гостей, уверенных в добром приеме.
Почти сразу же вслед за этим в проеме ворот показалась коляска. Мадлен, который жарил на сильном огне фрикасе из кролика, удерживая одной рукой кастрюлю за ручку, вскрикнул, поставил кастрюлю на плиту, бросился к двери, выходящей во двор, перепрыгнул через три ступени и побежал навстречу вновь прибывшим, ведь это были некто иные, как его друг Пелюш и его крестница Камилла.
Остальные гости, привлеченные радостным криком Мадлена, высыпали на порог дома, чтобы присутствовать при высадке из экипажа этих двух приезжих, совершенно им незнакомых.
Было очевидно, что путешественники с таким же нетерпением хотели обнять Мадлена, с каким Мадлен хотел обнять их, но высадка, хотя и казалась самым простым и обычным делом как приехавшим, так и зрителям, не обошлась без трудностей и даже без происшествия.
Кроме Бастьена, сидевшего на облучке и спрыгнувшего на землю, как только шарабан въехал во двор фермы, а также г-на Пелюша и Камиллы, расположившихся на сиденье, в шарабане находился еще один пассажир, о ком за последние две трети пути все забыли, но кто, как только они остановились, напомнил о своем присутствии суматошным лаем.
Это был Фигаро, которого, напомним, г-н Пелюш после приключения с папашей Лажёнесом привязал к ноге повыше лодыжки, но пониже колена, веревкой, одолженной ему Бастьеном, и который, с тех пор как он увидел кур, возившихся в навозной куче, и заметил уток, барахтавшихся в луже, казалось, был одержим желанием или, скорее, даже страстью как можно быстрее выбраться из экипажа.
Увидев горящие глаза Фигаро, г-н Пелюш испугался за кур и уток своего друга Мадлена и старался усмирить пыл собаки, удерживая ее за ошейник.
Фигаро рвался вперед, г-н Пелюш тянул его назад, и потому Камилла тщетно протягивала руки своему крестному через эту пару борцов.
К несчастью, г-н Пелюш, полностью снаряженный для охоты, был лишен свободы движений. В тот миг, когда он кричал Мадлену: "Спасай своих кур и уток!" — ошейник выскользнул у него из рук. Фигаро устремился вперед, и г-н Пелюш от резкого толчка потерял равновесие и вылетел из шарабана, исполнив сальто, которое в цирке вызвало бы гром аплодисментов.
Но дело происходило в Вути, а г-н Пелюш не обладал ни ловкостью, ни гибкостью клоуна, поэтому его невольное гимнастическое упражнение было встречено криками ужаса, вырвавшимися у Камиллы, Мадлена и других присутствующих.
Еще больше осложнил положение Вальден, давно уже питавший злобу против Фигаро: видя, что того сдерживает веревка, Вальден атаковал противника и дал ему бой, полем для которого послужило тело лежавшего на земле г-на Пелюша.
К счастью, Жюль Кретон подскочил к ним с одной стороны, Мадлен — с другой. Жюль схватил Вальдена за загривок и оттащил в сторону, Кассий схватил Фигаро за ошейник и перерезал веревку садовым ножиком. К еще большему счастью, по всему двору лежал толстый слой навоза, смягчивший падение г-на Пелюша. Собаки покусали друг друга, но не тронули торговца цветами, поэтому он поднялся с земли разъяренный, но не особенно пострадавший, если не считать нескольких пятен грязи на велюровой куртке и жилете буйволовой кожи.
Камилла чуть не потеряла сознание от страха; Мадлен передал веревку, к концу которой был привязан Фигаро, в руки сборщика налогов, крикнув ему: "Держите крепче!" — и поспешил на помощь своей крестнице.
Но как только г-н Пелюш встал на ноги и все, а в первую очередь он сам, убедились, что руки и ноги у него целы, ко всем и даже к самой жертве несчастного события вернулось хорошее настроение.
— Ну вот и я! — сказал г-н Пелюш, горделиво стоя на навозе. — Уверен, что ты меня не ждал. Как ты меня находишь? Что скажешь о моем костюме и как тебе нравится мое ружье? Видишь, я не скряжничал, желая оказать тебе уважение. И хотя это вовсе не значит, что я думаю об охоте больше, чем о партии в домино, я придерживаюсь следующего принципа: если тебе удалось доказать, что ты вовсе не дурак, если, начав с нуля, ты сумел лишь благодаря силе собственного ума составить капитал в несколько сотен тысяч ливров, если, наконец, ты имеешь честь командовать ротой национальных гвардейцев Парижа, то следует сохранять свое превосходство во всех затеянных тобою делах как в городе, так и в деревне. Вот какого, повторяю, принципа я придерживаюсь.
И, сформулировав свои убеждения, г-н Пелюш решился пожать руку, которую протягивал ему его друг.
— Черт возьми, ты прав, мой дорогой Анатоль, и если я и ожидал кого-нибудь, то уж никак не тебя. Но я так рад тебя видеть, и грех было бы бранить тебя за то, что ты так долго собирался приехать ко мне. Только сожалею, что госпожа Атенаис не решилась сопровождать тебя.
— Да что ты, Кассий! — воскликнул г-н Пелюш, опустив подбородок на грудь. — Разве такой торговый дом, как наш, может одновременно лишиться двух умов, руководящих им? Госпожа Пелюш умирала от желания оказаться среди нас, но я вынужден был отказать всем ее просьбам.
— И правда, — промолвил Мадлен с видом, показывавшим, что он не полностью верит словам своего друга. — Но все же хоть ты и выбрался к нам с опозданием, тем не менее твой приезд пришелся как нельзя кстати. Судя по твоему наряду, по твоему воинственному снаряжению, а главное, по твоему великолепному ружью, я берусь утверждать, что твой визит адресован не только мне, но и в равной мере дичи в лесах Вути и Норуа, и как раз сегодня, — продолжал Мадлен, указывая г-ну Пелюшу на своих гостей, — я пригласил друзей, в числе которых есть охотники; ты познакомишься с ними за разговором, и они расскажут тебе о своих прошлых деяниях, а ты им — о своих грядущих подвигах.
— Знаете, дорогой Мадлен, а ведь я мог бы сейчас привезти не только то, что лежит в моей охотничьей сумке! — распрямившись, заявил г-н Пелюш. — Я в состоянии сообщить вашим друзьям кое о чем поинтереснее, чем о каких-то там предположениях, и уже сегодня готов был отплатить вам за ваши прошлые услуги, привезя не скромное бедро косули, а целиком все животное со шкурой и рогами.
— О-ля-ля! — закричал Мадлен. — Надеюсь, ты стрелял не в газель господина Анри?
— Вовсе нет! Я знаю, как выглядят газели, я видел их в Ботаническом саду. Я говорю о прекрасном годовалом самце косули, — заметил г-н Пелюш, надувая щеки при этих священных словах, которые он почерпнул из разговора Бастьена с Лажёнесом.
— Ты стрелял в косулю из купе дилижанса?
— Нет! Но я бы мог ее убить из двуколки господина Мартино, если бы проклятое животное не промелькнуло так быстро. Что, косули всегда бегают так проворно?
— Должен признаться, мой бедный друг, что это вполне в их привычках. Но все равно надо всегда стрелять. Такое ружье, как это, — он взял из рук г-на Пелюша его ружье, — само попадает в цель. Смотри-ка, вон ласточки, согласись, они проносятся еще быстрее, чем твоя косуля.
— Признаю это, — ответил г-н Пелюш, не догадываясь, куда клонит Мадлен.
— Так вот! Подожди-ка!
Мадлен мгновенно вскинул ружье и один раз за другим выстрелил в двух различных направлениях — две ласточки упали на землю.
Господин Пелюш был поражен; остальные охотники, лучше осведомленные о подвигах Кассия, не испытали ни малейшего удивления; вот только Фигаро, услышав двойной выстрел, так резко рванулся вперед, что выскользнул из рук Жиродо, которому, напомним, он был доверен, устремился во двор, в три прыжка пересек его и скрылся из виду на равнине, не обращая внимания на крики своего хозяина.
— Держи его! — кричал Пелюш. — Он удирает, негодяй! Он, верно, не знает, что я заплатил за него сто франков?
— Не волнуйся, — успокоил его Мадлен, — он вернется. Фигаро уже учуял запахи еды на кухне, и он не настолько глуп, чтобы убежать, не отведав ее. Я этого молодчика знаю.
— Ты думаешь, Кассий?
— Ручаюсь тебе в этом. А теперь позвольте проводить вас в ваши комнаты. И хотя наши гости такие же скромные сельские жители, как и я, уверен, моя крестница собирается оказать им честь своим новым туалетом; поэтому нельзя терять ни минуты, если мы не хотим заставить ждать наших гостей, которые должны прибыть к завтраку.
— Но, — вскричал галантный сборщик налогов (упустив Фигаро, он приблизился к обществу и теперь старался вступить в разговор, не сводя при этом с Камиллы томного взгляда), — мадемуазель и так очаровательна в своем дорожном костюме! Разве есть еще такое украшение, которое могло бы что-нибудь добавить к ее удивительной красоте?
Эта вычурная похвала сделала должное дело; г-н Пелюш, и без того с предубеждением настроенный по отношению к сборщику налогов, который дал убежать Фигаро, с головы до ног смерил того взглядом, словно намереваясь запомнить его приметы. Камилла присела в глубоком реверансе, а Жюль Кретон самым насмешливым тоном крикнул:
— Браво, Жиродо!
— Какого черта вы вмешиваетесь, прекрасный Амадис? — вместо того чтобы поддержать Жюля, спросил Мадлен. — Напротив, моя крестница должна украсить себя так, как только сможет. Я хочу, чтобы она обворожила каждого, кто на нее посмотрит, включая не только вас, но и всех остальных. Кто знает, не найдем ли мы ей мужа среди стольких воздыхателей?
Резкий выпад Мадлена, который не мог догадаться, какую струну он затрагивает в сердце молодой девушки, вызвал яркий румянец на свежих щечках Камиллы. Она бросилась на грудь крестного, отчасти чтобы поблагодарить за его нежную заботу о ее будущем, но в большей степени чтобы скрыть смущение, какое всегда испытывает молодая девушка, когда случайно слышит, как вслух произносят то слово, что без конца тихо звучит в ее сердце.
Тем временем губы галантного сборщика налогов растянулись в необыкновенно самоуверенной и довольной улыбке. Мадлен не раз рассказывал ему о состоянии торговца цветами — состоянии, наличие которого г-н Пелюш сам подтвердил, заявив о своих принципах, — и Жиродо уже заранее, даже до встречи с Камиллой, внешность которой, впрочем, превзошла все его ожидания, был убежден, что она обладает серьезностью и здравым смыслом, теми единственными, по его словам, качествами, какие Жиродо хотел бы видеть в своей будущей супруге, которой он окажет честь своим выбором. Явное, тем более открыто высказанное Мадленом одобрение брачных идей, которые могли зародиться в уме его крестницы, показалось Жиродо счастливым предзнаменованием, и он расценил его как позволение яснее заявить о своих тайных намерениях, когда для этого придет время; и в надежде на этот день он счел себя обязанным предложить Камилле руку, чтобы проводить девушку в отведенную ей комнату.
Но это вовсе не соответствовало планам Мадлена.
— Минутку, минутку, — сказал он, — вы посягаете на мои права, господин Жиродо, и позвольте вам заметить, что я вовсе не расположен передать вам именно это право.
И Мадлен, не обращая внимания на то, как грациозно сборщик налогов подставил девушке свой округленный локоть, взял руку Камиллы и пересек кухню, чтобы препроводить крестницу в ее комнату, что дало папаше Мьету новый повод приподнять свой колпак с макушки, а свой зад — с табурета, сопроводив это следующими словами, продиктованными обстоятельствами:
— Приветствую, господин Мадлен, вас и ваших гостей!
XX
ГЛАВА, В КОТОРОЙ МАДЛЕН ОБНАРУЖИВАЕТ, ЧТО ДЕЛО ПРОДВИНУЛОСЬ ГОРАЗДО ДАЛЬШЕ, ЧЕМ ОН ПОЛАГАЛ
Мадлен попутно открыл г-ну Пелюшу дверь его спальни и проводил Камиллу в ту комнату, что была предназначена для нее.
Эта комната, описанием которой мы пока пренебрегали, была самой красивой и самой чистой в доме и ни в коей мере не могла бы испортить вид даже небольшой парижской квартиры. Она была обставлена очень просто, и ее мебель, изготовленная во времена царствования Людовика XVI, несла на себе отпечаток этой строгой эпохи; мебель состояла из кровати, четырех стульев, двух кресел и туалетного столика. Рифленые кровать, четыре стула и оба кресла были выкрашены в белый цвет и отделаны золотой сеткой, на три четверти стершейся, которую Мадлен собственноручно обновил ярко-желтой краской; инкрустированные комод и туалетный столик из дерева экзотических пород были украшены ручками из меди, некогда покрытой позолотой, но от долгого употребления и от прикосновений рук вернувшейся к своему естественному состоянию. Стены были обтянуты цветными обоями, а занавески на окнах и полог кровати были сшиты из набивного кретона того же цвета и рисунка, то есть с букетами незабудок на розовом фоне.
Все это выглядело так же молодо, свежо и прелестно, как сама Камилла.
— О! Какая красивая комната! — простодушно воскликнула Камилла. — Я никогда не видела ничего более восхитительного!
— Для такого старого ворона, как я, — ответил Мадлен, — вполне сойдет и охапка колючек, но для гнезда коноплянки необходим самый мягкий мох и самый нежный хлопок.
— Мой дорогой, мой милый крестный, — отвечала ему Камилла с улыбкой, ласковой, как поцелуй, — коноплянка, если хочет свить гнездо, должна трудиться над ним сама, тогда как вы оставили на мою долю лишь труд поблагодарить вас за это милое гнездышко, которое, я уверена, стоило вам немалых хлопот.
— Ба, — заметил Мадлен, — ведь это обойщик, куда более искусный, чем я, и куда лучше меня разбирающийся в красках, предоставил то единственное украшение, что заслуживает одобрения.
Говоря это, бывший торговец игрушками открыл окно и облокотился на подоконник.
Камилла подошла к окну.
Мадлен был прав: сквозь оконный переплет открывалась столь изумительная панорама, что скромная комнатка могла бы гордиться великолепием, какого иногда так недостает многим дворцам.
Из расположенного на вершине холма дома Мадлена одновременно открывался вид на равнину, которую мы уже описали, и на долину, которую нам предстоит описать. Эта долина, где, извиваясь, текла небольшая речка Урк, была сплошь покрыта садами, и через это скопление зелени лишь местами пробивался кусок сероватой стены или красная черепица крыши; но в целом растительность была такой буйной и пышной, деревья стояли так тесно, а листва их так разрослась, что при виде прозрачного голубоватого дымка, поднимавшегося между ветвями и верхушками деревьев, следуя направлению ветра, можно было подумать, что перед тобою лес, посреди которого цыгане разбили свой табор. Расширяясь на горизонте, долина, над которой высились массивные развалины замка Ла-Ферте-Милон, меняла свой вид; рощи фруктовых деревьев шли уже не сплошь, теряясь среди высоких тополей, огибаемых прихотливыми извивами реки, похожей на серебряную нить. Справа взору представал громадный треугольник, образуемый Норуа, Ансьенвилем и Фавролем. Пейзаж, хотя и утрачивал немного свою радующую взор живописность, тем не менее сохранял всю свою самобытность, поскольку рядом с возделанными полями, среди которых были разбросаны и плотные деревушки, и отдельно стоящие дома, простирались красноватые ланды, покрытые громадным, толстым и густым ковром вереска, и великолепными колючими кустарниками, доставлявшими радость Мадлену, который называл их своей кладовой; к тому же эти поля и заросли вереска прекрасно сочетались с окружавшими их темными лесами, деревья которых высились друг над другом, полностью закрывая на северо-западе горизонт.
Эта картина, совершенно новая для Камиллы, произвела на нее глубокое впечатление. До сих пор перед ней не открывалась другая перспектива, кроме серых стен и чахлых деревьев в саду пансиона или же пестрой раскраски лавочек, стоявших напротив магазина ее отца. Если порой в своих мечтах она обращала свой взгляд к небу, следя за изменчивым течением облаков, то черные от сажи и грязи зубцы печных труб, пятнами проступавших на небесной лазури, тут же заставляли девушку опускать голову. Только творения рук человеческих до сих пор служили пищей для ее восторгов, но и самое прекрасное творение в глазах некоторых мечтателей все же сохраняет неизгладимую печать малости того, кому оно обязано своим появлением на свет. Вид человеческого творения может быть грандиозен, но порой он наводит страх. Какими бы многочисленными и какими бы богатыми ни были дворцы, от этого лишь еще сильнее и еще мучительнее становится их контраст с лачугами. Вздымающийся вверх собор говорит не только о Боге, он рассказывает историю ушедших поколений, потративших жизнь на то, чтобы сначала нагромоздить эти камни друг на друга, а затем покрыть их резьбой. Внезапно оказавшись перед лицом творения Господа, девушка была одновременно удивлена и взволнована, открыв для себя, сколько простоты заключено даже в самом пышном его великолепии, а главное, как нежно и ласково оно улыбается, и не просто кому-то в отдельности, а всем, кто его видит: людям и животным, от самого маленького до самого большого, от самого скромного до самого надменного.
Камилла на время застыла в восхищении, погрузившись в безмолвное созерцание; нежная улыбка вызывала дрожание ее губ, и две слезы засверкали, подобно двум бриллиантам, в бархатистой оправе ее ресниц.
— Ну что? — спросил Мадлен, который, привыкнув к этому пейзажу, хотя и не разучившись чувствовать его красоту, сосредоточил все свое внимание на Камилле и смотрел на нее, проявляя все признаки живейшего удовлетворения. — Мне кажется, это стоит улицы Бур-л’Аббе!
— О крестный! — пробормотала Камилла, словно протестуя против подобного сравнения.
— Итак, ты предпочитаешь это?
Камилла сложила молитвенно ладони и посмотрела на небо.
— Черт возьми! — продолжал Мадлен. — По крайней мере не обнаруживай слишком явно это свое предпочтение перед твоим отцом. Если ты станешь говорить что-то плохое об этой знаменитой сточной канаве на Паромной улице, о которой госпожа де Сталь печалилась в Коппе, то есть в виду Монблана и Женевского озера, он, вероятно, будет способен лишить тебя наследства.
— Бедный отец, — с улыбкой промолвила Камилла. — Он удивлялся, что вы можете считать себя счастливым в вашей "берлоге", как он называл вашу ферму… О! Я теперь прекрасно вас понимаю. Послушайте, крестный, мне кажется, что я провела бы здесь всю жизнь, никогда не испытывая ни скуки, ни сожаления, наслаждаясь этим чудесным пейзажем и видом прелестного маленького замка, который так вписывается в природу, что можно подумать, будто он вырос здесь сам собой.
— Да, действительно, — с довольным видом засмеялся Мадлен. — Вот оно, то убежище, в котором ты нуждалась, чтобы осуществить те мечты, что порой не дают нам спать.
— Вы правы, — ответила Камилла. — Этот маленький замок очарователен, и я рада, что взяла мой альбом и карандаши. Я стану делать с него зарисовки, пока вы будете охотиться. Покидая вас, я смогу увезти с собой частицу вашей жизни. Однако вы сейчас скажете, что я льщу вам: мне кажется, я одинаково полюбила и вашу скромную ферму, и этот маленький замок.
— Это потому, что эта скромная ферма принадлежит мне, дорогое дитя, — сказал Мадлен со своей доброй улыбкой, — а в твоем сердце живет частичка любви ко мне. Но если тот, о ком мы только что говорили на ферме, если человек, который, первым заставит чаще биться твое сердце и которого ты, конечно же, полюбишь сильнее, чем любишь меня, жил бы в этом замке, то я уверен, зная твой безупречный вкус, что ты отдала бы замку предпочтение перед фермой.
— А кому принадлежит замок?
— Моему крестнику, дорогое дитя: ведь у меня есть не только крестница, но и крестник.
— Как?! — вскричала Камилла, не совладав с удивлением, вызванным у нее ответом крестного отца. — Этот прекрасный замок принадлежит господину Анри?
— Как! — в свою очередь вскричал Мадлен, не менее изумленный, чем Камилла. — Ты знакома с господином Анри?
— Крестный, — промолвила Камилла, заливаясь краской и опуская глаза, — мы ехали с ним в дилижансе из Парижа.
— Какой же я дурак! — воскликнул Мадлен, ударив себя по лбу. — Я даже и не подумал об этом, черт возьми, это так: они должны были приехать вместе, потому что здесь ходит всего одна карета, а они прибыли в один и тот же день. О Провидение, Провидение! Это одно из твоих чудес! Ну, и как ты находишь моего крестника?
— Я его едва видела, крестный, — пробормотала Камилла, запинаясь.
— Значит, вы были не в одном отделении дилижанса?
— Он был вместе с нами, точнее, занял место в купе раньше нас, а затем предложил его мне, но я не знаю, что ему ответил отец. Господин Анри побоялся стеснить нас и сел рядом с кондуктором.
— А, правда! Под парусиновым навесом на охапке соломы. Крестник рассказывал мне об этом. Узнаю его, он весь в этом, мой галантный рыцарь. Но как же случилось, что он ни слова не сказал мне о тебе?
— Но почему вы хотите, чтобы он говорил вам обо мне, крестный? Ведь он видел меня мельком!
— Этого достаточно, черт побери!
— И потом, он ведь не знал, кто мы такие, куда направляемся и увидит ли он меня еще когда-нибудь.
— Да, вот она, настоящая причина. В самом деле, я становлюсь идиотом. Да, моя крестница, да, дитя мое, да, Камилла, это была моя мечта. Когда я видел, как вы росли оба в двадцати льё друг от друга — ты, как чистая лилия, а он, как крепкий дуб; когда я восхищался тем, что воспитание дало тебе, а природа дала ему, я говорил себе: "Кто знает, может, Провидение создало их друг для друга, а мне предназначено быть той нитью, что соединит их? Эти дети — единственное на этой земле, к чему я испытываю любовь, почему же им не полюбить друг друга?"
И лицо бывшего торговца игрушками, обычно столь беззаботное и столь жизнерадостное, вдруг выразило такое волнение, на которое Камилла, всегда по достоинству оценивавшая своего крестного отца, все же полагала его неспособным; его губы дрожали, и он напрасно пытался скрыть эту дрожь; веки моргали и тщетно старались остановить слезу, блеснувшую под ресницами.
— Дорогой крестный! — вскричала Камилла, бросаясь в объятия Мадлена и пряча лицо у него на груди.
Мадлен приподнял головку Камиллы и взглянул на нее со своей доброй улыбкой.
— Ну же, — успокоил он девушку. — Хватит. Это все, что я хотел узнать у тебя, и если теперь мой крестник скажет мне столько же, даже не прибавив ни слова, то я буду вполне удовлетворен.
— Но я же вам ничего не сказала, крестный! — воскликнула Камилла.
— К счастью. Если бы ты при этом хоть что-нибудь сказала, то, возможно, сочла бы себя обязанной солгать. А теперь, когда дело продвинулось не только дальше, чем я полагал, но и к тому же, похоже, идет как надо, я должен уделить некоторое внимание нашему завтраку и особенно твоему отцу. Мне нет необходимости говорить тебе, что он дьявольски обидчив, мой друг Пелюш.
Хотя Камилла и была слишком умна, чтобы не заметить маленькие слабости своего отца, она в то же время была слишком почтительной дочерью, чтобы признавать их. Так что она разжала руки и с улыбкой вернула свободу крестному отцу.
— Ты можешь остаться здесь и полюбоваться маленьким замком, раз он так пришелся тебе по сердцу, — сказал ей Мадлен, — или спуститься в сад. Там ты найдешь липовую аллею, очень темную, густую и таинственную; там, вместо того чтобы мечтать о доме, ты могла бы помечтать о том, кто в нем живет.
После этого, чтобы не усиливать смущение Камиллы, он поцеловал ее в лоб и вышел.
Как видим, смущение Камиллы не укрылось от проницательных глаз Кассия; он сделал вполне естественный вывод, что впечатление, произведенное на его крестницу владельцем замка, было не менее сильным, чем впечатление, произведенное на нее самим замком. Поэтому, едва дверь в комнату Камиллы закрылась, он дал волю своему удовлетворению, которое доставило ему только что сделанное открытие, и стал спускаться по лестнице, гудя с силой локомотива радостное "Вперед, вперед!", — обычно этим окриком он подбадривал, подстрекал и поддерживал своих собак во время охоты.
Понятно, что Мадлен воспользовался ложным предлогом, чтобы покинуть свою крестницу; он нисколько не волновался за своего друга Пелюша, зная, что везде, где бы тот ни оказался, он сумеет добиться, а если надо, то и потребовать полагающуюся ему долю уважения. Он застал г-на Пелюша за степенным разговором с г-ном Жиродо и папашей Жиро, уже известным нам, и двумя окрестными фермерами, славными людьми, ловкими охотниками, чуточку браконьерами, земледельцами из поколения в поколение и заклятыми врагами всяких новшеств в сельском хозяйстве, точно так же как г-н Пелюш был убежденным противником всякого новшества в политике.
Господин Пелюш стоял, и все образовали вокруг него кружок, за исключением Жюля Кретона, сидевшего на кресле рядом со стулом, на котором лежали медвежья шапка и сабля г-на Пелюша.
Торговец с улицы Бур-л’Аббе оседлал своего излюбленного конька и в двадцатый, сотый, а быть может, тысячный раз развивал милую его сердцу тему о преимуществах режима "золотой середины", о превосходстве буржуазии над всеми остальными классами общества и в энергичных выражениях клеймил как сговор аристократов, стремившихся увлечь правительство вспять, то есть привести его к абсолютной монархии, так и козни демагогов, которые, толкая правительство вперед, хотели разбить его о подводные рифы республики.
Его собеседники, за исключением Жюля Кретона, обладавшего более развитым умом, чем остальные, и имевшего на этот счет собственные идеи, слушали г-на Пелюша с той снисходительностью, с какой в провинции непременно встречают парижанина, имеющего двадцать пять тысяч ливров ренты. Однако не берусь утверждать, что в ответ на кое-какие доводы хозяина "Королевы цветов", заимствованные им наполовину из передовиц "Конституционалиста", наполовину из репертуара Жозефа Прюдома, некоторые из его слушателей не поджимали губы в едва уловимой гримасе, вполне похожей на насмешку. Один только Жиродо, остановивший свой выбор на Камилле и извещенный о размерах состояния г-на Пелюша, а потому уже питавший сладкую надежду в один прекрасный день назвать его своим тестем, — один только Жиродо был целиком и полностью согласен с мнением г-на Пелюша и всячески — и жестами, и голосом — выказывал одобрение всем его теориям, как бы избиты или нелепы они ни были.
Но если и существовал какой-то молчаливый протест его слушателей, то г-н Пелюш совершенно ни о чем таком не подозревал. Пребывая в полном восхищении от тех прекрасных рассуждений, которые питались не его умом, а его памятью, и от того впечатления, которое эти прекрасные рассуждения производили в особенности на Жиродо, занявшего место перед г-ном Пелюшем, чтобы ни одно проявление одобрения с его стороны не ускользнуло от отца Камиллы, продавец цветов излагал эти прекрасные рассуждения, наполовину прикрыв глаза и откинувшись назад так, что его живот выдавался вперед, будто утес, способный разбить все возражения.
Наши читатели, надеюсь, будут признательны нам зато, что мы не привели здесь речь г-на Пелюша, где они нашли бы, за некоторым исключением, шаблонный набор фраз, взятый из двух упомянутых нами источников, а также зато, что мы и дальше станем предаваться на этих страницах разного рода размышлениям, которые столь же хорошо, как и собственные слова персонажа, раскрывают его характер, о чем историк — ибо романист есть не кто иной, как историк мира вымысла, — о чем историк, повторяю, желал бы создать у читателей самое точное представление.
Итак, не без удивления узнав о том, каким уважением пользовался Мадлен в своем кантоне, г-н Пелюш испытал небольшой укол ревности, впрочем вполне благопристойной и умеренной, ставшей лишь следствием того лестного мнения, которого он продолжал придерживаться о собственном превосходстве над своим старым другом.
Ведь это истинная правда, что в среде парижских коммерсантов уважение, на какое каждый имеет право, соразмеряется с цифрой его доходов. Но мы не собираемся никому вменять в преступление то, что последователи Барема считают добродетелью, так как иначе и быть не может: торговая жизнь Парижа напоминает схватку, в которой забота о самосохранении не дает возможности слишком глубоко вникать вдела и поступки равного тебе; после схватки производят подсчет, изучают дела друг друга, и тот, кто захватил самую большую добычу, то есть самый хитрый или самый сильный, провозглашается самым достойным. И, как следствие, именно на него, а не на того, кто честнее и порядочнее, благоразумная осторожность велит вам опираться; и именно его, в конце концов, ваш разум советует иметь если не другом, то, по крайней мере, союзником.
В провинции накал борьбы захватывает не до такой степени, и, хотя бескорыстия здесь нисколько не больше, потребности здесь не столь насущны. Здесь заботятся не только об успехе, но и том, какой ценой он был одержан; в провинции можно быть коммерсантом, оставаясь человеком, и здесь обогащаются, не теряя память, и любят и ценят независимо от гроссбуха. Жулик-миллионер не пользуется в провинциальных кругах полной безнаказанностью, и порой слово "жулик", произнесенное неизвестно кем, подхваченное ветром и разносимое шелестом того самого тростника, что три или четыре тысячи лет назад разоблачил царя Мидаса, долетит до ушей миллионера и заставит его вздрогнуть среди наполненного тревогами процветания; тогда как, напротив, качества основательные — порядочность и честность, а также качества привлекательные — ум или просто добродушие, имеют там свою цену и свое хождение, как банковские билеты или монеты.
Чистокровный парижанин, г-н Пелюш не подозревал об этих различиях; поэтому перед лицом неопровержимых доказательств влияния своего друга он стал сомневаться в достоверности полученных от него сведений.
"Этот чертяка Мадлен меня обманул, — сказал он себе. — Наверное, он унаследовал не меньше десяти тысяч ливров ренты".
Однако скромное жилище друга, простота его домашней обстановки быстро показали г-ну Пелюшу, что Мадлен сказал чистую правду и что вовсе не к нему можно приложить итальянскую пословицу: "Danaro е santita, meta della meta", означающую: "В богатство и святость верят наполовину".
Тогда, вместо того чтобы предаваться сомнениям и строить предположения, которые опрокидывали то, что ему казалось логикой здравого смысла, тщеславие г-на Пелюша утешилось, обретя надежды на будущее, вознаграждающие его за нынешнее униженное положение, — надежды, бесконечно льстившие его самолюбию. Он сказал себе: "Если полутора тысяч ливров ренты достаточно, чтобы стать в провинции чем-то вроде сеньора, то с тридцатью или сорока тысячами ливров — сумма, которую г-н Пелюш надеялся получить, отдав коммерции еще пять или шесть лет, — я могу добиться, чтобы меня уважали, как короля".
И г-н Пелюш, предаваясь возвышенным рассуждениям о политике, пытался отыскать на лицах своих слушателей проявления этого уважения.
Мадлен, имевший свои взгляды на г-на Пелюша, увидел, посмотрев на стенные часы, что до появления Анри у него еще есть десять минут, оборвал цветочника в самый разгар его речи и предложил ему пойти вместе в сад, чтобы собрать там десерт для стола.
Вынужденный повиноваться, г-н Пелюш не без некоторого неудовольствия увидел, как группа его слушателей незаметно рассеялась: по приглашению радушного хозяина все прошли в обеденную залу, чтобы, приняв там стаканчик абсента, приготовиться достойно встретить предстоящий завтрак.
XXI
ГЛАВА, В КОТОРОЙ ГОСПОДИН ПЕЛЮШ, ИЗЛОЖИВ ГОСТЯМ МАДЛЕНА СВОИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ, ИЗЛАГАЕТ ЕМУ СВОИ СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕОРИИ
Сад Мадлена, за исключением той липовой аллеи, в которой он предложил прогуляться своей крестнице, не имел ни малейших притязаний ни на роскошь, ни на живописность; это был четырехугольник, разделенный на шесть разбитых через равные промежутки параллельных грядок, между которыми были устроены проходы, чтобы собирать горох, салат, артишоки, капусту, фасоль и картофель; с трех сторон сад был окружен стенами, используемыми вместо шпалер: южная стена была отдана абрикосам и персикам, восточная — увита виноградом, а вдоль северной росли груши; с четвертой стороны шла уже упомянутая аллея лип, между стволами которой в живую изгородь сплетались кусты боярышника; посреди нее простая решетчатая калитка открывала выход в поле. В одном конце этой аллеи, тянущейся более чем на сто пятьдесят метров, стояла скамейка, пригодная для того, чтобы предаваться на ней грезам, как это советовал сделать Камилле Мадлен; на другом конце аллеи находилась площадка для игры в шары, и по воскресеньям, когда она становилась ареной схватки самых прославленных игроков округи, там раздавались веселые крики. Наконец, в предвидении приезда Камиллы, для того чтобы не жертвовать полностью приятным во имя полезного, вдоль живой изгороди, внутри сада, на клочке земли шириной более двух метров Кассий вырастил розы на высоких и низких стеблях, золотарник, осенний безвременник, хризантемы и китайские астры.
Господин Пелюш, вне всякого сомнения, из чувства профессиональной зависти, которую он испытывал к природе, даже не удостоил опустить свой взгляд на то, что показалось ему продукцией конкурента; вместе с тем он долго и искренне восхищался основательными культурами и в равной мере уделил свои восторги тыквам и персикам, капусте и абрикосам, моркови и грушам, невидимому картофелю и красноватым и бархатистым гроздьям винограда, которые проглядывали сквозь багровеющую листву вьющейся лозы.
— Но, — сказал г-н Пелюш, — ты же владеешь настоящим рынком Невинно убиенных; стоит тебе только что-нибудь пожелать, и ты можешь получить это в тот же миг, не развязывая кошелька.
— Добавь к этому, что ни за золото, ни за серебро твой рынок Невинно убиенных не смог бы дать мне таких прекрасных овощей и фруктов, какими мне кажутся эти.
— Черт! — воскликнул г-н Пелюш, раскрыв глаза от удивления. — Так у тебя здесь какие-то особенные сорта, на которые ты имеешь исключительное право?
— Нет, — отвечал Мадлен, прерывая друга. — Все, что здесь есть: деревья, фрукты и овощи, ты найдешь и в других садах Вути и Норуа, если тебе случится туда попасть.
— Хорошо! Однако тогда что за особая прелесть заключена для тебя в этих фруктах и овощах, раз ты предпочитаешь их продуктам с рынка Невинно убиенных?
— Прелесть того, что они твои собственные, друг мой. Взгляни-ка на этот персик, разве он не кажется тебе более красивым, более свежим и более бархатистым, когда краснеет на фоне этой белой стены под этими зелеными листьями, чем когда лежит в корзине продавщицы? Подойди к дереву, на котором он висит, возьми плод в ладонь и, не сжимая, поверни пальцами так, чтобы аккуратно отделить его от ветки, а потом скажи мне, не ощутил ли ты под тяжестью его веса, при прикосновении к нему некую чувственность, которую тебе никогда не приходилось испытывать, покупая самый лучший персик из корзины. Поднимись по этой лестнице, выбери среди гроздьев винограда самую тяжелую, самую зрелую, самую налитую и яркую; зажми между двумя пальцами стебелек, удерживающий ее, а другой рукой садовым ножом или ножницами перережь его — разве ягоды не кажутся тебе гораздо вкуснее даже самого превосходного масла, который в корзинах поставляют из Фонтенбло и который стоит один франк за фунт? Становись землевладельцем, мой друг; собирай свой горошек, дергай свой салат, собственноручно ломай шеи своим артишокам, и ты увидишь, что я ничуть не преувеличил, говоря об этой не изведанной тобою прелести собственности.
— Я ведь не говорю нет, вовсе не говорю нет, — ответил г-н Пелюш после некоторого молчания, и лицо его приняло задумчивое выражение. — Возможно, я и решусь на это, если найду что-нибудь подходящее в этом славном краю, где, как мне кажется, жители сохранили — и это меня сильно растрогало — наивность и простоту прошлых времен, а главное то, что, к несчастью, так редко встречается в наши дни, — почтительность и уважение к людям, стоящим благодаря своему состоянию и общественному положению выше их.
— О-о! — воскликнул Мадлен, чуть насмешливо улыбаясь. — Похоже, мои соседи покорили тебя.
Господин Пелюш распрямился.
— Ты знаешь, Мадлен, я достаточно хороший физиономист, чтобы понять и оценить человека с первого взгляда. Поэтому я с первой же встречи распознал, что твои друзья обладают весьма приятными и серьезными качествами, и уверен, что прекрасно полажу с ними. Одним словом, они произвели на меня очень хорошее впечатление.
— Что же ты скажешь о том, кого ты еще не видел и кого я собираюсь тебе сейчас представить?
— О-о! — воскликнул в свою очередь г-н Пелюш. — Похоже, ты приготовил мне заключительный сноп фейерверка!
— Ему, — проговорил Мадлен, приходя в возбуждение, — ему исполнилось двадцать пять, и у него столько же тысяч ливров ренты.
— Вот как?! — воскликнул хозяин "Королевы цветов". — Так это молодой человек из постскриптума?
— Но его состояние ничто, — продолжил Мадлен, переходя от восхищенности к восторженному воодушевлению, — по сравнению с его качествами. Видишь ли, Пелюш, его качества тянут, по меньшей мере, на добрых сто тысяч ливров ренты.
— Мой дорогой друг, — проговорил г-н Пелюш, в восторге оттого, что он только что придумал, и заранее смеясь тому, что он сейчас скажет, — если бы ты занимался коммерцией, — ибо я не называю, в сущности говоря, коммерцией то, чем занимаешься ты здесь, — если бы ты занимался коммерцией, то тебе было бы известно, что следует начинать с перечня, прежде чем подводить счет.
— Я говорю с тобой серьезно, Анатоль, — возразил Мадлен, — а это бывает со мной не так уж часто, чтобы ты не уделил мне толику своего внимания. Я знавал много светских людей и много простых. Одних я наблюдал вблизи, других — издалека, смотрел на них трезвым взглядом и видел их насквозь, и никогда, клянусь тебе, мне не встречался человек более одаренный, чем тот, о ком я сейчас тебе говорю. Он богат, скромен, милосерден, элегантен, образован, непритязателен, любезен, смел, как лев, и кроток, как девушка. Никогда, Пелюш, слышишь, никогда я не встречал более благородного сердца и более возвышенной души. Моя любовь к нему невольно заставляет меня сказать тебе, что я о нем думаю. Быть может, мне стоило дождаться, пока ты не составишь о нем свое собственное мнение. Видя его, слушая его, невозможно не попасть под его обаяние: оно неотразимо.
Господин Пелюш выслушал Мадлена с еще большим вниманием, чем слушал тогда, когда речь шла о персиках, абрикосах и винограде.
— Странно, — заметил он, — я его видел, я его слышал, твоего господина Постскриптума, и он совсем не произвел на меня подобного впечатления.
— Ты его видел?.. Ты видел Анри?.. Ты знаешь Анри?
— Господина графа Анри де Норуа? Разумеется, я его видел… Высокий брюнет… довольно смазливый молодой человек, согласен, с точки зрения нынешних вкусов… этакий денди… держит себя с нарочитой учтивостью, которую я назвал бы дерзостью.
— Анатоль… — попытался прервать его Мадлен.
— Да, да, которую я называю дерзостью, поскольку она всего лишь способ показать, что ты сделан из другого теста, чем остальные люди.
— Но неужели ты предпочел бы, чтобы у него были манеры ломового извозчика?
— Недостойно копирующий… — продолжал владелец "Королевы цветов", не обращая внимания на слова Мадлена, — недостойно копирующий в своей одежде и манерах этих островитян, одно только имя которых должно быть ненавистно каждому доброму французу. Одним словом, — подытожил г-н Пелюш, — у него вид фата. Таков мой портрет твоего Анри, Мадлен. Он нисколько не похож на только что нарисованный тобой, но мой, по крайней мере, имеет то преимущество, что он точен.
— Черт! — вскричал Мадлен, расхохотавшись. — У тебя это получается — составлять опись примет.
— Я же тебе говорил, что я физиономист, — ответил г-н Пелюш, и в голосе его зазвучали довольные нотки. — А теперь, старина Кассий, я пойду прямо к цели и откровенно выскажу тебе все, что я думаю. Когда я слушал твои высокопарные похвалы в адрес господина Анри, мне казалось и до сих пор кажется, что ты серьезно намерен предложить мне для моей дочери это чудо из чудес, называемое тобой господином Анри. Я поделился с тобой впечатлением, какое он произвел на меня. По-моему, сказано достаточно, и это значит, что до тех пор, пока господин Анри не заставит меня изменить мнение, какое у меня составилось о нем, мне будет весьма неприятно, если ты станешь настаивать на предложении, которое, на мой взгляд, ты несколько поторопился сделать мне.
— Но твоя дочь, но моя добрая маленькая крестница Камилла, возможно, не будет столь же категорична в своих суждениях. Посмотри, вон она гуляет там в липовой аллее; я вижу ее отсюда, нам надо сделать всего сто шагов, чтобы оказаться рядом с ней. Это не столь уж большое беспокойство, когда речь идет о деле такой важности. Хочешь, узнаем ее мнение?
— Зачем? — высокомерно спросил г-н Пелюш. — Разве выбор мужа касается самих девушек?
— Не знаю, касается ли их это лично, — смеясь ответил Мадлен, — но несомненно это их интересует.
— Это их интересует?! Ну-ну, хорошенькие же глупости мы наделаем, если только начнем советоваться с ними, спрашивать их мнение по этому поводу. Нет! Камилла выйдет замуж за того человека, которого изберу ей я! Камилла получит мужа из моих рук. Впрочем, моя дочь слишком хорошо воспитана и слишком любит меня, чтобы даже хоть на мгновение помыслить о том, что можно быть счастливой с мужем, не устраивающим ее отца.
Мадлен пожал плечами.
— Пожимай плечами сколько хочешь, Кассий. Прежде всего будущий зять должен понравиться мне, а уж после этого моей дочери.
— Послушай, мой бедный Пелюш, — возразил Мадлен, — позволь мне сказать тебе вот что: именно из-за таких принципов появляются несчастные семьи, неверные жены и злые матери. Как ни воспитана, покорна и послушна девушка, будет вызовом Провидению и искушением Господа толкнуть к ней в объятия человека, которого она не любит и, быть может, никогда не полюбит, под тем предлогом, что он подходит… ее родителям, хотя не им придется жить с ним. Я слышал, как по поводу дуэлей говорили, что убивают секунданты, а не противники. К несчастью, по поводу браков то же самое можно сказать и о родителях. Впрочем, я всегда видел в тебе, если не считать твоей гордости — ибо ты гордец, мой бедный Анатоль, хотя и не подозреваешь этого, — я всегда видел в тебе благоразумного человека. Ну а отвергнуть того, кого ты едва разглядел, кого ты можешь упрекнуть лишь в том, что он был слишком вежлив с тобой, отвергнуть его бесповоротно, даже не познакомившись поближе, только потому, что он не имел счастья понравиться тебе, было бы признаком не благоразумия, а полного безрассудства. Если бы ты мог мне привести хотя бы одно серьезное возражение, я бы поспорил с ним, но его нет. Я должен, словно Дон Кихот, сражаться с ветряными мельницами.
— Ну так вот! — воскликнул г-н Пелюш. — Вот тут ты ошибаешься, у меня есть одно возражение.
— Какое?
— Господин Анри — дворянин, он аристократ, граф и потому должен презирать буржуазию.
— Ты и сам отлично видишь, что нет. Это ведь он был учтив с тобой, а ты был с ним груб.
— Он тебе сказал, что я был груб с ним… вот как!
— Он не мог мне этого сказать, потому что совсем не знал тебя и даже не подозревал, что мы с тобой знакомы. Но я догадался об этом.
— Догадался, не догадался… Никогда я не соглашусь отдать свою дочь за графа.
— Надо же! Ты, считавший меня прежде якобинцем, настроен теперь еще решительнее, чем я. Вот как, пресловутый "красный признак" больше не внушает тебе ужас? Черт! Вот гражданин Пелюш, считающий принадлежность к дворянству непоправимым изъяном, вроде пребывания на каторге.
— Господин Кассий! — вскричал г-н Пелюш, свирепея от того, что его назвали гражданином, и вставая в позу оратора. — Дворянство — это пережиток, с которым революция восемьдесят девятого года справедливо покончила.
— Не считая той, что была в девяносто третьем году.
— Об этой я не говорю, сударь. Я говорю о революции порядочных людей, о революции господина де Лафайета, господина… господина… господина де Лафайета, наконец; и в самом деле, — продолжал он, придав своему голосу самую язвительную интонацию, — разве не вздор отдавать преимущество случайности рождения? Разве не отвратительно видеть, что общественные прерогативы навсегда отобраны у населения в пользу обособленной группы, едва составляющей его тысячную часть? Да, господин Кассий, едва его тысячную часть: таков подсчет господина Шарля Дюпена, и я имею честь предъявить его вам. И заслуга наших отцов в том, что теперь не существует больше другого превосходства, кроме того, что дается заслугами, добродетелями и умом; вот почему я, Пелюш, считаю себя гораздо знатнее, чем целая куча графов и маркизов! Как национальный гвардеец я доблестно сражался с анархией; как предприниматель я способствовал процветанию и славе Франции!
— Какой черт станет говорить обратное?
— Моя честность, моя любовь к порядку, верность глаза в делах, мое самообладание во время мятежей принесли мне высокое звание, видное общественное положение и, наконец, звезду, награду храбрецов, и ты хочешь, чтобы моя совесть пошла на уступки, чтобы я унизил все это, чтобы я смирился с необходимостью называть мужа моей дочери "господин граф" и слышать, как он в ответ называет меня просто "господин Пелюш"? Никогда, Кассий! Никогда!
— Вот мы и добрались до сути! Я не ошибся, Пелюш, говоря, что ты гордец.
— Гордец! Пусть так! Но я не Жорж Данден!
— Послушай, тебе предстоит часто встречаться с моим другом, и если ты не имеешь к нему других претензий, кроме его знатности, что ж! Я все еще не теряю надежды устроить дело ко всеобщему удовольствию.
— И наконец, Кассий, не стану скрывать от тебя, что, увидев такую же ленточку, какую имею честь носить и я, в петлице двадцатипятилетнего мальчишки, я задался вопросом: что мог сделать это молокосос, чтобы заслужить ту же награду, что и я, старый солдат, прослуживший двенадцать лет в славном гражданском ополчении и завоевавший чин капитана со шпагой в руках? И я намереваюсь спросить у него за завтраком, каким образом он заполучил свой крест.
— Спроси у него об этом, и он ответит.
— Боюсь, что ему будет весьма затруднительно это сделать, — заносчиво заметил г-н Пелюш.
— Да; ведь я тебе говорил, что это самый скромный молодой человек, какого я знаю. Но я тебе отвечу за него. Нет, Анри не прослужил, подобно тебе, двенадцать лет в национальной гвардии, однако он добровольцем участвовал в двух африканских кампаниях. В первой, в Кабилии, он, служа под командованием генерала Юсуфа, взял в плен арабского шейха и захватил знамя; во второй он сопровождал герцога Орлеанского во время перехода того через Железные ворота и в одиночку освободил полковника, похищенного шестью арабами: троих из них Анри убил и двух ранил, причем сделал это все пятью выстрелами из револьвера — ведь мой крестник стреляет из пистолета почти так же, как его крестный стреляет из ружья. А так как этот воинский подвиг, равного которому ты, быть может, не сумеешь припомнить за все двенадцать лет твоей службы, был совершен на глазах его королевского высочества, принц снял свой собственный крест и вручил его Анри, так что мой крестник не простой кавалер ордена Почетного легиона, а его офицер.
— Гм-гм! — хмыкнул г-н Пелюш, затрудняясь что-либо возразить на подобный довод. — Все равно… что касается господина Анри, мое решение неизменно. Камилла выйдет замуж лишь за того, кто, как ее отец, нажил состояние благодаря своему труду и своей смекалке, а не за щёголя, который всего-навсего взял на себя труд появиться на свет. — Затем г-н Пелюш простер руку и торжественно добавил: — Я так сказал!
Господин Пелюш вложил в этот жест все величие, которое он был способен изобразить, и при этом обнаружил, что они подошли к воротам сада.
В их проеме г-н Пелюш заметил Жиродо, к которому у него возникла тайная симпатия и на котором он, безусловно, остановил бы свой выбор, если бы у того были двадцать пять тысяч ливров ренты г-на Анри.
Сборщик налогов казался сильно смущенным. Он подошел к Мадлену и, опасаясь восстановить против себя отца Камиллы, объявил своему другу, что Фигаро так и не появлялся и что, горячо желая найти его, он, Жиродо, дважды обошел вокруг фермы и внимательно осмотрел все дали горизонта, однако ему так и не удалось обнаружить ни малейших признаков беглеца.
Мадлен не счел себя обязанным более скрывать эту плачевную новость от г-на Пелюша. Он откровенно ему рассказал, как обстоит дело, и предложил подняться вместе на вершину небольшого холма, откуда открывался вид на все окрестности.
Поскольку г-ну Пелюшу не оставалось пока ничего лучшего, чем последовать совету Мадлена, так как до того времени, к какому ждали г-на Анри к завтраку, еще было около десяти минут, он ограничился тем, что бросил на г-на Жиродо, немедленно потерявшего девяносто процентов его уважения, испепеляющий взгляд и, пробормотав себе под нос "Растяпа!", тронулся вслед за Малленом. Не желая изменять привычке, г-н Пелюш предусмотрительно сделал первый шаг с левой ноги.
XXII
КАК ГОСПОДИН ПЕЛЮШ И ГОСПОДИН АНРИ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДРУГ ДРУГУ БЛАГОДАРЯ ПОСРЕДНИЧЕСТВУ ФИГАРО
Как и был склонен полагать Мадлен, Фигаро не вернулся в гостиницу "Золотой крест"; будучи настоящим грабителем, он приступил к обстоятельном у обследованию коммуны Вути, намереваясь позже перебраться в коммуну Норуа, а оттуда в соседние коммуны.
Двигал ли Фигаро инстинкт или вела его любовь к прекрасному, но свой первый визит он нанес в чудесный зеленый массив, благоухающий цветами, в центре которого высился замок г-на Анри де Норуа.
Английский парк тем более пришелся псу по вкусу, что, окруженный простой живой изгородью, он давал возможность покинуть его так же легко, как и проникнуть в него. Не найдя ничего достойного, что было бы способно удержать его в этом Эльдорадо, пес всегда мог бы взять курс на Виллер-Котре и вновь оказаться в обеденной зале "Золотого креста", где его ждала законная подстилка.
Быть может, Фигаро после довольно продолжительных поисков в парке и решился бы на этот крайний шаг, как вдруг, когда он перебегал от зарослей сирени к кустам рододендронов, раскинувшихся на краю обширной лужайки, ветерок донес до него резкий запах, который, судя по тому, как загорелись зрачки пса и в какое лихорадочное возбуждение пришли его ноздри, широко раздуваясь и глубоко вбирая в себя воздух, должен был доставить собаке огромное наслаждение.
Повернувшись носом в ту сторону, откуда вместе с ветром долетал этот терпкий аромат, и удостоверившись в том, что он не ошибся, Фигаро без малейшего колебания проскользнул между ветками кустарника и направился прямо к цели. Чем дальше он продвигался, целиком поглощенный запахом, который притягивал его так же, как магнит притягивает железо, тем ближе прижимался к земле.
Вскоре сквозь листву он заметил на лужайке животное, щипавшее траву с безмятежностью, говорившей — даже самому неискушенному взгляду, — как мало оно подозревает о грозящей ему опасности.
Это животное весьма напоминало косулю: его движения были столь же грациозны, линии тела столь же изящны, однако своими размерами оно было несравнимо меньше. Золотисто-коричневатый цвет его шерсти постепенно светлел на боках, а на животе плавно переходил в белый. Его огромные черные глаза навыкате были одновременно удивительно живые и чрезвычайно кроткие. Его рога, слегка изогнутые на концах, подобно рогам серны, и кольчатые от основания до самой середины, гораздо больше служили ему украшением, нежели средством защиты.
Мы вовсе не будем утверждать, будто Фигаро удивила встреча с этим странным четвероногим. Фигаро не удивлялся ничему и уделял весьма незначительное внимание научным классификациям натуралистов, которые в его глазах все были равны, начиная с г-на Бюффона, писавшего на коленях у Природы, и кончая Уотертоном, ехавшим верхом на спине каймана. Достаточно было того, что неизвестное четвероногое казалось дичью, чтобы пес счел его достойным своего внимания и вознамерился познакомиться с ним самым тесным образом.
Фигаро сделал стойку и несколько минут с невозмутимым и уверенным видом пребывал в этой позе, время от времени оборачиваясь, словно желая узнать, не придет ли ему на помощь кто-нибудь из охотников. Наконец, убедившись, что он совершенно один, Фигаро затаился, и в тот миг, когда газель — мы уверены, что читатели узнали газель в животном, которое выслеживал Фигаро, — неосторожно приблизилась к нему, собака прыгнула и бросилась на нее.
Испуганная этим внезапным появлением, бедная газель отпрыгнула в сторону и таким образом избежала смертельной хватки Фигаро; но пса уже невозможно было остановить. Видя, как уже говорилось, что никто не придет ему на помощь, он со своей обычной сообразительностью отказался от всех традиций выслеживания и пустился в погоню, заливаясь оглушительным лаем, который на четверть льё в округе мог заставить предположить, что в парке г-на де Норуа спустили целую свору собак.
Положение бедного животного осложнялось тем, что газель длинной веревкой была привязана к столбику, и, чтобы уйти от своего свирепого преследователя, она вынуждена была пуститься в бег по кругу, напоминавший тот выдаваемый за настоящий стипль-чез, что устраивают в Олимпийском цирке. Уверенный в своей победе и добыче, Фигаро подвывал, как бы подавая сигнал к расправе, и все ускорял свой бег; однако в то мгновение, когда он уже почти настиг животное, газель, приведенная в отчаяние неотвратимо грозившей ей опасностью, сделала усилие, порвала свои путы, взяла разгон и, воспользовавшись этим, скрылась в зарослях.
В эту минуту Анри де Норуа спускался по крыльцу замка, направляясь к Мадлену; он увидел опасность, которой подвергалась газель, и устремился ей на помощь.
К несчастью, его вмешательство запоздало. Газель не заметила его и поэтому не смогла отдаться под покровительство своего хозяина. Преследование теперь велось в парке площадью в тридцать арпанов, и Анри мог ориентироваться лишь по лаю, ставшему теперь более редким. Молодой человек поспешил выйти из парка, рассчитывая, что газель также покинет его, увидит хозяина и по привычке подбежит к нему. Но бедное животное было слишком испугано; Анри увидел, как оно, описав огромный круг по равнине, повернуло в сторону сада Мадлена и устремилось в липовую аллею.
Вдруг из этой липовой аллеи до молодого человека донесся пронзительный женский крик. Голос, казалось, звал на помощь.
В одно мгновение Анри оказался в начале аллеи, на другом конце которой он увидел девушку, державшую на руках газель. Она поднимала животное так высоко, как только ей позволяли руки, и пыталась уберечь его от укусов и нападок Фигаро, который в это время подпрыгивал так высоко, как только мог, чтобы достать добычу.
Анри де Норуа появился вовремя: девушка выбилась из сил.
Анри, собиравшийся днем совершить прогулку верхом, держал в руке хлыст. Он три или четыре раза изо всех сил стегнул им по спине предприимчивого Фигаро. Пес тут же прекратил свои атаки и, рыча, отбежал на несколько шагов, однако было очевидно, что он нисколько не отказался от своих кровожадных намерений.
Лишь когда Анри отогнал Фигаро, девушка позволила себе опуститься на скамейку, прижимая при этом бедную дрожащую газель к груди и приходя в восторг от ее грациозности, в то время как Фигаро с бесстыдством, порожденным привычкой к преступлениям, продолжал сидеть в десяти шагах от них, тяжело дыша и высунув язык, но по-прежнему устремив свои пылающие яростью глаза на невинную добычу, которой он рассчитывал заменить свой завтрак в "Золотом кресте".
Едва Анри очутился лицом к лицу со спасительницей своей газели, как он тут же узнал в ней свою спутницу по путешествию в дилижансе прошлой ночью, а Камилла в свою очередь, едва она перестала заниматься с газелью и бросила взгляд на своего избавителя, тут же узнала в нем владельца того самого замка, хозяйкой которого посоветовал ей стать ее крестный отец; тотчас она почувствовала, как краска заливает ей лицо, и, чтобы скрыть смущение, принялась подзывать Фигаро, тогда как молодой человек, желая рассеять собственное волнение, приготовился возобновить наказание, и Фигаро, полагавший уже себя избавленным от него, оказался перед угрозой получить вторую порцию ударов.
Но Камилла голосом, который волнение нисколько не лишило его нежной и мягкой прелести, сказала:
— О! Не бейте эту собаку, сударь, это Фигаро.
— Я ее знаю и узнаю, мадемуазель, это собака из гостиницы "Золотой крест", где мы высадились утром из дилижанса.
— Прошу простить, сударь, но теперь она принадлежит моему отцу. Он купил ее, чтобы ходить с ней на охоту, поэтому не стоит слишком сильно сердиться на нее за то, что она преследует дичь, ведь это предназначение бедного Фигаро; но если вся дичь походит на это несчастное крохотное существо, то мне хотелось бы всегда оказываться рядом, чтобы спасать животных от зубов собаки.
И Камилла сопроводила это пожелание нежным поцелуем, который она запечатлела на черно-белой мордочке газели, а та уже так освоилась со своей спасительницей, что покусывала ее прелестные пальчики.
— В самом деле, — улыбнулся молодой человек, — Фигаро страстный охотник, и его мало волнует, находится ли он на своих землях или чужих, и имеет ли он право охотиться; одним словом, Фигаро браконьер.
— Фигаро безусловно виновен, сударь, — произнесла Камилла, — но, поскольку я вступаюсь за него, мне хочется надеяться, что хозяин парка, где он охотился, простит его.
— А на чем основана ваша надежда, мадемуазель?
— Прежде всего на всем известной учтивости господина Анри де Норуа, — ответила Камилла, слегка поклонившись и, казалось, не замечая жеста удивления, который не мог сдержать молодой человек, — а еще на том, что между господином Анри и мною существуют узы, которые я считаю слишком важными, чтобы опасаться, что он ими пренебрежет.
— В самом деле, мадемуазель? — вскричал Анри с выражением такой живой и такой искренней радости, что он даже не пытался ее скрыть. — Что же это за узы, позвольте спросить вас, не будучи слишком нескромным?
— Ведь его крестный отец — господин Мадлен?
— Так что же?
— Но я тоже его крестница.
— Как? — вскричал Анри. — Вы крестница Мадлена? Вы мадемуазель Камилла?
— Да, господин граф, — ответила девушка. — И если понадобится убедить вас в этом, то я поставлю мое имя и мое звание под просьбой о помиловании, которую я имею честь подать вам в защиту виновного, но неисправимого Фигаро.
Анри едва слышал то, что она говорила, и смотрел на нее с изумлением, слишком явно проступавшим на его лице.
И в самом деле, вот уже в течение нескольких месяцев дочь богатого торговца цветами служила предметом всех разговоров Мадлена: тот только и делал, что расписывал ему прелесть, обаяние и добродетели своей крестницы. Превосходная степень, призванная Мадленом себе в помощь, произвела не такое уж большое впечатление на сознание его крестника, который, не доверяя вкусу старого охотника и обеспокоившись самой чрезмерностью его восторгов, всегда выслушивал его с улыбкой недоверия и сомнения на устах и предусмотрительно подготавливал себя к некоему ужасному разочарованию.
И вот вместо неловкой, чопорной, скованной, уродливой, быть может, и уж несомненно вульгарной девицы, которую его воображение создало из преувеличенных похвал его старого друга, он вдруг очутился перед лицом реальности, и она превзошла все восторги Мадлена, ибо в облике девушки необычайная изысканность сочеталась с простотой, а красота Камиллы, скорее, как мы уже говорили, чарующая, чем совершенная, подчеркивалась удивительно нежным и ласковым выражением лица.
— Я благодарю вас, мадемуазель, — сказал Анри, — за то мнение, что вы составили обо мне, даже не будучи со мной знакомой, и во имя уз, на какие вы только что ссылались, умоляю вас дать мне руку.
Камилла, улыбаясь, с увлажненным взором, протянула руку Анри, который, взяв ее, почтительно и нежно прикоснулся к ней губами и вздрогнул сам, почувствовав, как дрожат пальцы девушки.
— Отлично, отлично, неплохое начало, — раздался позади молодых людей голос, заставивший их встрепенуться. — И мне очень приятно, что и я кое-что сделал ради того, чтобы вы заключили здесь этот союз!
В то же самое время из зарослей орешника показалась худая костистая фигура Мадлена: находясь под прикрытием ветвей, он слышал почти весь разговор молодых людей.
Камилла испуганно вскрикнула; Анри поспешно отодвинулся от нее.
— О! Не бойтесь, мои дорогие дети, — продолжал Мадлен. — К счастью, это только я. Вы познакомились? Замечательно! Вы не могли лучше употребить время. Ну вот, теперь, помимо своей собаки, мой друг Пелюш лишился также и дочери, а поскольку время завтрака уже настало, то необходимо срочно вернуть ему и ту и другую, чтобы он не утратил аппетита. А! Мне кажется, что ты подарил свою газель моей крестнице! Это добрый знак, небольшие подарки поддерживают дружбу; ведь доставал же я — не имея возможности подарить газель, поскольку в мое время до Алжира еще не додумались, — ведь доставал же я из гнезда диких голубей и горлиц, чтобы преподнести их, с розовой ленточкой на шее или на лапках, моим пастушкам. Это ввел в моду некто Флориан.
— Вовсе нет, — ответил Анри, — вы ошибаетесь, дорогой крестный; Блида сама препоручила себя в руки мадемуазель Камиллы, отчасти, правда, для того чтобы ускользнуть от господина Фигаро, но этим поступком она доказала слишком большую свою сообразительность, чтобы я имел право оставить ее у себя.
— Как?! — вскричала Камилла. — Неужели это очаровательное маленькое существо принадлежит мне? Господин де Норуа, как я вам признательна!
И, не сводя глаз с Блиды и прижимая ее к груди, Камилла поблагодарила Анри самым изящным реверансом из всех, какие она умела делать.
— Ну-ну, дети мои, — сказал Мадлен, — дарите друг другу все, что хотите, уж я-то не стану мешать вашему свободному обмену; но что касается реверансов, то, пожалуй, следует пойти и засвидетельствовать почтение моему другу Пелюшу, а то он сегодня что-то не в духе. Давайте-ка определим порядок и ход этой церемонии. Ты, Анри, постарайся поймать господина Фигаро за поводок и крепко держи его, поскольку не следует от тебя скрывать, что он глядит на несчастную Блиду голодными глазами. А ты, Камилла…
Но Камилла больше ничего не слушала. В конце липовой аллеи она заметила своего отца и побежала ему навстречу, крича:
— Отец, отец! Посмотрите, какую прелестную антилопу хотел задушить Фигаро. Видите, какой у нее кроткий нрав, как она очаровательна. Ее зовут Блида — это название маленького городка в окрестностях Алжира. Мне ее подарил господин де Норуа, и одновременно он возвращает вам потерявшегося Фигаро. Вам следует поблагодарить его за Блиду, причем как можно лучше-, отец, потому что никогда еще ни один подарок не доставлял мне такого удовольствия.
Несмотря на произнесенную Камиллой речь, г-н Пелюш нахмурил брови, когда Анри, ведя Фигаро на поводке, как ему посоветовал Мадлен, в свою очередь приблизился к г-ну Пелюшу.
Что касается Мадлена, то под предлогом того, что ему необходимо дать звонок к завтраку, он исчез.
Вид Фигаро слегка разгладил морщины на лице г-на Пелюша, и он довольно любезно поклонился, когда Камилла произнесла слова, принятые для представления людей друг другу:
— Господин де Норуа — мой отец!
Если правда, что ловкость — неразлучная сестра любви, то г-на Анри де Норуа уже весьма сильно захватило это чувство, поскольку, будучи не менее опытным физиономистом, чем г-н Пелюш, молодой человек мгновенно отыскал слабую сторону отца Камиллы и так умело польстил его тщеславию, непомерно восхваляя Фигаро и восхищаясь ружьем цветочника (тот взял его с собой, отправляясь на поиски своей собаки), что нахмуренное лицо г-на Пелюша полностью разгладилось и засияло, и, обращаясь к молодому человеку, он сказал, забирая у него из рук Фигаро:
— Полагаю, господин де Норуа, что вы пойдете с нами?
— Почту это за честь, сударь, — ответил Анри.
— В таком случае, прошу вас, предложите вашу руку моей дочери и отправимся в обеденную залу, поскольку колокольчик приглашает нас к завтраку. Не скрою от вас, что, гоняясь как бешеный за этой чертовой собакой, я зверски проголодался!
Около ворот фермы они встретили Тома: он вел своему хозяину лошадь, ибо Анри собирался после завтрака отправиться на верховую прогулку.
Но с недавнего времени намерения молодого человека изменились, и он по-английски обратился к своему груму:
— Take Darling into his stable, I shall not mount him today[13].
— And why not today, sir Henry?[14] — спросила Камилла на том же языке.
Анри вздрогнул, настолько мало он был готов к подобному сюрпризу.
— Потому что, — на этот раз уже по-французски ответил он с поклоном, — я полагаю, что сегодня у меня есть более важные дела, чем прогулка верхом. — Затем, повернувшись к г-ну Пелюшу, он добавил: — Примите мои комплименты, сударь, мадемуазель говорит по-английски как природная англичанка.
— Да, — кивнул г-н Пелюш и с выговором улицы Бур-л’Аббе произнес: — English spoken here[15].
Следует пояснить, что эти три слова, написанные на окнах "Королевы цветов", были единственными английскими словами, которые знал г-н Пелюш и значение которых было ему понятно.
Анри подавил улыбку, Камилла безуспешно попыталась скрыть краску на лице, и так они вместе вошли в обеденную залу, где накрытый стол давно уже ожидал гостей.
Мадлен с удовлетворением взглянул на группу, состоявшую из г-на Пелюша, Камиллы, Анри, Блиды и Фигаро; затем в интересах людей и животных он предложил:
— Послушайте, если мы хотим позавтракать спокойно, то необходимо поместить собаку с одной стороны стола, а газель — с другой.
— Я отведу Блиду в мою комнату, крестный, не волнуйтесь, — ответила Камилла.
Затем она обратилась к г-ну Пелюшу:
— Поцелуйте же ее, отец. Разве можно встретить более очаровательное маленькое создание?
— Да, — согласился г-н Пелюш, — у нее есть рога; такое животное мы, охотники, называем косулей.
Затем со вздохом, уже заранее испытывая страх, он пробормотал:
— Что скажет Атенаис, когда увидит, как я возвращаюсь с собакой, а Камилла с косулей?
XXIII
ЗАВТРАК
Стол был накрыт в большой зале первого этажа с той непритязательностью, которая во всем отличала жилище Мадлена. Скатерть из грубоватого полотна, но ослепительной белизны, покрывала стол; тарелки из простого фаянса, расписанного красными, желтыми, голубыми узорами, обозначали место каждого сотрапезника; масленка, супница и некоторые другие предметы великолепного севрского и саксонского фарфора составляли резкий контраст с этими наивными образчиками примитивного искусства ремесленника, изготавливавшего фаянс. Расставляя эти блюда, никто не руководствовался этикетом или правилами симметрии; вместо того чтобы быть хоть как-то сгруппированными, они громоздились на столе как попало, в беспорядке, малоприятном для глаза, но в изобилии, которое должно было доставлять удовольствие желудкам, распаленным ходьбой и свежим воздухом; гигантская щука и огромная кабанья голова находились справа и слева от блюда, на котором возвышалась настоящая гора редиса, и скромность этой закуски подвергалась тяжелому испытанию из-за таких непривычных почестей. Зато крутобокая красочная супница, уже упомянутая нами, источавшая крепкие ароматы густого лукового супа, располагалась на самом конце стола, а на другом его конце, в пару ей, стояли взбитые с сахаром яичные белки; между ними, соединяя эти два кушанья, тянулся двойной ряд блюд, так же плохо державший строй, как рота деревенских пожарных вдень торжественных смотров. На эти блюда, казалось, была возложена обязанность предложить сотрапезникам образцы всех местных продуктов: мясо и рыбу, дичь и овощи, фрукты, молочные изделия, кремы и пирожные — и все это в таких размерах и в таком изобилии, что, даже проведя за столом три дня и три ночи, гости Мадлена вряд ли смогли бы воздать должное всем этим съестным припасам.
И однако это изобилие настолько полно соответствовало местным обычаям при подобных обстоятельствах, что ни одного из соседей Мадлена такое, казалось, не удивляло.
Совсем иначе чувствовал себя г-н Пелюш, приученный к приземленному существованию буржуа, к экономным обеденным приемам, которые, в соответствии с требованиями г-жи Атенаис, полностью окупали бы расходы ближайших дней; привыкший слушать постоянные сетования супруги на непомерные цены различных продуктов, цветочник был одновременно оскорблен и испуган тем, что в его глазах представлялось безумной расточительностью его друга, и, нахмурив брови и время от времени с сочувствием посматривая на Мадлена, он принимался подсчитывать стоимость того, что находилось в каждой тарелке, желая оценить, во сколько обошелся этот пир, по сравнению с которым ежегодный банкет, устраиваемый его товарищами по национальной гвардии, казался ему отныне всего лишь довольно скромным пикником.
Он так погрузился в эти подсчеты, что не только забыл о намерениях, внушенных ему любезным отношением Анри де Норуа к Камилле, в частности о решении удерживать подле себя дочь во время обеда, но и вдобавок к тому не заметил, что все сотрапезники прошли к своим местам и, стоя, ожидали появления молодой особы.
Голос Мадлена вывел его из этих раздумий; хозяин приглашал г-на Пелюша занять место между г-ном Редоном, мэром Норуа, только что прибывшим, и г-ном Жиродо, в центре стола, где для него было оставлено кресло; и только тогда цветочник увидел, что один стул пустовал и, конечно же, предназначенный для Камиллы, этот стул соседствовал с местом молодого дворянина.
Торговец цветами был достаточно хорошо воспитан, чтобы ничем не обнаружить свое недовольство, но он так мало привык обуздывать свои впечатления, что его скверное настроение бросилось всем в глаза; это его настроение ухудшилось вдвойне при виде того, как его дочь с готовностью и удовольствием, которые она и не пыталась скрыть, расположилась в этом соседстве, вероятно подстроенном ее крестным.
И именно Камилла дала отцу повод излить всю желчь, вот уже несколько минут копившуюся в его сердце.
— Ах, Боже мой! — воскликнула она, в свою очередь окидывая взглядом стол. — Но вы нам тут задали, крестный, настоящий свадебный пир Камачо; надеюсь, вы не заставите нас съесть это все?
— Да, — проговорил г-н Пелюш язвительно, — ради чего вся эта роскошь, которую я, не колеблясь, назову безрассудной? Признаюсь, я никогда бы не принял твоего приглашения, если бы мог предположить, что оно послужит для тебя поводом совершить подобные траты.
Мадлен рассмеялся.
— Стоит ли так тратиться на друзей, — наставительно продолжал г-н Пелюш, — и разве самым лучшим доказательством питаемой к ним любви не является сердечность, с какой их принимают?
— Напротив, сударь, — отвечал Жюль Кретон, — мне кажется, что как раз на друзей и следует тратиться. Вот уж прекрасное доказательство расположения к друзьям: позвать их на обед и под предлогом, что питаешь к ним любовь, морить голодом. Уверяю вас, что касается меня, то кусочек этой щуки или этой кабаньей головы, не считая тех сосисок Баке, что придутся на мою долю, добавят к сердечности приема, оказанного нашим общим другом, некую прелесть.
— Я привык гораздо быстрее читать твои мысли, чем свою газету, дружище Пелюш, — проговорил Мадлен, — и я спешу осведомить тебя о том, что ты называешь моей разорительной роскошью, поскольку я убежден, что ты скорее обречешь себя на голодную диету, чем станешь косвенным виновником моего разорения. Ты больше не в Париже, мой старый товарищ, где все взвешивается и где за все надо платить, даже за тот испорченный грязный воздух, которым там дышат. В провинции, конечно, еще есть, и это правда, посредники между Господом Богом и нами, но обычно мы имеем дело прямо с ним, и он ведет себя гораздо сговорчивее, чем перекупщики на твоих рынках. Будь внимателен! Для начала вот дюжина блюд, на которые было потрачено ровно столько же зарядов свинца и пороха; признайся, что это вовсе не разорительно; эта щука обошлась мне еще дешевле: хватило одного броска накидной сети; стоящая перед тобой пирамида из раков, признаюсь, более разорительна: я действительно купил на четыре су терпентинного масла и, чтобы приманить раков в мои садочки, обрызгал им лягушек, предварительно сняв с них кожу. Что касается этих овощей и фруктов, то я тебе только что говорил, как справедливо добрая мать-земля одаривает своих детей, учитывая лишь их труды и нисколько не заботясь об их общественном положении; я добавил бы еще, что эти каплуны и эти утки поставлены к столу с моего птичьего двора, и за исключением двух последних недель своей жизни они питались, разумеется за мой счет, но главным образом зерновыми отбросами, не позволив им просто пропасть. Итак, если бы мне пришло в голову посчитать, что стоило собрать, приготовить и сдобрить приправой все стоящее перед тобою на этом столе, принимая во внимание стоимость этих отбивных и этого куска телятины, являющих здесь собой мясо убойного скота, то могу тебя заверить, что после этой пирушки я стал бы беднее всего лишь на один луидор.
Господин Пелюш, видимо, был просто ошеломлен этим простым обоснованием экономичности деревенского кулинарного искусства.
— Вы обладаете исключительным правом на умственные наслаждения, — произнес органист Жиродо, — а материальные радости хорошего стола — это то малое, что остается бедным провинциалам в качестве возмещения.
— А также право и возможность иметь несварение желудка, — добавил Жюль Кретон.
— Все равно, — отвечал г-н Пелюш, не желавший сдаваться, — даже если это изобилие не стоило бы и сантима, я и тогда не одобрил бы его. Нас четырнадцать человек за этим столом, и я уверен…
— Прошу прощения, — с некоторой резкостью вскричал Мадлен, — позволь мне прервать твой счет: ты ошибаешься!
— Почему? — спросил г-н Пелюш, обводя глазами сотрапезников.
— А бедняки, о них ты забыл?
Господин Пелюш посмотрел на старого друга со своего рода изумлением, но ничего ему не ответил, в то время как растроганная Камилла послала крестному улыбку.
— О да, — сказал папаша Мьет, который, с чисто юношеским пылом работая челюстями, не хотел упустить возможность отблагодарить хозяина, ведь это ему ничего не стоило. — Этот дом открыт для всех, господин парижанин, все нищие, приходящие сюда с пустой котомкой, уходят с двумя набитыми мешками наперевес.
— Это правда, — добавил г-н Редон, — и я бы очень желал, чтобы его пример стал заразительным для всех жителей коммуны.
При этих словах мэр лукаво посмотрел на папашу Мьета, чтобы дать тому яснее понять, что он как раз из числа тех, кого касается это пожелание, но старик даже бровью не повел. Напротив, он отправил очередной кусок в свой и без того уже набитый рот и пробормотал:
— Хорошо сказано, да, и необходимо, чтобы болезнь господина Мадлена для начала передалась бы правительству. Оно вовсе не напоминает собой Господа Бога, соразмеряющего силу ветра с тем, как острижена овца; это ваше правительство, господин мэр: чем больше у нас облезает шкура, тем больше оно стрижет с нас шерсть. А налоги-то платим мы, люди добрые! Мы их платим! Ведь жалость берет: едва можно свести концы с концами на те средства, что оно оставляет нам! Поэтому пусть дьявол меня задушит, если на следующих выборах я дам себя соблазнить ласковыми речами господина супрефекта. Я больше не желаю терпеть этих обжор, наслаждающихся жизнью, в то время как мы вкалываем как каторжные, чтобы поддерживать их праздность с помощью наших денежек.
Папаша Мьет не испытывал и половины того гнева, который он выказал, и его отповедь правительству была всего лишь ответом на скрытую атаку мэра Норуа, однако г-н Пелюш всерьез принял сказанное, и эта непростительная выходка произвела на него тем более ужасное впечатление, что папаша Мьет в своем костюме крестьянина показался ему весьма незначительным персонажем.
— Сударь, — обратился к нему г-н Пелюш, придав голосу обычный свой наставительный тон, — я бы пренебрег всеми своими обязанностями и своим долгом, если бы оставил без ответа вашу неуместную критику правительства, одним из верных слуг которого я имею честь быть. Не следует судить по одной лишь видимости, сударь, и полагать, будто физический труд, которым вы занимаетесь, можно сравнить с непосильными тяготами тех, кто управляет колесницей государства. Поэтому весьма справедливо, что такие люди вознаграждаются в соответствии с заслугами, которые они оказывают своей стране. Что касается налогов, то я утверждаю, что настоящий гражданин с неподдельной радостью должен способствовать славе страны своим кошельком. Впрочем, налоги при этом охранительном режиме свободы и законов равномерно распределены между всеми, и этого утешительного сознания равенства должно вам быть достаточно.
— Но мне его вовсе не достаточно! — вскричал папаша Мьет.
— Я, сударь, — продолжал г-н Пелюш с улыбкой и не слушая крестьянина, — я отдаю государству несколько более значительную сумму, чем та, какой вы наполняете свой денежный ящик, но я не жалуюсь.
— Э-э! — вмешался Мадлен. — Вот в этом-то никакой уверенности нет, и, не разделяя теорий кума Мьета, я убежден, что в среднем он платит государству по крайней мере в три раза больше, чем ты. Прикинем-ка, папаша Мьет, поземельный налог, налог на двери и окна, десятину и все остальное — я уж не говорю о налоге на движимое имущество, и не без причины, — в целом это составляет где-то около четырех тысяч франков?
Папаша Мьет издал вздох достаточно болезненный, чтобы его можно было принять за согласие.
— Что предполагает, — продолжил Мадлен, — наличие у этого господина скромного дохода в тридцать тысяч франков с его земельных угодий.
Господин Пелюш широко раскрыл глаза, его недоумение росло все больше и больше.
— Да, да! — живо вскричал папаша Мьет. — Все именно так и считают, но не учитывают ипотеку! Ах, ипотека! Вот что нас пожирает, душит, стирает в порошок, словно зерно под мельничным жерновом. Послушайте, хотите знать мое мнение? Лучше быть каторжником, чем собственником!
То, с каким убеждением папаша Мьет произнес эти слова, вызвало всеобщий взрыв смеха.
— Да, вы правы, папаша Мьет, — заметил Жюль Кретон, — это самое последнее занятие; но скажите-ка нам, зачем вы ездили в прошлое воскресенье в Виллер-Котре?
— Господи! Да продать кое-что из моих скудных товаров, как обычно.
— Надо же! Однако вы слишком бережливы и не стали бы надевать вашу новую блузу для привлечения покупателей к тому, что вы называете своими "скудными товарами"; скажите-ка лучше, что вы намеревались округлить свои владения лесом Вути.
— Лесом Вути, скажете тоже! Чем бы я стал за него расплачиваться, Боже милосердный? К тому же я знал, что господин Анри хотел его купить, а разве я могу позволить себе заплатить дороже, чем он; и потом это не такое уж выгодное помещение капитала, этот ваш лес Вути: в нем больше серых валунов, чем молодой поросли!
— Не считая кабанов, — вставил Мадлен. — Поговорим-ка лучше о кабанах, вместо того чтобы дальше обсуждать жгучие вопросы политики, как сказал бы мой друг Пелюш.
Жиродо, сидя слева от Камиллы, уже несколько раз пытался заговорить с девушкой, но та, слишком поглощенная беседой со своим соседом справа, довольствовалась лишь односложными ответами; это безразличие к избитым темам беседы, в выборе которых он проявил необычайную щедрость по отношению к богатой наследнице, вызвало у учтивого сборщика налогов чувство крайней досады; верный своей обычной тактике, он повернулся к г-ну Пелюшу и задался целью голосом и жестами выказывать полнейшее одобрение всему, что бы тот ни говорил, а также выражать г-ну Пелюшу свое восхищение, что безмерно льстило продавцу цветов; он воспользовался представившейся ему возможностью и вступил в общий разговор.
— Значит, в лесу Вути водятся кабаны? — спросил он у Мадлена.
— Думаю, да, — ответил тот.
— Черт! — продолжал красавец Бенедикт. — С этими кабанами будет та же история, что и с теми, которых мы месяц тому назад разыскивали в лесу Жорже. Накануне их видели штук пятьдесят, на следующий день нам не встретилось ни одного, осмелившегося дождаться охотников!
К несчастью, двойная уловка сборщика налогов не ускользнула от внимания его постоянного насмешника, с готовностью ухватившегося за эту новую возможность покарать самодовольное чванство Жиродо.
— Э-э! — заметил Жюль Кретон. — А ведь порой именно охотники не дожидаются кабанов.
— Что вы хотите этим сказать?
— Я хочу сказать, черт возьми, что у кабана крепкие ноги, но вот у моего друга Бенуа Жиродо, именуемого Бенедиктом, они длиннее и проворнее.
Господин Жиродо стал красным как рак при намеке на недавнее приключение, героем которого он был.
— Хотел бы я увидеть вас на моем месте, господин Кретон! — язвительно вскричал он.
— Я от чистого сердца дал бы два наполеондора, чтобы оказаться там.
— Лицом к лицу с разъяренным зверем, имея в руках ружье, дважды давшее осечку!
— В то, что зверь был разъярен, охотно верю; но вот что касается ружья, то, чтобы убедить нас в том, что оно дало осечку, следовало бы предусмотрительно вынуть из него капсюли.
Утверждения Жюля Кретона тем сильнее раздражали г-на Жиродо, что смех сотрапезников в конце концов оторвал Камиллу от беседы с Анри, вызвавшей у нее неподдельный интерес, и сборщик налогов поймал на себе взгляд девушки, в котором сквозила определенная доля лукавства.
— Я докажу вам, когда вам будет угодно, господин Кретон, что не только кабан, но и человек никогда не заставит меня отступить.
— Ну, дружище Бенуа, не пугайте нас, — продолжал неисправимый насмешник. — Каждый ведет себя на этом свете в соответствии со своими скромными возможностями. Если у вас нервный характер, то это вина не ваша, а скорее вашего отца и вашей матери, наградивших вас им, и я уверяю, что от этого вы не стали менее интересным в глазах красавиц.
— Значит, кабаны бросаются на тех, кто в них стреляет? — спросил г-н Пелюш.
— Изредка, — ответил Мадлен.
— Да, — кивнул Жюль Кретон. — Однако то здесь, то там среди них встречаются такие, которые имеют глупость защищаться, когда на них нападают.
— А как следует поступить в подобном случае?
— Прицелиться, подпустить его на пять шагов и спустить курок, — просто ответил Мадлен.
— А если промахнешься?
— Тогда уж они не промахнутся, — ответил Жюль Кретон. — Но есть способ менее героический и менее опасный, чем тот, что посоветовал вам ваш друг Мадлен. Вообразите, господин Пелюш, что кабан, о котором я вам только что говорил и по которому ружье моего друга Жиродо дважды дало осечку, что не только весьма удивительно, но и весьма досадно, — так вот, вообразите, повторяю, что этот кабан пользовался в кантоне скверной репутацией. Однажды за завтраком мы долго обсуждали героические подвиги этого животного, перечислили не менее дюжины распоротых собак, не говоря уж о сапожнике из Монгобера Жане Гренеше, испустившем дух от раны длиной в тридцать пять сантиметров пониже поясницы. За разговором возник вопрос, который вы нам только что задали, а именно: что же делать, если этот разъяренный зверь набросится на вас. Мадлен, старый смельчак, дал свой ответ; другие же сошлись во мнении, что более мудрым было бы найти убежище на ветвях дерева. Один красивый молодой человек, чье имя я называть не буду, поскольку он полагает, что его заботы о своей особе могут нанести урон его брачным притязаниям, выслушал всю эту беседу с огромным интересом. На охоте он оказался моим соседом справа, и не успели мы занять наши места, как я увидел, что он с помощью рук и коленей уже карабкается на молодое рослое дерево, конечно же, из соображений предосторожности и исключительно ради того, чтобы заранее убедиться, что им еще не слишком забыты его юношеские уроки гимнастики.
— Сударь, — сказал г-н Пелюш, бросая презрительный взгляд на бедного Жиродо, чья репутация была безоговорочно погублена этим последним залпом, — сударь, если бы я знал, что отступил перед животным, которое, в конце концов, есть не что иное, как дикая свинья, то никогда, слышите, никогда я бы не осмелился вновь предстать перед моими товарищами.
— Дикая свинья! Ты можешь говорить об этом сколько угодно, дружище Пелюш, но было бы столь же неверно приписывать этому животному малодушие и низость его выродившихся родственников, как несправедливо судить о достоинствах предков по пошлости и грубости их потомков. Я не трус и, однако, должен тебе признаться, что во время моей первой встречи с одним из этих господ, когда, услышав крики боли и отчаяния моих бедных собак, я решил прийти им на помощь и ползком, расчистив себе путь под остролистом, очутился прямо в логове зверя, а ноги мои утопали в болотистой почве, когда в шуме его яростных атак против моих двух собак я расслышал скрежет кабаньих клыков о песчаник и ощутил, так сказать, его дыхание у своих ног, то эта свинья, потому что она и есть свинья, внушила мне чувство, которое если и не было страхом, то столь сильно напоминало его, что я смиренно признал его таковым и благоразумно отступил.
— Ах, оставь меня в покое, Мадлен. Не хочешь ли ты меня убедить, что сражаться с кабаном опаснее, чем штурмовать баррикады?
— Возможно!
— Ну что же! Черт побери! — вскричал, воодушевившись, г-н Пелюш. — Я сокрушил извечных противников общества и порядка, так неужели я не справлюсь с…
— … врагом картофеля… В таком случае поторопись допить свой кофе. Загонщики входят во двор, уже полдень, и мы не можем терять ни минуты.
Все сотрапезники уже были на ногах, одни надевали гетры, другие пристраивали охотничьи сумки, все торопились как можно быстрее покончить со сборами. Камилла и Анри вынесли стулья на небольшую лужайку и продолжили там свою беседу, не переставая любоваться всегда столь живописной картиной, какую представляет собой выезд на охоту.
Взаимное согласие двух молодых людей, похоже, чрезвычайно тревожило г-на Пелюша. Подойдя к Мадлену, занятому поисками пуль в ящичке своего секретера, он сказал ему:
— Ах, Мадлен, похоже, твой господин де Норуа, такой доблестный воин, штурмовавший Железные ворота, не слишком торопится взяться за оружие.
— Анри? — отвечал бывший торговец игрушками. — Но Анри никогда не участвует в охоте, он не пойдет вместе с нами.
— Как?! Значит, он останется вместе с Камиллой?
— Безусловно.
— Но это невозможно.
— Почему же? Так же как и ты, я дорожу честью и репутацией моей крестницы, Пелюш, и если я ничего не имею против того, чтобы она осталась с этим молодым человеком, то ты напрасно волнуешься. Поверь моему слову старого солдата, я ни капельки не преувеличил, рассказывая тебе о деликатности и возвышенности чувств моего молодого друга.
— Все это прекрасно, но, принимая во внимание те мысли, которые я высказал тебе сегодня утром и которые нисколько не изменились, это пребывание наедине чревато нежелательными последствиями, и я не допущу его.
— Ну что ж! Оставайся с ними третьим; откровенно говоря, мне это пришлось бы больше по душе.
— Это еще почему? — спросил г-н Пелюш, с ужасом представивший себе, как великолепная охота в Вути ускользает от него.
— Потому что, несмотря на твое презрение к диким свиньям, охота на них гораздо серьезнее, чем тебе это кажется, а с твоим опытом обращения с оружием и малым знанием подобного рода опасностей с тобой может приключиться какое-нибудь несчастье, и я всю жизнь буду упрекать себя в этом. Вот только я сожалею…
— О чем?
— Что ты так далеко зашел за столом, потому что эти чертовы провинциалы, хорошо знающие и уважающие Анри, не поймут твоих опасений и могут заподозрить, что…
— Договаривай…
— … что ты остался дома, так как испугался.
— Испугался?! Это слово заставит меня встать под дуло пушки, Мадлен! Испугался! Это слово все решило; я только пойду попрощаюсь с Камиллой, а потом последую за тобой.
В самом деле, г-н Пелюш устремился к Камилле, несколько раз поцеловал ее в лоб, взял с нее обещание подняться в комнату и немного отдохнуть под тем предлогом, что, по его мнению, лицо молодой девушки выражает усталость; г-н Пелюш очень холодно принял пожелание удачной охоты, с которым к нему, в то время как он надевал свою охотничью сумку, обратился Анри, и, в последний раз попрощавшись с дочерью, схватил свое ружье и бросился во двор.
В ту минуту, когда колонна охотников тронулась в путь, Мадлен увидел г-на Пелюша, который вел на поводке Фигаро. Веселое расположение духа пса удесятирилось при виде ружей.
— Какого черта ты берешь с собой на облаву эту собаку? — спросил бывший торговец игрушками у своего друга.
— Ну и вопрос! Неужели ты думаешь, что я купил эту отличную охотничью собаку за баснословную сумму в сто франков для того, чтобы она оставалась дома, когда я отправляюсь на охоту? По правде говоря, Мадлен, если бы я не знал, какой ты превосходный товарищ, то мог бы подумать, будто ты заранее завидуешь той дичи, которую я настреляю.
Мадлен пожал плечами и сделал знак г-ну Пелюшу следовать за ним.
XXIV
ГЛАВА, В КОТОРОЙ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ БЛИЖЕ ЗНАКОМЯТСЯ ДРУГ С ДРУГОМ
Камилла провожала отца взглядом до тех пор, пока группа охотников, завернув за угол дороги, идущей через лес Вути, не скрылась из виду, хотя до нее все еще доносился беспорядочный гул их голосов, время от времени перекрываемый радостным лаем собак, которые вместе с загонщиками прочесывали лес; после этого Камилла обернулась к своему спутнику и взволнованно сказала:
— Бедный отец! Его жизнь была такой однообразной, он только и знал, что трудился, поэтому вполне естественно, что эти ранее неведомые ему развлечения так привлекают его. И я действительно очень признательна моему крестному за ту настойчивость, с которой он склонял его к этому путешествию, ведь оно обещает быть таким приятным для нас.
Камилла произнесла "для нас", повинуясь простодушному порыву, свойственному ее возрасту и характеру, но не успело еще это слово окончательно слететь с ее губ, имевших неосторожность столь явно обнаружить ее чувства, как девушка залилась яркой краской.
— Видите ли, сударь, я так сильно люблю отца, что мне гораздо больше удовольствия доставляют его радости, чем мои собственные. Я не знаю, какая тайная связь существует между ним и моим сердцем, но именно на его лице следует искать разгадку того, что происходит в моей душе; если я вижу, что он доволен, то мое сердце расцветает, бьется сильнее и я испытываю нечто вроде опьянения, приводящего меня в восторг; если я вижу, что он грустит, озабочен, моя грудь сжимается, и глаза мои невольно наполняются слезами. Ах! Он питает ко мне такую нежную привязанность, так торопится предупредить все мои желания, так жертвует собой ради моего будущего, что моя любовь к нему проистекает, в конечном счете, из чувства благодарности. Не правда ли, сударь, вы, разумеется, считаете, что я веду себя совершенно по-детски, наивно поучая вас, как отец может заслужить любовь?
— Я понимаю чувство, которое вы описываете с такой душевной теплотой, мадемуазель, но увы, мне никогда не доводилось испытать его, и я могу лишь завидовать другим и вам.
— Но, — произнесла нерешительно девушка, сожалея, что затронула эту рану, видимо все еще кровоточившую в сердце молодого человека, — но ведь у вас осталась ваша досточтимая мать и…
— Небо не всегда столь милостиво, мадемуазель. Мне было отказано в ласках матери, точно так же как и в нежной любви отца.
Камилла замолчала, и ее глаза взглянули на Анри с симпатией и сочувствием. Быть может, Анри с презрением относился к этому избитому способу возбудить к себе интерес, быть может, ему было неприятно дальше развивать с крестницей Мадлена эту тему, но он поторопился сменить предмет разговора.
— Если моему старому другу удастся сообщить то, что он называет "священным огнем", вашему уважаемому отцу, я очень боюсь, мадемуазель, как бы вам не пришлось довольно часто взывать к дочерней беспристрастности — я могу лишь восхищаться ею, — чтобы развеять скуку одиночества, на которое вас обрекут длительные прогулки этих господ.
— Одиночество! Скука! Что вы такое говорите, сударь? — вскричала Камилла, звонко рассмеявшись. — Одиночество… Я не провела здесь и трех часов, как уже нашла себе целую толпу друзей.
Анри с удивлением посмотрел на девушку: он не понимал, что она хотела сказать этим. В самом деле, беседуя с ним, Камилла раскрошила кусок хлеба, взятый ею со стола, и принялась бросать крошки птицам, старательно отыскивавшим себе корм на навозной куче. Сначала к ней подбежала одна курица и радостно воздала должное этому неожиданному подношению, за ней с нахальством, свойственным этому народцу, подошли еще две, затем десять, и скоро со всех сторон к крыльцу посыпало пернатое население двора: куры стремглав летели на своих голенастых ногах, гуси и утки переваливались на коротких лапах, важно выступали индюки, — все они слали приветственные крики этой руке, осыпавшей их неожиданными дарами; даже голуби покинули крышу, где их опаловое оперение переливалось на солнце, и, приземлившись, стали крутиться у ног девушки.
Камилла на несколько минут погрузилась в созерцание этой сутолоки; она находила своеобразное удовольствие, следя за трагикомическими поворотами борьбы, развернувшейся между птицами за обладание крошкой хлеба; ее возмущала тирания огромного петуха, безжалостно изгнавшего всю чернь, чтобы со спесивым видом распределить отвоеванный кусочек хлеба между своими фаворитками; она, как ребенок, смеялась над глупостью индюков, которые столь долго раздумывали, прежде чем решиться опустить свой клюв, что нахальная курица всякий раз выхватывала из-под самой их красной бороды желанную добычу; особенно забавляло девушку упорство уток, постоянно отталкиваемых, но никогда не теряющих присутствия духа, стряхивающих движением хвоста стыд поражения и с новым пылом бросающихся в атаку; она прониклась сочувствием к тем, кого слабость удерживала в стороне, и все время бросала им несколько крошек, радостно вскрикивая, если им удавалось их схватить, и возмущаясь, когда насилие в очередной раз отнимало у них то, что им предназначалось, но смеялась как безумная, когда дерзкий воробей с черной манишкой на шее и бархатной спинкой внезапно пикировал в середину этой колышущейся массы, исчезал в ней на секунду, затем с той же стремительностью появлялся вновь и, победно взмыв вверх, садился на крышу соседнего сарая, где радостно поглощал свою долю пиршества.
— Вот они, те друзья, о каких я вам говорила, господин Анри, — сказала девушка молодому человеку. — Но наше знакомство едва только наметилось, и если только мы пробудем здесь неделю, то я хочу, чтобы не осталось ни одного петуха, гуся и индюка, ни одной курицы и утки, которые не прибежали бы ко мне, увидев меня издалека, и не было бы ни одного воробья, который не слетал бы со своей ветки, когда я прохожу мимо. Я сделаю своими подданными всех жителей птичьего двора и сегодня же вечером объявлю моему крестному, что не желаю, чтобы кто-либо другой, кроме меня, отныне раздавал им пищу.
— Согласен, — улыбнулся Анри, — что таким образом вы с удовольствием проведете примерно десятую часть вашего свободного времени. Но, мадемуазель, меня, с вашего позволения, все же несколько беспокоит, как вы распорядитесь остатком вашего досуга.
— Ну что же! Если я о чем и сожалею, сударь, то лишь о том, что нельзя удвоить те часы, какие я проведу здесь. Мне надо столько, ну, просто столько сделать, что мне кажется, на это не хватит дней.
— Будет ли нескромным с моей стороны поинтересоваться, что за серьезные труды предстоят вам?
— Во-первых, гулять, смотреть, восхищаться. Вы, наверное, будете смеяться над моим изумлением и насмехаться над моими восторгами, но мне это все равно, сударь, меня не заденут ваши шутки, и я вам смиренно признаюсь, что начиная со вчерашнего вечера я пребываю в постоянном восхищении, которое с каждой минутой становится все сильнее и сильнее, и открываю для себя сюрприз за сюрпризом; привычка сделала вас равнодушным к тому великолепию, что открывается вашим глазам, но я не могу насмотреться на эту картину как в целом, так и на каждую ее подробность, и мне кажется, что я никогда не смогу насытиться этим видом; я хочу обойти все эти поля, все эти леса, поприветствовать каждое дерево, которое встретится на моем пути, чтобы вновь видеть их, по крайней мере в своих воспоминаниях, когда я вернусь на нашу бедную улицу Бур-л’Аббе!
Затем, вздохнув, она добавила:
— Ах! Вы не знаете, что это такое, улица Бур-л’Аббе…
— Для меня было бы большим счастьем, мадемуазель, — сказал Анри с некоторым волнением, — если бы все персонажи, оживлявшие этот чудный пейзаж, могли бы получить свой уголок в ваших воспоминаниях.
Камилла покраснела и опустила глаза.
— Без сомнения, сударь, — пробормотала она в смущении, — я не смогу забыть друзей моего крестного. Но, — с живостью добавила девушка, — вас ведь интересовало, как я собираюсь проводить свое свободное время? О! Я еще не закончила. Колокольня, которую вы видите там среди тополей, станет еще одной целью моих ежедневных прогулок, и, разумеется, именно с нее я и начну их. Мне кажется, что молитва, возносимая мною к Господу за всех, кого я люблю, будет скорее услышана в этой скромной деревенской церкви, чем в наших парижских соборах, где в величественных громадах, слишком явно дающих нам почувствовать нашу малость и наше ничтожество, шум и многолюдье отвлекает нас от молитвы. А вот и еще: я гуляю всего четверть часа, а за это время нашла более полудюжины растений, неизвестных в магазине "Королева цветов", и я хочу зарисовать их.
— Так вы рисуете, мадемуазель? — спросил Анри.
— О! Как торговка, а вовсе не как художница: я стараюсь воспроизводить форму и окраску цветка, и несколько раз отец использовал мои наброски для своей коммерции. Когда же я оставляю свою область пестиков и лепестков, то похожа на школьницу, прогуливающую уроки в школе.
— Вы сочтете мое любопытство невыносимым, но у меня возникло огромное желание составить собственное мнение о ваших рисунках, которые вы так невысоко цените, и я не могу утаить его от вас.
Камилла тут же встала, быстро поднялась в свою комнату и вернулась через мгновение, держа в своих объятиях газель и в ладонях — альбом. Нисколько не манерничая и не заставляя себя упрашивать, она вручила Анри альбом, а сама стала ласкать и поддразнивать прелестную маленькую газель, пока молодой человек просматривал ее рисунки с непритворным удивлением и восхищением.
— Вы слишком скромны, мадемуазель, — сказал он, пролистав почти половину альбома. — У вас настоящий талант. Я вижу здесь акварели, по замыслу и силе исполнения приближающиеся к картинам; тонкая проработка деталей не мешает гармоничному восприятию всего ансамбля в целом; цвета столь же насыщенны, сколь тверда линия и искусна рука; это скорее шедевры истинного мастера, нежели развлечение юной девушки, и если вы мне позволите сказать, то мне кажется, что, когда вы рисуете, вас вдохновляет истинная любовь к тому, что вы изображаете.
— Действительно, сударь, я очень люблю цветы, — просто ответила Камилла, — но, вовсе не считая эти рисунки достойными тех восторженных отзывов, какими ваша без-17-272 граничная снисходительность пожелала наградить их, я тем не менее хочу, чтобы вы приняли один из них взамен прелестной Блиды, которой вы пожелали лишиться ради меня.
И, несмотря на протесты Анри, Камилла вырвала страницу из альбома и вручила ему рисунок букета хризантем, на котором дольше всего останавливался его взгляд.
— Теперь я стал вашим должником, мадемуазель, — сказал Анри. — Вы с такой любезностью сделали мне этот подарок, что, должен признаться вам, отныне он станет мне очень дорог.
Девушку, казалось, взволновало выражение, с каким Анри произнес эти последние слова; она продолжала играть с Блидой, но румянец ее щек и учащенно вздымавшаяся грудь свидетельствовали о том, что не все ее мысли заняты Блидой.
— У меня в оранжерее растут цветы, — произнес Анри. — О них говорят, что они прекрасны; не стоит говорить, мадемуазель, что я передаю их в полное ваше распоряжение.
— Я благодарю вас, сударь, — отозвалась Камилла, вновь обретя жизнерадостность. — Но ваши оранжерейные цветы — важные дамы, и к ним я не осмелилась бы подступиться. Им присущи величие и блеск бархата и атласа, но они слишком чопорны, они скорее ослепляют, нежели чаруют. Я предпочитаю этому великолепию не только цветочки с клумбы, но и полевые цветы. Посмотрите, сударь, — продолжила она, вынимая из-за корсажа маленькую веточку диких колокольчиков, — посмотрите на эту крестьянку: она скромна, непритязательна, однако какая легкость, какое изящество в ее колокольчиках! Как свежи ее лепестки! Как мягко их нежный сиреневый цвет переходит в сверкающе-белый этой зубчатой каймы!
Анри взял маленький цветок из рук Камиллы, казалось вполне разделяя ее восхищение.
— Я признаю, — сказал он, — что при таком количестве дел часы будут для вас коротки. Но больше всего меня, однако, огорчит, если вы не сможете выкроить еще несколько мгновений из вашей дневной программы.
— Ради чего?
— Я хочу вам предложить одно развлечение.
— Развлечение! Какое же?
— Охоту.
В ответ Камилла от души весело и звонко рассмеялась.
— Охоту, — повторила она. — Так, значит, в Норуа эпидемия охоты? Мой крестный превратил моего отца в Нимрода, а вы хотите сделать из его дочери Диану?! Но я не чувствую призвания к этому. Один или два раза я хотела украсить мои цветы бабочками; отец купил мне чудесный сачок из зеленого газа, и мы отправились в Венсенский лес; всякий раз, когда я ловила одну из них и надо было булавкой прикрепить ее к картонке, я так вскрикивала, что бедный отец, потрясенный, разжимал пальцы и машинально возвращал свободу жертве, так что, поймав за утро около ста бабочек, мы вернулись… Боже мой, как же мой крестный называет это?
— С пустыми руками, — подсказал Анри, взгляд которого следил за всеми движениями и мимикой очаровательного личика Камиллы со все более и более красноречивым выражением.
— Да, с пустыми руками. Но, — продолжала девушка после минутного раздумья, — мне казалось, сударь, что мой крестный сказал отцу, что вы никогда не охотитесь.
— Мадлен преувеличил. Я просто никогда не убиваю дичь, когда сталкиваюсь с ней, а порой… я помогаю ей выжить. Сейчас я хочу вам предложить "охоту на бедных".
Инстинктивным движением, более быстрым, чем мысль, рука Камиллы отыскала руку Анри и пожала ее.
— О! Вот это развлечение! Я ни за что не откажусь от него, господин Анри, — сказала девушка взволнованным голосом, а глаза ее увлажнились. — Я только возьму шляпку и присоединюсь к вам.
И легкая, как газель, которую она прижимала к себе, Камилла опять скрылась в коридоре.
Почувствовав, как чистосердечно пожала ему руку Камилла, Анри вздрогнул; его глаза сопровождали молодую девушку до тех пор, пока он мог различить ее силуэт, а потом юноша предался мечтам.
Несмотря на свою почтительную любовь к Мадлену, Анри не слишком доверял вкусу бывшего торговца игрушками, когда речь шла о женщинах; поэтому он всегда с недоверием воспринимал все новые и новые портреты крестницы Мадлена, с каждым разом все более соблазнительные, которые тому нравилось набрасывать долгими зимними вечерами.
Он готов был поверить в красоту девушки, однако делая некоторую скидку на восторги своего старого друга; но когда он слышал, как тот расхваливал очарование и в особенности благородство Камиллы, то не мог сдержать улыбку; он считал Мадлена весьма неважным знатоком женской красоты. Анри питал к буржуа двойное предубеждение — дворянина и художника; ему представлялось недопустимым, чтобы тот самый г-н Пелюш, чьи превосходные и одновременно смешные качества описывал ему Мадлен, был избран Провидением, чтобы стать творцом земного 17*идеала, и еще более невозможным, чтобы юная особа не пропиталась бы запахами лавки, среди которых она жила. И со вчерашнего вечера, как и Камилла, молодой человек шел от удивления к удивлению; ему уже казалось, что Мадлен не только ничего не преувеличил, но что он был недостаточно красноречив и действительность превосходит его рассказы. Реакция была стремительной: вначале Анри довольствовался созерцанием красоты и восхищался грацией и нежностью розы с улицы Бур-л’Аббе; затем, когда одно за другим ему постепенно открылись более значительные ее качества, когда он оценил ее редкий здравый смысл, возвышенность мыслей и чувств и очаровательную простоту, у него промелькнула мысль, что счастлив будет тот, кто проведет свою жизнь рядом с ней. Затем, внезапно подойдя к этой мысли, он спросил себя, а почему бы ему ни оказаться на этом месте? С этого мгновения он больше уже не владел своим сердцем и, с тех пор как Камилла покинула его, со страхом размышлял о препятствиях, которые могли помешать ему осуществить свои замыслы в отношении той, которая еще накануне оставалась совсем неизвестной ему.
XXV
"ОХОТА НА БЕДНЫХ"
Шум шагов Камиллы на лестнице прервал раздумья Анри, и, в тот же миг заметив, что девушка не забрала веточку с колокольчиками, молодой человек поднес к губам эти цветы, касавшиеся груди той, которую он уже называл про себя своей возлюбленной, и с почтительной нежностью положил эту первую реликвию в небольшой бумажник. Как бы возрадовалось сердце Мадлена, если бы он присутствовал при этом!
— Надеюсь, я не слишком заставила вас ждать, — сказала Камилла, завязывая под подбородком розовые ленточки своей шляпки. — Но прежде чем мы отправимся в деревню, я должна поделиться с вами одним сомнением, пришедшим мне на ум, когда я спускалась по лестнице. Полагаете ли вы, что милосердие достаточное оправдание для прогулки девушки в обществе молодого человека?
Камилла произнесла это с недовольной гримаской на лице, свидетельствовавшей о том, что она против воли выдвигает это возражение.
— А что вы думаете об этом сами? — улыбаясь, ответил Анри.
— Я не смогла ничего решить, ведь я и судья и заинтересованная сторона. К тому же, признаюсь вам с безыскусной откровенностью и прямотой, странными для парижанки: наверное, я не права, что столь серьезно воспринимаю своего рода родственную близость, возникшую между нами благодаря общему крестному отцу, но в качестве сестры я не вижу препятствий, мешающих мне принять руку брата.
— Спасибо! — воскликнул Анри, с восторгом целуя руку, протянутую ему девушкой. — Но нам даже не стоит беспокоиться из-за этой неловкости, вот и наш телохранитель.
В самом деле, во двор вошел высокий и крепкий слуга. В руках он нес две корзинки, с верхом наполненные провизией. Казалось, он лишь ждал приказаний своего хозяина.
— А куда мы отправимся испытывать судьбу? — спросила Камилла, спускаясь по ступеням крыльца. — Посчастливится ли нам в нашей охоте?
— Увы, мадемуазель, — ответил Анри. — Наши поиски не будут ни долгими, ни трудными: к сожалению, я знаю достаточно нищих и убогих, так что у нас возникнут лишь трудности с выбором.
— Да, слово "нищий", прозвучавшее среди этого изобилия, среди этих полей, переполненных земными благами, производит на меня странное впечатление, — со вздохом сказала Камилла. — Видя, как великодушна, как расточительна природа, можно предположить, будто она не желает видеть ни одного человека, который не получил бы своей доли от ее щедрот, ведь людям всего только и надо, что протянуть руку и взять необходимую им пищу, а в каком-то смысле и одежду. Мне кажется, что бедность должна оставаться грустной привилегией больших городов; можно понять, когда с голоду умирают посреди этих бесконечных улиц, мощенных камнем, но здесь?..
— Здесь умирают от голода так же, как в городе, мадемуазель, потому что пословица "Каждый за себя" вследствие людского себялюбия соблюдается в деревне не менее неукоснительно, чем в городе. Однако должен признать, что, хотя в деревнях нищета еще глубже, еще сильнее, чем в больших центрах проживания населения, все же здесь она менее жестока и легче переносится. В самом деле, в наших деревнях мансарда бедняка — это маленький домик, оживляющий деревенский пейзаж, веселые гирлянды виноградной лозы, что вьется по потрескавшемуся фасаду, и ирисы, устремляющие вверх свои зеленые клинки и розовые цветки на гребне крыши. Каким бы прозаичным, каким бы заурядным ни был человек, эта столь красочная, столь пленительная поэзия, которая недоступна его пониманию, все же поражает и утешает его; у него есть клочок земли, плоды которой служат ему более ощутимым вознаграждением; у него есть валежник, который щедрость государства и крупных землевладельцев позволяет ему собирать в лесах; наконец, у него есть солнце, лучи которого люди еще не додумались поделить.
— Но благотворительность, о которой вы забываете, сударь! — живо воскликнула Камилла.
— Нет, я не забываю о ней, — ответил молодой человек. — Да, благотворительность, как вы говорите, существует; однако, хотя она здесь чуть более действенная, чем в Париже, поскольку местный богач находится в непосредственном соприкосновении с несчастными, чья назойливость его утомляет и чей вид оскорбляет тонкость его чувств, здесь она нисколько не менее беспомощна, чем там.
— Позвольте вам заметить, сударь, что в этот миг вы несправедливы по отношению к самому себе, — сказала Камилла, непроизвольно приближаясь к своему спутнику и идя рядом с ним.
— Нет, я вовсе не несправедлив, даже по отношению к себе, мадемуазель, ибо, раздавая милостыню, я всегда испытывал не столько чувство гордости, сколько чувство унижения при мысли о том, как мало пользы она может принести. Вы очень удивитесь, если я вам скажу, что эта проблема нищеты доставила мне немало бессонных ночей, хотя, хвастаясь этим перед вами, я не являюсь ни экономистом, ни политическим деятелем.
Теперь настала очередь Камиллы посмотреть на Анри с восхищенным умилением.
— Я испытываю к вашей скромности ничуть не больше почтения, чем вы испытываете к моей, сударь, — сказала она ему. — Вы пожелали назвать шедеврами мое маранье, а я считаю себя вправе объявить вас если и не самым большим филантропом, то по крайней мере человеком с благородным сердцем.
— Я нисколько не лучше, чем мои ближние, мадемуазель; быть может, у меня просто чуть более развита чувствительность, и душа моя возмущается при виде страданий, вот и все; мои добрые дела скорее являются следствием инстинкта, а не каких-либо продуманных решений. Вид бедняка производит на меня впечатление, от которого я долго не могу освободиться. Когда во время верховой прогулки я встречаю на дороге нищего, сгорбленного как усталостью, так и прожитыми годами, и идущего, опираясь на палку — единственное его достояние, — туда, куда указывает ему перст Божий; когда мой взгляд останавливается на его бесформенных, уже не имеющих ни цвета, ни названия лохмотьях, неспособных прикрыть наготу того, кто в них облачен, и на этом землистого цвета лице, осунувшемся от голода; когда я вижу, как униженно он протягивает ко мне свою шляпу; когда я слышу, как губы его бормочут призыв к моему милосердию, заученная монотонность которого придает ему еще более печали, — что-то необъяснимое происходит во мне: мое сердце сжимается, глаза увлажняются, дрожащие пальцы тянутся к кошельку; какой-то таинственный голос велит мне встать на колени, чтобы поднести мой дар этому человеку и сказать ему: "Брат, прости меня! Прости мне эти мои одежды, отличающиеся от тех, что носишь ты. Прости мне мое благосостояние, прости мне эту роскошь, которую я заслужил не более, чем ты заслужил свою нищету". Увы, мадемуазель, я человек, и не стоит вам говорить, что этот голос остается без ответа, монета скользит из моей ладони в ладонь бедняка, и я мчусь прочь, нахлестывая лошадь, чтобы не слышать его благословений, так мало мною заслуженных. Но напрасно я убегаю, призрак нищеты преследует меня в течение многих дней. И тогда я подаю чуть больше: но что представляют собой эти мои подаяния, мадемуазель? На них едва ли уходят мои излишки, а милосердие только тогда действительно достойно своего имени, когда вследствие его ты идешь на какие-либо лишения! Ах, — продолжал Анри, тяжело вздохнув, — если бы Господу было угодно послать мне подругу жизни, которая понимала бы меня!..
Пока Анри говорил все это, им попалось на дороге грязное, усеянное рытвинами место, и молодой человек, не прерывая свое речи, предложил руку спутнице, чтобы помочь ей преодолеть возникшее препятствие. Девушка слушала Анри с неослабным вниманием и, по-видимому, заметила, что она продолжает держать молодого человека за руку, лишь тогда, когда он закончил последнюю фразу. Она осторожно высвободила руку и отстранилась от него.
Анри с беспокойством повернулся к своей новой подруге: она шла медленно, опустив глаза, но тем не менее он заметил крупные слезы, катившиеся по ее свежим, атласным щечкам, и тогда в его взгляде мелькнула молния радости, так как ему почудилось, что высказанное им пожелание осуществимо. Они продолжали идти в полном молчании, на некотором расстоянии друг от друга; однако, хотя их губы были сомкнуты, было очевидно, что их души слились в едином порыве.
Они вошли в деревню и посетили несколько домов один за другим; и тогда Камилла смогла оценить, насколько это милосердие, о котором Анри говорил с таким пренебрежением, было разумным и мудрым.
Преисполненные заботы и нежности к детям, сельские жители мало внимания уделяют старикам и больным. Их равнодушие в этом отношении расценивается как душевная черствость. Но они заслуживают такое упрек не больше, чем заслуживает его солдат, у которого при виде товарища, упавшего на поле битвы, не дрогнул от волнения ни один мускул на лице. Крестьянин — это тот же солдат, только вооруженный лемехом плуга. Он сражается с нищетой, своим вечным врагом, которого никак не может победить его труд. Став бесчувственным к страданиям других из-за своих собственных страданий, он ведет счет тем, кто пал, сокрушенный ужасным гнетом, и сознание, что он, точно так же как те, кто опередил его, не избежит своей участи, делает из него стоика; он говорит себе: "Сегодня он, завтра я". Многие возмущаются алчной скаредностью, с которой он отказывается от помощи врача и от лекарств как для себя, так и для своих близких; при этом забывают, что если крестьянин придает столько значения деньгам, так это только потому, что он единственный, для кого эти деньги действительно связаны с тяжелейшим трудом. Разве не один только рок подсказывает тем, кто умирает от голода на спасательном плоту, страшные слова: "бесполезные рты", и разве можно, будучи справедливым, возлагать за это ответственность на потерпевших крушение? Они делят оставшийся у них кусок хлеба между теми, чьи руки еще в силах направлять обломки судна к берегу; что касается остальных, да примет их Господь в своем милосердии! И, по правде говоря, стоит ли их жалеть больше всего?
Анри не терял времени, вступая в спор с бесчувственностью, смягчить которую может только достаток и благополучие, он шел прямо туда, где видел горе, помогал страждущим, выступая в роли Провидения для всех обездоленных.
Дважды или трижды в неделю он навещал тех, кого называл "инвалидами мотыги", то есть окрестных стариков и больных; приходя к ним, Анри следил, чтобы предписания врача строго выполнялись, записывал, в каких лекарствах они нуждались, и обеспечивал их этими лекарствами из аптеки, которую он устроил в своем замке; он беседовал с несчастными, утешал, ободрял их, посылал им в период выздоравливания питательные продукты, вино, действовавшее на эти организмы, ослабленные лишениями, эффективнее любого лекарства; он добивался того, чтобы больные и старики получали в свои домах уход, который требовало их состояние; он заботился об их нуждах, шел навстречу их скромным желаниям, беспокоился о том, чтобы зимой в очаге у них всегда был огонь и чтобы все его подопечные имели теплую одежду. Впрочем, молодой человек соизмерял свои благодеяния с теми заботами, которыми окружали этих несчастных их ближние, так что присутствие старика в семье не только не являлось тяжелым бременем, а становилось источником достатка в доме.
Вот почему Камилла видела, как под каждой крышей, куда бы они ни заходили, Анри пожинал обильную жатву благословений; это благоговейное почтение, которое старики проявляли по отношению к молодому человеку, вызвало в ней изумление и умиление. Не в состоянии отвести от Анри глаз, она смотрела на него с чувством, приближающимся к восхищению; девушка завидовала беднякам, больным, так как они имели право взять его руку и прижаться к ней губами. Множество смутных, противоречивых чувств переполняло ее потрясенное сердце, но Камилла предавалась этим приятным ощущениям, даже не пытаясь разобраться в них. Однако одно неожиданное происшествие помогло ей понять, что творилось в ее душе.
Анри и его спутница находились в доме старой парализованной женщины, слегка помешанной. Молодой человек представил ее Камилле как одну из своих любимиц, и, возможно, благодаря этому предпочтению, а быть может, только благодаря своему возрасту, эта женщина говорила с Анри с большей свободой и непринужденностью, чем остальные бедняки деревни.
Как только они вошли, маленькие серые глазки старухи безотрывно вперились в Камиллу и, спрятавшись под густыми бровями, смотрели так живо и, казалось, так проницательно, что девушка сильно смутилась.
Без сомнения, результат этого осмотра был благоприятным для девушки, поскольку на губах мамаши Симон (гак звали эту женщину) появилось некое подобие улыбки.
— Вы можете, моя милая барышня, похвалиться, что у вас счастливая рука, — без всякого вступления сказала мамаша Симон, жестом указывая на Анри. — Ведь вы могли бы лет десять бегать в поисках по всему свету, прежде чем встретить подобного ему.
Камилла была совершенно озадачена.
— Примите и вы мои поздравления, господин Анри, — продолжала старуха. — Девушка прехорошенькая, и если только она так же добра, как вы, то Господь, если он не пошлет вам счастья, о котором его будут просить столько голосов, должно быть, просто глухой, каким был мой покойный муж.
— Что за вздор вы говорите, мамаша Симон? — промолвил Анри, смущенный почти так же, как и Камилла.
— Будет вам, — произнесла женщина, — ведь это же ваша невеста, не правда ли?
Анри сделал попытку рассмеяться и отрицательно покачал головой.
— Ну, хватит, — заявила мамаша Симон, — я уверена, что это она.
— Вы в этом уверены?
— Да, я в этом уверена. Вы, видимо, забываете, что я ясновидящая и что от меня ничего нельзя скрыть. Я говорю вам: это ваша невеста. Едва я заметила вас перед этой дверью, так мило держащихся друг за друга, как мне все сразу стало ясно.
— Но, мамаша Симон, — не без волнения произнес Анри, — я клянусь вам, что вы ошибаетесь. Между мадемуазель и мною даже речи не было о том, в чем вы так уверены.
— Что это доказывает, если речь об этом зайдет сегодня или завтра? Я говорю вам, господин Анри: вот ваша жена, и я говорю вам, мадемуазель: вот ваш муж. Я это вижу, и это так же верно, как если бы под этим подписались все нотариусы мира!
Понимая, как тяжела могла быть для Камиллы эта сцена, свидетелями которой были два или три человека, Анри хотел заставить старушку замолчать, но такое противодействие лишь возбудило мозг больной, и мамаша Симон начала заговариваться, а затем забилась в нервном припадке: попытки успокоить ее оказались бесплодными.
Тогда Анри подошел к Камилле и подал ей руку:
— Во имя милосердия, мадемуазель, позвольте, чтобы греза этой несчастной на миг стала действительностью.
Камилла дотронулась своими пальчиками до его дрожащей руки и позволила ему подвести себя к креслу, в котором металась бедная сумасшедшая.
— Ну же, мамаша Симон, успокойтесь, — неуверенно произнес молодой человек. — Вы правы, и мадемуазель, как вы и сказали, моя невеста.
При этих словах мамаша Симон разразилась гортанным, отрывистым смехом, и приступы, похожие скорее на спазмы, вызвали содрогание всех мускулов ее исказившегося лица:
— А! Меня не обманешь, я ясновидящая, я ясновидящая!
Затем, мало-помалу приходя в себя, она добавила:
— Мы никогда не могли вас в чем-нибудь упрекнуть, господин Анри, но сегодня вы поступили очень дурно. К чему отказывать тем, у кого столько причин любить своего благодетеля, в радости видеть вас счастливым, господин Анри, прежде чем Господь призовет их к себе?
Не ответив, Анри поспешил увести Камиллу из дома, но, хотя эта сцена, казалось, произвела на девушку глубокое впечатление, у нее все же хватило самообладания опустить свой кошелек на порог домика мамаши Симон, и это доказывало, что видение или предсказание старушки ее вовсе не рассердило.
XXVI
ПЕРВЫЕ ШАГИ ГОСПОДИНА ПЕЛЮША
Молодые люди не прошли по улице и десяти шагов, как заметили мужчин, женщин и детей, бежавших к дому Мадлена. Обеспокоенный столь необычным оживлением в тихой деревушке Норуа, Анри окликнул одного из них, и тот, узнав графа де Норуа, бросился к нему со всех ног.
— Ах! Господин Анри, — крикнул он, — поспешите в лес Вути, оттуда в замок прислали за шарабаном; говорят, случилось большое несчастье!
— Несчастье?! — воскликнул Анри, в то время как Камилла, совершенно растерявшись, бледная как призрак, ухватилась за него.
— Да, ранен человек.
— Отец! — вскричала Камилла и пошатнулась.
Молодой человек поспешил поддержать ее.
— Нет, мадемуазель, нет, — произнес он. — Это не ваш отец. Во имя Неба, мужайтесь, это не ваш отец. Подумайте, ведь в лесу Вути находятся двадцать, тридцать человек.
— Мой отец, — повторяла Камилла, — ранен, убит… Боже мой, я была слишком счастлива сегодня!
Последние слова девушка пробормотала, теряя сознание, но, как бы невнятно она их ни произнесла, Анри все же расслышал их. Он поднял ее на руки и перенес в соседний дом, предварительно приказав тому, кто сообщил это роковое известие, срочно найти коляску.
А теперь расскажем, что же произошло в лесу Вути.
Охотники отправились туда с пылом и воодушевлением, характерным для такого рода предприятий; удовольствие, которое каждый предвкушал, и винцо Мадлена развязали все языки. Жюль Кретон преследовал Бенедикта своими насмешками; г-н Редон то одному, то другому доказывал необходимость проложить в коммуне новые пути сообщения; органист, следовавший за всеми ради любительской забавы и желавший прогулкой помочь пищеварению, исполнял вариации на тему арии из "Дезертира"; Мадлен давал указания стрелкам и загонщикам; что же касается г-на Пелюша, то он испытывал непривычный подъем чувств.
Он был слишком воздержан за столом, чтобы завтрак оказал на него хоть малейшее влияние, но вот свежий воздух, вид этой колышущейся толпы, среди которой он находился, опьянили его. Господин Пелюш принял воинственный вид, какой до сих пор приберегал для торжественных дней, когда ему приходилось во главе своей роты проходить перед гражданской королевской властью; но в данном случае торжественность его выправки сочеталась со своеобразной небрежностью: его фетровая шляпа была слегка сдвинута набок; испробовав различные способы носить свое ружье — он закидывал его за плечо, ставил на руку, словно часовой, — цветочник в конце концов решил держать оружие горизонтально в правой руке, причем с развязностью, которая казалась ему признаком хорошего тона; левой рукой он небрежно поигрывал поводком Фигаро, чье послушание пока было образцовым; бросая взгляды по сторонам, г-н Пелюш, казалось, вопрошал всех своих соседей, какое он производит на них впечатление, и мы можем поспорить, что в эти минуты он сожалел лишь о том, что не может увидеть себя со стороны и восхититься своим великолепным костюмом и своими манерами. Иногда его самовлюбленный взгляд останавливался на широкой пунцовой ленточке, сиявшей в бутоньерке его охотничьей куртки подобно цветку граната, и время от времени, переставая доверять глазам, он трогал ее рукой, чтобы убедиться, что она на месте. Целиком во власти удовлетворения, которое ему доставляла надежда, что отныне ему ни в чем не придется завидовать Мадлену, он кстати и некстати заговаривал со всеми встречными и совершенно забыл о всех треволнениях, причиненных ему любезностью г-на Анри по отношению к Камилле.
— Твое ружье, по крайней мере, не заряжено? — спросил, подойдя к нему, Мадлен.
— Как это мое ружье не заряжено?! Конечно, оно заряжено, и даже так, как ты мне советовал: правый ствол дробью для зайцев и косуль, а левый пулей для кабана, и можешь рассчитывать на меня: и то и другое попадет прямо в цель.
— Да, — отвечал Мадлен, поднимая дуло ружья своего старого приятеля, — если ты не пошлешь заряд туда, куда вовсе не желал его отправлять! Разве ты не знаешь, неосторожный, что одного неловкого шага, одного колючего куста достаточно, чтобы непроизвольно взвести курки твоего ружья и произошел выстрел, а в том положении, в каком ты его держишь, пуля неизбежно попадет в одного из тех, кто тебя окружает? Послушай, положи ружье на плечо, как это сделал я.
— Ба! — воскликнул г-н Пелюш, испытывая некоторое унижение от полученного урока. — В национальной гвардии мы не боимся увидеть дуло оружия, повернутое товарищем в нашу сторону; правда, мы солдаты.
Услышав столь непривычное выражение из уст доблестного капитана, Мадлен не мог удержаться от улыбки, но у него хватило добросердечия скрыть ее от своего друга; впрочем, охотники приближались к лесу Вути, и бывшему торговцу игрушками потребовалось немало усилий, чтобы заставить своих спутников хранить молчание.
Лес Вути примыкал к опушке леса Виллер-Котре с южной стороны; его ложбины, защищенные от северного ветра, служили излюбленным убежищем для всякого рода зверей из этой части леса; но он был труднопроходим, холмист, в нем почти не было подлеска, который заглушил бы вереск, в некоторых местах достигавший высоты человеческого роста, и остролист, тут и там разросшийся в непроходимую чащу; поэтому охота с гончими была там трудна, а облавы, чтобы они дали результат, следовало проводить с большим мастерством.
Предстояло проверить первый оцепленный участок угодий; один старый браконьер должен был направить загонщиков, а Мадлен взялся расставить охотников на узкой дороге, по сторонам которой местами попадались довольно удобные полянки.
Всякий раз, когда Мадлен указывал новое место очередному стрелку, г-н Пелюш смотрел на друга с удивлением, мало-помалу перераставшим в недовольство.
— Мне кажется, — сказал он наконец, когда Жюль Кретон, в свою очередь, покинул их и цветочник остался наедине с Мадленом, — что, будучи среди вас единственным посторонним, я заслужил более уважительного отношения к себе. Разве ты не мог поставить меня одним из первых, вместо того чтобы заставлять следовать за собой по этой дороге, усеянной глубокими рытвинами, словно капканами, в которых я уже раз шесть чуть было не вывихнул ногу?
— Старина Пелюш, охота напоминает Царство Божье: прибывшие последними занимают первые места; впрочем, у меня есть свои причины держать тебя возле себя. Не огорчайся, тебе больше нет нужды идти дальше, и посмотри, как ты вознагражден за свои страдания: быть может, во всем лесу нет более удачного места, чем это. На середине подъема, на направлении, излюбленном косулями и кабанами, рядом с дубом, за которым даже гиппопотам будет невидим; справа и слева ковер из низкого вереска, ровный, словно трава на лужайке… Да здесь и мышь не проскользнет незамеченной. Но, черт возьми, твоя собака все испортит. Почему ты не отдал ее какому-нибудь загонщику?
Господин Пелюш покачал головой и улыбнулся с видом знатока.
— Не будем об этом больше говорить, Мадлен, — сказал он. — У меня есть на этот счет свои соображения, как они есть и у тебя.
— Постарайся, по крайней мере, чтобы пес тихо сидел во рву. Обычная собака на это пошла бы, но Фигаро!..
— Именно потому, что Фигаро необычная собака, я и пожелал сохранить ее при себе.
— В конце концов, поступай как знаешь! А теперь выслушай мои указания: не курить, не кашлять, не прочищать горло, не шевелиться, но смотреть в оба — это то, что касается дичи; остерегайся покидать свой пост, ни на шаг не переступай ту линию, по которой движутся загонщики, — это то, что касается твоей безопасности; наконец, помни: и справа и слева у тебя есть сосед, кого твоя дробь или твоя пуля могут поразить, если ты будешь стрелять по прямой, и, следовательно, открывай огонь лишь тогда, когда добыча окажется хотя бы на середине тропинки, что у тебя за спиной, — это то, что относится к твоему нежеланию, насколько я понимаю, стать невольным убийцей.
— Будь спокоен, Мадлен, — нетерпеливо проговорил г-н Пелюш.
— Я буду неспокоен и буду требовать от тебя то, что сказал тебе. Твои подвиги на улицах Парижа не могли дать тебе возможность оценить, как странно может вести себя этот страшный метательный снаряд, который называется пулей и которому достаточно бывает камушка на земле или сучка в стволе дерева, чтобы изменить свое направление. Разве в прошлом году я не видел, как ружье, пристрелянное лучше всего в округе, уложило на землю беднягу, находившегося более чем в шестидесяти шагах оттого места, куда оно было нацелено и где пуля оставила свою отметину?
— Черт возьми! — возмутился г-н Пелюш. — Тебе следовало бы обратиться со своими указаниями к моим соседям справа и слева.
— Этими соседями являются твой покорный слуга, кого никогда и никто не упрекал в неосторожности, и Жюль Кретон, кто обращается с оружием с еще большим хладнокровием и большей ловкостью, чем я.
— Что ж, — сказал г-н Пелюш, который, несмотря на свою самоуверенность, был, казалось, неприятно поражен настойчивостью Мадлена, — хоть я и отношусь к смерти как к безделице, все же, если мне придется пасть от руки друга, я, думается, никогда не утешусь.
Послышались крики загонщиков, Мадлен поспешно покинул г-на Пелюша и удалился на свой пост в глубине ложбины. Оставшись один, г-н Пелюш решил было приступить к приготовлениям, но он не принял во внимание Фигаро. Пес с той минуты, как его хозяин, беседуя с Мадленом, остановился, не переставал проявлять весьма очевидные свидетельства своего нетерпения, немедленно переросшего в неповиновение, едва г-н Пелюш, следуя указаниям друга, пожелал принудить собаку лечь в ров.
Фигаро начал с того, что обнаружил в воздухе запахи, которые, судя по дрожи, пробегавшей по его шкуре, по взмахиваниям хвоста, по наполовину прикрытым глазам, приятно ласкали его органы обоняния, и, не в силах устоять перед искушением, как всякое создание из плоти и крови, каким он был, пес принял решение поближе познакомиться с предчувствуемым им наслаждением и не останавливаться на этих первых шагах; резким движением он бросился в ту сторону, откуда доносились до него эти соблазнительные запахи. К счастью, г-н Пелюш твердо держал поводок, и порыв Фигаро привел лишь к тому, что собака проделала в воздухе нечто вроде сальто, на мгновение придавшего ей сходство с майским жуком, которого ребенок держит в руке за веревочку.
Но упрямство было одним из главных свойств нрава Фигаро: нисколько не обескураженный неудачей первой попытки, он, упираясь всеми лапами, напрягая шею, стал всем своим весом натягивать поводок, задругой конец которого г-н Пелюш изо всех сил тянул его к себе, но с таким малым успехом, что в конце концов цветочник решил положить свое ружье на землю, чтобы двумя руками сломить отчаянное сопротивление Фигаро. А сопротивление было действительно отчаянным: если в результате сильнейшего рывка поводка Фигаро терял пядь земли, то почти немедленно и одним прыжком пес отвоевывал ее вновь, и тогда в качестве ответной меры он так дергал веревку, что выворачивал запястья у хозяина; с налитыми кровью глазами, вылезавшими из орбит, с высунутым языком, истекающий слюной, Фигаро издавал хриплое рычание и, казалось, решил скорее дать себя удушить ошейником, чем отступить хоть на шаг.
Поскольку г-н Пелюш действовал с не меньшим ожесточением, то, вне всякого сомнения, эта борьба имела бы указанный мною исход, если бы бог проказников, столько раз спасавший Фигаро от бесславной смерти, не решил еще раз прийти ему на помощь. Либо от постоянного усилия растянулась кожа ошейника, либо уменьшилась в размерах голова собаки, не могу сказать точно, но ошейник внезапно скользнул по ушам животного, и г-н Пелюш несколько неожиданно оказался сидящим на откосе рва, в то время как Фигаро, очутившись на свободе, со всех ног помчался в лес, откуда минуту спустя послышалось, как он с лаем преследует зайца, соседство которого и стало причиной мятежа пса.
Несмотря на свое явное поражение, г-н Пелюш не соглашался признать себя побежденным; он принялся звучным голосом звать свою собаку, присоединяя к ее имени такие красочные определения, как "разбойник", "бандит", "негодяй", способные, как полагал цветочник, придать вес его приказаниям и призванные дать почувствовать виновному степень недовольства его хозяина.
Должен признать, что это обилие оскорбительных определений не произвело на собаку никакого впечатления. Фигаро невозмутимо продолжал свое преследование, словно и не слыша громов разъяренного Юпитера; Пелюш же, достигнув крайней точки раздражения, собирался было броситься в заросли на поиски беглеца, когда почувствовал, как его остановила чья-то рука; он обернулся и узнал Мадлена.
— Ты видел этого презренного негодяя Фигаро? — вскричал г-н Пелюш.
— Да, я его видел, но я заранее знал, что так оно и будет, и это меня не удивило.
— Все равно я схвачу его, и пусть тогда бережется! Необходимо, чтобы сила оставалась за законом, собака должна повиноваться — ничего другого я не знаю.
— Не утруждай себя: загонщики подберут его.
— Но когда я буду возвращаться через Виллер-Котре, то непременно выскажу все тамошнему содержателю гостиницы, ведь это он утверждал, что Фигаро лучшая собака во всей округе, причем и в лесу, и в поле.
— Баке не солгал тебе, Фигаро великолепен. Однако надо уметь извлекать пользу из его достоинств и не вступать в борьбу с недостатками, которые у него укоренились.
— Та-та-та! Ты опять за свое. Если тебя послушать, то получается, что труднее стать охотником, чем государственным деятелем, ибо для этого нужно больше времени и знаний.
— Возможно! — ответил Мадлен.
— Ах, вот как! А где же твоя дичь? — вскричал г-н Пелюш: несмотря на свой самоуверенный тон, он тем не менее был не прочь поговорить о чем-нибудь еще, кроме как о Фигаро.
— Какая дичь?
— Дичь из твоего славного леса Вути? Эти кабаны, эти косули, эти зайцы, эти фазаны, которыми он кишит? Я ни одного из них не видел, и более того, я не слышал ни одного выстрела.
— Тысяча чертей! Ты меня насмешил, хотя мне сейчас вовсе не хочется смеяться. Вот как! Ты полагаешь, что дичь сбегается на стук кастрюль, словно пчелы на мед? Как ты не понимаешь, что адский шум, учиненный тобой и Фигаро, отпугнул всех животных, бежавших в этом направлении.
— Неудачная отговорка, — попытался вставить свое слово г-н Пелюш.
— Послушай, — серьезным тоном ответил ему бывший торговец игрушками, — если бы мы были одни, то я вполне смирился бы с последствиями твоей несколько завышенной оценки собственных охотничьих достоинств; но я пригласил и других гостей и вынужден тебя предупредить, что если ты будешь продолжать так, как начал, то развлечение, которое я им предлагаю, превратится в довольно нудное занятие, а я считаю тебя слишком светским человеком, чтобы ты мог желать этого.
Несмотря на это подслащивание, небольшой выговор Мадлена произвел довольно неприятное впечатление на г-на Пелюша. Однако, поскольку нахмуренные лица остальных охотников, по очереди подходивших к ним, и некоторые шуточки, отпускаемые самыми раздраженными из них, дали ему понять, что замечание Мадлена не было лишено оснований, он подавил испытываемое им желание преподать то, что по его словам было добрым уроком для Фигаро, и согласился, чтобы один из загонщиков занялся собакой.
К несчастью, г-н Пелюш был слишком самонадеян, чтобы уроки, полученные им на собственном опыте, пошли ему впрок, и близился момент, когда эта самонадеянность чуть не стала для него роковой.
Во время следующей облавы он отлично разглядел пару косуль, пересекавших полянку под дулом ружья Мадлена, который и на этот раз стоял в шестидесяти шагах от него; г-н Пелюш, желая проявить любезность, снизошел до того, что уведомил об этом друга; однако голос его прозвучал столь звучно, что косули не стали жертвой великолепного дуплета, к которому как раз готовился Мадлен, целясь в них; при этом цветочник не заметил великолепной лисицы, в это самое время выскочившей, по образному выражению Мадлена, прямо из штанов уведомителя.
Когда г-н Пелюш не разговаривал, он кашлял, а когда не кашлял, то шевелился; по-прежнему недовольный отведенным ему местом, он ходил взад и вперед, выбирая более выгодную позицию, ломал ветки, которые могли помешать его стрельбе, становился на колени, вставал, чтобы через минуту вновь присесть. Короче, он не только не нашел случая, чтобы хотя бы один раз выстрелить в добычу, но в конце концов сделал свое соседство настолько невыносимым для любого охотника, что Мадлен, уступая побуждениям своей излюбленной страсти, в итоге решил отказаться от задуманного им присмотра за своим старым другом и позволить ему устроиться там, где тому казалось это подходящим.
Между тем, если г-н Пелюш не сделал ни одного выстрела, то другие охотники были более удачливыми, чем он. Уже две косули лежали на траве, дюжина зайцев, четыре фазана и два вальдшнепа висели на плечах загонщиков. Господин Пелюш с досадой переносил явное унижение перед своими спутниками, в которое его ставило упорство того, что сам он называл своим невезением. Мало-помалу эта досада переросла в нетерпение. Каждый новый выстрел, долетавший до его ушей, приводил его в лихорадочное состояние. За завтраком цветочник слышал о нарисованных жженой пробкой усах, которыми украшали верхнюю губу несчастливца или неумехи, возвращавшегося домой без добычи, и все в нем восставало при мысли, что ему придется испытать такое унижение.
К несчастью, в этом, как и во многом другом, Фортуна тем упорнее отказывала г-ну Пелюшу в своей охотничьей милости, чем с большим пылом он взывал к этой капризной богине; наконец, окончательно отчаявшись, г-н Пелюш решился последовать примеру Магомета, который, видя, что гора не идет к нему, решил сам пойти к горе; раздраженный упрямством, с каким дичь оставалась вне его досягаемости, г-н Пелюш смирился и двинулся на ее поиски.
Загонщики в это время вели облаву в болотистой низине, изрезанной ручьями и почти непроходимой как из-за топкой почвы, так и из-за густых колючих зарослей, которые местами состояли из терна, своей высотой и мощью напоминавшего настоящий лес, но из-за многочисленности корневых отпрысков росшего так густо, словно стебли хлебного поля. Загонщики подняли страшный шум, крича и стуча палками по попадавшимся им деревьям; но они слишком медленно приближались к стрелкам, и эта медлительность усиливала нетерпение г-на Пелюша. И тогда цветочник, приняв героическое решение, скрытно скользнул в лес и по косой линии направился к загонщикам, в полном убеждении, что благодаря этой тактике он непременно встретит одного из тех животных, что выбегали под выстрелы его соседей.
Но, к несчастью для г-на Пелюша, в своей жизни не знавшего других дорог, кроме городских улиц, путь был не из самых легких: то ветка обнажала его голову и ему приходилось останавливаться и подбирать свою фетровую шляпу; то его ноги попадали в колючие заросли и он минут пять не мог высвободиться из их пут; то, потерявшись в чаще кустарников, о которых шла речь, незадачливый охотник чувствовал, как справа, слева, впереди и сзади, прямо в лицо и повсюду ему под кожу проникают острые иголки колючек, и ему в голову приходила мысль об ужасах, которые жестокие карфагеняне приберегали для Регула; то чуть дальше ветка березы, которую г-н Пелюш нагибал, вдруг распрямлялась с упругостью пружины и ударяла его по лицу, так что из его глаз выступали слезы! Но ничто так не возбуждает человека, как уязвленное тщеславие, и в это время г-н Пелюш мог бы пройти даже сквозь лес из бритвенных лезвий. Обливаясь потом, задыхаясь, а главное, беспрестанно ворча, он продвигался крайне медленно, но все-таки продвигался.
Вдруг, в тот миг, когда он споткнулся о пень, скрытый под тонким слоем сухой листвы, один из загонщиков крикнул: "Влоо!" Этот крик был немедленно повторен всеми загонщиками, и производимый ими шум усилился.
"Влоо!" — эго охотничий термин, которым охотники предупреждают друг друга о присутствии кабана и который понятен всем, но для г-на Пелюша он был китайской грамотой.
Так что этот крик лишь слегка насторожил его, и он продолжал прокладывать себе путь; но, сделав десять шагов, цветочник внезапно остановился: до его ушей одновременно долетели три звука.
Первым был один из тех резких, продолжительных, зловещих свистов, которые, раз услышав, уже невозможно забыть.
Вторым — звук выстрела.
Третьим — сухой треск молодого деревца толщиной в руку, которое пуля переломила пополам в шести дюймах от лица цветочника.
Господин Пелюш в один миг понял, что стреляли в него, и, осознав мудрость советов Мадлена, он тотчас же обрел способность идти по лесу, какую уже отчаялся когда-нибудь выработать; менее чем за полминуты, продираясь сквозь чащу, пригибая к земле молодую поросль, вытягивая ноги из топкой почвы, он оказался в пятидесяти метрах от покинутого им опасного места.
Несколько испуганный последствиями, какие могла бы иметь его неосторожность, он остановился, решив больше не двигаться, и стал ждать, опершись правым коленом о землю, положив левую руку на ствол, а правую на спусковой крючок и держа ружье перпендикулярно правому плечу, — то есть в том положении, которое устав предписывает солдату, находящемуся в первом ряду.
В этой позиции г-н Пелюш имел довольно-таки бравый вид, но, увы, он не успел им насладиться.
Через несколько минут к крикам загонщиков примешался лай собаки, и по звучному голосу нового участника облавы г-н Пелюш тут же понял, что это был Фигаро.
Это и в самом деле был Фигаро. Пес сбежал от своего вожатого и теперь с лаем преследовал кабана, как за несколько часов до этого преследовал кролика и как преследовал бы слона, если бы хозяин пустил его по следу этого четвероногого.
Лай Фигаро становился все ближе и ближе, и г-н Пелюш вслушивался в него с некоторым умилением, так как он смутно предчувствовал, что дичь, преследуемая Фигаро, выйдет на него; цветочник воздавал хвалу инстинкту животного за это деликатное внимание и, полагая, что именно благодаря этому верному слуге честь торгового дома "Пелюш и К°" будет спасена от постыдных усов, нарисованных жженой пробкой, послал немало нелестных слов в адрес Мадлена, который лишил его такого помощника.
Вдруг г-н Пелюш услышал в чаще ужасающий шум; это был треск ломающихся, сминающихся, скручивающихся ветвей, к которому примешивался странный топот; вершины молодых деревьев качались, потревоженные каким-то пробегавшим мимо зверем: величина и вес его должны были быть огромны, судя по тому, как сотрясались заросли молодых побегов, сквозь которые он пробирался, ломая их. И почти в то же мгновение на середине лужайки, куда был устремлен взгляд г-на Пелюша, появился громадный рыжевато-черный зверь. Шкура его была покрыта пятнами болотной грязи, шерсть на хребте стояла торчком, словно грива у лошадей в Древней Греции. Зверь возник так внезапно, что, казалось, он вырос из-под земли.
Господин Пелюш, ожидавший совсем иного, настолько был ошеломлен этим явлением, что совершенно забыл о своем ружье и застыл, широко раскрыв глаза и устремив неподвижный взгляд на это животное, так мало походившее на диких свиней, образ которых ему представляло лишь его воображение.
Кабан с яростью метался по узкой прогалине, при этом под густой бахромой его бровей блестели маленькие, налитые кровью глазки; он рыл землю передними копытами, пыхтел, как кузнечные меха, лязгал клыками о песчаник, время от времени бросался на какое-нибудь молодое деревце, словно проверяя крепость своих защитных органов, и сгибал его сокрушительным ударом рыла.
Когда кабан заметил Фигаро, его ярость, до тех пор сдерживаемая, разразилась со всей силой. Вздыбившаяся шерсть, казалось, вдвое увеличила размеры его тела, глаза засверкали, точно пылающие угли; едва нос собаки высунулся на лужайку, кабан, не став ждать нападения, так стремительно бросился на преследователя, что г-н Пелюш был почти ослеплен комьями земли и болотной грязи, полетевшими в его направлении из-под копыт кабана.
Эта яростная атака, без сомнения, положила бы конец авантюрам Фигаро, если бы Фигаро не был хитрым пройдохой, тут же заметившим, что он имеет дело не с зайцем, а главное, если бы у Фигаро был другой хозяин.
Ловким прыжком собака увернулась от клыков, и в то же мгновение г-н Пелюш, которому опасность, какой подвергался его компаньон, и те сто франков, что он стоил ему, внезапно вернули все его способности реагировать, спустил оба курка своего ружья одновременно.
По правде говоря, я не осмелился бы утверждать, что эти два заряда, разлетевшиеся вокруг, причинили большой вред кабану, ведь уже было сказано, что глаза г-на Пелюша были засыпаны землей, и к тому же несомненно, что в своем великодушном порыве он даже и не подумал прицелиться.
Как бы то ни было, но животное оказалось столь же чувствительным к намерению хозяина Фигаро, как если бы это намерение было осуществлено.
Прежде чем легкие облачка дыма рассеялись, г-н Пелюш, поднятый мощным ударом, взлетел в воздух, описал короткую параболу над порослью молодняка и упал на землю совершенно растерзанный и разбитый.
Увы! Ему не хватило времени даже на то, чтобы собраться с мыслями; кабан, с ожесточенностью, которая порой характерна для его родичей, и не обращая ни малейшего внимания на тщетный лай Фигаро, вновь напал на своего поверженного противника и прошелся по его ноге ударом рыла.
Я много говорил о гетрах г-на Пелюша, так много, что читатель, быть может, нетерпеливо перевернул страницу, по доброте своей заподозрив, что мои похвалы преследовали лишь цель заставить его сменить своего постоянного поставщика гетр на моего.
Но сейчас будет видно, как я был прав, расхваливая прочность кожи, надежность швов, качество различных принадлежностей этого предмета снаряжения г-на Пелюша, так как именно всему этому он был обязан жизнью.
Благодаря случайности, которая показалась бы невероятной, если бы случайность можно было поймать с поличным и если бы она сама не взяла на себя труд оправдаться, клык кабана с силой вонзился в одну из застежек гетры. Застежку тут же срезало будто ножом, однако все же не так глубоко, чтобы серьезно повредить ногу обладателя гетр.
Животное явно намеревалось вернуться и нанести новый удар противнику, но в течение нескольких секунд кожа гетры и металл застежки, зацепившиеся за клык кабана, выдерживали яростные сотрясения, не давая ему освободиться. И этих нескольких секунд хватило, чтобы подготовить этой сцене развязку, совершенно отличную от той, что представлялась уже неизбежной.
Фигаро, вероятно не желавший отставать в великодушии от своего патрона (впрочем, пес никогда не упускал случая дать своей челюсти возможность поупражняться), вспрыгнул на холку кабана и яростно вцепился в его ухо; и сразу же в двадцати шагах от полянки, в зарослях, послышался голос Мадлена, который кричал, задыхаясь, прерывающимся голосом:
— Не двигайся, Пелюш! Во имя твоей дочери, не двигайся!
Но г-н Пелюш вовсе и не думал двигаться: он был без сознания.
Мадлен долго целился и, наконец, выстрелил; однако волнение сделало его руку менее твердой, пуля, пролетев немного ниже, лишь раздробила кабану лопатку. Животное, одним прыжком отделавшись от Фигаро и от г-на Пелюша, с яростью бросилось на нового противника. Но Мадлену на этот раз приходилось дрожать лишь за себя, а потому он не дрожал вовсе. Спокойно и даже не сходя с места, он послал вторую пулю прямо в морду зверя. Пуля вошла в глаз кабану, и смерть его была почти мгновенной: он упал на колени, пошатнулся и завалился набок, чтобы больше никогда не встать.
Охотники и загонщики подбегали со всех сторон и изо всех сил старались помочь г-ну Пелюшу.
Один из загонщиков, не мешкая, послал в деревню за врачом и коляской, так как в первые минуты никто не сомневался, что г-н Пелюш серьезно пострадал.
Осмотрев его ногу, Мадлен тотчас же понял, что достойный торговец цветами, к счастью, лишился чувств скорее от страха, чем от боли; он побрызгал его лицо водой и вскоре с удовлетворением увидел, что тот приходит в себя.
Когда туман, застилавший взгляд г-на Пелюша, немного рассеялся, первое, что бросилось ему в глаза, была туша его врага, лежавшая в нескольких шагах от него, и ее вид оказал на него гораздо большее воздействие, нежели все укрепляющие средства, которые предлагали ему его компаньоны; его щеки сразу вновь порозовели, глаза заблестели, а плотно сжатые губы растянулись в улыбке, одновременно насмешливой и торжествующей, и, указывая Мадлену пальцем на кабана, он воскликнул тоном, от которого не отрекся бы и Тальма:
— Что ты скажешь об этом?
Два выстрела подряд, сделанные Малленом, и две раны на теле кабана рассказали большинству присутствующих, отличным знатокам охоты, что произошло; поэтому все, смущенные редкостной самоуверенностью г-на Пелюша, с недоумением переглянулись; один Мадлен, уже давно привыкший не удивляться характеру своего друга, оставался бесстрастным.
Впрочем, г-н Пелюш не дал им времени ответить.
— Я прекрасно знал, — продолжал он, — что уложил его наповал! Какой экземпляр, господа, какой великолепный экземпляр! Безусловно я не стану есть его голову, я велю набить ее соломой.
— Не знаю, захотел бы он набить соломой вашу голову, — вскричал Жюль Кретон, не в силах долее сдерживаться, — но вот в чем я совершенно уверен, так это в том, что если бы Мадлен не подоспел вовремя, то эта дикая свинья, как вы ее называете, была бы вольна распоряжаться ею, как ей вздумалось бы!
Господин Пелюш сдвинул брови, встал, подошел, слегка прихрамывая, к Мадлену, и горячо пожал ему руку:
— А, это ты прикончил моего кабана, мой старый друг?! Спасибо! Спасибо! Ты ведь знаешь, как это водится между охотниками: услуга за услугу.
— Я сомневаюсь, что в ближайшее время вам представится возможность отплатить ему тем же, ибо на охоте не всякий день видишь человека, который был бы так близко от смерти.
— Да, — сказал г-н Пелюш, — разбойник меня изрядно потрепал, признаюсь; но, пока силы не оставили меня, я повторял про себя: "Давай, давай, парень, моя пуля должна сделать свое дело, и скоро наступит моя очередь".
— Так вот, дорогой мой сударь, — заметил неумолимый Жюль Кретон, — я отвечу вам, что вы поступили бы гораздо лучше, если бы подумали в это мгновение о вашей жене и вашей дочери, которых вы вполне могли бы никогда больше не увидеть.
Эти последние слова произвели переворот в мыслях г-на Пелюша, чье тщеславие, исключительно внешнее, никогда не затрагивало его чувств; голова торговца цветами склонилась на грудь, лоб нахмурился, две крупные слезы навернулись на его глазах и медленно скатились по щекам; одновременно с этим пожатие его руки, все еще державшей руку Мадлена, стало крепче; он наклонился к своему другу и, уступая волнению, бросился ему на шею и расцеловал его с небывалым жаром.
Тем временем в зарослях показались новые лица, прибывшие на место происшествия. Это были Камилла и Анри в сопровождении нескольких крестьян и слуг замка.
Анри поддерживал девушку и казался не менее взволнованным, чем она; пока они шли, он пытался ее успокоить, утешить, но все его уговоры были напрасны. Едва Камилла сквозь ветви увидела группу охотников, она, бледная как привидение, с блуждающим взглядом, трясущимися губами, не в силах вымолвить ни слова, ускользнула от своего провожатого и бросилась вперед, оставляя клочки своего платья на колючках кустарника.
Как только девушка увидела г-на Пелюша, силы, почерпнутые ею в нервном перевозбуждении, покинули ее, дрожавшие колени подогнулись, она пошатнулась и упала бы, не окажись рядом Анри, подхватившего ее. Она могла лишь протянуть руки, вскричав:
— Отец! Отец!..
При звуках этого голоса г-н Пелюш оставил своего друга и подбежал к дочери; он прижал ее к груди, покрывая ее лицо поцелуями и орошая его слезами.
— А, как замечательно вновь увидеть, вновь обрести свое дитя! — вскричал он. — Боже мой! Неужели ты был бы так жесток, что разлучил бы меня до срока с той, которую я столь нежно люблю? Вот, вот, вот! — продолжал он, сопровождая каждое это слово звучным поцелуем. — Однако тебе надо прежде поблагодарить Мадлена! Если бы не он, ты была бы здесь, но я не узнал бы тебя, не услышал бы тебя, не смог бы обнять и расцеловать тебя, а ведь это так чертовски приятно!
Услышав эти слова отца, девушка оставила его, чтобы броситься на шею крестному.
— О! Будь спокойна, — продолжал г-н Пелюш, — будь спокойна, Камилла, мы не из тех, кто забывает услугу. Впрочем, могу ли я ее забыть? Всякий раз, когда твои губы прикоснуться к моему лбу, всякий раз, когда твой голос заставит трепетать мое сердце, я скажу себе: "Это Мадлену я обязан этим счастьем". Да, моя жизнь принадлежит ему, так как я ему обязан больше, чем жизнью! И если он попросит у меня мой магазин, мое состояние, все-все, я ему отдам все, за исключением, быть может, моего креста Почетного легиона, который, впрочем, ни на что ему не пригодится, ведь это личная награда.
И Камилла из объятий Мадлена вновь перешла в объятия отца.
Все, кто присутствовал при этой сцене, на время забыли о маленьких странностях г-на Пелюша и разделили с ним его волнение.
Но он был не таким человеком, чтобы надолго оставить их под этим впечатлением.
— Ты не видела моего кабана, доченька? — вскричал он, беря ее за руку и подводя к тому месту, где покоилась его, как он считал, жертва. — Подойди и посмотри. О! Такие встречаются не каждый день не только на улице Бур-л’Аббе, но и в лесу Вути! Какая огромная туша! И несмотря на свои размеры, он в десять раз проворнее косули! Смотри, вот пуля Мадлена, отличный выстрел, не так ли? Но моя угодила точно под лопатку, именно в то место, куда мне указали. Ты согласишься, что не моя вина, если он сразу не упал! Но это не имеет значения, ведь он не избежал смерти.
— Простите! Простите! — вмешался Жюль Кретон, вот уже несколько минут осматривавший все окрестные деревья и обнаруживший на коре одного из них следы совершенно свежих повреждений. — Если вы позволите, господин Пелюш…
Мадлен повелительным знаком велел Жюлю Кретону замолчать, и г-н Пелюш, который слишком увлекся, снисходительно выслушивая комплименты Анри, не обратил внимания на это замечание.
— Да, — отвечал он Анри с теплотою, мало согласовывавшейся с его неприязнью к этому дворянину. — Да, решительно охота на редкость приятное развлечение; она подобна войне: даже я, имеющий некоторый опыт сражений, никогда еще не подвергался такой серьезной опасности, как сегодня. Однако Мадлен прав, надо быть осторожным, очень осторожным!
Господин Пелюш мог бы долго продолжать в том же духе, если бы Мадлен не напомнил ему, что день близится к концу и пора возвращаться домой.
Как истинный храбрец, владелец "Королевы цветов" отказался от перевязки, но героизм г-на Пелюша не зашел настолько далеко, чтобы он воспротивился сесть в коляску Анри и в ней вернуться в деревню.
XXVII
ДВОЙНАЯ ИСПОВЕДЬ
На следующий день Мадлен, следуя своей привычке, встал на рассвете; спускаясь по лестнице, он старался не шуметь, понимая, что волнения и напряжение предыдущего дня сделали отдых необходимым как для самого г-на Пелюша, так и для его дочери.
Едва светало; пурпурные полосы на небосклоне с трудом рассеивали сумрак, еще окутывающий землю, и в ту минуту, когда Мадлен, с бесконечными предосторожностями открыв дверь, выскользнул на крыльцо, ему показалось, будто какая-то тень мелькнула от дома к саду и растворилась среди деревьев.
Сильно заинтригованный этим неожиданным явлением, он бросился по стопам незнакомца.
Однако Мадлен раньше всех встал с постели вовсе не ради того, чтобы приветствовать дневное светило или послушать утреннее песнопение птиц. Охота почти целиком поглощала все его дни с утра до вечера, и работать в своем маленьком саду ему приходилось в самые ранние часы, вот почему на ногах у Мадлена были сабо, затруднявшие его ходьбу и не оставлявшие ни малейшей возможности догнать беглеца, который, напротив, бежал с юношеской легкостью.
Тем не менее, несмотря на это преимущество убегавшего, Мадлен видел его с достаточно близкого расстояния, чтобы быть твердо уверенным в том, что он имеет дело не с призраком, а с человеком.
Человек этот промчался мимо прохода, ведущего в парк, купы деревьев которого предоставляли ему многочисленные укрытия, и, с какой-то нарочитой решимостью преодолев живую изгородь, двинулся в совершенно противоположном направлении, идущем в сторону поля.
Этот маневр заставил Мадлена задуматься; внезапно остановившись, он вернулся назад, вошел в парк, направился к замку и, взяв один из железных стульев, стоявших на лужайке, спокойно сел, предусмотрительно, однако, укрывшись за двумя кадками с гигантскими апельсиновыми деревьями.
Он не прождал и десяти минут, как увидел черный силуэт беглеца, показавшийся на неясном фоне утреннего тумана. Этот силуэт приблизился, и вскоре Мадлен узнал в посетителе, за которым он гонялся, своего крестника.
Как только Анри поставил ногу на первую ступеньку крыльца, бывший торговец игрушками вышел из своей засады и окликнул его.
— Ты вышел на прогулку чересчур рано, мой мальчик.
— В этот час равнина смотрится прекраснее всего, не правда ли? — ответил Анри в некотором замешательстве.
— Однако, — продолжал Мадлен, — мне кажется, что ты шагал слишком быстро, ведь ты, похоже, совсем запыхался.
— Да, это так, мой старый друг. У меня застыли ноги, и я немного пробежался, чтобы согреть их.
— Хорошо, продолжим этот допрос, раз тебе этого так хочется. Скажи мне, восход какого светила ты встречал, устремив глаза на мой второй этаж? Правда, солнце садится в этом направлении, но я никогда не видел, чтобы оно вставало там же.
Анри слегка улыбнулся и густо покраснел. Мадлен громко расхохотался, и это склонило чашу весов в сторону веселья и помогло Анри преодолеть смущение.
— А-а! — приговаривал Мадлен, радостно потирая ладони. — Я и не думал, что ты так легко воспламеняешься, и уж никак не подозревал, что у моей крестницы такой зажигательный темперамент. Едва сутки, как она здесь, а у нее уже есть поклонник! И при ее первом пробуждении под моей бедной крышей красивый молодой человек уже воркует под ее окнами! Но это ваше дело, дети, и признаюсь, я и вполовину не надеялся на подобное.
— Мадемуазель Камилла очаровательна! — с восторженной убежденностью вскричал Анри.
— Черт возьми! Ты, похоже, вознамерился убеждать меня в этом.
— А теперь, когда лед сломан, я рад, что вы застали меня под ее окнами, дорогой Мадлен.
— Ба! Почему же?
— Потому что вы мне дали очень удобный случай обратиться к вам с просьбой поговорить с ее отцом о нашей женитьбе.
— Черт! Эко ты взялся за дело!
— Но, — возразил Анри с легким нетерпением, — разве не вы сами два дня назад первый советовали мне жениться?..
— Не отрицаю.
— Жениться, когда я встречу женщину, которая покажется мне достойной составить мое счастье?
— И ты с первого же взгляда разглядел в мадемуазель Камилле такую женщину?
— Безусловно. Это вас удивляет?
— В моем возрасте уже ничему не удивляешься, мой мальчик. Однако моя любовь к тебе заставляет заметить, что, возможно, воздух лавки, который Камилла вдыхала с детства, оставил свой отпечаток не только на ее характере, но и на ее чувствах, а ограниченные, мелочные идеи, унаследованные ею от отца и матери, несовместимы с теми, которые ты черпаешь не только из своего просвещенного воспитания, но и из своих артистических наклонностей. Трудно достичь семейной гармонии, когда столь по-разному видишь, чувствуешь и судишь.
— Как вы можете так говорить? — нетерпеливо воскликнул Анри. — Я попробую перефразировать один из псалмов царя Соломона на ваш счет: "Имеете глаза, и не видите, имеете уши, и не слышите". Как вы могли не заметить, что мадемуазель Камилла еще более прекрасна своими душевными качествами, чем внешним очарованием, что нет такого деликатного чувства, которое не нашло бы отклика в ее сердце, нет такого вопроса из области нравственности, о котором она не могла бы судить?
— Извини меня, мой мальчик, извини, — сказал Мадлен с несколько насмешливым раскаянием. — Я вовсе и не помышлял хоть чем-то оскорбить мою крестницу. Ведь я только вспомнил те самые возражения, какие ты сам приводил мне несколько дней назад в ответ на мои намеки.
— Скажите лучше, что вы ищете способ избежать поручения, которое не кажется вам слишком приятным…
— Ну, это что-то новое!
— Вы мне много раз с похвальбой говорили о вашем влиянии на господина Пелюша, и со вчерашнего дня я замечаю, что все ваше влияние ограничивается лишь тем, что вы навязываете ему свои влечения.
— В самом деле?!
— И я понимаю, что вы колеблетесь между страхом вызвать раздражение у вашего друга и твердым желанием составить мое счастье.
— Ах, вот что! Но ты, похоже, упрекаешь меня?!
— Впрочем, с самого моего рождения я уже успел привыкнуть к одиночеству.
— Бедное дитя! Я советую тебе излить душу!
— Так что вы можете избавить себя от необходимости быть моим посредником; я сам поговорю с господином Пелюшем.
— О да! Я советую тебе это!
— И если он откажет мне…
— То что?
— Тогда я вернусь в Африку, где при некотором везении воспоминания о мадемуазель Камилле не будут меня преследовать слишком долго.
— Черт тебя возьми! — закричал возмущенный Мадлен и, внезапно развернувшись, покинул молодого человека.
Бывший торговец игрушками направился в свой сад, но по дороге он активно жестикулировал и вслух говорил с самим собой, что никак не входило в его привычки и должно было означать страшное перевозбуждение:
— Я правильно сделал, что ушел от него вот так неожиданно, не простившись, иначе я был бы вынужден выложить ему всю правду. Встречали ли вы еще когда-нибудь подобного чудака?! Двадцать пять тысяч ливров ренты, громкое имя, семьи нет, а это значит, нет тех предрассудков, которые помешали бы ногам следовать за сердцем, и он еще осмеливается говорить об одиночестве! И кому? Тому самому, кто… А! Тысяча чертей! Я решительно был прав, что оставил его. Но разве мог я когда-нибудь предположить, что этот Анри, холодный и сдержанный, как англичанин, воспылает таким огнем при первом же свидании! Но он совсем одержимый! (Суровое выражение лица Мадлена смягчила улыбка.) Черта с два в мое время любили так! Когда мы влюблялись, то наши лица всегда растягивались в улыбке и никогда не вытягивались от кислой мины. Смеялись, влюбляясь; смеялись, любя; смеялись, даже расставаясь. Странное пошло поколение! Странное поколение!
Этот монолог привел Мадлена к грядке с артишоками, которую он решил взрыхлить. Он взял заступ и с тщательностью, присущей тем, кто выполняет такую работу, очистил его металлическую часть; но едва он приготовился нажатием ноги погрузить острие в землю, как услышал голос, звавший его. Обернувшись, Кассий увидел Камиллу.
Одетая в утренний пеньюар, девушка была все так же очаровательна, но казалась несколько бледнее, и по широким голубым кругам под ее глазами легко было догадаться, что сон не помог ей справиться с волнениями предыдущего дня.
— Ну, — пробормотал Мадлен, откладывая заступ, — похоже, что мне не удастся заняться сегодня моими артишоками. Однако по крайней мере от этой не приходится ждать выходок вроде той, что мне сейчас преподнесли.
И Мадлен, подойдя к крестнице, нежно поцеловал ее в лоб.
— Почему ты так рано встала с постели? — спросил он. — Утренний воздух наших полей чересчур свеж для обитателей улицы Бур-л’Аббе. Я всегда видел, как парижане расплачиваются насморком за зрелище восхода солнца; и потом, если ты непременно хочешь его увидеть, то можешь наслаждаться им из твоей комнаты, находясь под зашитой оконного стекла.
— Но мне не холодно, крестный, уверяю вас. Посмотрите сами.
При этих словах Камилла протянула руку Мадлену.
— В самом деле, твоя рука совершенно сухая и горячая. У тебя жар, мое бедное дитя?
— Нет, у меня нет жара, — ответила девушка, опуская глаза, — но…
— … но что?
— Я очень взволнована, крестный.
— И можно узнать, чем ты взволнована? — спросил Мадлен, сдвигая брови и устремляя на крестницу вопросительный взгляд.
Камилла пребывала в явном замешательстве: она не поднимала головы и пыталась вернуть себе спокойствие, разбрасывая камешки аллеи носком туфельки, которую могла бы надеть, кроме нее, разве только Золушка.
— Испытываемое мной чувство вполне естественно, крестный, после ужасного происшествия, чуть было не лишившего меня отца. Я все еще продолжаю дрожать, и, несмотря на счастье быть подле вас, я чувствую, что мне больше не будет покоя, если я буду знать, что каждый день он подвергается подобной опасности, и я хотела бы… я пришла к вам, крестный, чтобы умолять вас…
— Ну, о чем ты пришла умолять меня? — холодно спросил Мадлен, делая вид, что не замечает смущения крестницы.
— О! Не говорите со мной так! Вы отнимаете у меня мужество обратиться к вам с просьбой, которая, я чувствую это, огорчит вас и на которую, однако, вы не сможете ответить отказом, ведь от этого зависит мое спокойствие.
— Говори же, дитя, говори! — вскричал бывший торговец игрушками, забыв при виде слезы, блеснувшей во взоре девушки, инстинктивные опасения, порожденные столь торжественным вступлением. — Мне кажется, я никогда не был слишком суровым крестным отцом.
— О нет!.. Вся моя надежда только на вас, — продолжила Камилла, обвивая руками шею Мадлена и пряча голову у него на груди, вероятно, чтобы окончательно покорить его этой лаской, но и, возможно, чтобы скрыть от него свое смущение. — Видите ли, крестный, необходимо…
— Что?
— Дабы вы, не открывая, что желание исходит от меня, добились от отца, чтобы мы сегодня же вернулись в Париж.
Изумление Мадлена было столь велико, что, высвобождаясь из объятий крестницы, он отскочил назад в самую середину грядки, не обращая внимания на полдюжины ростков горошка, раздавленных его сабо.
— Уехать?! Вернуться в Париж?! — закричал он. — Но в чем причина, мадемуазель?
— Я вам уже назвала ее, крестный, — пробормотала Камилла, не осмеливаясь поднять глаза.
— Но, черт возьми! Кабаны встречаются не каждый день, и не каждый день имеешь глупость повиснуть на их клыках, словно на вешалке! Будем надеяться, что вчерашний урок пойдет твоему отцу впрок, черт побери! Отныне он станет доверять опыту своего друга Мадлена.
Волнение Камиллы, казалось, росло по мере того, как Мадлен говорил, и из ее глаз заструились по щекам слезы.
— Нет! Нет! — настаивала она. — Я не смогу так жить: нам нужно расстаться, крестный, это необходимо. Впервые вы отвечаете отказом на мои просьбы, и никогда еще я не просила вас с таким жаром и такой тревогой! Позвольте нам уехать; я не могу, я не хочу даже часу оставаться здесь долее.
Пока она говорила, ее плач перешел в рыдания. Она задыхалась и с мольбою протягивала к крестному руки. Но тот был достаточно проницателен, чтобы догадаться, что сильнейшее волнение Камиллы было вызвано чем-то иным, нежели страхом дочери за жизнь отца.
— Камилла, ты скрываешь от меня что-то, — сказал он.
Девушка не ответила.
— Ведь в этом замешан господин Анри, — добавил Мадлен со своей обычной прямотой.
Услышав это имя, так четко и внятно произнесенное, девушка стала пунцовой. Ее руки и губы заметно дрожали. Она с усилием пробормотала:
— Нет, крестный. Как вы могли такое подумать?..
Она не закончила.
— Да, — продолжал Мадлен, все более и более горячась, — да, в этом замешан господин Анри. Пусть он окончательно потеряет голову, пусть превратится в помешанного, если ему так хочется, — все это касается только его; но я не позволю ему заставлять плакать эти глаза, которые я никогда не видел проливающими слезы. Он был непочтителен с той, к которой я отношусь как к своей дочери; он заслуживает урока, и он его получит.
— Но, крестный…
— Он его получит, говорю я тебе. Ты увидишь, как торговцы игрушками обращаются в этом краю с дворянами.
— Все, что вы говорите, крестный, это безумие!
— Безумие? — повторил Мадлен, полагавший, что он ослышался.
— Да, безумие. И если бы я знала, что вы воспользуетесь этим предлогом, чтобы доставить неприятности господину Анри, я не стала бы ждать согласия моего отца: я уехала бы тотчас, одна, ушла бы пешком, если бы это потребовалось.
— Что я слышу?
— О! Несправедливо, — продолжала Камилла с непритворным негодованием, от которого ее глаза засверкали, а голос стал прерываться, — несправедливо обвинять этого бедного молодого человека, виновного лишь в том, что он был слишком вежлив и учтив со мной, несправедливо обвинять его, повторяю, в неуважении: одного только благородства его характера будет достаточно, чтобы защитить его от такого подозрения.
— Черт возьми! Мадемуазель крестница, вы защищаете его как настоящий адвокат, и чувствуется, что предмет защиты вас вдохновляет.
Это замечание вновь раздосадовало Камиллу, которую, казалось, обуревали самые противоречивые чувства. Из ее глаз опять заструились слезы, а маленькая ножка нетерпеливо притопнула.
— Оставьте меня! — вскричала она. — Оставьте меня! Вы меня не любите, вы меня никогда не любили! Я это отлично вижу. Я сейчас отыщу отца, привязанность которого ко мне неизмеримо выше вашей. Он согласится с моими доводами, я уверена в этом: он не захочет, чтобы я умерла от огорчения. Он поймет, что меня гложет безумная тревога, что я не в силах оставаться в этом доме, где мое пребывание стало невыносимым. Он не будет противиться тому, чтобы мы немедленно уехали отсюда.
При этих словах мадемуазель Камилла поднесла платок к глаза и убежала, не внемля настойчивым просьбам своего крестного отца, пытавшегося ее удержать.
Однако этот внезапный уход, казалось, отнюдь не произвел на Мадлена столь же неприятного впечатления, какое оставил у него первый утренний разговор.
После того как крестница легко взбежала по ступенькам крыльца и исчезла в прихожей, он разразился громким взрывом смеха.
— Решительно, — вскричал он, — всюду становится горячо! Этот каприз, это желание внезапного, необъяснимого отъезда говорят еще более красноречиво, чем признания Анри, которому грех жаловаться на недостаток красноречия. Стоит только человеку заговорить о любви, как с ним происходят подлинные перемены. Пока Камилла вела эту беседу, я дважды или трижды с удивлением смотрел на нее, сомневаясь, она ли это говорит со мной? Не назвала ли она меня безумным? По правде говоря, я думаю, она бы набросилась на меня с кулаками, пригрози я только дать щелчок бедному молодому человеку. Ах, старина Мадлен, если бы ты уже не обжегся однажды, то это научило бы тебя не играть с огнем. Но как бы там ни было, если я хочу оборвать отпрыски у моих артишоков, которые уже начинают чахнуть, то мне следует побыстрее подпить немного воды на пылающие угли. Итак, отправимся на поиски моего друга Пелюша.
И Мадлен, бросив грустный взгляд на покинутую им грядку, вскинул на плечо заступ и грабли и направился к дому.
XXVIII
ВЕКСЕЛЬ ГОСПОДИНА ПЕЛЮША
Мадлен не ошибся в своих предположениях.
Камилла провела бессонную ночь. Но, к величайшему ее удивлению, впечатления минувшего дня, упорно приходившие ей на ум, были отличны от тех, которые, по ее разумению, имели на это право. Ужасный испуг, пережитый ею в ту минуту, когда крестьянин сообщил о несчастном случае, беспокойство, терзавшее ее всю дорогу из Норуа в лес Вути, радость при виде того, что отец жив и здоров, занимали лишь второстепенное место в ее ночных переживаниях, в то время как мирные картины ее прогулки с Анри все в новых и новых подробностях вставали перед мысленным взором девушки. Тщетно пыталась она прогнать эти воспоминания — они казались сильнее ее воли; тщетно ее почтительная дочерняя любовь, встревоженная случившимся, внушала ей, что ее долг думать о своем отце и благодарить Господа, сохранившего ему жизнь, — ее воображение настойчиво рисовало образ молодого человека рядом с картинами, какие ей хотелось воскресить в памяти. А если девушка пробовала молиться, то замечала, что ее губы шепчут совсем другое имя вместо того, какое она собиралась произнести.
Вначале лишь удивившись, она в конце концов испугалась подобного наваждения. По наивности своего непорочного сердца она не в состоянии была понять, как незнакомец всего за несколько часов мог получить такие же права на ее любовь и привязанность, какие имели ее отец и мать. Она горько упрекала себя в том, что представлялось ей черной неблагодарностью, и мало-помалу ее угрызения совести переросли в ужас. Камилла спрашивала себя, что станет с ней, если она вновь увидит того, кто столь стремительно приобрел такую могучую власть над ее душой. Не осмеливаясь остановиться на мысли о браке, который она по своей скромности полагала неравным, она сочла, что ее долг — побороть чувство симпатии, непреодолимо толкающей ее к молодому дворянину. Она решила, что это ей удастся только в том случае, если она не будет рядом с ним.
Привыкшая к снисходительному отношению Мадлена ко всем ее желаниям, Камилла предполагала, что он удовольствуется объяснениями, которые она пожелает ему дать, и согласится взять на себя ответственность за этот внезапный отъезд. Поэтому, едва увидев в саду крестного, она без промедления спустилась к нему.
Мы видели, что из этого вышло.
Когда Мадлен подошел к двери комнаты г-на Пелюша, он услышал раздававшийся оттуда голос Камиллы. Кассий вошел к ним.
Девушка сидела на кровати отца; несколько слезинок блестело на ее ресницах; лицо ее выражало недовольство. Было вполне очевидно, что она добивается от отца того, в чем ей отказал крестный, поскольку г-н Пелюш, приподнявшийся в кровати и еще не снявший с головы свой постоянный домашний колпак, сам выглядел крайне озабоченным.
Однако визит Мадлена, казалось, придал более радостное направление мыслям хозяина "Королевы цветов".
— А мой кабан? Что ты сделал с моим кабаном? — вскричал г-н Пелюш, даже не дав Мадлену времени поинтересоваться, как он провел ночь.
— Твой кабан спит в погребе сном безгрешного, и если только ты, будучи еще безгрешнее его, спал так же хорошо, как он, то тебе больше не приходится чувствовать ни усталости, ни волнения.
Господин Пелюш не заметил колкости этой шутки.
— Хорошо. Видишь ли, — сказал он, — дело в том, что этот разбойник всю ночь занимал меня. Вчера я решил набить соломой его голову, чтобы повесить ее с соответствующей надписью в моем магазине; но мне подумалось, что среди цветов эта ужасная маска могла бы произвести довольно отталкивающее впечатление.
— Она в самом деле сделала бы магазин несколько похожим на колбасную лавку, — заметил Мадлен.
— Поэтому, когда Камилла вошла сюда, я как раз задавался вопросом: не лучше ли, вставив ему глаза из эмали, сделать ковер из его шкуры и положить этот ковер перед моим прилавком? Но вот что приводит меня в затруднение, так это надпись, которой я придаю огромное значение. Впрочем, сегодня вечером госпожа Пелюш решит этот вопрос.
— Как это сегодня вечером?! — нахмурил седеющие брови Мадлен.
— Увы! Мой бедный друг, — ответил г-н Пелюш, придав своему лицу плаксивое выражение, слишком естественное, чтобы не быть искренним. — Увы! Я рассчитывал провести с тобой несколько дней, я даже надеялся вволю насладиться своим пребыванием здесь, поверь мне; но ты знаешь, что такое дела. Я только что получил письмо, призывающее меня немедленно вернуться в Париж… Банкротство. А! Боже мой, да, банкротство! Это серьезно, очень серьезно. Так что прикажи положить мою дичь в корзину. Мы отбываем после завтрака.
Господин Пелюш закончил свой монолог тяжелым вздохом, который мог дать его другу представление о том, как глубоко сожалеет хозяин "Королевы цветов" о предстоящем отъезде.
— Банкротство?! Письмо?! — засмеялся Мадлен. — А! Черт возьми! Ты смеешься надо мной! С каких это пор письмоносец, отправившись из Виллер-Котре в восемь утра, прибывает в Норуа в семь часов?
— Нет, нет, нет! — нетерпеливо перебил его г-н Пелюш. — Это не письмо, просто я забыл об этом деле, совершенно забыл о нем, клянусь тебе!
— Гм! Когда врешь столь неумело, то не стоит отягощать свою совесть столь мерзким грехом, — сказал Мадлен, бросив косой взгляд на свою крестницу, которая, опустив глаза, красная как пион, машинально теребила концы пояса своего пеньюара. — Ты хочешь уехать? Я не стану тебя удерживать, мой старый друг, хотя и надеялся, что ты проведешь под моей скромной крышей еще несколько дней. Однако праздник оказался слишком коротким.
— О Мадлен, я испытываю еще большее отчаяние, чем ты, клянусь тебе, — вздохнул г-н Пелюш еще тяжелее, чем в первый раз. — Но спроси у Камиллы: мы не можем оставаться долее.
— Я ни о чем не буду спрашивать мадемуазель, — с достоинством возразил Мадлен, — так как слишком хорошо знаю, какое участие она приняла в твоем решении. Однако раз вы завели разговор о банкротствах и повеяло делами, то я воспользуюсь этим, чтобы попросить у тебя небольшую консультацию относительно моих собственных дел.
— Говори же! — вскричал г-н Пелюш, придя в восторг от этой запоздалой дани уважения его коммерческим познаниям. — Если бы ты решил довериться мне еще раньше, Мадлен, то сейчас владел бы не маленьким домиком, а замком.
— Вот как обстоит дело, — продолжил Мадлен. — Речь идет об одном из моих друзей, которого я вытащил из критического положения.
— Какой же ты неосторожный, все такой же неосторожный!
— Я забыл тебе сказать, что этот друг был лучшим и честнейшим человеком на свете.
— Ба! Честный человек никогда не попадает в критическое положение. Но в конце концов от тебя не приходится ожидать ничего другого. Договаривай.
— В обмен на услугу, которую я оказал ему, этот друг дал мне…
— Заемное письмо? Вексель?
— Пусть будет вексель.
— Ну что ж! В этом еще нет большого зла, если только человек в критическом положении остается платежеспособным; но я очень сомневаюсь в этом, мой бедный Мадлен.
— О! Ты ошибаешься, в этом отношении нечего бояться. Но не это меня беспокоит, и не по этому поводу я прошу у тебя совета. Поскольку этот долг имеет не полностью коммерческое происхождение, полагаешь ли ты, что я вправе передать третьему лицу то, что ты обозначил словом "вексель"?
— Черт возьми! Платить значит платить, и тому, кто отсчитывает деньги, безразлично, в чьи руки они попадут, лишь бы у него была расписка того, кому он должен.
— Но замечу тебе еще раз, что речь не идет о делах коммерции.
— Все равно! Разве тебя это волновало, когда ты брал у него обязательство? Почему же это должно его волновать теперь, когда необходимо заплатить долг, который стал тем более священ, что на расписке стоит передаточная надпись? Я утверждаю, что, раз твой документ всего лишь вексель, всего лишь простое обязательство, твой знакомый, если он действительно честный человек, не должен противиться его передаче в третьи руки и что ты один вправе судить об уместности подобной передачи.
— Это твое мнение?
— Я готов скрепить его кровью! — убежденно вскричал г-н Пелюш. — Послушай, вот как тебе следует приняться за дело: на обороте твоей бумаги ты пишешь: "Оплатить предъявителю сего", ставишь число и подпись. Боже мой, — прибавил он, закрывая лицо обеими руками, — и подумать только, что этому человеку, двенадцать лет занимавшемуся делами, я вынужден давать подобные наставления! Ну вот! Это все, что ты хотел знать?
— Это все.
— Что ж, простак, пока я встану, займись-ка моим кабаном. Хотя упаковывается он не так легко, как кролик, тем не менее я утверждаю, что вступлю в Париж лишь с ним. Осталось только время перекусить — и в дорогу! Ах, это разрывает мне сердце, мой бедный Мадлен. Я собирался сегодня дать моему вчерашнему зверю товарища, достойного его. Но раз ты об этом знаешь, то не стану скрывать от тебя: Камилла больна, она страдает, и ты меня слишком любишь, чтобы осуждать за то, что ее здоровье дороже мне наших развлечений. Итак, это решено, мы едем.
— Прости, — с улыбкой сказал Мадлен, — но если ты едешь, то, значит, тебе настало время заплатить по векселю.
— По какому векселю?
— Черт! По тому, о котором ты так красноречиво говорил только что. Человек в критическом положении — это ты!
— я?
— Не станешь же ты отрицать, что, когда я подоспел вчера, ты был уже весьма близок к тому, чтобы подвести свой итог и распрощаться с жизнью?
— О! Это правда! — вскричал г-н Пелюш, взяв руку Мадлена и горячо пожав ее.
— И не сказал ли ты мне: "Что бы ты ни попросил, чего бы ни пожелал, мое состояние, моя жизнь, все, что есть у меня, отныне принадлежит тебе"?
— И это правда. Ну что же! Ты стеснен в деньгах, мой бедный Мадлен? Сколько тебе нужно? Десять, двадцать, пятьдесят тысяч франков? Будь спокоен, тебе стоит лишь назвать цифру. Атенаис никогда не откажется открыть кассу, если увидит, что ей предстоит оплатить счет за жизнь мужа.
— Я хочу гораздо больше, Пелюш.
— Гораздо больше?! — по телу г-на Пелюша пробежала дрожь, от которой даже кисточка затряслась на его домашнем колпаке.
— Я полагаю, что ты должен будешь принести в жертву твою дочь.
— Мою дочь?! Ты хочешь мою дочь?.. Но ты потерял рассудок! Вот уже три тысячи лет все упрекают Иеффая в том, что он принес в жертву свою!
— Минуту! Мы забываем, что я упредил твой совет, мой старый друг, и что, имея на руках долговое обязательство, только что признанное тобою, я передал свои права третьему лицу.
На лице г-на Пелюша отразилось крайнее изумление. Он переводил растерянный взгляд со своего друга на дочь и обратно с непередаваемым выражением. Казалось, он никак не мог поверить, что все это ему не почудилось. Наконец, похоже, он все понял, причем даже слишком хорошо, так как, схватив свой колпак, с яростью швырнул его на середину комнаты и закричал:
— А! Тысяча чертей! Я понял, мне известно теперь, на чье имя ты перевел вексель! Мадлен, Мадлен, что ты наделал?
— Я воспользовался моим правом, ты сам говорил об этом.
— Нет, ты не вправе был так поступать, речь идет о моральном обязательстве, которое ты не можешь передать другому.
— Почему же? Неужели ты будешь утверждать, что менее обязан мне только потому, что вместо презренных денег я поставил на карту свою жизнь, чтобы спасти твою?
— Я не говорю этого, но…
— Снискав твою признательность, я пользуюсь ею как денежными средствами, чтобы оплатить собственный долг. Что может быть справедливее?
— Это безумие, — сказал г-н Пелюш, чеканя каждый слог.
— Быть может. Ты волен допустить, чтобы твое обязательство опротестовали; зато я вправе думать, что репутация торгового дома Пелюша во многом походит на другие деловые репутации и что она гораздо больше обусловливается страхом перед законом, чем проистекает из подлинной любви к справедливости.
— Никогда и никому не позволено злословить о торговом доме Пелюша, слышишь, Мадлен? — вскричал владелец "Королевы цветов", побелев от ярости. — Наш дом всегда исполнял взятые на себя обязательства и подтверждал свою подпись, и если в данном случае я оспариваю свое обещание, то у меня есть на это свои причины.
— Причины? Какие же?!
— Причина всего лишь одна, но она не терпит никаких возражений! — вскричал г-н Пелюш с воодушевлением человека, нашедшего решение трудной задачи. — Как бы ни была велика моя благодарность, я могу располагать лишь тем, что мне принадлежит. Времена, когда бессердечные родители присваивали себе право распоряжаться рукой девушки, не принимая во внимание ее чувства, прошли. Эти времена миновали, и я, столько раз встававший на защиту бессмертных принципов, которые пришли им на смену, не стану заниматься их возрождением. Моя отцовская власть отступает перед выбором супруга для моей дочери, и я также не считаю себя вправе навязывать ей кого-либо в мужья, как не считал бы вправе заключать ее в ту могилу для живых, что называется монастырем.
— Браво! — воскликнул Мадлен, радостно потирая руки. — Я принимаю к сведению твои слова, как говорят в суде.
При слове "супруг" Камилла, следившая с самого начала разговора за всеми его перипетиями с тревожным любопытством, поднялась и направилась к двери; но, более проворный, чем она, Мадлен обогнал ее, закрыл дверной замок на два оборота, а ключ положил в карман.
— Извините, мадемуазель, — сказал он, сделав ударение на этом слове, — но после того, что сказал ваш достопочтенный отец, ваше присутствие здесь стало необходимым.
— Да, — подхватил г-н Пелюш, — да, и она, без сомнения, подтвердит мою правоту, я уверен в этом. Говори, Камилла.
— Но, — пробормотала девушка, — чтобы я могла ответить вам, отец, я должна знать, о чем идет речь.
— О твоем замужестве, черт возьми! Разве ты не видишь здесь Мадлена, утверждающего, что в силу обещания, которое я ему дал, он может присвоить себе право предложить тебя в жены первому встречному. Я отлично вижу, что ты возмущена этим так же, как был возмущен я.
— Но быть может… — бессвязно и едва слышно проговорила Камилла.
— Быть может, — закончил за нее Мадлен, — стоило бы назвать мадемуазель имя этого первого встречного.
— Не стоит труда, — с важностью произнес г-н Пелюш. — Впрочем, моя дочь слишком умна, чтобы не угадать его так же хорошо, как и я. Говори же, Камилла. Дерзкая самоуверенность этого добрейшего друга заслуживает того, чтобы ему преподали урок, так что не щади его. Повтори ему то, что он уже слышал от меня: тот, кого ты изберешь в мужья, будет достойным негоциантом, таким же уважаемым, как твой отец, а не подобный самодовольный дворянчик, который будет считать, что он оказал тебе слишком большую честь, взяв тебя в жены, чтобы думать еще о том, как бы сделать тебя счастливой.
— Будьте уверены, отец, — ответила Камилла, — что все сказанное здесь крестным не более чем шутка и что госпо… и что тот, кого он имеет в виду, никогда не думал и не думает обо мне.
— Черт побери! Он думает так мало, что в пять часов утра я застиг его врасплох, пританцовывающим от холода, под вашими окнами, а в половине шестого он мне грозился уехать в Африку и сложить там голову, потому что я отказался идти к вашему отцу, чтобы просить вашей руки, мадемуазель.
— Дьявол! — проговорил г-н Пелюш с язвительной улыбкой. — Вот уж весьма внезапный и неожиданный энтузиазм. Прошло только двое суток, как он знаком с Камиллой, а он уже говорит, что готов умереть из-за нее!..
— И ты еще жалуешься? Не правда ли, это самое лучшее свидетельство достоинств твоей дочери, какое ты мог бы когда-либо встретить? И ты полагаешь, что он первый и единственный пал жертвой такого рода обстоятельств? Есть и другие, но они молчат, хотя думают так же.
Камилла с мольбой посмотрела на крестного, и этот ее взгляд напоминал взгляд затравленной косули, просящей пощады у своего истязателя.
— Послушай, — продолжал Мадлен, — будет гораздо лучше, если ты вернешься к такой простой и такой разумной программе, только что тобою намеченной, и поскольку ты признаешь, что только твоя дочь вправе решать, то и спроси у нее, нравится ей господин Анри де Норуа или не нравится…
— Но ведь уже все сказано! — вскричал г-н Пелюш с гневом.
— Да ничего еще не сказано.
— Видел л и кто-нибудь когда-либо другую такую скотину, как эта! Он осмеливается утверждать, что знает чувства моей дочери лучше, чем я!
— Отец, прошу вас, не ругайте моего бедного крестного, который так нас любит.
Произнеся эти слова, Камилла бросилась на шею крестному и дважды поцеловала его в знак их примирения и в знак благодарности за его настойчивость.
— Но он в конце концов начинает меня раздражать! Вот уже битый час я ему твержу, что мы не хотим иметь супругом дворянина.
— Отец, — пробормотала Камилла, не глядя на того, к кому она обращалась, — но ведь это не его вина.
— А! Ты слышал ее, это не его вина, — торжествующе сказал Мадлен. — Конечно, это не его вина! Ведь не всем на свете выпадает удача родиться продавцом цветов, как ты, или торговцем игрушками, как я. Послушай, дружище, ты, столько раз громивший предрассудки прежних сословий, не будь так же неразумен, как те, на кого ты обрушил свои насмешки. Честные сердца есть как на вершине, так и в самих низах общества, а это сердце — одно из самых великодушных, одно из самых надежных, которое когда-либо бились как под чинным сюртуком, так и под простой блузой. Неужели ты думаешь, что, если бы я не был уверен в нем как в самом себе, я бы предлагал его тебе в зятья, я бы передал ему мой вексель? Ведь Камилла также и мой ребенок, и меня ее счастье волнует не меньше тебя. Чего недостает тому, кого ты получишь в зятья? Ничего. Что принесет он твоей дочери? Все, и сверх того то, что сохраняется дольше, чем молодость, внешняя прелесть, очарование ума, да и богатство тоже, — честность, доброту и возвышенность чувств. С ним в твой смертный час, мой бедный Пелюш, с твоего сердца спадет тяжелый камень, когда, благословляя их в последний раз, ты почувствуешь в себе уверенность, что тот, кому ты ее оставляешь, будет так же нежно и преданно ее любить, как это делал ранее ты.
— Отец! Мой добрый отец! — вскричала Камилла, бросаясь в объятия г-на Пелюша.
Тот хранил молчание; но вздох, с каким он достал платок, доказывал, насколько эта речь взволновала его.
— Посмотри, — продолжил Мадлен, легонько ухватив Камиллу за ушко и вынудив ее откинуть голову назад, — посмотри-ка на это личико и скажи мне, разве оно похоже на лицо девушки, которую варвар-отец готов отдать на заклание.
Камилла из объятий отца перешла в объятия крестного.
— В конце концов, — сказал г-н Пелюш, который достаточно ревниво относился к ласкам дочери, чтобы не без зависти взирать в эту минуту на Мадлена, — в конце концов я слишком беспристрастен, чтобы не признать того, что у господина Анри вид славного малого. Он был вчера со мной так почтителен, когда вез нас обратно, и если Камилла действительно убеждена, что это замужество может составить ее счастье…
— О отец!.. Бог мой! Мне кажется, что… да.
— Ну что же! Я не говорю нет!
Мадлен, уже некоторое время смотревший сквозь оконное стекло, внезапно распахнул окно и позвал того, о ком шла речь.
— Что ты делаешь? — спросил г-н Пелюш.
— Черт возьми! Я вижу, что он вернулся на то место, откуда я прогнал его сегодня утром: я его позвал.
— Но ведь я не сказал да.
— Мой славный друг, в делах женитьбы, как в делах любви: если не говорят нет, то можно считать, что нотариус уже поставил свою подпись.
Анри постучал в дверь. Мадлен открыл ему.
Несмотря на свои светские навыки, молодой человек едва скрывал смущение. Он был бледен и сильно взволнован.
— Мальчик мой, — обратился к нему Мадлен без всяких вступлений, — я выполнил миссию, возложенную на меня тобою, и господин Пелюш соблаговолил удостоить тебя чести назвать своим зятем.
Анри схватил руку г-на Пелюша и горячо пожал ее.
— Обними его, обними, — сказал Мадлен. — Так всегда поступают на улице Бур-л’Аббе.
Молодой человек не заставил повторять дважды и с искренним волнением обнял своего будущего тестя.
— Сударь, — обратился к нему Анри. — Мой поступок, так мало подготовленный, такой неожиданный и внезапный, мог показаться вам странным; но за те несколько часов, которые я имел честь провести в обществе вашей досточтимой дочери вчера, я настолько хорошо успел узнать и оценить все ее достоинства, что пришел к мысли: никоим образом нельзя считать, что слишком торопишься, коль скоро речь идет о том, чтобы заполучить подобное сокровище. Благодарю вас, сударь, за то, что вы так благосклонно отнеслись к моей просьбе. Я столь высоко ценю это, что, хотя и самоуверенно с моей стороны заранее говорить о признательности, осмелюсь утверждать, что она будет достойна оказанной мне милости. До сих пор у вас было лишь одно любящее вас дитя, отныне их будет двое.
Господину Пелюшу вторично пришлось прибегнуть к помощи носового платка, и когда он должным образом осушил свои глаза, то уже сам раскрыл объятия молодому человеку.
Даже у Мадлена появилось такое выражение лица, которое доказывало, как нелегко ему дается внешнее спокойствие.
— Черт возьми! — сказал он слегка дрожащим голосом. — Мальчик должен получить награду за свое доброе дело. Дважды он исколол лицо о твою бороду, Пелюш. Этого достаточно, чтобы ты позволил ему познакомиться с кожей, более свежей и более нежной и гладкой, чем твоя.
И не дожидаясь разрешения, о котором просил, Мадлен подтолкнул Анри к Камилле.
Вся дрожа и покраснев, девушка подставила свои щеки Анри, и губы юноши робко прикоснулись к их атласу. Поцелуи, которыми он наградил своего будущего тестя, были весьма звучными, но те, которые получила от него Камилла, гораздо сильнее отозвались в душах присутствующих.
— Браво! — подхватил Мадлен. — А теперь, когда вы помолвлены, пойдите прогуляйтесь по саду и дайте возможность тому, кого вы отныне оба станете звать отцом, наверстать упущенное время и быстро одеться и привести себя в порядок, так как в десять часов у нас назначена встреча с нашими охотниками.
Молодые люди вышли, но г-н Пелюш тем не менее продолжал сидеть на кровати, скрестив ноги, локтями опершись на колени и рукой подперев подбородок.
— Ну, и о чем ты думаешь? — спросил его Мадлен.
— Я не могу поверить, что все это происходит на самом деле: моя дочь стала невестой, я убил ужасного кабана, и все это менее чем за сутки!..
— Не считая того, что день еще не начался, и один Господь знает, что он тебе еще готовит! А следует признать, Пелюш, что лишь один ты умеешь так проворно обделывать дела.
— Не правда ли? — продолжал хозяин "Королевы цветов", не оставляя своей позы. — Он очень хорош, этот молодой человек, просто великолепен: отличные манеры, прекрасно изъясняется. Все, что он мне говорил, было так прочувствованно. В его волнении было столько душевности, что ему удалось растрогать даже такого старого ворчуна, как я. О! Мне кажется, что я сделал хороший выбор и что Камилла будет счастлива.
— Кстати, теперь, когда мы одни, я могу успокоить те сомнения и опасения, которые внушало тебе благородное происхождение твоего будущего зятя.
— Что это означит? — спросил г-н Пелюш, слегка нахмурившись.
— А то, что это дворянство не настолько знатное, чтобы быть неприступным.
Негоциант покраснел до корней волос.
— А, дворянство мантии? — предположил он.
— Нет, не совсем, — с неким колебанием в голосе ответил Мадлен. — У предков Анри как раз платью-то и недоставало того, что называют благородством. Иначе говоря, его мать была простого происхождения, такого, как ты и я.
— Ну и что! Что это доказывает? — вскричал г-н Пелюш, с небывалым воодушевлением разгорячившись. — Ты в самом деле крайне невежествен во всем, Мадлен. Да сколько подобных случаев было в самых известных фамилиях? Пусть мать моего зятя будет кем тебе угодно, это не помешает ему быть виконтом. А когда обо мне будут докладывать в Тюильри, неужели ты полагаешь, что дежурный придверник скажет: "Тесть господина де Норуа, чья мать была мадемуазель Никто"? Какого черта тебе понадобилось забивать мне голову подобным вздором!
— Я считал своим долгом предупредить тебя.
— Хорошо! Я отдаю должное твоим намерениям; но черт возьми, говори как можно меньше о подобных историях, которые годны лишь на то, чтобы дать повод для пересудов недоброжелателям. Подожди, я встаю, передай мне мои вещи. О Боже мой!.. — продолжил г-н Пелюш.
— Что такое?
— Я забыл посоветоваться с Атенаис.
— Черт! Поздновато же ты это заметил.
— Ба! — вскричал г-н Пелюш с самодовольным видом. — Моя жена заплачет от счастья, когда узнает, что я сделал нашу дочь виконтессой.
XXIX
ЧТО ПРОИЗОШЛО, ПОКА КАЖДЫЙ МЕЧТАЛ О СВОЕМ
Прошла неделя.
Несмотря на уверенность в неотразимом воздействии титула, который будущий зять передаст его дочери, г-н Пелюш пребывал в весьма серьезном затруднении, не отваживаясь сообщить супруге, что, не посоветовавшись с ней, он осмелился принять такое важное решение.
Каждое утро, поднявшись с постели, он спускался в комнату Мадлена, садился перед секретером, брал большой чистый лист бумаги, долго чинил перо, задумывался на несколько мгновений, каллиграфическим почерком писал в верху страницы дату и останавливался, совершив это усилие. Затем, пожевав несколько минут бородку пера и раз шесть воспользовавшись табакеркой, он неизменно вспоминал о какой-нибудь встрече, неожиданной обязанности, вынуждавшей его перенести на следующий день это дело, слишком серьезное для того, чтобы им можно было заниматься в спешке.
На восьмой день результаты благих намерений г-на Пелюша все еще сводились к восьми очиненным перьям и восьми испорченным листам бумаги.
Но следует отметить, что за эту неделю сельские занятия Пелюша получили необыкновенный размах.
Едва этот новоявленный Цезарь перешел Рубикон, как он забыл все опасения, удерживавшие его на берегу, и так же был горд своим поражением, как если бы это поражение было победой. Перемена, произошедшая в его чувствах в пользу Анри де Норуа, была столь же сильной, сколь и внезапной. Общественное положение молодого человека, уважение, которым он пользовался в округе, его более чем приличное состояние весьма приятно тешили мелкое тщеславие г-на Пелюша, и он на секунду забыл о том, что этот зять был ему, так сказать, навязан; цветочник не только не давал себе труда скрыть свое удовлетворение, но и полагал, что Мадлен не имеет оснований утверждать, будто его инициатива неким образом содействовала заключению планируемого союза.
Эта свадьба буквально переносила г-на Пелюша на седьмое небо от счастья, и вот почему.
Следствием мелких страстей является эгоизм: г-н Пелюш был слишком тщеславен, чтобы не испытывать склонность к культу собственной особы. Подсознательно, не признаваясь в этом себе сам, он, когда Камилла подросла, стал опасаться того часа, когда какой-нибудь незнакомец придет, чтобы отобрать у него часть, нет, не его состояния, а того самого ценного, что было у него, — привязанности его ребенка. Тщетно он старался подавить эти смутные опасения высокими словами о долге, самоотречении, о необходимости принести жертву; тщетно он ставил себе в пример пеликана, который разрывает собственные внутренности, чтобы накормить своих голодных птенцов, — г-н Пелюш, как это свойственно во многих обстоятельствах людям небольшой душевной силы, в итоге лишь, так сказать, удваивал свои страхи. Он хотел одновременно обеспечить счастье своей дочери, выдав ее замуж, и свое собственное, сохранив Камиллу возле себя, а главное, ни с кем не деля те заботы, которыми изо дня в день окружала его девушка. Следствием этого внутреннего противоречия было то, что до сих пор он с восторгом встречал все партии, предлагаемые Камилле, но с не меньшим восторгом объявлял их совершенно недостойными ее.
Действительность приготовила ему сюрприз, от которого даже по прошествии недели он все еще не мог опомниться.
Никогда прежде Камилла не была такой веселой, такой разговорчивой, такой любящей, как с того самого дня, когда ее сердце дало г-ну Пелюшу соперника в ее привязанностях.
С другой стороны, нежность, предупредительность, почтительное уважение, которые Анри так щедро выказывал своему будущему тестю, слишком разительно отличались от той суровости, к которой приучил г-на Пелюша его друг Мадлен, чтобы это не произвело на торговца цветами приятного впечатления.
Спустя два дня г-н Пелюш уже говорил с нежностью и умилением о тех, кого он называл теперь "мои дети".
К тому же будущая свадьба заставляла звучать в его душе самую чувствительную струну. Парк и замок, которые в день своего приезда в Норуа он разглядывал со своего рода пренебрежением, но которым не находил более равных, по мере того как приближалось то время, когда он должен был стать их косвенным совладельцем, в его предпочтениях заняли место рядом со славным титулом.
Проснувшись, какой выражался в духе поэтики Первой империи, в тот час, когда белокурая Аврора открывала Фебу ворота Востока, г-н Пелюш немедленно одевался, спускался в сад, отвязывал Фигаро и, сопровождаемый этим неисправимым бродягой, проникал во владения своего будущего зятя, обходил там все аллеи, останавливался около каждого бугорка, пересчитывал деревья, ощупывал их и внимательно разглядывал; смотрел и никак не мог насмотреться. Будучи сам богат, г-н Пелюш впервые в жизни мог насладиться богатством в самой реальной его, самой осязаемой форме — в земельных угодьях, и в таком виде цветочник находил в нем такие прелести, какие никогда не имели для него клочки бумаги, составлявшие полмиллиона, которым сам он владел.
Он ловил себя на том, что, прогуливаясь, стучал ногой по песку аллеи и при этом с детской радостью вскрикивал:
— Все это будет принадлежать моей дочери!
Мадлен со своей стороны содействовал тому, чтобы его старый друг пребывал в самых лучезарных сферах этого блаженства.
Каждый день после завтрака они отправлялись на охоту. После трагикомического происшествия, ознаменовавшего первый день охоты, бывший торговец игрушками благоразумно воздерживался от того, чтобы водить г-на Пелюша на других противников, кроме зайцев, кроликов и куропаток. А поскольку в такого рода походах помощь Фигаро не только дозволялась, но и была просто необходима, то г-н Пелюш немного утешался своими хотя и скромными победами. Впрочем, если убитые им животные и были малы, победы его от этого не становились менее значительными. Славная охотничья сумка получила крещение кровью; каждый вечер она возвращалась в дом раздутой, как мешок солдата после грабежа, и когда вечером за столом приступали к подсчету убитой дичи, то пальма первенства всегда присуждалась г-ну Пелюшу, и он принимал эту честь без всякого смущения, но и также без всякого удивления.
Однако справедливость историка вынуждает меня объявить, что Мадлен вовсе не был непричастен к этим исключительным успехам.
Он всегда вставал на небольшом расстоянии от своего старого друга и стрелял в одно время с ним по поднятой дичи, чтобы "подстраховать выстрел", как он говорил.
Хотя если вдруг добыча оставалась живой и невредимой, то г-н Пелюш язвительно упрекал своего друга за эту, как он ее называл, плачевную привычку; но, когда дичь падала убитой, он никоим образом не жаловался.
Мне хочется попутно рассказать об одном происшествии, чуть было не поколебавшем ту сверхъестественную уверенность, которую г-н Пелюш усвоил в отношении своих достоинств стрелка.
Однажды, когда он и Мадлен почти бок о бок пересекали вырубку двухлетней давности, перед г-ном Пелюшем выскочил заяц: два выстрела слились в один, и владелец "Королевы цветов" самым громким своим голосом закричал:
— Апорт!
Но к его величайшему изумлению, вместо четвероногого, которого он ожидал увидеть, Фигаро принес ему куропатку!
Чтобы убедить друга в том, что эта добыча действительно его собственная, Мадлену пришлось привести многочисленные примеры странных превращений, обязанных чистой случайности, но и после этого г-н Пелюш провел в задумчивой рассеянности весь остаток дня.
Если дни казались такими короткими и такими насыщенными г-ну Пелюшу, то какими же они должны были казаться Камилле?
В жизни девушки, какой бы целомудренной, какой бы сдержанной она ни была, всегда есть место неясным стремлениям, рождающимся под влиянием предчувствия значительности роли, предназначенной ей в этом мире: она уже мечтает о любви, еще не зная ее имени.
Именно так было с Камиллой.
Камилла обожала своего отца, нежно любила мачеху, но эти привязанности не занимали ее сердце целиком, как она полагала. Девушка ощущала в нем некую пустоту, всегда ее удивлявшую и порой страшившую тем сильнее, что ни чтение, ни учебные занятия, ни развлечения не могли ее заполнить. Тогда она стала с большим вниманием вслушиваться в нередко произносимое в ее присутствии слово "супруг", хотя до сих пор относилась к нему довольно безразлично. Она спросила себя, не принадлежит ли это место, еще не знавшее хозяина, этому незнакомцу, и внутренний голос, прозвучавший из глубины ее души, ответил: "Да". Камилла вздрогнула и покраснела, а затем улыбнулась. Разве возможно, чтобы он мог получить от нее столько же, сколько те, кому она была обязана всем, это неведомое ей существо, имени которого она не знала и который со своей стороны не подозревал о ее существовании, этот незнакомец, который, быть может, в это мгновение проходил под ее окнами, и ничто не шепнуло ему: "Она здесь", и ничто не дало ей знать, что это он? Успокоенная подобными мыслями, она с любопытством осмотрелась вокруг себя: не увидев никого, кто бы мог устроить ее в подобной роли, и полагая, что вряд ли можно ослабить безотчетную скуку, которая в определенные мгновения овладевала ею, девушка принялась мечтать; дав волю своему воображению, она стала представлять, каким должен быть, чтобы ей понравиться, тот, кого Господь предназначил стать ее спутником в этом мире. Этот простой вопрос повлек за собой создание идеала, и мысли Камиллы устремлялись к нему все охотнее — и не только потому, что она наградила этот образ всеми мыслимыми достоинствами, но и потому, что это было ее собственное творение. Вскоре по тому, как сильно билось ее сердце, когда она вызывала перед собой этот призрак, девушка стала догадываться о той полной власти, с которой будет царить в ее сердце тот, кто займет его место. Ужаснувшись, она пожелала разбить изваяние, но было уже слишком поздно. Камилла настолько привыкла находить утешение в этих мечтах, отвлекающих ее от однообразной жизни, что не успел еще ее идеал разбиться на кусочки, как она уже благоговейно собирала его осколки и соединяла в одно целое.
Услышав впервые голос Анри, Камилла почувствовала странное волнение. Ей он показался знакомым, и девушка была уверена, что не только в этот день его звуки заставляли так нежно трепетать ее душу. Несколько часов, проведенных наедине с молодым человеком, оставили у нее непередаваемое впечатление, соединявшее в себе одновременно изумление и восхищение, ужас и радость. Камилла чувствовала, что попеременно то бледнеет, то краснеет; ее сердце бешено билось; она была взволнована, потрясена; она хотела убежать от него, но ее воля уступала его неотразимому очарованию. Как я уже говорил, всю ночь девушка предавалась размышлениям. Встревоженная своим смущением, она задавалась вопросом и спрашивала себя, возможно ли, чтобы человек, которого она знала так мало, так быстро получил такую могучую власть над ее душой, и отвечала отрицательно. Но Камилла ошибалась — она полюбила его, она любила его уже давно. Это был призрак из ее мечты, который приобрел телесную оболочку, это было реальное воплощение воображаемого ею существа, вот уже столько времени занимавшего все ее мысли.
Какое-то мгновение потрясенная внезапным решением отца, она быстро распознала растущую радость и расцветающее счастье среди своих беспорядочных ощущений. Лицо ее светилось счастьем, когда она вложила свою ладонь в руку, предложенную ей молодым человеком, и ей не приходило в голову скрывать свою радость. Мало-помалу ее сердце открылось для любовного упоения, и она безоглядно и без остатка отдалась ему. В этой любви не было разрушающей силы страсти: она проявлялась в том спокойном и безмятежном доверии, которым отличаются подлинно глубокие чувства.
Не прошло и четырех дней, как Камилле стало казаться, будто эта нежная влюбленность продолжается уже долгие годы, и девушка была уверена, что это чувство будет длиться до тех пор, пока они оба будут живы.
Счастье Анри ни в чем не уступало счастью его невесты. Каждый день он открывал в ней все более серьезные и положительные качества, каждый день он уже заранее чувствовал влияние ее очарования и ее нежной доброты.
Небольшая утренняя прогулка под окнами девушки вошла у него в привычку. И как только бледные лучи света начинали скользить по их стеклам, эти окна почти незамедлительно распахивались. Между верхом и низом шел обмен приветствиями, исполненными такого глубокого участия, словно влюбленные не виделись долгие годы.
Быстро одевшись, Камилла спускалась к своему любимому, и тогда начиналась та поэма радости, для которой день казался слишком короток. Эти радости были. простыми, немного наивными; но что может быть более прелестным для влюбленных, чем идиллия?
Несмотря на это непредвиденное развлечение, Камилла строго соблюдала расписание, составленное ею для своего свободного времени. Она, подобно служанке, заботилась о населении птичьего двора. Анри сопровождал ее, когда девушка раздавала пищу всему пернатому народцу; он разделял ее радости, ее удивление, ее детское восхищение. Затем то одни, то в сопровождении г-на Пелюша, не упускавшего такой возможности попробовать себя в роли владельца поместья, они навещали крестьян, работающих либо в парке, либо на полях.
Новость о предстоящей свадьбе быстро разнеслась по деревне, и добрые люди уже упоминали имя девушки, обращаясь с благодарственными речами к своему хозяину.
После завтрака, в то время как г-н Пелюш и Мадлен отправлялись на охоту, молодые люди решали, чем будут заниматься в этот день. Они то шли на прогулку в какой-нибудь прелестный уголок этой округи; то проводили время в лесу или в поле в поисках новых сюжетов для альбома Камиллы; то, наконец, как и в первый раз, отправлялись с визитами милосердия.
Большую часть времени они проводили наедине и, однако, под самой лучшей охраной — под охраной непорочности и чистоты их сердец и их любви.
Они или шли рядом, бок о бок, молчаливые и погруженные в свои мысли, или всю прогулку без умолку болтали, но никогда ни одной фразой, ни одним словом в своих беседах они не намекали на то чувство, которое испытывали друг к другу. Взгляд, улыбка, быстрое пожатие руки — это было все, чем они отвечали необходимости излить свои души; но сердца обоих настолько слились воедино, что эти взгляды, эти улыбки, эти пожатия стоили для них целой тысячи клятв.
Итак, из всех наших героев только Мадлен отдавал себе отчет в истинном течении времени и только он десять раз вдень не изумлялся той быстроте, с какой мелькали часы.
Дважды или трижды в течение этой недели Мадлен бранил своего друга за злополучное письмо, которое тот каждый день начинал заново и которому в этой связи угрожала участь покрывала Пенелопы. Он быстро догадался, что г-н Пелюш медлит с сообщением этой важной новости не потому, что ленится или слишком занят, а лишь по одной причине: его достойный друг не знал, как известить суровую Атенаис, что он мог принять такое важное решение, не посоветовавшись с ней.
Будучи человеком дела, Мадлен вскоре решил действовать сам.
В субботу утром, после своей каждодневной прогулки по тому, что он называл владениями своего будущего зятя, г-н Пелюш отправился на розыски гостеприимного хозяина. Не найдя друга в саду, он поднялся в его комнату, но комната Мадлена была пуста. Господин Пелюш принялся всех расспрашивать. Служанка ответила ему, что ее хозяин этим утром уехал в Виллер-Котре, не сообщив ни о цели своей поездки, ни о том, когда он вернется обратно.
После завтрака г-н Пелюш был вынужден, лишившись своего компаньона, к чьему обществу он уже так привык, отправиться на охоту в одиночестве, сопровождаемый лишь Фигаро.
Но это был один из тех дней, что принято называть "черными". Безупречное поведение Фигаро в течение вот уже некоторого времени скорее всего объяснялось присутствием Мадлена. Лишенный этой опеки, пес в один миг вновь приобрел все свои разбойничьи инстинкты, принесшие ему такую известность. Держа нос и хвост по ветру, он устремился на равнину. Этот головорез бегал по ней на расстоянии километра от хозяина и, будучи слишком сильно занят собственными мелкими развлечениями, не обращал ни малейшего внимания на щелканье его хлыста, на звуки его свистка, на его угрозы и проклятия. Зайцы, куропатки, все кругом разбегались перед этим негодяем, причем так далеко, что г-н Пелюш потратил в их честь добрые полфунта пороха, но ни одна дробинка даже не просвистела мимо их ушей.
Впервые г-н Пелюш вернулся ни с чем. Не стоит и говорить, что он был в подавленном настроении. Как все победители, он восставал против своего поражения, обвиняя в нем всех, за исключением себя самого. Он перекладывал на Фигаро, этого новоявленного Груши, позор этого второго Ватерлоо. Прозвучало даже несколько слегка язвительных обвинений в адрес избранного им же самим правительства, которое г-н Пелюш осмелился заподозрить в том, что оно обмануло его, продав некачественный порох. Но больше всего резких упреков досталось Мадлену. Где он был? Что делал? Почему его не оказалось рядом?
Мадлен не появился к обеду точно так же, как он не появился к завтраку, а на следующее утро г-н Пелюш, из своей комнаты буквально одним прыжком очутившийся в комнате Мадлена, мог убедиться, что его друг не ночевал дома. Это заставило торговца цветами нахмурить брови.
В восемь часов утра Камилла и Анри гуляли в парке. Господин Пелюш, которому теперь стало казаться, что день тянется слишком долго, прошел на кухню, чтобы проследить за приготовлениями рагу из дичи — в глубине души он рассчитывал, что это поможет ему обмануть скуку и огорчение, — и в это время на дороге послышался шум колес, заставивший его выйти на крыльцо.
Господин Пелюш узнал двуколку, доставившую его самого. Он увидел, как она остановилась около решетки двора, и почти тут же из нее со своим обычным проворством выскочил Мадлен.
— Как я рад! — вскричал г-н Пелюш, устремившись навстречу другу. — Признайтесь, что вы странно ведете себя с гостями, которых принимаете в доме, тысяча…
Возможно, впервые в жизни г-н Пелюш собирался выбраниться; но проклятие застряло у него в горле, и в то же мгновение он сделал шаг назад.
В просвете окошка, между двумя кожаными занавесками, он заметил бледное лицо в обрамлении двух темных локонов, которое произвело на него впечатление головы Медузы.
Это было лицо г-жи Атенаис Пелюш, которой Мадлен уже подавал руку, галантно превратив свое колено в подножку.
XXX
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
Если бы гренадеры, на чью долю выпадала честь маршировать под командованием г-на Пелюша, могли в эту минуту видеть своего бравого капитана, то репутация твердого стоика, которой он пользовался в роте, была бы несколько подмочена.
В одно мгновение краски исчезли не только с его лица, но и с его губ, и к первому движению назад, чисто инстинктивному, он добавил второе, гораздо более позорное.
Должен признать, что лицо г-жи Пелюш и в самом деле не могло успокоить супруга, столь приверженного к безмятежности, столь ненавидевшего ссоры, каким был хозяин "Королевы цветов".
Лицо г-жи Пелюш не только обнаруживало усталость бессонной ночи, но и несло на себе отпечаток бурных, гневных эмоций. Она была бледна, ее веки покраснели и припухли, ее прическа, завитки которой всегда закручивались с методичностью и тщательностью, была в беспорядке; наконец ее сдвинутые брови, ее сжатые губы свидетельствовали о том, что она была в ярости и взрыв мог произойти с минуты на минуту.
Мадлен подал ей свою руку; она даже не соблаговолила поблагодарить бывшего торговца игрушками за его учтивость и внимание и направилась прямо к мужу.
Убежденность, что ему не избежать гнева супруги, частично вернула г-ну Пелюшу смелость. Он попытался улыбнуться и, раскрыв объятия, в свою очередь направился к ней. Госпожа Пелюш не отвергла супружеских объятий, но в то же время и не вернула мужу те два звучных поцелуя, которые тот запечатлел на ее щеках, и сказала ему без всяких околичностей:
— Поднимемся в вашу комнату, мне надо поговорить с вами.
Господин Пелюш бросил на Мадлена взгляд, исполненный тревоги и укоризны, моля не покидать его в этом испытании.
Но Мадлен, казалось, сам пребывал в явном затруднении, что вовсе не было на него похоже. По ярким краскам его лица, по блеску в его глазах легко было догадаться, что во время совместного путешествия ему самому пришлось выдержать первый натиск бури.
Тем не менее он последовал за супругами; однако в ту минуту, когда он собирался вслед за г-жой Пелюш войти в комнату, гостья резко захлопнула дверь и, закрыв ее на ключ, оставила Мадлена снаружи.
Господин Пелюш был слишком потрясен, чтобы отважиться на замечание: он жалобно смотрел на жену; та рухнула на кресло и закрыла лицо платком.
До сих пор г-н Пелюш испытывал лишь опасение перед всем, что могло бы так или иначе походить на семейную сцену; горе же Атенаис заставило его почувствовать угрызения совести. Он подошел к ней и попытался взять за руку, уклонившуюся от его пожатия.
— Прости меня, Атенаис, — заговорил он смиренным и ласковым голосом. — Я допустил ошибку, не написав тебе, признаю это; но, клянусь, я собирался это сделать прямо сегодня. Это вина Мадлена: каждый день выезды на охоту, развлечения. Я столь мало привык к такому, что для меня вполне простительно было увлечься этим немного сверх меры. Ты не знаешь? Я убил кабана, великолепного кабана.
— О! — язвительно отозвалась Атенаис. — Вы слишком скромничаете; вы натворили еще много других славных дел.
— А! Мадлен тебе сказал? Ну так вот, мне думается, что я нашел отличную партию для нашей дочери. Впрочем, ты скоро увидишь этого молодого человека. Я не хочу тебе ничего рассказывать, чтобы не лишать тебя удовольствия приятной неожиданности, хотя уверен, что ты будешь от него в восторге, так же как и я.
— Если он вам подходит, то ничего больше и не нужно. К тому же, вероятно, уже поздновато не находить его очаровательным.
— Ты увидишь, козочка, что такое и невозможно. Представь себе само совершенство среди молодых людей: красив без спеси, элегантен без чванства, образован без высокомерия, нежен и скромен; у него замок, парк, двадцать пять тысяч ливров ренты, розетка Почетного легиона, тогда как у меня всего лишь ленточка этого ордена, виконт…
— И сверх того незаконнорожденный! — прервала его Атенаис.
— Незаконнорожденный?! — вскричал г-н Пелюш, покраснев от гнева.
— А! Наш друг Мадлен скрыл от вас эту маленькую подробность! Ну что же, я выпытала у него это по дороге и теперь могу вас просветить на этот счет. Да, незаконнорожденный, или внебрачный сын, если вам это больше нравится.
— Мадлен говорил мне, что у него какие-то нелады с рождением; но в конце концов, что это значит? Какая разница?! Разве мы ведем свое происхождение со времен крестовых походов? Разве мы имеем право быть такими щепетильными?
— Мы ведем наше происхождение лишь от нас самих; но мы можем год за годом, месяц за месяцем, даже день за днем, если уж так говорить, указать источник и прирост нашего состояния. А известно вам, может ли то же самое сделать ваш будущий зять?
— Что это значит? — спросил г-н Пелюш.
— О! И вы, кто не отдаст и двенадцати гроссов бумажных цветов розничному торговцу, не справившись предварительно о его платежеспособности, вы с такой беззаботностью заключили сделку, от которой зависит судьба вашей дочери?
— Черт возьми!..
— В самом деле, у вас ведь есть гарантия господина Мадлена: вот уж надежное ручательство!
— Мадлен — честный человек! — воскликнул г-н Пелюш с оттенком нетерпения в голосе.
— Я не отрицаю; тем не менее, чтобы мы признали его порядочность, было бы весьма кстати, если бы он нам объяснил, каким образом он в то время, когда мы его знали изготовителем игрушек по пять су, сильно нуждавшимся и вечно опаздывавшим с уплатой по векселям, был вполне надлежащим образом законным владельцем, лугов, земель, леса, парка и замка, то есть всего того, что вы мне сейчас перечислили.
— Мадлен? Это невозможно.
— Это настолько возможно, что вот уже семь лет, как он передал все это по дарственной записи тому молодому человеку, кого вы хотите сделать своим зятем. Обычно распоряжаются лишь тем, чем владеют. И весьма странно, сударь, что это я, вовсе не будучи матерью Камиллы, тем не менее сочла необходимым принять все меры предосторожности в этом деле, в котором на карту поставлено ее будущее. Я провела в Виллер-Котре всего лишь полчаса, но этого времени оказалось достаточно, чтобы я подержала в своих руках акт, о котором идет речь.
— Вы правы, мой милый друг, — вскричал г-н Пелюш. — Мадлену следует объясниться, и я знаю…
Произнося эти слова, он поднес руку к шпингалету, собираясь открыть окно, но Атенаис удержала его.
— Для чего? — сказала она. — Послушайте меня. Я имею право чувствовать себя оскорбленной вашим поведением. Когда вы женились на мне, Камилле было три года; выйдя из церкви, вы подвели меня к колыбельке, где она спала, взяли ее на руки и сказали мне: "Вы будете ей хорошей матерью, не правда ли?" Я дала вам это обещание и, полагаю, имею право утверждать, что я неукоснительно следовала своему слову. Разве могла я ожидать, что ко мне отнесутся как к чужой в таких серьезных обстоятельствах? Тем не менее клянусь вам, я готова поступиться моим достоинством супруги и приемной матери, если буду знать, что эта жертва обеспечит счастье той, которую я так долго считала своей дочерью. К несчастью, я опасаюсь, что дело обстоит вовсе не так. Выгоды, картину которых вы мне обрисовали, выглядят в моих глазах сильно омраченными тайной рождения и тайной происхождения состояния. У меня с трудом укладывается в голове, как вы, Анатоль, чья честность и порядочность никогда не вызывали ни малейших сомнений, как вы решились впутаться в такое темное дело.
— Все, что ты говоришь, весьма справедливо, и именно поэтому я хотел бы узнать у Мадлена…
— Ради чего? Более ловкий, чем вы, господин Мадлен сумеет внушить вам все что пожелает. Стоит ли добавлять к его триумфу скромное удовольствие видеть вас смиренно вымаливающим запоздалые объяснения?
Господин Пелюш в досаде кусал губы. Атенаис, заметив, что ей удалось нащупать его больное место, продолжала:
— А впрочем, к чему приведут его объяснения? Разве они дадут этому так называемому виконту недостающую запись в книге актов гражданского состояния? Сделают ли менее двусмысленным происхождение его богатства? Нет. Если в мое отсутствие вы были достаточно неосторожны, позволив делу зайти так далеко, что разрыв уже невозможен, то лучше всего нам не показывать наших сожалений и промолчать. Если, напротив, — продолжала г-жа Пелюш, понизив голос, — вы не считаете себя безусловно обязанным…
— Черт возьми! — сказал г-н Пелюш. — Слава Богу, до нотариуса дело еще не дошло, и я в любой момент могу…
— Что?
— Откланяться Мадлену и вернуться на улицу Бур-л’Аббе.
— И поверьте мне, Анатоль, чем быстрее мы это сделаем, тем будет лучше.
Господин Пелюш ходил по комнате, почесывая голову и выказывая все признаки сильнейшей растерянности. Разумеется, он был далек от того, чтобы решиться на отказ от этой свадьбы, которая в конце концов стала вызывать в нем такой восторг, и тем не менее этот его восторг все же был достаточно сильно подорван; г-жа Атенаис, заметив это, испытывала сильное желание покончить с его колебаниями. Свою нелюбовь к Мадлену она неминуемо должна была перенести на жениха Камиллы, которому он покровительствовал. Однако недоброжелательность Атенаис, возможно, не повлекла бы никаких действий с ее стороны, если бы не отягчающие обстоятельства, сопровождавшие решение г-на Пелюша. Привыкшая, что с ней советуются как с оракулом, привыкшая деспотически царить как в доме, так и в магазине, Атенаис расценила молчание мужа как самую кровную обиду. Ни объяснения Мадлена, ни протест, на который он отважился, не смогли успокоить ее возмущение, и она, вероятно, в конце концов настояла бы на своем, если бы в то время, когда она собиралась заговорить, не постучали в дверь комнаты.
Мадлен, уже с давних пор знавший слабости старого друга, испытывал определенное беспокойство насчет последствий супружеских переговоров. Он отыскал Камиллу, и та, едва переводя дыхание, побежала к родителям.
Войдя в комнату, она бросилась мачехе на шею и горячо расцеловала ее. Госпожа Пелюш столь же нежно ответила ей с большим волнением, то ли, искренним, толи притворным.
— Как хорошо, что вы приехали, матушка! Теперь наше счастье будет полным.
Лоб г-на Пелюша нахмурился. Несколько слезинок скатились между ресниц Атенаис.
— Дорогое дитя! — ласково произнесла она. — Я никогда не утешусь, если ты будешь несчастна!
— Несчастна?! — подхватила Камилла с ангельской улыбкой. — Вот то слово, которое никогда не придет вам на ум, как только вы увидите Анри.
— Бедное дитя! — продолжила г-жа Пелюш все тем же слезливо-жалостливым тоном. — Увы! В твоем возрасте, в тех обстоятельствах, в каких ты находишься, эти заблуждения вполне извинительны, но мы не можем разделить их.
— Что вы хотите сказать, матушка? — с беспокойством вскричала Камилла.
— Не отчаивайся, дитя! Твоя мать, ты это знаешь, воплощенная мудрость и благоразумие; она находит, что мы оба несколько поторопились, и, возможно, она в чем-то права, — промолвил г-н Пелюш.
— О! По крайней мере, пусть она хотя бы познакомится с Анри, прежде чем осуждать нас, отец!
— Дитя, — нравоучительно продолжил г-н Пелюш, — я не сомневаюсь в его совершенствах, однако я продолжаю отстаивать свое мнение. Наряду с личными мотивами есть и другие, судить о которых могут одни лишь родители, и если эти мотивы, на их взгляд, несовместимы с первыми, то их долг потребовать от дочери, чтобы она пожертвовала своими привязанностями.
При этих словах Камилла побледнела, и ее глаза наполнились слезами.
— Да, — сказала она нетвердым голосом, — и в равной степени долг дочери уважать волю своих родителей. Мой отец всегда находил во мне сколь нежное, столь и покорное дитя, пусть он только скажет…
— Та-та-та! — вскричал г-н Пелюш, уже потрясенный волнением дочери. — Дело еще не зашло гак далеко. Мы слишком поторопились, это очевидно, теперь надо посмотреть, надо подумать.
— Ты совершишь большую ошибку, если будешь так отчаиваться, — добавила г-жа Пелюш. — Если твой отец решит, что этот союз тебе не подходит, обещаю, что я сама примусь на поиски и найду тебе мужа, который через неделю покажется тебе не менее очаровательным, чем тот, кого ты потеряешь.
— О матушка, — сказала Камилла, печально улыбнувшись, — это было бы бесполезной заботой.
— Почему?
— Потому что если я не буду принадлежать Анри, то я не буду принадлежать никому более.
Камилла произнесла эти слова с твердостью и необычной решительностью; г-жа Пелюш ответила ей взрывом нервного и резкого смеха. Тогда девушка простерла руку к небольшому распятию из слоновой кости, висевшему над кроватью и видневшемуся сквозь занавески алькова, и воскликнула:
— Клянусь в этом перед Господом!
Клятва, произнесенная Камиллой без малейшей выспренности, несла на себе отпечаток такой холодной, такой обдуманной решимости, что она ужаснула г-на Пелюша.
— Камилла! Камилла! — вскричал он голосом, в котором одновременно слышались мольба и угроза.
— Мой добрый отец, — сказала девушка, поворачивая к нему свое лицо, залитое слезами. — Я повторяю вам, что, какова бы ни была ваша воля, я подчиняюсь ей с уважением и моя нежная привязанность к вам не станет от этого меньше; но я не думаю, что в вашей власти потребовать больше, чем это отречение, а оно будет полным; отныне прошу вас никогда более не заговаривать со мной о других партиях и еще об одной милости — не сообщать мне те причины, по которым вы отказались от союза, еще вчера вами одобренного. Я не знаю, но мне кажется, что я не переживу этого удара, такого жестокого, и если я должна… вас оставить, то я хочу умереть с утешительным для меня убеждением, что Анри достоин меня; я хочу умереть, любя его.
Волнение Камиллы было таким глубоким, что она принуждена была сесть; мало-помалу ее бледность усиливалась; девушка делала заметные усилия, чтобы продолжать говорить, и ей это удавалось лишь благодаря крайнему напряжению всей ее воли.
В то время, когда последнее слово слетело с ее губ, ее голова откинулась назад, глаза наполовину закрылись, дрожь в последний раз пробежала по губам, и она безжизненно застыла.
При виде дочери, потерявшей сознание, г-н Пелюш утратил рассудок: пока Атенаис, несколько растерянная подобным исходом, давала девушке вдыхать нюхательную соль, он бросился к ногам дочери, взял ее руки, покрыл их поцелуями, говоря при этом с ней так, будто она могла его слышать.
— Ты выйдешь за него, девочка! — говорил он. — Ты выйдешь за него! Разве же мог я знать, что он так глубоко пустил корни в твоем сердце? И раз я говорю тебе, что ты выйдешь за него замуж, приди же в себя! Ах, Боже мой! Как мне больно видеть ее такою! Боже, не умерла ли она? Я согласен, дитя мое, я согласен, и какая нам, впрочем, разница, не правда ли, Атенаис, откуда к нему пришли пятьсот тысяч франков? Я прошу тебя, скажи ей сама, что она выйдет за него… Открой глаза, Камилла, умоляю тебя, заговори.
Причитания бедного отца услышал Мадлен. Он тут же прибежал. Увидев Камиллу без чувств, он не мог удержаться, чтобы не бросить на г-жу Пелюш гневный взгляд, но, занявшись прежде всего Камиллой, он распахнул окно и, подняв кресло вместе с сидевшей в нем девушкой, поднес его поближе к потоку свежего воздуха, благотворное воздействие которого не замедлило сказаться.
Едва г-н Пелюш увидел, что в тусклом взгляде Камиллы появляется какой-то блеск, а ее губы вновь приобретают алый оттенок, он с восторгом обнял и поцеловал ее, возобновив свои заверения, что не станет препятствовать ее свадьбе, но Мадлен закрыл ему рот рукой.
— Минуту! — сказал он. — Не подслушивая возле двери, я все же догадался, о чем тут только что шла речь, и я больше не признаю за тобой права говорить об этой свадьбе, прежде чем ты не выслушаешь меня. Твоя дочь приходит в себя, остается лишь дать ей выпить стакан подслащенной воды, и госпожа Пелюш займется этим. Мы же с тобой пройдем в сад, так как тебе, и только тебе одному, я хочу сделать признание.
Госпожа Пелюш кусала от досады губы: она понимала, что этот разговор завершит то, чему положили начало слезы и обморок Камиллы, и что она окончательно утратила то небольшое преимущество, которое завоевала в начале своего разговора с супругом. Эта двойная неудача не внушила ей более благожелательных чувств к будущему зятю, совсем наоборот; но Атенаис была женщина; она, ни минуты не колеблясь, притворилась покорной, дав себе твердое обещание отплатить за это поражение, если только представится случай.
Когда Камилла вновь обрела силы, она выразила желание подняться к себе в комнату. Бедная девушка ни слова не слышала из заверений отца; ее мачеха не сочла нужным сообщить ей о перемене, происшедшей в уме г-на Пелюша, и, уверенная, что ей предстоит навсегда расстаться с тем, кого она любила, Камилла испытывала необходимость остаться в одиночестве, чтобы вдоволь выплакать свое горе.
Атенаис помогла Камилле лечь на кровать, и в ту минуту, когда она уже готовилась сойти вниз по лестнице, на первых ее ступеньках послышалась тяжелая поступь: это возвращался г-н Пелюш; лицо достойного торговца цветами сияло.
— Ах, Атенаис, — закричал он, даже не дав себе времени войти в комнату, — Атенаис, как ты ошибалась, наш друг Кассий не просто порядочный человек, это человек такой честности… такой честности… античной честности, как и его имя!
— Я никогда в этом не сомневалась, — с насмешкой в голосе произнесла г-жа Пелюш. — И я была заранее убеждена, что вы поверите всему, что ему вздумается рассказать вам.
— И главное, — продолжал г-н Пелюш, — главное то, что ты можешь успокоить свои опасения, моя козочка. Состояние молодого человека принадлежит действительно ему самому, оно пришло к нему из рук того, от кого никогда не бывает оскорбительно получать дар, из рук отца: Мадлен владел им лишь на основании фидеикомисса. Каково! Помнишь ли ты его в этом длинном рединготе из облезлого кастора, когда он приходил ко мне занять сто су, а ты утверждала, что я кончу свои дни в нищете, если одолжу их ему? Могла ли ты подозревать, что у него в кармане этого редингота лежат пятьсот тысяч франков?
— В самом деле, это так невероятно, — сказала г-жа Пелюш с едва заметной насмешливой улыбкой.
— Славный Мадлен, мне кажется, что я полюбил его еще больше, когда узнал, что он способен жить в нищете и позволять опротестовывать свои векселя, имея под рукой целую кучу золота, не принадлежавшую ему.
— Конечно, это все в самом деле прекрасно, — согласилась Атенаис, — но рассказал ли он вам, как, в силу каких обстоятельств такая значительная сумма была доверена именно ему, почему ему было отдано предпочтение перед другими?
Господин Пелюш ответил не сразу, и проступившая на его лице краска, а также его колебания свидетельствовали о его затруднении.
— Нет, — ответил он. — Впрочем, это его тайна, и я не считаю себя вправе спрашивать его об этом.
С проницательностью женщины г-жа Пелюш отлично поняла, что Мадлен ничего не утаил от г-на Пелюша, но потребовал от него держать в полном секрете некоторые подробности этой исповеди.
— Пойдем, — продолжал торговец цветами. — Идем же скорее сообщим нашей девочке, что она будет виконтессой, ибо она ею будет: ведь я видел выдержку из акта гражданского состояния, — добавил он, наклоняясь к уху супруги и понижая голос. — Он является надлежащим образом признанным сыном, если и не законным ребенком господина Адемара Себастьена Луи, виконта де Норуа; у нас недостает лишь сведений о матери, и, черт возьми, нам придется обойтись без них.
Госпожа Пелюш последовала за мужем. Убежденная в бесполезности немедленного сопротивления, но по-прежнему исполненная решимости отомстить либо до свадьбы, либо после нее за то первое поражение, которое потерпела ее супружеская верховная власть, она поступила лучше, чем просто смирилась: она казалась вполне довольной.
Какое бы общественное положение ни занимала женщина, под ее личиной всегда таится дипломат. Несговорчивая, упрямая торговка с улицы Бур-л’Аббе сразу же овладела искусством притворства; уязвленная в своей гордыне, она от всего сердца возненавидела Мадлена и Анри, главных, хотя и косвенных виновников испытанного ею унижения, и именно с ними она вела себя любезнее всего.
Однако под предлогом того, что ей необходимо блюсти интересы торгового дома, она отвергла все настойчивые просьбы погостить подольше и, после того как было условлено, что свадьба состоится, через две недели, уехала на следующее же утро.
XXXI
НЕЖДАННАЯ ВСТРЕЧА
Подписание контракта должно было состояться в следующую субботу. В ожидании этого дня г-н Пелюш и его дочь вернулись в Париж. Камилла, не придававшая особого значения кокетству, предпочла бы остаться в Норуа, но г-н Пелюш был другого мнения.
Анри как-то обмолвился о свадебных подарках, какие он собирался преподнести своей нареченной невесте, и самолюбие достойного фабриканта, уже сверх меры страдавшее, решило отомстить за себя и не дать себя превзойти в великолепии приданого. Отныне охота отошла для г-на Пелюша на второй план, и если бы кто-либо послушал, как он интересуется чисто женскими вопросами, определяет рисунок кружевной прошивки, обсуждает достоинства венецианских, валансьенских, брюссельских или английских кружев, то он вполне мог был заподозрить, что невестой является сам цветочник.
Чрезмерные траты, которым он предавался, не могли никоим образом примирить г-жу Пелюш с этой свадьбой. Покупки выявили те глубочайшие различия, какие существовали между этими двумя натурами, чье сходство было лишь чисто внешним. Разумеется, г-н Пелюш не был бездумным расточителем, но его бережливость была относительной. Достаточно было задеть его тщеславие, как он тут же развязал свой кошелек, скупость же Атенаис никогда не шла ни на какие уступки, какое бы чувство не двигало г-жой Пелюш в это время.
Она вынесла из своей провинции культ белья и относилась к полотну с нежностью коллекционера; Атенаис любила белье ради него самого, исходя из своей привязанности, из своего темперамента, если можно так сказать о ней, а не за то, сколько оно стоило. Методично складывать стопки простынь, с библиофильским интересом сортировать дюжины салфеток, рубашек и платков, ароматизировать их с помощью кусочков корневища ириса, нанизанных в виде четок, — вот что служило ей наилучшим отдыхом, тогда как такое важное событие, как стирка, было самой серьезной ее заботой. Многие и не подозревают, что жавелевая вода, скребница из ростков пырея и все другие средства, которые парижане используют для быстрого отбеливания белья, нимало не заботясь о том, что оно становится от этого тоньше, могут стать причиной бессонницы и страданий у женщин, разделяющих невинную страсть Атенаис.
Поэтому невозможно себе представить, чтобы г-жа Пелюш упустила столь законную возможность удовлетворить свои желания под предлогом того, что она заблаговременно готовит приданое для Камиллы. Та была еще ребенком, когда ее мачеха, якобы благодаря какой-то совершенно невероятной случайности — женщины никогда не употребляют другого прилагательного для характеристики подобного рода покупок, — уже снабдила ее рядом важнейших принадлежностей, необходимых при вступлении в семейную жизнь.
Эти первые предметы были торжественно уложены в шкаф. Постепенно и другие не замедлили присоединиться к ним, а поскольку подобных случайностей с каждым днем становилось все больше и больше, то белья очень быстро собралось такое количество, что дубовые полки, служившие ему храмом, грозили не выдержать тяжесть этого сокровища. Там эти вещи лежали в ожидании дня, о котором еще никто и не помышлял, и перебирать их было излюбленным развлечением г-жи Пелюш; они были призваны вызывать умиление у некоторых соседок, пользующихся особым доверим жены цветочника, свидетельствуя о ее привязанности и нежной заботе о дочери мужа.
Естественно, что при первых же произнесенных г-ном Пелюшем словах о приданом его провели к шкафу, деревянные створки которого распахнулись не без торжественности. Однако впечатление, произведенное этим показом на хозяина "Королевы цветов", оказалось далеко от ожидаемого.
Правда, Камилла нашла все прелестным; она бросилась на шею своей мачехе и горячо расцеловала ее; но г-н Пелюш при виде этих пирамид белья, от времени несколько пожелтевшего и напоминавшего цветом прогорклое сало, многозначительно поморщился и заявил, покачивая головой, что, будучи красивым и выглядя весьма богато, это приданое тем не менее не соответствует тому положению, которое его дочь призвана занять в обществе.
Достойный фабрикант даже и не подозревал, что этими словами наносит сильнейший удар одновременно и гордости, и скаредности своей супруги: гордости — отнесясь пренебрежительно к ее выбору, а скаредности — сделав необходимым приобретение нового приданого, то есть заставляя ее примириться со значительными расходами.
Как все те, к^о скользит по наклонной поверхности в пропасть и кого собственные усилия лишь подталкивают к бездне, г-н Пелюш, желая излечить только что нанесенную им рану, смертельно растравил ее: простодушие цветочника заставило его совершить бестактность — предложить своей жене взять в подарок то, что он только что счел недостойным для своей дочери.
Госпожа Пелюш сделала попытку улыбнуться, кусая губы, и ничего не ответила; но зародыш ненависти поселился и стал расти в ее душе, которую природная посредственность до тех пор делала неспособной ни на добро, ни назло и которую с нравственной точки зрения можно было определить одним словом: "холодная".
Она упорно отказывалась участвовать во всех покупках, задуманных ее супругом; между тем она вовсе не собиралась отказываться от своего права осуждать и, когда г-н Пелюш с триумфом раскладывал перед ней дорогостоящие тряпки, выбранные им самим, доставляла себе удовольствие со злорадством доказывать ему, что его просто обворовали.
Это противодействие, которое он впервые встречал в собственной семье, вызывало сильнейший гнев г-на Пелюша, испытывавшего врожденный страх перед всякими противодействиями. Но его гнев быстро проходил: он убеждался, что колкости супруги объясняются легким разочарованием, которое ей доставляла его твердость. Он возлагал надежды на то, что время, благоразумие, а главное — счастье Камиллы помогут все расставить по местам. Но Камилла, напротив, чувствовала, что происходит в сердце Атенаис; она угадала враждебное отношение мачехи к предстоящей свадьбе. Это ее опечалило и испугало. Девушка удвоила предупредительность и ласки, чтобы рассеять предубеждение, которое она подозревала в г-же Пелюш, и смягчить ее враждебность, которая, как она чувствовала, все возрастала. Бедное дитя не подозревало, что легче приручить тигра, чем женщину, считающую себя оскорбленной.
Тем временем Анри последовал за своей невестой в Париж; он ежедневно приходил в магазин на улице Бур-л’Аббе, и его присутствие, его ухаживания заставили девушку немного забыть то огорчение и беспокойство, которое причиняло ей поведение мачехи.
Накануне дня, назначенного для подписания контракта, семья Пелюш вернулась в Виллер-Котре.
Мадлен и Анри доставили ее в Норуа в экипаже молодого человека. Местные жители встречали их, собравшись у въезда в деревню. Молоденькие девушки преподнесли Камилле цветы, а старый фермер поздравил будущую чету от лица всех этих славных людей. Камилла расплакалась от волнения; при всей юношеской твердости своего характера Анри с трудом скрывал, как его глубоко тронули эти искренние знаки любви жителей селения; однако г-н Пелюш, казалось, не расчувствовался при виде этой торжественной встречи, которая вследствие нашептываний его мелкого тщеславия мыслилась ему более пышной.
Быть может, продавца цветов задело то, что его будущий зять получал поздравления и приветствия прежде него; быть может также, что, уступая, сам того не замечая, всемогуществу тайного и продолжительного воздействия, он стал уже не так восторгаться Анри и начал разделять неприятные впечатления, о которых Атенаис, едва супруги оставались наедине, без конца давала ему знать с несгибаемым упорством, присущим ее полу. Однако, испытывая некоторую досаду, он ограничился строгим внушением Мадлену за то, что тот не предупредил его об ожидавшем их изъявлении чувств народа и тем самым лишил его возможности надеть совершенно новый мундир, в котором он хотел вести дочь к алтарю, и не дал ему времени приготовить речь, способную воодушевить этих добрых крестьян.
Что касается г-жи Пелюш, то она немедленно нашла хитроумный способ положить конец радостным возгласам, увеличивавшим ее досаду. Юноши селения не упустили случая дать слово своим ружьям; и при первом же оружейном салюте г-жа Пелюш сочла уместным упасть в обморок, что, впрочем, не особо нарушило программу этого семейного торжества.
В тот миг, когда Анри сдерживал лошадей, чтобы заставить их повернуть к воротам поместья и въехать в парк, он заметил человека, сидящего на одной из каменных тумб ограды. Внешний вид и лицо его столь сильно поразили юношу, что среди важнейших забот этого дня он замедлил бег своей упряжки, чтобы получше изучить эту личность, равно примечательную как своей физической красотой, так и необычностью своей одежды.
Этот человек был в возрасте примерно двадцати четырех-двадцати пяти лет, хотя из-за преждевременных морщин, избороздивших его лоб и красноречиво свидетельствующих о тяжелом труде или жестоких тяготах, ему можно было дать и гораздо больше. Он был высок и строен, но эта стройность не шла в ущерб его силе: все его члены даже в состоянии покоя говорили о необыкновенной мощи мышц.
Его лицо несло на себе характерный отпечаток испанского происхождения: орлиный нос с горбинкой, тонко очерченный рот, борода, глаза, брови, волосы цвета воронова крыла, сверкающий пламенный взгляд. Однако цвет его кожи был еще более смуглым, чем цвет кожи европейцев, проживающих на юге: лишь тропическое солнце могло усилить эти теплые коричневатые тона флорентийской бронзы. Он носил одно из тех бурых одеяний причудливой формы, какие служат одновременно одеялом, укрытием или подстилкой для наездников в пампасах Южной Америки и известны под названием "пончо".
Под складками этого одеяния виднелась рубашка из грубой красной шерсти, служившая незнакомцу одновременно жилетом и сюртуком. Единственная уступка, которую он сделал европейским обычаям, касалась его брюк из серого драпа в красную полоску, ниспадающих на гетры из замши. Голову его покрывала мягкая фетровая шляпа черного цвета с широкими полями.
Этот наряд, казавшийся еще более странным в провинции, чем в Париже, незнакомец носил с такой непринужденностью, словно находился на берегах Рио-Гранде или Ла-Платы. Он был спокоен и невозмутим посреди тройного круга молодых бездельников, которые несколько мгновений колебались, не зная, что предпочесть — зрелище, какое он собой представлял, или въезд будущей новобрачной, и в конце концов решили наслаждаться этими двумя развлечениями поочередно и созерцать их с изумленным любопытством.
Человек в пончо, казалось, не замечал их присутствия. Он заворачивал немного табаку в лист маиса и с совершенно непроницаемым лицом курил свою сигарету, повторяя все снова, после того как ветерок уносил последнее облачко ароматного дыма.
Однако при виде приближавшегося экипажа на лице его отразилось весьма заметное волнение. Сдвинутые брови свидетельствовали о некоторой его озабоченности. И хотя молодость и красота Камиллы должны были бы привлечь к себе взгляд молодого человека его возраста с той же неизбежностью, с какой магнит притягивает железо, все же глаза незнакомца искали не ее, а Анри; и поскольку тот, как уже было сказано, с удивлением рассматривал чужака, их взгляды встретились и ни один из них не решился первым опустить глаза.
Едва экипаж въехал в парк, Анри живо повернулся к Мадлену, сидящему за его спиной и ниже его.
— Кто этот человек? — спросил он у него.
Подобно многим старым солдатам, Мадлен считал делом чести никогда не выказывать своего удивления.
— По правде говоря, я ничего о нем не знаю, — ответил он.
— Но разве вы не обратили внимания на его костюм?
— Да. Это какой-нибудь карам б а, пожиратель чеснока, заявившийся попрошайничать сюда.
— Попрошайничать! — вскричал Анри. — О, вы плохо его рассмотрели. Человек с таким взглядом никогда не протягивал руку за милостыней.
— Э! — произнес Мадлен. — Вот и видно, что ты никогда не бывал по ту сторону гор, мой мальчик. Эти люди просят у вас грош с таким высокомерием, какое и не снилось министрам его величества короля Луи Филиппа, ходатайствующим о бюджете перед господами в Палате.
— Но зачем он явился сюда?
— Пойди спроси у него сам, если тебе так интересно. Я могу тебе лишь сказать, что он уже два или три дня бродит, как мне говорили, в окрестности, и я сам уже дважды встречал его. Но, черт побери, мне слишком много приходилось не спать из-за его соотечественников, чтобы считать себя еще обязанным окружать неослабным вниманием какого-то чужака.
— Однако, — вмешалась Камилла, взгляд которой искал одобрение и поддержку в глазах жениха, — возможно, он несчастлив. Без средств к существованию, вдали от родины — его участь достойна сожаления. Нельзя ли разузнать что-нибудь о нем?..
— И что ему не сиделось у себя в стране?! — воскликнул г-н Пелюш, с раздражением вступая в разговор. — Я опасаюсь всех этих бродяг, артистов и им подобных, которые строят из себя владетельных сеньоров, шляясь по дорогам. Если у тебя нет средств, чтобы заплатить за почтовую карету, нет кредита, выданного на достойное уважения торговое заведение, то надо сидеть дома. Я, по правде говоря, не понимаю, как ты можешь интересоваться этим здоровенным верзилой, по виду похожим скорее на разбойника, чем на кого бы то ни было еще.
— О! Это его внешний вид, вероятно, тронул сердце Камиллы, — вероломно добавила Атенаис. — Разве вы не знаете, что бедное дитя всегда питало слабость к героям романов?
Как раз в это время экипаж остановился перед крыльцом, что избавило Камиллу от необходимости отвечать на подобное злопыхательство. Обе женщины поднялись в отведенные для них комнаты, и Анри, ускользнув от своего будущего тестя и Мадлена, прошел через конюшню и быстро побежал к парковой ограде; но напрасно он бросал взгляды на дорогу в ту и другую сторону: незнакомец исчез.
На следующий день, после завтрака, около двадцати человек, среди которых мы встретим наших прежних знакомых: Жиро, Жюля Кретона, Бенедикта Жиродо и других, — собрались в гостиной маленького замка, где должна была состояться церемония подписания контракта.
Наши читатели легко себе представят, что испытывали молодые люди; об их взаимных чувствах мы столько раз уже упоминали, что это избавляет нас от необходимости описывать их волнение.
Удовольствие от того, что он наконец мог предстать перед провинциалами в своем замечательном мундире, заставило г-на Пелюша ненадолго забыть о том смутном недовольстве, которое он подхватил на супружеской подушке. Мадлен светился счастьем: исполнялась мечта, которую славный торговец игрушками лелеял всю жизнь. Картину всеобщей радости портила лишь г-жа Пелюш, при том что она еще не позволяла просочиться наружу своему раздражению: только порой едва заметное непроизвольное подергивание лица несколько выдавало то, что происходило в ее душе.
Нотариус Виллер-Котре занял место за ломберным столом, разложил свои бумаги, открыл чернильницу. Он внимательно просматривал и правил контракт, который должен был послужить основой для союза двух молодых людей, в то время как присутствующие, разбившись на группки, несколько шумно беседовали во всех углах комнаты.
Именно так подобные события происходят в Опера-Комик, и в этом отношении мизансцена достоверна, потому что именно так это происходит в жизни.
Законник дочитывал последние страницы гербовых бумаг, когда в гостиную вошел вновь прибывший.
Это был г-н Редон, мэр Норуа.
Обычно спокойное лицо представителя власти казалось озабоченным и выдавало его сильнейшее беспокойство.
Он подошел прямо к Мадлену и, оставив без ответа сердечное приветствие последнего, сказал ему:
— Вы должны пойти к себе, там кое-кто вас ожидает.
— В этот момент? — ответил Мадлен, указывая взглядом на нотариуса и присутствующих. — Но вы сами видите, что это невозможно.
— Вы должны это сделать, — произнес г-н Редон тоном, не допускающим возражений, что, однако, не помешало торговцу игрушками послать проклятие в адрес незваного гостя, столь неудачно выбравшего время для своих дел.
Длинные ноги проворно доставили Мадлена в конец парка. Он прошел через разрыв в живой изгороди, сообщавшийся с его садом, и спросил у служанки, что за человек его ожидает.
Та указала ему на мужчину, который стоял, непринужденно прислонившись к стене двора, и в нем Мадлен узнал незнакомца, накануне вечером пробудившего столь живейшее любопытство у его крестника.
Уверенный, что этот человек, чья назойливость была ему так неприятна, принадлежал к испанской расе, Мадлен почувствовал, как в нем просыпается злость старого солдата.
Сдвинув брови, он направился прямо к чужестранцу и, не приветствуя его, не сняв шляпы, сердито спросил:
— Это вы хотели со мной поговорить?
Незнакомец отплатил ему тем же. Он не оставил своей непринужденной позы и удовольствовался тем, что утвердительно кивнул между двумя затяжками сигареты.
— В таком случае поторопитесь, — продолжил Мадлен. — Меня ждут для подписания контракта.
— Контракт подождет, — возразил незнакомец все с тем же безмятежным видом. — То, о чем я должен с вами поговорить, займет много времени, поэтому я не могу сделать это так быстро, как вы предлагаете.
То, как чисто иностранец говорил по-французски и сколь незначителен был его акцент, несколько удивило Мадлена. Но он был не из тех людей, кто из-за такой мелочи обуздывает свое плохое настроение.
— Ну что же, тогда, дорогой мой сударь, — продолжал он, — мы отложим наш разговор, если вы ничего не имеете против, на другой день или, по крайней мере, на другое время: я тороплюсь.
— Я тоже, дорогой мой сударь, тороплюсь, поэтому этот разговор нельзя отложить.
— Неужели?! — насмешливо произнес Мадлен.
— Да. Вы сейчас пригласите меня войти в ваш дом, поскольку не захотите, чтобы первый встречный услышал то, что я собираюсь вам сказать. Вы предложите мне сесть; если вы курильщик, то возьмете в руки вашу трубку, чтобы позволить мне и дальше курить сигарету, и уделите мне столько внимания, сколько заслуживают самые серьезные дела.
— И вы совершенно уверены, что эта скромная программа будет строго выполнена?
— Я в этом убежден.
— Даже угольщик хозяин у себя в доме, дорогой мой сударь, и, не будучи слишком любопытным, я все же хотел бы знать, каким образом вы заставите меня исполнять вашу волю в моем доме.
— Одного слова для этого будет достаточно, дорогой мой сударь.
— Неужто!..
— И это слово — мое имя.
— И вас зовут?
— Меня зовут граф де Норуа, сударь.
Мадлен побледнел и не смог сдержать жест удивления.
Он пристально посмотрел на чужестранца, слегка поклонившегося ему.
— Граф де Норуа? — повторил Мадлен, не слишком отдавая себе отчета в том, что он говорит.
— Да, граф де Норуа. Что в этом имени так вас удивляет? — с горечью произнес незнакомец. — Мне кажется, оно должно быть вам знакомо.
Мадлен не ответил: он с трудом перевел дух и, протянув дрожащую руку, указал на дверь своего дома, знаком предложив собеседнику войти первым.
XXXII
ЧТО ПРОИСХОДИЛО В ПАРИЖЕ В 1821 ГОДУ
Все случилось так, как и предсказывал иностранец. Едва незнакомец назвал себя, Мадлен стал податливым, как тростник, и капли пота, заструившиеся по его лбу, свидетельствовали о потрясении, испытанном им при звуках этого имени — того самого, которое до тех пор носил Анри.
Поэтому, как только они вошли в столовую, служившую одновременно гостиной, Мадлен указал гостю на стул. Иностранец сел, улыбаясь: он безусловно испытывал удовлетворение от своего могущества, вначале подвергшегося сомнению, но потом признанного. Мадлен сел в свою очередь, даже и не помышляя о трубке, хотя граф свернул и закурил сигарету, и, слегка поклонившись, сказал молодому человеку:
— Говорите, господин граф, я вас слушаю.
Молодой человек поклонился с несколько большей почтительностью, нежели до сих пор, и начал свой рассказ так:
— Я объявил вам, что мой рассказ будет долгим, и, похоже, это вступление вызвало у вас досаду. Вам придется простить меня, сударь. Мой визит вызван серьезной причиной, которая, вероятно, будет иметь мучительные последствия для человека, столь горячо любимого вами. Поэтому я должен изложить вам все подробности, чтобы не осталось ни одного темного места, способного заронить в вас сомнение, а для этого мне предстоит обратиться к очень давним событиям, имевшим место задолго до моего рождения.
Мой отец, если бы я не имел несчастье потерять его, — а я знаю, каким преданным другом вы ему были, сударь, — мой отец через несколько месяцев стал бы вашим ровесником, потому что вы не только сын его кормилицы, но и его молочный брат. Воспитанный в традициях Империи, сын полковника, убитого в сражении на Москве-реке, он с глубокой болью наблюдал нашествия тысяча восемьсот четырнадцатого и тысяча восемьсот пятнадцатого годов. Тогда отец был еще слишком молод, чтобы взять в руки оружие. Но в тысяча восемьсот шестнадцатом году он поступил в армию и в тысяча восемьсот двадцатом был лейтенантом в легионе департамента Мёрт, в котором служили и вы.
— Простым солдатом, — прервал его Мадлен, не удержавшись от улыбки при этом признании своего подчиненного положения.
— Именно в эту пору в Париже случился первый военный заговор. Вы знаете, что тому послужило причиной.
— Право, господин граф, — ответил Мадлен, — признаться, будучи простым солдатом, я мало занимался политикой в то время, и это было счастьем для вашего отца, ведь я смог оказать ему услугу именно потому, что меня не в чем было заподозрить.
— Поскольку вам неизвестны причины этого заговора, то я в двух словах расскажу вам о них, сударь. Я хочу вам доказать, что хорошо знаю то, о чем говорю.
— Слушаю вас, сударь, все, что исходит из ваших уст, представляет для меня большой интерес.
Молодой человек поклонился и продолжал:
— После двух одобренных в тысяча восемьсот двадцатом году законов об уничтожении свободы прессы и о свободе личности некоторые члены оппозиции решили организовать восстание и объединились в комитет. Это были генерал Лафайет, Вуайе д’Аржансон, Манюэль, Дюпон (из Эра), Мерилу, де Корсель, Босежур и генерал Тарайр.
Этот комитет, попытавшийся первым открыто бороться с Реставрацией, получил название "Руководящий комитет".
Его девизом стали слова Лафайета:
"Долг каждого истинного гражданина устраивать заговоры против правительства, устраивающего заговоры с целью уничтожить свободы".
Этот призыв к оружию нашел свой отклик в армии. Между пятью или шестью командирами полков и Руководящим комитетом установились тайные сношения.
Выступление должно было произойти в Париже по приказу и при содействии капитана Нантиля и моего отца — оба они были офицерами легиона департамента Мёрт, легиона, преданного делу Революции.
Этот легион должен был овладеть Венсенским замком-крепостью. Заняв крепость, они передали бы командование ею в руки генерала Мерлена, и там обосновалось бы временное правительство во главе с Лафайетом.
Одновременно с захватом Венсенского замка капитан Берар, командир батальона в легионе Кот-дю-Нора, почти полностью уверенный в своем легионе, должен был вступить на площадь Бастилии, соединиться там с тысячами молодых людей, участвующих в заговоре, захватить сад Бомарше, который легко можно было превратить в неприступный редут, и таким образом занять господствующее положение над линией Бульваров и подступами к площади Сент-Антуан.
В то же самое время первый легион департамента Нор, ведомый капитаном Декевовиллером, должен был расположиться перед ратушей, на набережных по ту и другую стороны Сены, и практически довершить социальное и имущественное разделение, существующее между предместьями Сент-Антуан и Сен-Марсо и богатыми кварталами Парижа.
Заговор сначала был назначен на десятое, потом на пятнадцатое, а затем на двадцатое августа.
Одна из тех случайностей, которая разрушает, как карточные домики, самые серьезные комбинации, опрокинула громадную постройку.
Пятнадцатого августа был праздник Святого Людовика, то есть именины короля. От множества огней фейерверка, призванных придать большую торжественность празднеству, занялся пожар. В Венсенском форте произошел взрыв, стоивший жизни многим людям. Перепуганное правительство, в первые минуты не зная причины взрыва, отдало приказ послать в Венсен отряды королевской гвардии. Видя эти передвижения войск, некоторые из заговорщиков сочли заговор раскрытым и, желая выпутаться из этой истории целыми и невредимыми, выдали все планы и открыли имена главарей. Собрав в ночь с восемнадцатого на девятнадцатое все сведения, которые могли ему дать доносчики, герцог Рагузский, начальник главного штаба королевской гвардии, подписал приказ об аресте участников заговора.
Капитан Нантиль и мой отец были заняты на бульваре Бомарше последними приготовлениями к выступлению, когда к ним прибежал унтер-офицер легиона и, едва переводя дыхание, объявил, что все раскрыто.
Нельзя было терять ни минуты. Речь шла о бегстве. Оба заговорщика пожали друг другу руки и бросились в разные стороны.
Нантиль нашел убежище у одного студента-правоведа по имени Белле, затем у служащего Бурбонского дворца, затем у старшего мастера-портного императорской гвардии. Наконец, он покинул Париж и укрылся в Нанте, где тайно проживал до самой амнистии.
Мой отец встретил солдата своей роты, которого вы должны знать, господин Мадлен.
— Да, господин граф, — ответил Мадлен, — так как этот солдат был я.
— Ну что же! Тогда, сударь, — произнес молодой человек, — вам следует продолжить начатый мною рассказ и поведать о событиях, относящихся к пребыванию моего отца в Париже и его бегству оттуда. Чувство деликатности обязывает меня, вы это поймете, передать вам слово и целиком положиться на сказанное вами. Но вначале я признаюсь, что у меня нет ни малейшего доказательства, подтверждающего законность требования, которое я собираюсь вам предъявить, и что мой отец, умирая, велел мне полностью довериться вашему слову.
Мадлен грустно улыбнулся и, протянув руку молодому человеку, сказал ему:
— Ваш отец, господин граф, был совершенно прав. — И он в свою очередь продолжил рассказ: — Ваш отец увлек меня в темный проход между домами, который попался нам по дороге, и в двух словах ввел меня в курс дела.
Какое-то мгновение я размышлял, и вот первое, что пришло мне в голову: раз заговор раскрыт и известны имена заговорщиков, то заставы должны охраняться и туда уже переданы приметы этих людей. Поэтому речь должна идти не о бегстве, а о том, чтобы остаться в Париже, просто-напросто найдя в нем надежное убежище.
Такое убежище я имел, но, увы, не у себя. Ведь у бедного солдата нет дома. Это было жилище семнадцатилетней девушки, красивой и невинной как Святая Дева. У нее я бы спрятал брата, если бы он у меня был, и именно у нее я спрятал вашего отца.
Эта девушка занималась шитьем и работала для большого магазина белья. Ее замечательный талант в вышивании принес ей известность. Девушка занимала две маленькие комнатки и кабинет на пятом этаже дома по улице Бур-л’Аббе и была известна всему кварталу под именем мадемуазель Анриетты: это имя было любимо и уважаемо как имя святого создания, в чей адрес никто не имел права бросить ни малейшего упрека.
Неизвестные никому узы, о которых я поведал вашему отцу, поднимаясь по лестнице Анриетты, связывали меня с этой девушкой. Я их открыл ему, потому что это должно было побудить его отнестись к девушке с еще большим уважением.
Анриетта даже на мгновение не задумалась о той опасности, которой она подвергается, принимая у себя красивого молодого человека двадцати четырех лет; она думала лишь о том, что на нем висит тяжесть смертного приговора и что в случае ее отказа эта благородная голова может слететь с плеч. Она открыла свою дверь изгнаннику и отдала ему свою комнату, превратив ее одновременно в столовую и кухню: кабинет служил спальней узнику.
Я говорю "узнику", потому что два месяца, пока он оставался у Анриетты, ваш отец выходил от нее лишь время от времени, боясь возбудить подозрения. Я приходил его навещать и испытывал жалость, видя его жизнь затворника. Я не знал, какие причины делали для него это затворничество приятным.
Были произведены многочисленные аресты, и мы постоянно надеялись, что полиция устанет и ей надоест искать заговорщиков, но она прежде всего стремилась найти вашего отца и Нантиля, приговорив их заочно ввиду того, что оба они стояли во главе заговора. Заседание Палаты пэров состоялось в январе тысяча восемьсот двадцать первого года. Это был первый военный заговор, и суровость приговора можно было предугадать заранее.
Было вполне вероятно, что вслед за смертным приговором последует решение о конфискации всего состояния и что осужденный заочно будет навсегда разорен, даже если ему удастся спастись.
И вот о чем мы тогда договорились.
Все состояние вашего отца заключалось в недвижимом имуществе, находящемся в коммуне, имя которой он носил. Следовало найти человека, чья честность не вызывала сомнений, и оформить документ о фиктивной продаже ему всего этого имущества. Ваш отец сделал мне честь, остановив свой выбор на мне…
(Молодой человек поклонился рассказчику, словно воздавая ему почести.)
Однако при активности столичной полиции невозможно было составить подобную купчую в Париже. Нотариус, с одной стороны, и чиновник, регистрирующий подобные сделки, — с другой, могли либо из страха подвергнуться наказанию, либо, желая получить вознаграждение, выдать продавца; одной регистрации для этого было вполне достаточно. Провинция, где можно было обратиться к друзьям, гарантировала большую безопасность.
Однако до провинции еще надо было добраться.
Я попросил для себя и для одного товарища, которому мы могли довериться, недельный отпуск как бы для поездки на свадьбу. Нас отпустили.
Граф надел на себя мундир моего товарища, которого мы оставляли в одежде рабочего на улице Бур-л’Аббе, и совершенно спокойно, пешком, с нашим разрешением на отпуск, которое мы, свернув, положили в жестяной цилиндр, я и граф вышли из Парижа через заставу Ла-Виллетт.
Анриетта, желавшая, как можно дольше оставаться возле графа, села в дилижанс на Виллер-Котре, и мы присоединились к ней после двух дней пути.
В Виллер-Котре мы взяли двуколку и через час прибыли на место.
Мы пошли прямо к нотариусу, господину Менессону, редкостному патриоту и честнейшему человеку, и все ему рассказали. Ни минуты не подумав о риске, которому он подвергался, прикладывая руки к подобному акту, законному во всех отношениях, но также во всех отношениях неимоверно опасному, он составил купчую на мое имя и в мою пользу.
У меня было двадцать тысяч франков, хранившихся у господина Менессона. Это была как раз та сумма, в которой граф де Норуа нуждался для своего бегства и задуманного им устройства на новом месте. Мы условились с ним, что в случае необходимости я буду делать займы, как бы для самого себя, под его собственность, — ее можно было оценить в двести пятьдесят тысяч франков, — а суммы, полученные в результате этих займов, буду посылать ему. Кроме всего прочего я вручил ему тайную записку, аннулирующую продажу и объявляющую о том, что он получил от меня лишь сумму в двадцать тысяч франков.
Он положил двадцать тысяч франков золотом в пояс, обзавелся одеждой и раздобыл документы моряка из Порто-Перша, и, более не заботясь друг о друге, мы расстались. Я собирался возвратиться в Париж, а он направлялся в Гавр, чтобы отплыть оттуда в Америку и присоединиться в Техасе к французской колонии, которую основал там генерал Лаллеман, дав ей название "Сельский приют".
Товарищ, которого мы оставляли в Париже, присоединился к нам в Норуа, получил обратно свой мундир и возвратился вместе с нами обратно в Париж.
Мы были на вершине счастья, видя, что план бегства так легко удался. Одна Анриетта была печальна; я не понимал причины этой грусти, но через месяц мне все стало ясно, когда в слезах, бросившись мне на грудь, она призналась, что беременна!
XXXIII
ПИСЬМО, КОТОРОЕ ПРИШЛО СЛИШКОМ ПОЗДНО
Мадлен на минуту остановился, быстро вытер глаза и продолжил:
— Я мог бы долго здесь говорить о нарушенном законе гостеприимства, о преданной дружбе, об обманутой невинности. Но я лишь замечу вам, господин граф, что удар был жесток и попал в самое сердце. Правда, граф де Норуа и не подозревал, что оставляет Анриетту в таком положении. Она сама узнала об этом лишь после его отъезда; и если бы не это, я уверен, что ваш отец женился бы на ней…
— Я не стал вам первым говорить об этом, — ответил молодой человек. — Но, поскольку вы сами высказали подобное предположение, то могу заверить вас, что его всю жизнь мучили угрызения совести из-за неблагодарности, проявленной им по отношению к этой молодой женщине и к вам.
— Я знаю о событиях, последовавших за бегством графа, лишь с его собственных слов, — продолжил Мадлен.
— Не имеет значения, заканчивайте ваш рассказ, сударь… До тех пор, пока мы не дойдем до определенных подробностей, я бы хотел услышать от вас о том, что произошло тогда.
Мадлен сделал жест, означавший, что он и не желал бы лучшего, и заговорил снова:
— По истечении восьми с половиной месяцев с того дня, как граф нас покинул, Анриетта родила мальчика и умерла, дав ему жизнь!
Я избавлю вас, сударь, от рассказа о тревожных бдениях у изголовья больной, о моих слезах, о моем отчаянии. Вновь увидев вашего отца, я все ему простил.
Ребенок был записан в книгу актов гражданского состояния под именем Анри, и поскольку он был сиротой, то я поклялся перед Богом заменить ему отца и мать.
Затем, просто на всякий случай, не зная, дойдет ли оно когда-либо до адресата, я послал графу де Норуа письмо в "Сельский приют" в штате Техас.
Тем временем состоялось слушание дела в Палате пэров. Ваш отец был приговорен к смерти, но без конфискации имущества. Мне даже не потребовалось предъявлять мою купчую, по поводу которой ни нотариуса, ни чиновника, зарегистрировавшего ее, никто не побеспокоил.
В течение трех лет я ничего не слышал о вашем отце; за эти три года мне пришлось, против воли, участвовать в Испанской кампании. Но кампания закончилась, срок моей военной службы истек, и, к своей огромной радости, я снял с себя мундир. Однако я не хотел оставаться без дела и, полагая себя не вправе пользоваться состоянием, всего лишь хранителем которого я был, купил за несколько тысяч франков, оставшихся у меня, небольшой магазин игрушек на улице Бурдоне; это не только давало мне средства к существованию, но и позволяло покрывать первые расходы на ребенка.
Тем временем король Людовик Восемнадцатый скончался, ему наследовал Карл Десятый, и всеобщая амнистия, под которую подпадал и ваш отец, ознаменовала наступление нового царствования.
Четыре месяца спустя, в ту минуту, когда я меньше всего думал о нем, я вдруг увидел вашего отца входящим в мою бедную лавочку.
Моим первым порывом было броситься в его объятия.
"Мой бедный друг, — сказал он мне, — я получил твое письмо, когда уже ничего нельзя было поправить. Когда я прибыл в Техас, "Сельский приют" был разгромлен по приказанию вице-короля Мексики. Я обошел весь залив от Остина до Вера-Круса, от Мехико до Кубы, поднялся по Амазонке, прошел обширные леса и бесконечные равнины, спустился по реке Парана, пересек Уругвай и прибыл в Монтевидео.
У меня были рекомендательные письма к уважаемым жителям этого города и среди прочих к полковнику Овандо. Существовали две причины, по которым меня хорошо приняли в его доме: я был француз, а полковник обожал Францию, и я был политический ссыльный, а он посвятил всю свою жизнь делу свободы.
Впрочем, Господь был щедр к нему. Полковник Овандо был прекрасный кавалер в испанском смысле этого слова, которое означает одновременно солдата и дворянина…"
Молодой граф поклонился Мадлену.
— Это был мой дед по материнской линии, — сказал он.
— Я так и предполагал, — ответил Мадлен. — Что же, это еще одна причина продолжить рассказ вашего отца.
"Это был красивый кавалер со смуглым цветом лица, — рассказывал он мне, — высокого роста, с проницательным взглядом, с изяществом поддерживающий беседу и завлекающий своих слушателей в колдовской круг особым жестом, свойственным ему одному. Я тем сильнее испытывал на себе его влияние, что у него была очаровательная дочь.
Со своей стороны, полковник Овандо, которому его большое состояние позволяло не принимать в расчет, когда речь шла о судьбе его дочери, никаких других обстоятельств, кроме своей нежной любви к ней, отнесся ко мне по-дружески и на первых же порах дал понять, что с радостью примет меня как зятя. Мне нечего было возразить его намерениям. Мерседес, я уже говорил тебе, была очаровательна и, казалось, тоже нежно полюбила меня. Итак, было условлено, что по возвращении из экспедиции, которую полковник Овандо собирался предпринять против генерала Лопеса, губернатора Санта-Фе-дела-Платы, я женюсь на его дочери. В результате этой договоренности, превосходившей все мои желания, я счел своим долгом рассказать полковнику о своем финансовом положении, чтобы он не смешивал меня с толпой авантюристов, наводнивших Новый Свет. Я ему сказал, что имел поместье во Франции, что один из моих друзей получил все мое состояние по фидеи-комиссу, что я уверен в этом друге и что в тот момент, когда я потребую обратно все свои деньги, они будут мне возвращены. Он спросил у меня, в какую сумму оценивается мое состояние. Я ему ответил, что, вероятно, в двести пятьдесят-триста тысяч франков. Он расхохотался.
"Оставьте этот пустяк вашему другу, — сказал он мне. — Мерседес достаточно богата для вас двоих".
И в самом деле, состояние полковника Овандо оценивалось в четыре или пять миллионов.
Он отправился в экспедицию, но, уезжая, вложил руку Мерседес в мою.
"Дети мои, — произнес он, — везение на войне переменчиво; оставаясь до сих пор победителем, я могу, в свою очередь, быть побежден, убит или взят в плен, что, впрочем, когда имеешь дело с Лопесом, сводится к одному и тому же. Не забывайте, что, когда я покидал вас, моим последним желанием было видеть вас вместе".
Мы обняли его и расцеловали и, стараясь всячески рассеять это мрачное предчувствие, от всей души пообещали исполнить то, что он желал.
Начало кампании было ознаменовано успехом жителей Монтевидео. Но в полку моего будущего тестя произошел мятеж, и полковник Овандо, бросившись в самую гущу мятежников, чтобы напомнить им о долге, был взят ими в плен и передан его личному недругу Лопесу, губернатору, как я уже сказал, Санта-Фе.
Генерал Лопес завтракал, когда привезли полковника Овандо. Он приказал, чтобы его провели к нему, принял его самым лучшим образом и усадил с собой за стол.
Завязался разговор, как предписывает обычай, когда встречаются два собеседника, чье равное положение требует от них взаимных проявлений любезности.
Однако в середине трапезы Лопес внезапно спросил:
"Полковник, если бы я попал в ваши руки, как вы попали в мои, и это случилось бы во время завтрака, что бы вы сделали?"
"Я бы пригласил вас за свой стол, генерал, как это сделали вы сами".
"Да, но по окончании застолья"
"Я бы приказал вас расстрелять".
"Я рад, что вам пришла в голову эта мысль, потому что она пришла в голову и мне. Полковник, вы будете расстреляны после того, как встанете из-за стола".
"Должен ли я подняться немедленно или могу закончить завтрак?"
"О! Заканчивайте, полковник, заканчивайте, мы не торопимся!"
Они продолжили трапезу, выкурили сигарету, выпили кофе и ликер. Затем, когда сигареты были докурены, кофе и ликер выпиты, полковник Овандо сказал:
"Я полагаю, что настало время".
"Благодарю вас, что вы не заставили меня напоминать вам об этом", — ответил Лопес.
И, подозвав адъютанта, он спросил:
"Команда готова?"
"Да, генерал", — ответил тот.
Тогда, повернувшись к Овандо, Лопес произнес:
"Прощайте, полковник".
"О! Скорее до свидания, — ответил тот. — В войнах, подобных той, которую мы ведем, живут недолго".
И, кивнув Лопесу, полковник вышел. Спустя несколько минут раздавшиеся во дворе выстрелы дали знать Лопесу, что жизнь полковника Овандо оборвалась…"
— Предсказание полковника не замедлило осуществиться, — заметил молодой человек. — Лопес в свою очередь умер, отравленный Росасом.
— "Я оплакивал полковника, как сын оплакивает отца; затем, исполняя его последнее желание, Мерседес и я поженились, и через десять месяцев она сделала меня отцом сына, который при крещении получил имя своего деда — дон Луис".
Молодой человек поклонился.
— Это я, — сказал он.
Мадлен вернул поклон молодому человеку и продолжил рассказ графа де Норуа:
— "Я получил, — сказал мне ваш отец, — в Монтевидео письмо, которое ты послал мне в Техас, полтора года спустя после того, как оно было написано, и восемь месяцев спустя после моей женитьбы на Мерседес. Писать тебе было бесполезно; я не мог рассказать тебе в письме всего того, что рассказываю сейчас. Слабое здоровье короля Людовика Восемнадцатого позволяло надеяться на его скорейшую кончину. Вслед за ней, как уверяли, должна была последовать амнистия. Я решил ждать. Людовик Восемнадцатый умер. Новость об амнистии пришла в Монтевидео. Три дня спустя, сказав жене лишь о том, что семейные дела призывают меня во Францию, и умолчав обо всем остальном, я покинул Монтевидео. И вот я здесь. Теперь, мой друг, что сталось с Анриеттой? Что сталось с моим сыном?"
"Анриетта умерла. Твой ребенок жив, но он записан в книге актов гражданского состояния под фамилией матери, то есть он не имеет ни имени, ни состояния, ни будущего, и его зовут просто Анри", — ответил я.
"Прежде всего отправимся к моему ребенку", — сказал граф.
"Мне кажется, тебе надо нанести один визит".
"Куда же?"
"На кладбище Пер-Лашез".
"Ты прав, сначала на могилу Анриетты".
Мы взяли коляску и отправились на кладбище Пер-Лашез. Плита, на которой было выгравировано ее имя и дата смерти, а также благочестивая просьба к верующим молиться за усопшую, указала графу место, где покоилась та, которая умерла с его именем на устах.
Он провел несколько минут в молитве, преклонив колени на могиле, а затем, поднявшись, спросил:
"А теперь, где мой сын?"
"Твоему сыну исполнилось четыре с половиной года, и в моем магазине невозможно держать ребенка этих лет, а главное — серьезно им заниматься. Он остался под присмотром господина Редона, мэра Вути, у своей кормилицы в Норуа. Едем в Норуа, и ты его увидишь".
"Едем!" — повторил граф.
Мы отправились в той же самой коляске, что привезла нас на кладбище и, по счастью, быстро ехала, после того как ее кучеру было заплачено за три дня вперед.
Заночевали мы в Нантёй-ле-Одуэне. На следующий день в одиннадцать часов утра мы вошли в замок Норуа.
Я тотчас же послал за маленьким Анри.
Граф не имел терпения ждать. Он пошел навстречу ему и вернулся, держа ребенка на руках и говоря ему со слезами на глазах:
"Называй меня папой! Называй же меня папой!"
Но мальчик решительно качал головой в знак отрицания.
"Нет, ты не мой папа, — говорил он, и, показывая на меня пальцем, добавлял: — Вот мой папа!"
И он делал все, чтобы вырваться из объятий графа и прийти в мои объятия.
Граф опустил его на землю, говоря:
"Ты прав, твой настоящий папа он".
Ребенок подбежал ко мне, обнял меня руками за шею и поцеловал.
Граф отвернулся, чтобы вытереть слезу. Затем, положив руку на голову ребенка, он сказал мне:
"Послушай, Мадлен, вот что я решил. Более чем вероятно, что никогда ни мне, ни моему сыну, дон Луису, не понадобится это состояние. Я оставляю его во Франции, и пусть оно пока принадлежит моему сыну Анри.
Это состояние, хранителем которого ты являешься, будет, таким образом, в его распоряжении до тех пор, пока непредвиденные обстоятельства не заставят меня или моего сына потребовать его обратно. Но, повторяю тебе, нет никаких причин опасаться, что такие обстоятельства когда-нибудь возникнут.
Если же они возникнут, то ты, Мадлен, будучи справедливым человеком и имея исключительно честное сердце, сам распорядишься судьбой этого состояния так, как покажется тебе честным и справедливым. И в доказательство того, что я оставляю тебя единственным посредником в этом случае, я уничтожаю тайную записку, раскрывающую подлинный смысл нашего договора".
Сказав это, он разорвал тайную записку, которую я ему дал, и бросил клочки в огонь.
Молодой граф поднялся, и протянул обе руки Мадлену.
— Сударь, — сказал он ему взволнованным голосом со слезами на глазах, — вы действительно справедливый человек и честное сердце, как и говорил о вас мой отец.
XXXIV
ВЗГЛЯД, БРОШЕННЫЙ ПО ТУ СТОРОНУ АТЛАНТИКИ
Мадлен воспринял это заявление с простотой человека, сознающего, что он выполнил свой долг, и не считающего, что исполнение этого долга заслуживает восхищения его ближнего.
Он указал дону Луису на стул.
— Вы должны теперь поведать мне, что доставило мне честь принимать вас у себя, — промолвил он. — Что касается меня, то я закончил свой рассказ и мне остается лишь ждать вашего решения.
Дон Луис занял свое место.
— Сударь, — сказал он, — вы хотели, чтобы у меня не осталось ни малейшего сомнения, и я также желаю, чтобы вы ни в чем не сомневались, ведь чем откровеннее вы были со мной, тем откровеннее я должен быть с вами.
После смерти моего деда полковника Овандо, после женитьбы на моей матери, мой отец, граф де Норуа, счел себя обязанным принять сторону той самой партии, за дело которой дед отдал свою жизнь.
Росас, став диктатором Буэнос-Айреса, угрожал Монтевидео.
Вы не знаете во Франции, что такое Росас; поэтому вы не в силах понять ни участи, какая нам из-за него угрожает, ни ненависти, какую мы питаем к нему.
Спустя какое-то время после революции тысяча восемьсот десятого года молодой человек пятнадцати-шестнадцати лет покидал Буэнос-Айрес, уходя из города; у него было взволнованное лицо, и он шел торопливой походкой. Этого молодого человека звали Хуан Мануэль Росас.
Почему, еще почти ребенок, он покидал дом, где родился, почему, будучи городским жителем, он искал убежище в деревне? Причина была в том, что этот человек, которому однажды предстояло нанести оскорбление своей родине, начал с того, что оскорбил свою мать, и отцовское проклятие гнало его прочь от семейного очага.
Это была пора, когда Южная Америка призывала своих детей под знамена независимости. В то время как его сотоварищи объединялись, чтобы изгнать врага, Росас затерялся в пампасах, ведя жизнь гаучо, переняв у них одежду и нравы, и стал одним из самых умелых наездников и научился искуснее многих других в этих необъятных равнинах бросать лассо и болу.
Затем он поступил как peon[16] на службу в эстансию, стал capataz[17], а затем и mayordomo[18].
Но среди этих необъятных безлюдных пространств он мечтал о своем будущем и готовил его: бродя по пампасам, смешавшись с гаучо, он разделял все тяготы их жизни, льстя предрассудкам сельского человека, разжигая его ненависть против горожанина, давая ему ощутить свою силу, показывая его превосходство в численности и стараясь внушить ему, что, как только деревня этого захочет, она станет властительницей города, который так долго давил на нее.
Однажды ополчение Буэнос-Айреса восстало против губернатора. Отряды сельского ополчения, los Colorados de Las Conchas[19], вошли в город, возглавляемые полковником, который хорошо знал Буэнос-Айрес и был хорошо известен в Буэнос-Айресе.
Этим полковником был Росас.
На следующий день сельское ополчение вступило в схватку с городским. Городское ополчение потерпело поражение.
Тогда вся деревня снялась с места и огромной толпой пошла на Буэнос-Айрес; масса сельских жителей наводнила город и поставила своего предводителя во главе правительства.
Этим предводителем был Росас.
В тысяча восемьсот тридцатом году, несмотря на противодействие города, Росас под нажимом деревни был избран губернатором.
Достигнув этого высокого положения, он попытался примириться с цивилизацией. Казалось, он забыл дикие повадки, присущие ему до тех пор. Гаучо стремился стать городским жителем. Змея хотела сменить кожу. Но город не поддался на его посулы, цивилизация отказалась простить предателя, перешедшего в стан варварства. Если Росас показывался в военном мундире, то военные громко спрашивали друг друга, на каком поле битвы он заслужил свои эполеты. Если он выступал в собрании, то литераторы спрашивали у людей с хорошим вкусом, где Росас выучился подобному стилю речи. Если он появлялся на дружеской вечеринке, женщины показывали на него пальцем, говоря: "Вот переодетый гаучо", и все эти язвительные замечания за его спиной и рядом с ним выплескивались ему прямо в лицо в мучительно жалящих его укусах анонимных эпиграмм.
Три года его правления прошли в этой борьбе, наносящей смертельные удары его гордости. И когда он сложил с себя полномочия, то сошел по ступеням дворца с душою, переполненной ненавистью, сердцем, залитым желчью, понимая, что для него союз с городом более невозможен. Он направился к своим верным гаучо, в поместья, сеньором которых он был, в деревню, где он был королем. Однако он удалялся от города с намерением когда-нибудь вернуться в Буэнос-Айрес, как Сулла вернулся в Рим, то есть как диктатор, с мечом в одной руке и факелом в другой.
И вот что сделал Росас, чтобы достигнуть этой цели. Он попросил правительство дать ему назначение в армию, выступавшую против диких индейцев. Правительство, не доверявшее ему, сочло за лучшее удалить его, оказав ему эту милость. Под его начало были отданы все войска.
Тогда во главе шести или семи тысяч человек он произвел переворот в Буэнос-Айресе, был призван к власти и согласился ее принять лишь на условиях, которые он мог диктовать, так как в его руках находились все вооруженные силы страны; в итоге он вернулся в город абсолютным диктатором. Вряд ли до этого был кто-либо подобный ему, с toda la suma del poder publico[20].
To есть он сосредоточил в своих руках всю полноту общественной власти!
Достигнув этого, Росас поставил перед собой важнейшую цель — уничтожить федерацию, создать которую Лопесу, Кироге и Кульену стоило таких трудов: первый был ее основателем, второй — главой, а третий — советником.
Лопес, тот самый Лопес, кто приказал расстрелять моего деда, слег больным. Росас велел перенести его в Буэнос-Айрес и поместил у себя.
Лопес умер отравленным!
Кирога избежал смерти в двадцати сражениях, из которых одно было кровопролитнее другого. Его смелость стала примером для подражания, его удача вошла в пословицу.
Кирога умер от рук убийц!
Кульен стал губернатором Санта-Фе; Росас организовал у него переворот, а сам Кульен был выдан Росасу губернатором Сантьяго.
Кульен был расстрелян!
С этого времени Росас, став всемогущим и избавившись от своих врагов, начал мстить привилегированным классам, так долго с презрением относившимся к нему. В среде самых аристократичных и элегантных кавалеров он постоянно показывался, одетый в chaqueta[21] или без галстука; он давал балы, на которых верховодил вместе со своей супругой и дочерью и на которые, отвергнув все, что было самого изысканного в обществе Буэнос-Айреса, приглашал извозчиков, погонщиков мулов, мясников и даже вольноотпущенных рабов. В один прекрасный день он открыл один из таких балов, танцуя с рабыней, в то время как его дочь танцевала с гаучо!
Однажды он провозгласил этот ужасный принцип: "Кто не со мной, тот против меня".
С той поры любой не понравившийся ему человек был обречен на смерть и ни у кого больше не было права ни на свободу, ни на жизнь, ни на честь!
Тогда же под его покровительством было образовано пресловутое общество Mas-Horcas — "Больше виселиц". Любой, на кого Росас указывал как на "унитария", то есть республиканца, выступающего за единство страны, считался погибшим; показанный сегодня палачам или убийцам, он оказывался завтра либо висящим на фонаре, либо убитым на углу улицы.
По утрам полицейские повозки спокойно собирали на улицах тела повешенных и убитых и заезжали в тюрьмы за телами тех, кто считался расстрелянным по приговору, после чего всех повешенных, убитых, расстрелянных — всех этих безвестных мертвецов свозили в один огромный ров, куда их бросали как попало, даже не позволяя семьям жертв опознать своих родственников и воздать им последние почести.
Люди, перевозившие эти несчастные останки, объявляли о себе мерзкими шутками, так что при их появлении все двери закрывались, а население разбегалось. Можно было видеть, как они отрубали головы у трупов, наполняли ими кульки и с возгласами, характерными для сельских торговцев фруктами, предлагали их перепуганным прохожим, крича:
— Вот унитарные персики! Кто хочет унитарные персики?
Росас исполнил то, до чего не додумался ни Тиберий, ни Нерон, ни Домициан. Убив отца или супруга, он запрещал детям или жене носить траур. Закон, содержащий этот запрет, был не только провозглашен, но и выставлен напоказ. Без этого закона весь Буэнос-Айрес оделся бы в черное!
Изгнанники искали убежища в Монтевидео.
Они прибывали целыми толпами и высаживались в порту, где их ждали жители Монтевидео, связанные с ними федеративными узами. По мере того как они ступали на землю, горожане встречали их и определяли, в зависимости от своих финансовых возможностей или же от размеров жилища, количество эмигрантов, которых они могли приютить у себя. Съестные припасы, деньги, одежда — все отдавалось в распоряжение этих несчастных до того времени, пока они сами не могли прокормить себя и у них не появлялись кое-какие сбережения, в чем им все активно помогали. В свою очередь благодарные беженцы немедленно приступали к работе, желая облегчить бремя своих хозяев, и тем самым давали им возможность принять у себя новых беглецов.
Мой отец поместил в трех домах, принадлежавших нам в Монтевидео, почти шестьдесят человек, убежавших от Росаса.
Но за это гостеприимство, предоставляемое людям, которых преследовал Росас, Монтевидео вызвал ненависть диктатора.
Он запретил Монтевидео принимать эмигрантов из Буэнос-Айреса — в противном случае он грозил этому городу своим гневом.
Монтевидео не обратил ни малейшего внимания на угрозы Росаса.
Тогда в тысяча восемьсот тридцать восьмом году между двумя народами была объявлена война, которая длится до сих пор.
Мой отец одним из первых встал под знамена Восточной республики. Он участвовал во всех сражениях с тысяча восемьсот тридцать восьмого года по тысяча восемьсот сорок второй год, то есть до того времени, когда мы были разбиты при Арройо-Гранде.
Я говорю, "когда мы были разбиты", потому, что это был мой первый опыт войны.
В армии Росаса было четырнадцать тысяч человек — эта цифра вызывает улыбку у вас, жителя европейского континента, служившего солдатом в армиях в четыреста — пятьсот тысяч человек. Но тот, кто умирает за родину, пусть даже она, как Спарта или Монтевидео, насчитывает всего триста двадцать тысяч жителей, приносит родине такую же жертву, как тот, кто умирает за сорокамиллионный народ, потому что он отдает ей все, что в силах отдать, — свою жизнь. Поэтому не смейтесь над слабостью этой армии, ведь мы, еще более слабые, смогли выставить против Росаса всего две тысячи человек.
И действительно, все силы Восточной республики состояли из четырехсот солдат под командованием генерала Медина и еще четырехсот — под командованием моего отца, а также из тысячи двухсот рекрутов, которыми командовал полковник Пачеко-и-Обес.
Эти три отряда сошлись вместе под огнем вражеского авангарда, и четыре или пять тысяч волонтёров, в большинстве своем изгнанники, покинувшие свою настоящую родину, присоединились к ним, образовав два легиона — один французский, другой итальянский, принадлежавшие французской и итальянской колониям Монтевидео.
И тогда миру предстало одно из тех зрелищ, которые только патриотизм способен явить взору изумленных народов: шесть тысяч плохо организованных, почти безоружных людей отстаивали каждую пядь земли у армии Росаса. Мы двигались по местности, выжженной врагом, а под нашей защитой среди нас шли семьи беглецов, и, хотя присутствие этих людей создавало дополнительную опасность для их защитников, мы прикрывали их отход до самого Монтевидео.
Ведь для тех, кто попадал в руки Росаса, не могло быть пощады.
Приведу три примера.
Полковник Себалларан был убит. Его тело, оставленное нами, было найдено на поле сражения, и его голову принесли Росасу.
Росас три или четыре часа катал голову ногой, наступив на нее подошвой, и плевал на нее. Потом он узнал, что другой полковник, собрат убитого по оружию, попал к нему в плен. Первым его порывом было отдать приказ о расстреле пленника. Но он передумал; вместо смерти он приговорил его к пытке. В течение трех дней заключенный был прикован к стене своей тюрьмы таким образом, что всякий раз, когда он открывал глаза, его взгляд падал на эту отрезанную голову, выставленную перед ним на столе.
Полковник Видела, бывший губернатор Сан-Луиса, был приговорен Росасом к расстрелу. В момент казни сын осужденного бросился на грудь отцу.
"Оттащите его", — приказал Росас.
Но сына нельзя было оторвать от отца.
"Ну что же, — произнес Росас, потеряв терпение, — расстреляйте их обоих!"
Отец и сын упали мертвыми, так и не разжав объятий.
В одном из небольших селений вблизи Корриентеса Росасу попалась восемнадцатилетняя девушка, принадлежавшая к одной из лучших семей Буэнос-Айреса. Она была соблазнена двадцатичетырехлетним священником и бежала вместе с ним.
Они считали себя мужем и женой, эти бедные дети, и зарабатывали средства к существованию, открыв нечто вроде школы.
Корриентес попал в руки Росаса. Двое беглецов были схвачены и доставлены к диктатору.
"Расстреляйте их", — приказал он.
"Но, ваше превосходительство, — заметил тот, кто получил приказ, — Камилла о’Горман, так зовут девушку, на восьмом месяце беременности".
"Окрестите чрево", — ответил Росас.
Росас был добрым христианином и желал спасти душу ребенка.
Чрево окрестили, Камилла о’Горман была расстреляна.
Три пули прошли сквозь руки несчастной матери, которая инстинктивно прикрыла ими свое неродившееся дитя.
XXXV
ГЛАВА, В КОТОРОЙ ИСАВ ДАРОМ ОТДАЛ СВОЕ ПРАВО ПЕРВОРОДСТВА
— Я так долго рассказываю вам о преступлениях Росаса, — продолжал дон Луис, — для того, чтобы вы хорошо представляли, с каким человеком мы имеем дело и насколько священна для нас та война, которую мы ведем с ним; во имя ее мы должны отдать наш последний грош и пролить последнюю каплю нашей крови.
Мой отец показал мне пример, и я последую ему.
Первого января тысяча восемьсот сорок третьего года восточная армия, собравшаяся на высотах Монтевидео, увидела приближавшуюся вражескую армию, но, вместо того чтобы искать убежища за стенами города, она удовольствовалась тем, что попросила дать ей провиант и снаряжение, и, оставив город на попечение жителей, которых ей надлежало защищать, отошла на равнину, чтобы иметь свободу маневра, и сказала городу: "Обороняйся сам и рассчитывай на нас".
Райт, день за днем описавший историю нашей борьбы с Росасом, изобразил положение Восточной республики после битвы при Арройо-Гранде и завершил рассказ о тысяча восемьсот сорок втором годе следующими мрачными строками.
"Декабрьское солнце, погрузив свои лучи в океан, оставило нас:
разбитых за своими пределами, без оружия,
без солдат, даже внутри своих пределов,
без воинского снаряжения,
без денег у без доходов,
без кредита".
Таким образом, положение Монтевидео было почти безнадежным.
К счастью, нашелся один человек, который, когда все уже отчаялись, вовсе не потерял надежды.
Этим человеком был полковник Пачеко-и-Обес.
Его воззвания, полные энергии, его вера в победу общенародного дела возродили угасший энтузиазм и воодушевили жителей, и, как я уже сказал, ему первому после сражения при Арройо-Гранде удалось собрать отряд в тысячу двести человек и объединить вокруг себя силы сопротивления.
Генерал Ривера стал главою Республики.
Третьего февраля тысяча восемьсот сорок третьего года он образовал новое министерство. Общественное мнение выдвинуло на пост военного и военно-морского министра полковника Пачеко: он получил это назначение. В том положении, в котором мы находились, военный министр был своего рода диктатором.
Все, кто мог носить оружие, были призваны в армию, ничто не могло освободить их от службы.
Не допускалось ни одного исключения.
Военный министр издавал указы и лично следил за их исполнением.
Первый его указ гласил:
"Родина в опасности.
Кровь и золото граждан принадлежат родине.
Тот, кто откажет родине в своем золоте и своей крови, будет наказан смертью".
В тот день, когда был опубликован этот указ, мой отец отнес в министерство финансов около миллиона в золотых и серебряных монетах, драгоценностях, бриллиантах и столовом серебре.
К слову, жесткая политика военного министра коснулась и его собственной семьи.
Вражеская армия приближалась; предстояли сражения; нужно было найти достаточно большой дом, чтобы разместить в нем госпиталь; полковник заметил, что его собственный дом как раз отвечает этим требованиям. Он выселил из него свою мать и своих сестер.
"Но наша мать больна, она окажется без крыши над головой", — сказали ему сестры.
"Не может быть, — ответил полковник, — чтобы во всем Монтевидео не нашлось двери, открывшейся, чтобы дать приют матери военного министра".
Дом моего отца распахнул свои двери. Мы приютили больную мать и обеих сестер-изгнанниц, а осажденный город получил госпиталь.
Два молодых человека, двоюродные братья министра, понадеявшись на свое родство с ним, не подчинились указу, который превращал в солдат всех, кто был способен носить оружие. Министр приказал взять обоих в их же домах и препроводить в армию.
Полковник Пачеко издал указ, отпускавший на волю всех рабов. Семья президента, несмотря на декрет Республики, оставила у себя двух негров; полковник Пачеко лично прибыл к президенту Республики, и два раба стали солдатами.
Дон Луис Баена, один из крупнейших негоциантов города, был уличен в переписке с врагом. По закону ему полагалась смертная казнь, и действительно, трибунал приговорил его к расстрелу. Тогда иностранные негоцианты объединились и попросили помилование для Баены, а поскольку они знали, что казна Республики пуста, то предложили выкуп в триста тысяч франков, предназначенный на обмундирование для армии; члены правительства склонялись к помилованию. Пачеко остался непреклонен.
— Если бы жизнь виновного могла быть куплена за деньги, — сказал он, — то казна, какой бы бедной она ни была, выкупила бы жизнь Баены, но жизнь предателя нельзя купить!
И Баена был расстрелян.
Росас ответил на этот акт правосудия и самоотречения убийствами и казнями.
После сражения при Арройо-Гранде отрубили головы пятистам пятидесяти шести пленным; их вели обнаженными, группами по двадцать человек, со связанными руками; каждую группу сопровождал палач. Придя на место казни, пленные один за другим вставали на колени. Палач шел вдоль ряда, на ходу бритвой перерезал сонную артерию, жертва падала и испускала последний вздох, а палач в это время уже подходил к следующей.
Это было, так сказать, рядовое убийство. Но высшие офицеры Росаса пристрастились к ужасным развлечениям.
Майор Эстанислао Алонсо был забит насмерть палками.
С лейтенанта Акоста заживо сняли кожу, и он умер, крича: "Да здравствует свобода!"
Майор Хасинто Кастильо, капитан Мартинес и младший лейтенант Луис Лавань были разрублены на десять тысяч кусочков — казнь, придуманная китайцами.
Полковник Инестроса, раздетый догола, сначала был покалечен; затем ему отрезали уши и вырвали клочья мяса из тела, и, наконец, когда весь он обратился в одну большую рану, солдаты прикончили его ударом штыка, предварительно позаботившись вырезать широкую ленту кожи, чтобы сделать из нее перевязь для своего командира.
И таких примеров можно привести еще сотни.
Осаждающие ошибались: они полагали устрашить нас этой ужасной резней, но вместо того лишь доказали, что лучше сражаться до последнего вздоха, чем попасть в руки солдат Росаса.
Я рассказал вам о том, как полковник Пачеко отдал свой дом под госпиталь; мой отец поступил так же, и его примеру последовали еще трое. Эти пять госпиталей насчитывают тысячу коек. Их обслуживают с благоговейной заботой, выказывая при этом благородную щедрость. Каждая состоятельная семья отдала столько кроватей, сколько могла. Аптекари бесплатно поставляли лекарства. Врачи не брали вознаграждения за свои визиты. Дамы стали сестрами милосердия и остаются ими до сих пор. Наконец сегодня город одевает, кормит и полностью содержит за свой счет двадцать семь тысяч беженцев, пришедших искать спасения за его стенами.
В счастливые для Монтевидео времена, когда под окнами на улицах распевали серенады, а из окон на улицы доносились целые концерты, дружеские вечеринки Монтевидео могли бы поспорить своей доброй славой с Лиссабоном, Мадридом и Севильей. Их восхитительная атмосфера и искреннее, непритворное гостеприимство доставляли наслаждение европейцам, удивленным, что на этой почти не затронутой цивилизацией земле они нашли всю утонченность ума и всю изысканную роскошь Старого Света.
Сейчас вечера проходят за щипанием корпии, а разговоры сводятся к рассказам о дневных сражениях и героических деяниях, совершенных в этот день.
К чести нашей фамилии, иногда эти разговоры вращались вокруг моего имени, — сказал молодой человек, гордо вскидывая голову, — и часто вокруг имени моего отца. Если полковник Пачеко был Ахиллом, то мой отец был Гектором этой новой Трои.
Вы знали моего отца, это один из тех людей, для которых опасность не существует. Как это делал Нельсон в двенадцать лет, он мог в свои пятьдесят спросить: "Что такое страх?" Для него не было ничего невозможного. Можно было подумать, что он потомок тех титанов, которые некогда пытались взойти на небо.
Однажды с четырнадцатью всадниками он напал на сотню врагов, и та исчезла словно по волшебству.
В другой раз, когда требовалось выяснить, не занял ли противник лес, через который шла дорога, и под рукой была целая батарея пушек, чтобы прочесать весь этот лес картечью, он сказал:
"К чему тратить на это наш порох и наши ядра?"
И, пустив лошадь галопом, он один раз пересек лес, затем — второй и, вернувшись, просто доложил:
"Там никого нет".
А еще раз, когда они с полковником Пачеко и двумя или тремя сотнями кавалеристов очутились перед численно превосходящим их отрядом противника, полковник пожелал иметь некоторые сведения, которые ему мог дать лишь какой-нибудь пленный. Мой отец в одиночку устремился к вражескому отряду, достиг его, схватил за шиворот человека из первой шеренги, перебросил его через холку своей лошади и доставил военному министру, сказав при этом:
"Вот, полковник, то, что вы просили".
Долгое время казалось, будто смерть щадит героя, обращавшегося с ней столь вольно. В одном из сражений отрядов боевого охранения, которые ежедневно велись между двумя армиями, один из числа наиболее храбрых офицеров Росаса встретился в схватке с моим отцом. Он узнал его и приставил к груди отца свой тромблон, закричав:
"Получай, граф де Норуа!"
И он спустил курок, но оружие дало осечку.
"Получай, дон Диего!" — ответил отец и проткнул его шпагой.
Однажды, отправившись в разведку, он толковал о чем-то с пятью своими солдатами около персиковой рощи, где находилась засада. Враг открыл огонь на расстоянии в четверть выстрела ружья. Пятеро солдат упали; один отец остался невредим; другой бы на его месте скрылся, он же бросился в лес и вышел оттуда с окровавленной шпагой, не получив ни единой царапины.
Его подвиги стали предметом разговоров в городе, а сам он вызывал ужас у врагов.
Но, увы! Его час был предопределен.
Восьмого февраля, когда я был при нем, служа ему адъютантом в боевом охранении, он был поражен ядром, как Тюренн, как Брауншвейг, как Дюрок, но только он не упал с лошади, хотя ядро вырвало у него часть внутренностей.
Он спустился на землю и, поскольку я принял его на руки, совсем тихо прошептал мне:
"Убит!"
Силы покинули отца тут же, и мы на пончо перенесли его за линию укреплений.
Новость об этом несчастье мгновенно достигла самого сердца города, словно ее принесло туда то самое ядро, которым отец был сражен.
Тотчас же появился военный министр. Он не мог поверить в то, что это смерть: лицо моего отца было спокойно, только легкая бледность проступила на нем.
Заметив министра, отец приподнялся, протянул ему руку и дал подробный отчет о порученном ему задании с таким безукоризненным спокойствием, что невозможно было даже предположить о его близком конце.
Мало-помалу его голос слабел.
"Дорогой полковник, — проговорил он, — мне необходимо сказать несколько слов сыну".
Я приблизился.
"Друг мой, — обратился он ко мне, — когда от нашего состояния ничего не останется, вспомни, что у тебя есть во Франции брат и триста тысяч франков".
Я плакал.
"Ну вот! — промолвил он. — Я думал, что породил мужчину".
"Нет, отец! — вскричал я. — Вы произвели на свет всего лишь сына".
Появилась моя мать, бледная, испуганная. Одной из последних узнала она эту ужасную новость.
Она бросилась в объятия раненого.
Он склонил голову ей на грудь и произнес всего три слова: "Я тебя ждал!" Затем, выпрямившись, последним невероятным усилием он сказал, обращаясь к окружавшим его: "Товарищи, спасите родину!"
Затем отец упал: он был мертв.
Вся армия надела траур, и это не была простая формальность, предписанная правилами; это был подлинный траур, который касается не только одежды, но и сердец.
Всего один человек умер, но каждому оставшемуся в живых казалось, будто он потерял отца или друга.
Человеческая признательность была беспомощна перед этой славной могилой. Поэтому правительство ограничилось изданием следующего указа:
"Монтевидео, 10 февраля 1844 года.
Как только армия, осаждающая столицу, будет разбита, тело графа де Норуа перенесут на то место, где он был убит, и там ему будет воздвигнут памятник за счет государственной казны, на котором выбьют его имя, дату смерти и его последние слова: "Товарищи, спасите родину!"
Пачеко-и-Обес".
Тело отца обернули в знамя его полка.
Я выжидал, выполняя завет отца, наступления критического момента.
И вот, когда министр финансов отдал приказ чеканить осадную монету и пожертвовал ради этого все свое столовое серебро и его примеру последовали остальные министры и все жители Монтевидео, я отнес три последние серебряные вещицы, оставшиеся у нас, на Монетный двор: распятие, принадлежащее моей матери, и две шпоры моего отца.
После этого я сказал себе: "Пришло время отправляться во Францию". И вот я здесь!
Мадлен с восхищением смотрел на молодого человека. Узнав о смерти своего друга, он вытер слезу.
— И каковы же теперь ваши намерения? — спросил он дона Луиса.
— У меня их нет, — ответил дон Луис. — Но я могу вам сказать, каковы были намерения моего отца.
— Слушаю вас.
— Он собирался оставить половину состояния моему брату и увезти с собой другую половину. Сто пятьдесят или двести тысяч франков золотом в данное время равняются миллионам в Монтевидео.
— Я прошу у вас десять минут, чтобы сообщить вам ответ Анри, — сказал Мадлен.
И, поклонившись молодому человеку, он вышел.
Через десять минут Мадлен вернулся.
— Ну что? — спросил латиноамериканец.
— Вот ответ Анри, господин граф: "Все принадлежит моему брату, кроме тех двадцати тысяч франков, которые вы одолжили нашему отцу перед его отъездом".
— Брат мой! Брат мой! — вскричал молодой человек со слезами в глазах и в голосе. — Где же ты? Я хочу обнять тебя!
При это братском призыве дверь распахнулась и Анри, совершенно потерянный, бросился на грудь брату!
XXXVI
ГЛАВА, В КОТОРОЙ ЧИТАТЕЛЬ УЗНАЕТ ТО,
О ЧЕМ ОН УЖЕ ДОГАДАЛСЯ РАНЕЕ
Мы говорим "совершенно потерянный" — потому что Анри, утративший все состояние, не имел больше никакой надежды жениться на Камилле.
Господин Пелюш не принадлежал к числу людей, которые ставят себе в заслугу высокие чувства и в глазах которых большое сердце может заместить большое состояние.
Анри, взволнованный, преследуемый грустными предчувствиями, покинул гостиную, где все собрались для подписания контракта. Напрасно он пытался расспросить мэра Вути — тот ничего не хотел говорить. Поэтому Анри в конце концов пришел на ферму, чтобы разузнать о случившемся у своего крестного.
Мадлен, выйдя из столовой, встретил его на кухне. И там, посоветовав ему оставаться мужчиной, за несколько минут пересказал крестнику то, что дон Луис излагал ему самому в течение часа.
Анри не колебался ни минуты и дал свой ответ, который Мадлен передал его брату.
Мы уже слышали крик, который исторгло сердце дона Луиса.
Мадлен оставил молодых людей в объятиях друг друга и, задумчиво опустив голову, направился к замку.
Входя за ограду, он увидел на крыльце г-на Пелюша, беседующего с г-ном Редоном. Судя по его энергичной и оживленной жестикуляции, было очевидно, что достойный продавец цветов испытывает сильнейшее волнение.
Он пытался, подобно Анри, добиться от мэра Вути каких-либо разъяснений; но, го ли ничего не зная, то ли нечего не желая говорить, достойный магистрат хранил молчание.
— Наконец-то, — сказал г-н Пелюш, заметив своего друга Мадлена, — возможно, нам все же удастся что-нибудь узнать.
И с важным видом, какой он умел принять в торжественных обстоятельствах, г-н Пелюш ступенька за ступенькой спустился с крыльца: прямые и натянутые, как струна, ноги твердо печатали шаг, ладони отбивали на груди такт, а губы насвистывали воинственный мотив.
— Ну! Что с контрактом? — спросил он. — Что с церемонией?
— Ее отложили, дорогой мой Пелюш, — ответил Мадлен.
— A-а! И надолго?
— Очень боюсь, как бы это не было до греческих календ.
— Я часто слышал, как должники употребляли это выражение, но никогда не знал его истинного смысла. Ты бы очень меня обязал, просветив на это счет, — заносчиво заметил продавец цветов.
— Ну что ж, дорогой мой Пелюш, его истинный смысл ты поймешь, когда я сделаю тебе одно признание.
— Слушаю, — сказал г-н Пелюш и, расставив ноги, откинул назад голову.
— Анри разорен.
— Что?! — воскликнул г-н Пелюш. — Не шути так!
— Это не такое уж веселое событие, чтобы превращать его в мишень для шуток.
— Разорен? — повторил г-н Пелюш.
— Увы! Да.
— Но… Разорен?.. Разорен?..
— Самым решительным образом, дорогой друг. Это значит, что у него осталась лишь половина того, что имею я, то есть семьдесят — восемьдесят тысяч франков, пока я жив, и все мое состояние после моей смерти.
— Ах, так! Но ты же мне обещал от двенадцати до пятнадцати тысяч ливров ренты с недвижимого имущества.
— Сегодня утром они у него еще были.
— Ну и?
— Ну, и сейчас у него их больше нет.
— Но, однако же, земли… земли! Ведь первый встречный прохожий не может унести их на подошвах своих башмаков?!
— А вот в этом ты ошибаешься, Пелюш. Появился такой прохожий, который и унес их с собой.
— Гм! Как ты понимаешь, над твоими словами необходимо как следует поразмыслить.
— Я как раз и рассказал тебе обо всем, чтобы ты хорошенько подумал.
— Ты знаешь, что мы, Атенаис и я, слишком сильно любим Камиллу, чтобы принести ее в жертву человеку, который ничего не будет иметь.
— Тут ты совершенно прав, и жертва жертве рознь. Конечно, гораздо лучше принести ее в жертву человеку, который будет кое-что иметь.
— А что, нет возможности избежать этого?
— Чего?
— Разорения господина Анри.
Мадлен покачал головой.
— В таком случае, чем скорее мы все расскажем Камилле, тем будет лучше.
— Да, однако если ты доверяешь своему другу, Пелюш, то поручи мне эту миссию, какой бы неприятной она ни была.
— Охотно, но при условии, что ты не оставишь ей ни малейшей надежды.
— Будь спокоен; ради чего дважды разбивать сердце этому бедному ребенку?
— Тогда я сейчас пришлю ее к тебе.
— Посылай.
И г-н Пелюш, выпятив грудь колесом, вернулся в замок, приговаривая при этом:
— Невероятно, какой же у Атенаис тонкий нюх! Она ведь все время была против этого замужества.
Несколько минут спустя на крыльце показалась Камилла и, заметив Мадлена, бросилась ему на грудь.
Мадлен взялся объявить своей крестнице о внезапном и полном крахе всех ее надежд на счастье лишь потому, что он отлично знал, какой материалист его друг Пелюш и какая нежная и тонкая душа у Камиллы. Мадлен понимал, что, переживая это горе — а он даже не осмеливался измерить всю его глубину, — Камилла не должна хоть на миг усомниться в благородстве Анри и его любви к ней. Ведь это нанесло бы ей глубокую и незаживающую рану.
Камилла, не зная еще ничего определенного, уже угадала, что произошла какая-то неожиданная беда; девушка едва переводила дух, на щеках ее проступила бледность, в глазах стояли слезы.
Она какое-то мгновение смотрела на Мадлена, словно спрашивая, осталась ли у него в глубине сердца хоть какая-нибудь надежда.
Мадлен ничего не ответил, только грудь его стеснилась и, против воли, слезы выступили на его глазах.
Но Камилле и не требовалось большего, чтобы догадаться, что какое-то непреодолимое препятствие встало между ней и Анри.
— О крестный! — воскликнула она. — Как я несчастна!
— Камилла, — ответил ей Мадлен, — я знаю одного человека, который будет еще несчастнее, чем ты.
— Анри, не правда ли? — вскричала она, и сквозь слезы в ее взгляде блеснул луч радости. — Значит, он все еще любит меня?
— Более чем когда-либо.
— Так препятствие исходит не от него?
— Нет, хотя оно и связано с ним.
— Но в конце концов, — вскричала Камилла, — что случилось?
Тогда он повторил Камилле то, что уже сказал Пелюшу:
— Анри разорен!
— И только?! Но ведь я, я-то богата!
— Золотое сердце! — проговорил Мадлен. — Богата не ты, а твой отец.
— Это правда, — прошептала Камилла; руки ее безвольно упали вдоль тела, а голова опустилась на грудь.
Затем, медленно подняв свои прекрасные глаза, мокрые от слез, и так же медленно подняв обе руки и положив их на руки Мадлена, Камилла с горечью сказала:
— Итак, вы, любящий нас, меня и Анри, как своих детей, вы не видите никакого выхода в нашем положении, вы не знаете никакого средства сделать нас счастливыми?
— Никакого, — ответил Мадлен.
— Что же, дорогой крестный, уведите меня куда-нибудь, где бы я могла вволю выплакать свои слезы.
Это был крик души. Раны сердца затягиваются, истекая слезами вместо крови.
Совершенно непроизвольно Камилла и Мадлен свернули в сторону фермы и остановились в липовой аллее.
Это один из инстинктов человека — в дни несчастий возвращаться в те места, где он был когда-то счастлив.
Анри тоже испытал эту невольную власть воспоминаний.
Опершись локтями о колени и обхватив обеими руками голову, молодой человек сидел на той же самой скамейке, на которой сидела Камилла в тот день, когда на его глазах газель, преследуемая Фигаро, прибежала искать спасения в объятиях девушки.
Камилла увидела его раньше, чем он мог заметить ее.
Она выскользнула из рук Мадлена и с непобедимой притягательной силой молодости и любви устремилась к молодому человеку, повторяя:
— О Анри! Анри!
И когда совершенно потеряв разум при звуках этого голоса, он встал, пошатываясь и оглядываясь вокруг, девушка бросилась ему на грудь, обвив руками его шею и положив голову ему на плечо.
Волнение Анри было таким глубоким, что силы изменили ему, и, не в состоянии удержать Камиллу, он покачнулся под тяжестью ее тела, которое в любое другое время показалось бы ему легким как пушинка, и, посадив ее на скамейку, на которой только что сидел сам, опустился у ее ног.
Зарывшись головой в складки ее платья и даже не стараясь более сдерживать свое горе, Анри разразился рыданиями.
— О Камилла! Камилла! — в свою очередь вскричал он прерывающимся от судорожных всхлипываний голосом. — И это в тот миг, когда я считал себя таким счастливым, когда я мог поспорить со всем светом, что наше счастье ничто не в силах разрушить, кроме смерти. Камилла! Камилла! Все кончено для меня!
Девушка, безмолвная, задыхающаяся, видя, что Анри страдает, если не больше, то, по крайней мере, так же как она, обхватила его голову руками и попыталась утешить, вселив в него надежду, которой не было у нее самой.
— О нет! — отвечала она. — Невозможно, чтобы мы были так прокляты. Бог не допустит этого! Мы так любим друг друга! Подумать только, сегодня мы должны были соединиться навеки и сегодня же должны расстаться навсегда. Что делать? Крестный, помогите же нам найти выход, мы не видим его! Вас ведь так радовала наша свадьба, вы говорили, что так сильно нас любите.
— Да, я люблю вас, как своих детей! — вскричал Мадлен. — Да, я был счастлив, мечтал о вашей свадьбе. Но что я могу сделать? Чтобы свадьба состоялась, нужно пятьсот тысяч франков, но у Анри их больше нет, а у меня их никогда не будет. О! Тысяча чертей! Если бы я знал, где найти эти пятьсот тысяч франков, будь это даже на луне, я бы отправился туда.
— Но, Боже мой, для чего Анри нужны эти пятьсот тысяч франков? — спросила Камилла.
— Потому, что однажды такую же сумму получишь ты.
— Но неужели в этом мире нельзя быть счастливыми, не имея миллиона? Пусть нам дадут возможность устроить нашу жизнь и наше счастье так, как мы этого хотим. Анри, разве вам нужен этот миллион?
— О нет! Нет! — воскликнул молодой человек. — Только вы, Камилла, и маленький охотничий домик, о большем я и не мечтаю.
— Да, но Пелюш, — возразил Мадлен, — не удовольствуется этим!
— Но мы же не станем ничего просить у моего отца! — вскричала Камилла, нетерпеливо притопнув своей маленькой ножкой. — Я умею работать, делать цветы, шить, вышивать. Богатые девушки очень любят рисовать цветы, я могу учить их этому и сумею зарабатывать десять франков вдень.
— Камилла! Камилла! — закричал Анри. — О! Не говорите так, вы разбиваете мне сердце! Вы, моя жена, будете жить своим трудом! Но прежде я сам пойду за плугом!
— Ну-ну! Речь идет вовсе не о том, чтобы ты стал за плуг, а она стала давать уроки рисования. Думать об этом значило бы предаваться бессмысленным мечтам. Речь идет о том, чтобы покориться воле Пелюша, которая будет еще непреклоннее, если вы пожелаете сопротивляться ей. Впрочем, Анри, похоже, не может жениться на женщине против воли ее отца, особенно если эта женщина богата, а он лишился всего своего состояния. Черт возьми! Еще не все потеряно, ведь выпутывались и из более безнадежных положений! Пелюш любит Камиллу. Он, возможно, и я бы даже сказал, весьма вероятно, не позволит ей выйти замуж за Анри, но он и не выдаст ее силой замуж за другого. Поэтому нужно выиграть время и продолжать любить друг друга.
— О! Что касается этого!.. — вскричали молодые люди, бросаясь в объятия друг друга.
— Прекрасно! Бумага и чернила выдуманы для тех, кто не может сказать лично то, что ему необходимо сказать. И потом с вами по-прежнему ваш крестный Мадлен, который вбил в свою чертову голову, что этой свадьбе непременно быть. Отличное обещание: никогда не принадлежать никому, кроме друг друга; но ни слова об этой клятве моему другу Пелюшу. Я вижу, он ищет нас, так что ничего больше, кроме прощального поцелуя, которым вы сейчас обменяетесь.
— Боже мой!
Молодые люди обнялись.
— Осторожно, Анри! Возьми меня под руку, крестница! Я не помешаю вам скрыть ваши слезы. Анри, если ты не исчезнешь за живой изгородью, то я покину тебя на произвол твоей несчастной судьбы. Отлично! Отлично! Пелюш, мы здесь. Камилла не потерялась, она ведь со мной. Я бы не сказал, что она уж очень весела, но в конце концов вот она такая, какая есть.
И добряк Мадлен подтолкнул свою безутешную заплаканную крестницу в объятия г-на Пелюша, который удовлетворился тем, что величественно взглянул на нее и наставительно произнес:
— "Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле"[22].
— Скотина! — пробормотал Мадлен. — Подумать только, он не нашел ничего другого, чтобы утешить дочь.
XXXVII
ГЛАВА, В КОТОРОЙ ГОСПОДИН ПЕЛЮШ В СВОЕЙ ОТЦОВСКОЙ ПРИВЯЗАННОСТИ ИЗМЕНЯЕТ ДОЛГУ БУРЖУА
Мадлен ошибался. Господин Пелюш вовсе и не собирался утешать Камиллу. Как все недалекие и тщеславные люди, он, напротив, испытывал некоторое удовлетворение оттого, что произошло: он ясно сознавал, что эта свадьба была задумана, устроена и доведена до той стадии, на которой все остановилось, исключительно Мадленом. Поэтому его самолюбие, несмотря на все выгоды, какие этот брак сулил до разорения Анри, было сильно задето тем, что он не играл никакой роли в подготовке того, что сблизило молодых людей и во что Мадлен вложил все мысли своего ума и надежды своего сердца.
Ограниченный ум, направляемый, как это часто встречается, еще более ограниченным, чем его собственный, умом Атенаис, г-н Пелюш без всякой убежденности, только ради того чтобы не создалось впечатление, будто он идет на поводу у Мадлена, оспаривал замечания хозяйки "Королевы цветов" по поводу происхождения состояния Анри. Чистокровные коммерсанты, как известно, не признают других состояний, кроме тех, что построены на дебете и кредите, а поскольку у Анри не было гроссбуха, то г-жа Пелюш, даже живя в замке, прогуливаясь по аллеям парка и видя, как ее супруг охотится в лесах и полях своего будущего зятя, все время задавала себе вопрос: "Откуда все это на него свалилось, каким образом он все это заполучил?"
К тому же не забывайте, что г-жа Пелюш была не родной матерью, а мачехой Камиллы, и в этом качестве не испытывала к дочери мужа, то есть к чужой, той любви и нежности, какую питает мать к своему ребенку. Не без ревности наблюдала она за тем, как расцветает пленительная красота Камиллы, легко затмевающая ее жесткую и недобрую красоту. Она завидовала тому, как ее падчерица почти без труда обнаруживает у себя те таланты, к которым сама г-жа Пелюш чувствовала глубочайшее презрение, но которые, как она видела, ценили и восхваляли другие. Наконец, мачеха Камиллы не без раздражения замечала, как Анри, которого она не могла не находить очень красивым, очень изящным, очень образованным, увлечен Камиллой, и у нее создалось твердое внутреннее убеждение, несмотря на всевозможные знаки уважения с его стороны, что если бы он встретил ее, Атенаис, в том возрасте и в том положении, в каком он встретил Камиллу, то не только бы не влюбился в нее, но даже не обратил бы на нее ни малейшего внимания.
Из всех этих рассуждений становится ясно, что та капелька радости, какую, по утверждению Ларошфуко, чувствует сердце человека, узнавшего о несчастье, которое постигло его лучшего друга, эта капелька радости превратилась в сердце Атенаис в полную и совершенную радость, когда она узнала о несчастье, поразившем Камиллу, а поскольку под предлогом своей нежной привязанности к падчерице Атенаис желала до конца вкусить это приятное чувство, составляющее, как говорят, наслаждение богов и в особенности богинь, она дала понять супругу, что всякая тайна, окружавшая финансовый крах г-на Анри и сокрытая от г-на Пелюша, стала бы оскорбительной для него.
Поэтому, как только друзья, собравшиеся на церемонию подписания контракта, деликатно удалились вслед за мэром Вути, г-н Пелюш предъявил своему другу Мадлену нечто вроде официального требования: поставить его в известность о событиях, повлекших за собой разрыв намеченного брачного союза между его дочерью и г-ном Анри де Норуа.
Мадлен сообщил об этом новом осложнении Анри, и поскольку тайна эта принадлежала не только бывшему торговцу игрушками, то он спросил у крестника, как ему следует поступить.
— Следует все рассказать, — ответил Анри. — Требование господина Пелюша законно.
Быть может, уступая пожеланиям своего несостоявшегося тестя, Анри где-то в глубине сердца питал надежду, которая неизменно живет в сознании тех, кто исполняет мучительный долг: им кажется, что, чем неукоснительнее они будут его соблюдать, тем большую признательность смогут снискать за это. Но, во всяком случае, какова бы ни была причина, определившая решение Анри, он не колебался ни минуты, и в то время как он и его брат садились на лошадей — Анри хотел показать брату великолепное поместье, от которого ему пришлось отказаться, — Мадлен направлялся в замок, где его ожидали, составив нечто вроде трибунала, г-н и г-жа Пелюш и Камилла.
Не стоит и говорить, что Камилла, настроенная в пользу обвиняемого, хотела сложить с себя обязанность судьи, но, повинуясь взгляду Атенаис, пожелавшей в полной мере насладиться переживаниями падчерицы, отец не допускающим возражений тоном велел ей оставаться на месте.
Мадлен вошел; при других обстоятельствах он рассмеялся бы в лицо такому преисполненному серьезности чванству буржуазии, королевы той эпохи, которую мы пытаемся описать и олицетворением которой является г-н Бертен на своем курульном кресле; однако он слишком близко к сердцу принимал горе двух несчастных молодых людей. И когда, войдя, он увидел Камиллу, подносившую платок к глазам, у него так сильно защемило сердце, что никакое насмешливое чувство не могло примешаться к испытываемой им печали.
— Вот и я, — сказал он. — Какого черта вы от меня хотите?
Господин Пелюш указал ему на стул жестом председателя, указывающего обвиняемому на скамью подсудимых.
— Мы хотим знать, — ответил ему г-н Пелюш тем же тоном, каким на дисциплинарном совете он допрашивал провинившихся национальных гвардейцев, — мы хотим знать во всех подробностях причины, заставившие господина Анри де Норуа отказаться от подписания уже готового брачного контракта между моей дочерью и им. В этом отказе, вы должны сознавать это, мой дорогой Мадлен, — и, чтобы вопрос прозвучал более торжественно, он предпочел не обращаться к другу на "ты", — есть нечто, что должно быть прояснено, чтобы убедить нашу щепетильность в том, что торговый дом Пелюша, известный своей коммерческой честностью и своевременностью своих платежей, ни при чем в этой катастрофе; поскольку, поверьте мне, мой дорогой Мадлен, что случившееся сегодня — это настоящая катастрофа. Говорите же, мы вас слушаем.
Мадлен в свою очередь взял слово и, ничего не опустив, поведал историю Анри начиная с его рождения и кончая приездом дона Луиса. Господин Пелюш отлично помнил заговор военных в 1820 году и эмиграцию в колонию "Сельский приют", возглавляемую генералом Лаллеманом. Но он ничего не знал о том, что она была уничтожена вице-королем Мексики. Он слушал с определенным интересом о скитаниях графа де Норуа, посетовал, что письмо Мадлена слишком поздно нашло графа, однако признал при этом, что для последнего было бы лучше, если бы оно вообще до него не дошло, потому что эта задержка позволила графу жениться на одной из самых богатых наследниц Южной Америки. Он одобрил его возвращение во Францию, распоряжения, отданные им Мадлену, но осудил уничтожение тайной записки, ведь Мадлен мог внезапно умереть, и тогда у г-на де Норуа больше не было бы никакой возможности заявить о своих правах; он порицал Мадлена, ибо тот, зная, что у него в любой момент могут потребовать обратно имущество крестника, не сделал из Анри, в предвидении этого события, коммерсанта. Господин Пелюш какое-то время колебался, не зная, признал бы он на месте Мадлена права дона Луиса, но в конце концов пришел к выводу, что отрицать их значило бы злоупотребить доверием.
Однако он громко раскричался, когда узнал, что Анри отказался от половины состояния, которую дон Луис предложил брату. Он поинтересовался у Мадлена, какова общая величина этого состояния. Оцененное еще графом де Норуа в 1820 году в тридцать тысяч франков, ввиду роста стоимости недвижимости и прибыли, полученной от его продажи по частям, оно, вероятно, достигло бы теперь цифры в шестьсот тысяч франков. Он подсчитал: приняв предложение брата, Анри остался бы владельцем трехсот тысяч франков, что вместе с состоянием Мадлена, учитывая проценты с денег, одолженных им двадцать пять лет назад графу, составило бы в общей сложности около четырехсот тысяч франков. А эта общая сумма в четыреста тысяч франков была так близка к той цифре, которую он требовал от своего зятя, что, быть может, еще было средство все уладить, если Анри принял бы это предложение. И в конце концов он пожелал убедиться, переговорив с доном Луисом, не изменились ли у того намерения в отношении раздела состояния.
Хотя Мадлен полностью одобрил решение своего крестника и поддержал его отказ от такого раздела, он, увидев, насколько велико горе двух молодых людей, и заметив во взгляде Камиллы сначала вновь зародившуюся надежду, а потом и радость, когда ее отец вернулся к этому расстроившемуся союзу, не счел себя вправе отвечать, не воззвав вторично к решимости Анри. И поскольку Мадлен прекрасно понимал, что целью разговора, который г-н Пелюш хотел иметь с доном Луисом, было поставить ультиматум Анри, он повиновался желанию отца Камиллы и сам попросил его не покидать замок, не переговорив с обоими молодыми людьми либо вместе, либо по отдельности.
Госпожа Пелюш отважилась заметить, что Анри теряет свой титул графа и свое родовое имя; но г-н Пелюш произнес длинную речь, в которой он обрушился на предрассудки, и заявил, что всегда стоял выше них и на этот раз также готов попрать их.
Мадлен оставил Камиллу, нежно обнимающей и целующей отца в благодарность за эту философскую тираду, и отправился на поиски молодых людей, уехавших верхом.
Он еще издали увидел, как они возвращаются в полном согласии, как два никогда не расстававшиеся брата. Лицо Анри было печально, но спокойно; оно выражало ту безмятежность, которую придает сознание выполненного долга.
Видя, как он стал еще крепче перед лицом несчастья, Мадлен покачал головой.
"Это не тот, кто способен когда-либо пересмотреть решение, если считает его достойным", — подумал он.
Два всадника являли собой прекрасную картину: один представлял Европу, другой — Америку, первый — элегантный наездник с Елисейских полей и из Булонского леса, второй — мощный укротитель лошадей в пампасах.
Их лошади, хотя они обе и были из конюшни Анри, тем не менее несли на себе, если можно так выразиться, отпечаток характера своих всадников.
Лошадь Анри сохранила свою спокойную поступь манежного животного: ни один ее волосок не намок от пота.
Другая же за эти два часа приобрела под рукой своего наездника нечто дикое. Из ноздрей у нее шел пар, во взгляде сверкал огонь; чувствовалось, что она нехотя идет шагом рядом со своей спутницей. Сжатая этими сильными ногами, пришпориваемая острыми длинными шпорами, она желала бы броситься вперед, и все ее тело, покрытое пеной, свидетельствовало об усталости и смирении, к которому ее принуждали удила.
Мадлен вынужден был признать, что Анри, возможно, был более элегантным всадником, но дон Луис вне всяких сомнений был более сильным наездником.
Оба спешились у ворот фермы, и в то время, пока слуги занимались лошадьми, Мадлен завладел доном Луисом и попросил у него разрешения на десять минут занять его внимание.
Анри смотрел на него больше с любопытством, чем с волнением.
— Мне надо переговорить с доном Луисом, — сказал ему Мадлен.
— Пожалуйста, я ничего не имею против, мой друг, — ответил Анри. — Но только прошу вас ни слова наперекор тому, о чем мы условились.
— За себя я ручаюсь, — ответил Мадлен.
Анри дружески кивнул крестному и вошел во двор фермы.
Мадлен взял молодого жителя Монтевидео под руку и, направляясь с ним к замку, по дороге рассказал ему о предшествующих событиях и о том, какую смуту вызвал дон Луис своим появлением.
Анри ни словом не обмолвился об этому брату.
Разумеется, эта новость огорчила дона Луиса.
Мадлен не скрыл он него, что ему сейчас предстоит встретиться с отцом и мачехой Камиллы, а также с самой Камиллой.
Он в нескольких словах просветил его насчет характера г-на Пелюша, но для молодого графа это не стало открытием, поскольку тот уже сталкивался во французской колонии Монтевидео с людьми подобного типа.
Камилла, увидев дона Луиса и узнав в нем невольного виновника своего несчастья, не смогла сдержать чувства неприязни.
Волнение девушки не укрылось от взора жителя Монтевидео, который, приблизившись к ней с безупречным изяществом, произнес:
— Мадемуазель, поверьте, я глубоко огорчен, что стал невольной помехой вашему счастью; но вам, вероятно, сообщили, что мы там находимся в таком положении, когда нам не приходится щадить чьи-либо интересы и любого, кто не отдаст родине, этой матери наших матерей, последний грош и последнюю каплю крови, будут считать трусом. Любовь к родине — святая любовь, перед которой отступают все мирские привязанности, и я пересек море во имя этой любви.
Камилла поднесла платочек к глазам, но ничего не ответила.
Она сознавала, о каком благородном и возвышенном чувстве говорит ей молодой человек.
Однако — и об этом следует сказать — г-н Пелюш полагал, что на свете не было другой родины, кроме Франции.
Поэтому, нисколько не разделяя чувств Камиллы, он спросил:
— Господин американец… вы ведь и в самом деле американец, не так ли?
— Нет, сударь, — ответил дон Луис, — я француз, но родился в Монтевидео: таким образом, у меня две родины, и, имея свободу выбора, я отдаю свое сердце той, которая более несчастна.
— Прекрасно, молодой человек, и вы потребовали состояние графа де Норуа во имя этой родины?
— Если это не так, сударь, то пусть друзья отвернутся от меня.
— И тем не менее меня уверяют, что вы предложили вашему брату, простите, господину Анри…
— Не извиняйтесь, сударь, вы сказали все правильно.
— … что вы предложили вашему брату, — продолжал г-н Пелюш, — половину вашего состояния?
— Добиваясь, чтобы он принял это предложение, я лишь исполняю волю моего умершего отца.
— И он отказался?
— Да так, что лишил меня всякой возможности настаивать на этом.
— Но если сейчас он станет сожалеть о своем отказе и все же согласится принять деньги?
— Он сделал бы меня самым счастливым человеком на свете.
— И ваши намерения не изменятся?
— Никогда!
Господин Пелюш посмотрел на Камиллу, и та смогла ясно прочесть в его взгляде: "Видишь, если он все же отказывается, то, значит, не любит тебя".
Затем, наклонившись к Мадлену, хозяин магазина "Королева цветов" сказал:
— Теперь нам остается узнать последнее слово господина Анри; мы поступим с ним так же, как поступили с доном Луисом.
— Послушай меня, Пелюш, — ответил Мадлен. — Если ты хочешь, чтобы у нас была надежда, что это последнее слово окажется благоприятным, не спрашивай его сам.
— И кого, по-твоему, я должен к нему послать?
— Камиллу.
— А это прилично?
— Разумеется, ведь если он ответит да, то мы их поженим.
— Я не говорил этого. Триста тысяч франков меня не устраивают.
— Нет, не увиливай, ты сказал да, а если он ответит нет, то ты немедленно уезжаешь, и дети больше никогда не увидят друг друга.
— Хорошо, я согласен. Видишь, из меня можно веревки вить.
— Дело в том, господин Пелюш, что ваша любовь к мадемуазель беспримерна.
— Но где же он, этот господин Анри? — спросил продавец цветов.
— На ферме. Идем, — промолвил Мадлен.
— Как?! Мы должны еще идти к нему?
— Ты же понимаешь, что он сам не придет сюда.
— Я готова, отец, я готова, — вмешалась Камилла, торопливо взяв г-на Пелюша за руку из страха, как бы он не передумал.
— Госпожа Пелюш, — величественно произнес продавец цветов, — если он откажет, то этой ночью мы не останемся под его крышей!
XXXVIII
ГЛАВА, В КОТОРОЙ ГОСПОДИН ПЕЛЮШ ВОЗМЕЩАЕТ РАСХОДЫ,
НЕОСТОРОЖНО ПОНЕСЕННЫЕ ИМ РАДИ ФИГАРО
Как мы уже сказали, Анри вернулся на ферму, и, желая остаться наедине со своими мыслями, вошел в столовую, закрыв за собой дверь.
Он сидел, откинув голову на спинку большого дубового кресла, и его воображение блуждало по тем просторным полям бескрайнего пространства, которые вселяют безрассудные надежды в умы, пораженные глубоким и внезапным горем.
Анри действительно решил отказаться от Камиллы, но в его самопожертвовании не было смирения, и все, что в нем стремилось к счастью и на мгновение обрело надежду, восставало при мысли, что возлюбленная может быть потеряна для него навсегда.
И он стал искать в своей памяти примеры внезапно возникших, непредвиденных состояний и строить ради этой цели самые сумасбродные проекты.
Америка с ее необъятными лесами, Индия с ее алмазными копями, Калифорния с ее золотыми приисками по очереди представали перед его глазами; но, когда он хотел получше рассмотреть видение, оно исчезало словно мираж.
В то время как перед ним один за другим проплывали эти позолоченные призраки, раздался скрип открывающейся двери, и, повернув голову, он увидел на пороге папашу Мьета, вертевшего в руках свой остроконечный колпак с видом человека, собирающегося задать какой-то очень важный, но нескромный вопрос.
Анри смотрел на него несколько мгновений, затем, видя, что тот продолжает молча теребить свой колпак, решил нарушить молчание первым.
— А! — сказал он. — Это вы, господин Мьет.
— Да, господин граф, это я.
Анри горько улыбнулся, услышав, как папаша Мьет продолжает именовать его графом.
— Вам что-то нужно? — спросил Анри.
— Нет, — ответил старик. — Мне нужно не что-то, мне нужен кто-то. Извините за беспокойство, господин Анри, господин мэр Вути приехал с вами?
— Нет, я один.
— Ах, черт, мне необходимо с ним переговорить.
— Вы несомненно застанете его у него дома.
— У него дома! Если бы только это было именно так, то я бы не стал спрашивать. А господина Мадлена тоже нет?
— Вы его увидите. У вас к нему дело?
— Ну да, конечно. Я хотел бы с ним поговорить, но, возможно, если я поговорю с кем-то еще, то это будет одно и то же.
— Но с кем же, господин Мьет?
— Ну, к примеру с вами, господин граф.
— Как! Я могу вам дать необходимые сведения?!
— Ах! Я бы сказал, что да, можете, и даже скорее, чем кто-либо другой, если вы согласны.
— Я от всей души готов вам помочь, господин Мьет, — сказал Анри.
— Даже не знаю, как заговорить с вами об этом.
— Приступайте прямо к делу.
— В деревне кое-кто утверждает… — но я этому не верю, вы понимаете, господин Анри, — так вот, кое-кто утверждает, что ваша свадьба с мадемуазель Пелюш расстроилась?
— Увы! Те, кто это утверждает, дорогой господин Мьет, к несчастью, правы.
— О! Это невозможно, невозможно! Честное слово, господин Анри, клянусь, я поверю в это, если только услышу о случившемся лично от вас.
— И, однако, это так.
— Бог мой, вы выглядели такими влюбленными!
— Мы все так же сильно любим друг друга, господин Мьет.
— Нужны, конечно, были очень основательные причины, чтобы эта свадьба расстроилась, когда дело было почти уже сделано!
— Действительно, ее отменили по очень основательным причинам. Итак, если вы хотели узнать только это, дорогой мой…
Папаша Мьет сделал вид, что не понимает.
— Но в деревне еще говорят, что разрыв произошел из-за вас.
— Что же, если это вас так интересует, господин Мьет, — сказал Анри, который стал уже терять терпение, — действительно, это я взял назад данное мною слово.
— Ну да, именно так, именно так, — с лукавым видом заметил старый ростовщик. — А этот господин Пелюш, столь спесиво державший себя, не так уж прочно стоит на ногах, как хотел это нам показать?
— Что вы имеете в виду, господин Мьет?
— Я хочу сказать, что, когда подошло время запустить руку в карман и вытащить оттуда приданое, которое можно было бы противопоставить прекрасному замку и добрым шестистам арпанам земли, торговец цветами сыграл отступление, сделав пол-оборота налево, как он сам, командуя, говорит своим национальным гвардейцам.
— Мой дорогой Мьет, не следует несправедливо обвинять почтенного коммерсанта. Затруднение не в том, что он не в состоянии дать достаточное приданое своей дочери. Это я потерял все — я разорен.
— Вы разорены, господин Анри? Ну и ну! Напрасно они будут мне твердить об этом, я им ни на грош не поверю. И вы тоже напрасно сами будете утверждать это, я вам больше не верю.
— И, однако, это правда, — произнес Анри, кивком давая понять своему собеседнику, что разговор окончен.
Но старый крестьянин узнал еще далеко не все, что хотел. Он не сдвинулся с места, ограничившись следующим замечанием:
— Разорен… Это совершенно невозможно. Молодой человек вашего поведения… Ведь когда вы будете должны сто тысяч, двести тысяч, триста тысяч франков, вам их дадут под залог вашей земли и вашего замка, и к тому же всего лишь под шесть процентов, ведь это будет первая ипотека!
— Речь идет не о том, чтобы взять взаймы, господин Мьет, а о том, чтобы продать, — продолжил Анри, видя, что ему не отделаться от старика, и начиная понимать цель его визита.
— Продать, — повторил Мьет, и лицо его засветилось от радости. — Продать! Продать эти прекрасные земли и этот чудесный замок, уже двести лет принадлежащие вашей семье; это решение, которое должно вам дорого стоить, господин граф.
Анри грустно улыбнулся.
— Да, — ответил он, — но оно принято. Завтра утром вы увидите объявления о продаже.
— Объявления? Я не умею читать. Да я и не стал бы их читать: мне это было бы слишком тяжело. Но зачем давать объявления?
— Чтобы все знали, что замок и земли Норуа продаются.
— О! Вот как! Об этом и так станет известно. Вы видите, я уже знаю. И потом вы ведь не станете дробить такой прекрасный кусок земли, как ваш; надеюсь, вы продадите его целиком?
— Дорогой господин Мьет, когда речь идет о такой сумме, как та, в которой я нуждаюсь, гораздо легче найти сто покупателей, чем одного.
— О! В округе немало крепких хозяев, способных поднять на своих плечах эту ношу, так же как они подняли бы мешок пшеницы. Послушайте, я знаю одного такого. Он с первого захода даст вам триста тысяч и даже триста пятьдесят тысяч франков.
— Охотно верю, папаша Мьет.
— И к тому же заплатит все до последнего су.
— Земля и замок стоят, к счастью, побольше этой суммы, сосед.
— Он дал бы даже четыреста тысяч…
— Мой дорогой, — произнес Анри, устав от всех этих многословных разглагольствований хитрого крестьянина, — этими делами предстоит заниматься не мне, а моему крестному Мадлену. Обращайтесь к нему с вашими предложениями.
— Господи Иисусе! Вы же понимаете, что я стараюсь не для себя… В прошлый раз, покупая поле папаши Марселе-на, я должен был заплатить пять тысяч франков, так мне пришлось занять тысячу франков в конторе метра Перро. Я выступаю от имени друга, который мне только что сказал: "Чем видеть, как будут дробить на кусочки такое прекрасное поместье, принадлежавшее нашим прежним сеньорам, я скорее пойду на жертву и заплачу четыреста пятьдесят тысяч франков. Но вы понимаете, папаша Мьет, говорит он мне, — четыреста семьдесят пять тысяч франков это будет мое последнее слово. Дальше я никак не могу заходить". Посудите сами, господин Анри, какую сумму это составляет со всеми издержками по продаже.
— Именно поэтому, господин Мьет, разделив владение, мы снизим затраты на регистрационный сбор.
— Видите ли, господин Анри, надо все хорошенько подсчитать. Если вам заплатят пятьсот тысяч франков — а это последняя цена, которую вам могут дать, давайте уговоримся об этом, вы ведь согласны с этим, не правда ли? — Так вот, если вы получите эти пятьсот тысяч франков, то, держа контракт в руках, вы должны считать их за пятьсот пятьдесят. О! — продолжил, вздохнув, папаша Мьет. — Как счастливы продающие, им не надо оплачивать издержки!
На этом месте назидания папаши Мьета были прерваны: дверь открылась и вошел Мадлен.
— Послушайте, — сказал Анри, довольный, что можно прервать этот разговор, — вот как раз мой крестный Мадлен; обратитесь к нему, он вам сообщит все интересующие вас подробности… Дорогой Мадлен, это господин Мьет, он желает стать владетелем Норуа и предлагает пятьсот тысяч франков за земли и замок.
— Я! Господи Иисусе! — вскричал папаша Мьет. — Где я возьму эти пятьсот тысяч франков, господин Анри?
— Хорошо! — ответил Мадлен. — Я нахожу, что вы сделали отличное предложение, папаша Мьет. Но мне надо сказать одно слово моему крестнику на ушко. Подождите меня на кухне. Вы ведь знаете, где находится кухня? Мыс вами там все спокойно обсудим.
Папаша Мьет, видя, что ему следует сменить собеседника, почесал затылок, натянул на голову свой колпак и прошел в кухню.
— О! — вздохнул Анри. — Как вы прекрасно сделали, дорогой крестный, освободив меня от этого ужасного человека!
— И приведя к тебе Камиллу, не так ли? — заметил Мадлен.
— Камиллу! — вскричал, подскочив Анри.
— Да, она здесь. Ее отец пожелал вам устроить последнее свидание наедине, прежде чем вы расстанетесь.
— Ее отец?
— Да, ее отец. Он не такой уж злой человек, каким кажется.
— Но в конце концов, чего он хочет, чего просит, чего требует?
— Камилла тебе все расскажет. Входи, Камилла!
Он открыл дверь, Камилла стремительно вбежала в столовую, а Мадлен вышел, оставив молодых людей наедине.
В кухне Мадлен нашел папашу Мьета, который ждал его и тем временем старался доказать г-ну Пелюшу, что для Анри было бы гораздо выгоднее продать замок и земли одному человеку, нежели продавать их по частям.
Хотя в намерения Мадлена не входило заключать с папашей Мьетом какую-либо сделку, он был не против заставить того разговориться; и как бы ни хитрил крестьянин, Мадлен расстался с ним, убежденный более чем когда-либо, что продавать по частям выгоднее всего и что, разделив замок и земли, можно будет получить, даже не гонясь за ценой, семьсот тысяч франков.
В ту минуту, когда г-н Пелюш подсчитывал, что триста пятьдесят тысяч франков, которые вернутся к Анри как его половина состояния, соединенные с семьюдесятью или восьмьюдесятью пятью тысячами франков, которые тот когда-либо унаследует от Мадлена, превышают сумму, в какую г-н Пелюш оценивал своего зятя, из столовой вышла Камилла с полными слез глазами, но с улыбкой на лице.
— А! — сказал г-н Пелюш, увидев улыбку дочери. — Он согласен; это замечательно.
— Напротив, папа, — отвечала Камилла, — он отказывается.
— Как? Он отказывается?! — вскричал торговец цветами, делая шаг назад.
— Да, отец, он отказывается.
— Но это же глупец, неблагодарный дурак!
— У него золотое сердце!
— Как, ты одобряешь его поступок?
— Во всех отношениях. И я только что поклялась ему — нет, не выйти за него замуж, поскольку вы против этого союза, — я поклялась никогда не принадлежать никому другому, кроме него.
— Та-та-та! — воскликнул г-н Пелюш. — Ну, это мы еще посмотрим, — и, приняв величественную позу, он продолжил повелительным тоном: — Имейте в виду, мадемуазель, мы уезжаем не медля ни минуты.
— Я готова следовать за вами, отец, — ответила Камилла.
В это время Фигаро, точно догадавшись о предстоящем отъезде и желая сопровождать своего хозяина в столицу, проскользнул в кухню и положил обе лапы на грудь г-на Пелюша.
Такое осквернение его капитанского мундира разгневало г-на Пелюша.
— Прочь, — закричал он, — наглое животное! Прочь! — а затем, повернувшись к своему другу, произнес: — Мадлен, я не виню тебя в тех расходах, которые мне пришлось понести по твоей милости на охотничью экипировку, хотя сейчас из-за твоих советов крестнику эти расходы стали совершенно бесполезными. Поскольку он продает свои земли, я, естественно, больше не могу на них охотиться. Что касается ружья и моего снаряжения, то я уже принял решение, ведь их всего лишь требуется сохранять в исправности. Но вот Фигаро — это совсем другое дело: это капитал, не только лежащий без движения, но и требующий дополнительных затрат. К тому же у мадемуазель Камиллы уже есть газель: если к этой газели еще добавится собака, то в магазине "Королева цветов" охота будет вестись с утра до вечера. Поэтому я рассчитываю, что из дружбы ко мне ты добьешься, чтобы хозяин "Золотого креста" взял Фигаро обратно.
— Но он тебе его продал, и ты ему заплатил.
— Я потеряю на этом двадцать франков, если он пожелает забрать Фигаро.
— Гораздо проще перепродать его кому-нибудь еще. Фигаро — прекрасная собака, и он всего лишь требует соответствующего обращения.
— Знаешь ли ты такого человека?
— Да.
— Кто же это?
— Я.
— Мой дорогой Мадлен, — возразил г-н Пелюш, качая головой, — зная, как тяжело тебе сейчас, я не хочу еще больше обременять тебя.
— Пустяки, сотней франков больше, сотней франков меньше, от этого не умирают.
— Значит, ты покупаешь у меня Фигаро по той цене, в какую он мне обошелся?
— Безусловно.
— И я ничего не потеряю?
— И ты не потеряешь ни одного су, вот твои сто франков.
Мадлен вытащил из кармана пять наполеондоров и вручил их г-ну Пелюшу.
— О отец, — прошептала Камилла.
— Но, — ответил г-н Пелюш, — ведь Мадлен утверждает, что он стоит эти сто франков!
— В моих руках — да, в твоих же он не стоит и двадцати. Так что не жалей.
— Я не жалею, — ответил г-н Пелюш в восторге оттого, что вернет потраченные деньги и сможет представить Атенаис те самые пять наполеондоров, которые она уже не раз ставила ему в упрек. — Я не жалею и скажу больше, несмотря на все его выходки, какие он проделал со мной, я расстаюсь с этим четвероногим без малейшего чувства ненависти. Прощай, Мадлен! Кланяйся от меня господину Анри и передай, что ему некого винить, кроме себя самого, в том, что он не стал моим зятем.
Камилла бросилась в объятия своего крестного, едва слышно прошептав:
— Он всегда будет меня любить, не правда ли?
— Не волнуйся, — ответил Мадлен, прижимая девушку к груди.
Затем он обменялся рукопожатием с г-ном Пелюшем, и тот как-то весьма неопределенно пригласил Мадлена навестить их, когда тот будет в Париже.
Наконец два друга расстались. Фигаро, будучи рабом своего долга, хотел последовать за г-ном Пелюшем, но тот прогнал его движением руки, сказав при этом:
— Прочь, мерзкое животное, прочь; ты больше не принадлежишь мне!
— Прощай, моя бедная собачка, — прошептала Камилла.
— Иди сюда, Фигаро, — позвал пса Мадлен.
И Фигаро, довольный и радостный, словно сознавая перемену, происшедшую в его положении, подбежал к своему новому хозяину, встал на задние лапы, положил передние на грудь Мадлена и дружески зевнул ему прямо в лицо.
Мадлен приласкал его и поцеловал в морду, не подозревая, какие таинственные виды имело в отношении Фигаро Провидение!
XXXIX
ПРОДАЖА С ТОРГОВ
Господин Пелюш, оскорбленный упрямством Анри и не понимавший ни причины его отказа, ни того восхищения, какое внушил Камилле этот поступок, разрушавший их совместное счастье и представлявшийся ему совершенно бессмысленным, неукоснительно сдержал обещание, данное им Мадлену, не ночевать более под крышей его крестника и в тот же вечер вместе с супругой, Камиллой и Блидой отбыл в Париж.
И поскольку хозяин магазина "Королева цветов" по натуре был мелочным человеком, то выгодная сделка, благодаря которой он избавился от Фигаро, частично вернула ему хорошее настроение.
Правда, когда его взгляд останавливался на Камилле и он видел это спокойное и очень печальное лицо, его охватывало беспокойство, внешне проявлявшееся в жестикуляции и брани, и человек, не посвященный в случившееся, мог бы счесть это приступами безумия.
На следующий же день после отъезда г-на Пелюша, как и обещал Анри папаше Мьету, объявления о продаже долями земель и замка Норуа были распространены по всему департаменту Эна.
Имение слыло одним из самых красивых и благоустроенных в округе, поэтому недостатка в желающих не было.
Многие хотели одновременно приобрести замок, земли и обе фермы и давали такую хорошую цену, что вынудили самого папашу Мьета дойти до шестисот тысяч франков; но Мадлен твердо стоял на своем, убежденный, что продажа по частям принесет ему на сто тысяч франков больше, чем продажа всего имения целиком.
Чем дольше дон Луис наблюдал, как возрастает цена, тем больше усилий он прилагал, чтобы побудить Анри принять половину той суммы, которая будет выручена за продажу поместья; но ничто не могло поколебать решимость молодого человека, и всякий раз со своей спокойной и печальной улыбкой он отклонял все предложения. Его брат, вначале видевший в Анри своего недруга, проникся к нему большой любовью.
Анри лишь попросил от имени Мадлена разрешения взять в счет тех двадцати тысяч франков, что его крестный отец дал взаймы в 1820 году графу де Норуа, шестьдесят или восемьдесят арпанов поросшей кустарником, колючками и вереском пустоши, где был построен охотничий домик. Заросли кустарника и вереска кишели кроликами, а поскольку пустошь была каменистой, то это было единственное место, где водились красные куропатки. Кроме того, вдоль нее протекала речка Урк, а поскольку длина пустоши значительно превосходила ее ширину и равнялась примерно двум километрам, то это были два километра заповедных рыбных заводей.
Эта часть угодий была выделена Мадлену как возмещение за ту самую сумму в двадцать тысяч франков, переданную им графу, — такова была их оценка.
Благоразумные люди полагали, что Мадлену следовало бы скорее взять на двадцать тысяч франков осушенных болот и водоемов, так как артишоки и маис могли бы давать на них семь или восемь процентов годовых. Но Мадлен не принадлежал к числу благоразумных людей, поэтому он, более умелый охотник, чем садовод, предпочел земли, дававшие кроликов, красных куропаток, а порой даже и фазанов, землям, способным давать артишоки и маис.
Что касается Анри, то, если бы вслед за крахом его состояния не последовал бы крах его надежд на счастье, он перенес бы эту катастрофу с философским спокойствием, достойным восхищения. Воспитанный Мадленом так, что роскошь была для него скорее привычкой, а не настоятельной потребностью, он с невозмутимым хладнокровием переселился бы из замка на ферму, если бы крестный предоставил ему на ферме комнату, где жила Камилла.
Наступил день торгов; более четырех тысяч человек съехались в Норуа. Причина этой распродажи, а следовательно, и разорения, для всех оставалась головоломкой. Анри пользовался горячей симпатией и любовью, так что все это обширное собрание испытывало живейшее сочувствие к его участи. Однако — ведь было известно, что как раз приезд иностранца и его требования вызвали эти трагические перемены в жизни Анри, — трудно было объяснить ту чудесную гармонию, в которой, казалось, жили оба молодых человека; они не расставались друг с другом, совершали долгие прогулки верхом, вместе жили в замке и вместе садились за стол. Мадлен, от чьего имени совершалась продажа, тогда как всеми благами богатства в глазах людей всегда пользовался Анри, Мадлен жил с ними, ел с ними и, казалось, почти с одинаковой любовью относился как к чужаку, так и к своему крестнику.
Развернулись ожесточенные торги. После Французской революции, приведшей к распродаже имущества эмигрантов и как следствие — к разделу поместий, крестьянин в буквальном смысле слова овладел землей. Раздел большого поместья был подлинным праздником для этих суровых тружеников, с мотыгой и заступом в руках заставляющих истерзанную ими землю давать по два или три урожая.
Мьет был одним из таких фанатичных скупщиков земли. Голос аукциониста, казалось, вызывал у него головокружение; его маленькие глазки сверкали, как два уголька из-под колючих, взъерошенных бровей; остроконечный колпак с трудом удерживался на его голове. Он выкрикивал каждую из своих прибавок как вызов, при этом лицо его подергивалось, как у игрока, бросающего золото на зеленое сукно стола. Всякий раз, когда аукционист объявлял: "Продано" — независимо оттого, выигрывал ли папаша Мьет этот торг или нет, — его челюсти стискивались, а плотно сжатые зубы издавали нервный скрежет. Не было ни одного устраивающего его лота, в котором он не принял бы участия и в котором не поднял бы цену не только в соответствии с истинной стоимостью выставленного имущества, но и выше ее, инстинктивно предчувствуя, что в такой стране, как Франция, земельная собственность всегда будет расти в цене.
Единственный лот, пропущенный им даже с некоторым презрением, включал в себя замок и парк. Они были проданы мэру Вути, г-ну Редону, за восемьдесят пять тысяч франков. Кабаний заповедник, где г-н Пелюш столь плачевно сделал свои первые шаги на поприще охоты, отныне также должен был принадлежать г-ну Редону, но тот тут же поспешил передать его в руки Мадлена.
Торги длились неделю, и их общая сумма достигла восьмисот сорока тысяч франков.
До своего разорения бедный Анри никогда и не подозревал, что он так богат.
Всякий раз, когда Мадлен оставался наедине с Анри, они строили самые прекрасные планы своего дальнейшего существования. Единственное, что им не давало до конца насладиться всеми прелестями этой приятной жизни, так это то, что Анри не увлекался ни охотой, ни рыбной ловлей.
Что касается свадьбы Анри с Камиллой, то Мадлен не отчаивался, надеясь на один из тех чудесных случаев, ниспосылаемых самим Провидением, что так часто встречаются в мире нашего воображения и так редко — в самой действительности. На все эти прекрасные мечты Анри отвечал лишь двумя словами: "Дорогой крестный!" — и ограничивался улыбкой.
Однажды, когда Мадлен с большим самозабвением, чем обычно, в пятидесятый раз излагал Анри свои планы на жизнь, призывая крестника войти во вкус охоты и рыбной ловли, Анри прервал его, положив ему руку на плечо.
— Бесполезно, дорогой крестный, — сказал он ему, — мое решение принято.
Мадлен посмотрел ему в лицо.
— Твое решение? — повторил он.
— Да.
— И каково же твое решение?
— Я отправляюсь вместе с братом в Монтевидео.
Мадлен смертельно побледнел:
— Ты уезжаешь?!
Анри пожал плечами:
— Моя жизнь здесь не имеет смысла; может быть, она приобретет его там.
— Скажи просто, что ты устал от жизни и ищешь смерти.
— Укажите мне работу, для которой я был бы пригоден, найдите мне занятие, обещающее вернуть мое состояние, и я останусь; но остаться ради того, чтобы прозябать, ничего не предпринимая, чтобы видеть, как Камилла, забыв меня, станет женой другого…
— Во-первых, этого ты не увидишь, я тебе ручаюсь.
— Ну что же, значит, я искалечу жизнь бедной девушке. Отец никогда не выдаст ее за разорившегося человека, но даже если он и отдаст ее мне, то я слишком горд, чтобы принять подобную милость. Бедное дитя останется старой девой, и однажды она с сожалением скажет: "Ах, если бы я не любила его…"
Мадлен вздохнул, обеими руками вцепился себе в волосы и выдрал целый клок, вскричав:
— Вот чего я добился после двадцати пяти лет борьбы, надежд и неустанного труда ради того, чтобы сделать этого ребенка счастливым!
И, быстро удалившись, не оборачиваясь на голос Анри, окликавшего его, Мадлен свистом подозвал Фигаро, вскинул на плечо ружье и через десять минут с той стороны, где стоял маленький охотничий домик, с этих нескольких арпанов земли, которые он приобрел за свои двадцать тысяч франков, донеслась яростная стрельба.
Продажа земель была объявлена и велась за наличные деньги. Нотариус торопился их собрать и уверял, что ранее чем через неделю восемьсот шестьдесят тысяч франков будут вручены дону Луису. Впрочем, большинство платежей — что весьма удивительно, когда покупателями становятся крестьяне — было сделано золотом, и папаша Мьет, прикупивший земель более чем на триста тысяч франков, две трети этой суммы заплатил наполеондорами.
Таким образом, дон Луис должен был привезти в страну, где давно уже забыли, что такое золото и серебро, чуть ли не миллион золотом, что в три или четыре раза увеличивало эту сумму.
И именно это заставляло дона Луиса настойчиво просить брата поехать вместе с ним, и именно это побудило Анри принять решение последовать за братом. Дон Луис говорил ему:
— Ты отказываешься разделить со мной эти восемьсот тысяч франков, потому что знаешь, как они мне нужны. Но поехали со мной, добьемся снятия осады Монтевидео, прогоним Росаса, и я верну свое состояние, свое имущество. Тогда, в свою очередь, я стану обладателем трех-четырех миллионов и у тебя больше не будет никаких причин отказываться от денег, данных мне взаймы. Ведь, если я вновь стану богатым, ты мне любезно разрешишь рассматривать эту сумму как заём. И тогда мы вернемся во Францию, ты женишься на Камилле, а я буду твоим шафером на этой свадьбе.
И когда дон Луис поделился этим планом с Мадленом, тот был вынужден признать, что не может предложить своему крестнику ничего, что напоминало хотя бы эту мечту.
И вот роковой день наступил. Молодые люди должны были после завтрака отбыть в Париж, а из Парижа в Марсель. Мадлен, как обычно взяв ружье, ушел на рассвете, и по выстрелам, раздававшимся один за другим, можно было догадаться, что он вымещает на несчастных кроликах мучительную боль, вызванную предстоящим отъездом Анри.
К девяти часам, то есть ко времени, назначенному для завтрака, выстрелы прекратились. Без сомнения, Мадлен остановил это побоище и должен был показаться с минуты на минуту. Но, несмотря на прекращение стрельбы, Мадлен, к большому удивлению обоих молодых людей и сильной тревоге Анри, не появлялся.
Молодые люди, подгоняемые временем, позавтракали. Прозвонило половина десятого, а Мадлена все не было.
Анри, побуждаемый беспокойством, которое росло с каждой минутой, предложил дону Луису отправиться на поиски крестного.
Но в тот миг, когда они выходили из кухни, с высоты трех ступенек, господствовавших над двором, они увидели Мадлена, огибавшего угол ворот, — без фуражки, с растрепанными волосами и разодранными руками. Куртка и штаны на нем висели лохмотьями. За ним, хромая, следовал Фигаро, пострадавший почти так же сильно, как и его хозяин.
Анри бросился к крестному.
— Бог мой! Дорогой крестный! — вскричал он. — В каком ужасном вы состоянии! Что с вами случилось?
— Случилось то, что дон Луис может ехать один в Монтевидео, а ты, ты остаешься!
— Как это остаюсь?..
— Да, ты просил меня найти тебе работу. Так вот, я нашел ее для тебя.
— Вот как! И кого вы собираетесь из меня сделать?
— Я сделаю из тебя моего старшего приказчика и положу тебе шесть тысяч франков жалованья в год.
Затем, повернувшись к графу де Норуа, он сказал:
— Дон Луис, я заклинаю вас не настаивать на том, чтобы Анри сопровождал вас в Америку. Он должен остаться во Франции, речь идет о его счастье.
Дон Луис попрощался с Малленом, крепко обнял Анри и, не считая себя вправе после слов Мадлена обратиться к нему с каким-либо замечанием, вскочил на одну из двух лошадей, стоявших оседланными, выехал со двора фермы и исчез из виду.
Дон Луис был уже в четверти льё от фермы, когда застывший в неподвижности Анри пришел в себя от удивления.
XL
ГЛАВА, ОТКРЫВАЮЩАЯ ТАИНСТВЕННЫЕ НАМЕРЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРОВИДЕНИЕ ИМЕЛО В ОТНОШЕНИИ ФИГАРО
Было бы уместным дать читателю объяснение, которое не потребовал дон Луис и которого с нетерпением ждал Анри.
Вот что произошло.
Мадлен, расстроенный отъездом Анри, а главное, тем, что он не смог противопоставить его решению ни одного разумного довода, на рассвете, как мы уже сказали, взяв с собой ружье и Фигаро, отправился на охоту.
Всякий раз, когда Мадлен испытывал какое-нибудь огорчение, он прибегал к охоте: физическая усталость убивала душевную боль. Охота была его болеутоляющим лекарством.
По правде говоря, не так уж и тяжело охотиться на восьмидесяти или ста арпанах земли, покрытой вересковыми зарослями, колючками и кустарником, — остатках состояния Анри. Но мы уже упоминали, что на протяжении километра эти восемьдесят арпанов тянулись по склону холма, а каждый охотник знает, что куропатка, поднятая на холме, спешит укрыться на болоте и, преследуемая в низине, вновь поднимается наверх. И когда Мадлен пять или шесть раз спускался с холма на болото и столько же раз поднимался обратно, то это было равносильно двадцати километрам, проделанным по гладкой равнине: качество приходило на смену количеству.
В этот день тот, кто увидел бы Мадлена и кто знал его разумную манеру охотиться, шаг за шагом обследуя угодья, не пропуская ни одного кустарника, ни одной заросли вереска и держа собаку под дулом ружья; тот, кто увидел бы в этот день Мадлена, мерившего равнину большими шагами, позволявшего своей собаке работать наподобие пойнтера, спускавшегося с холма, словно лавина, и взбиравшегося на него, словно идя на приступ, — нисколько не усомнился бы, что Мадлен был всецело поглощен своими тревожными раздумьями.
Но эта явная озабоченность Мадлена ни в коей мере не отражалась на его меткости: он стрелял наугад — по крайней мере так казалось, — и куропатки падали, кролики катились по земле, фазаны валились замертво.
Охотничья сумка Мадлена была переполнена.
Фигаро был в восторге от своего хозяина. Никогда еще он так хорошо не охотился, так упорно не держал стойку и так безупречно не приносил добычу. Мадлен оправдывал пословицу, гласящую, что у хорошего стрелка и собака что надо.
И вот так, в сопровождении замечательного помощника в лице Фигаро, думая вовсе не об охоте и, если можно так выразиться, убивая совершенно механически, он стрелял в какую угодно дичь, оставляя все прочие заботы на долю Фигаро.
В своей задумчивости он перегнал Фигаро, сделавшего стойку позади него, и не увидел этого; но через одну или две секунды он услышал его лай, повернулся и заметил в шестидесяти метрах кролика, высунувшегося из кустарника. Мадлен выстрелил в зверька, убедился, что раздробил ему бедро, и остановился, чтобы перезарядить ружье.
Именно во время этих остановок Фигаро обыкновенно догонял его и, с важностью сев на задние лапы, подавал ему добычу. Перезарядив ружье, Мадлен, удивленный, что не видит Фигаро, обернулся.
Фигаро исчез.
Но поскольку кролик направился к густым зарослям кустарника, расположенным в двадцати метрах от тех, откуда он выбежал, Мадлен подумал, что Фигаро последовал за ним и что собака с кроликом или без него не замедлит присоединиться к хозяину.
Он продолжал идти вперед, выполняя одновременно работу охотника и собаки, то есть поднимая дичь либо перед собой, либо с помощью ударов по кустам сапогом или стволом ружья.
Дойдя до границ своих охотничьих владений, Мадлен обернулся, но как он ни всматривался в самую даль, его взгляд напрасно искал Фигаро.
Фигаро испарился.
Мадлен позвал собаку, свистнул ей, дошел до противоположного склона холма, желая убедиться, не спустился ли тот в болото. Но пса не было ни в ложбине, ни на равнине.
Мадлен остановился, опустил приклад ружья на землю, оперся двумя руками о ствол и принялся размышлять.
Куда, черт возьми, мог деться Фигаро? Этот вопрос он задавал себе и, несмотря на свой большой опыт, не мог на него ответить.
Благо бы Мадлен выстрелил в зайца и раздробил бедро ему, вместо того чтобы раздробить бедро кролику, тогда еще можно было бы подумать, что Фигаро, учуяв раненого зайца, погнался за ним; однако, если бы Фигаро пустился в такой бег, то уже через километр он загнал бы зайца и с гордостью принес бы его.
Может быть, Фигаро попал в какой-нибудь капкан, но кто, черт побери, мог расставлять капканы в охотничьих угодьях Мадлена? Впрочем, Фигаро, попав в капкан, визжал бы от боли и нетерпения.
Но эхо не доносило ни малейшего звука, который можно было бы приписать голосу Фигаро.
Мадлен почесал за ухом; в этом была какая-то тайна, и разгадку ее он, при всем своем богатом охотничьем опыте, отыскать не мог.
Он повесил ружье на плечо и направился к тому месту, где был подстрелен кролик; один или два клочка шерсти свидетельствовали о том, что животное было задето выстрелом.
Несколько капель крови, сверкавшие словно рубины и отмечавшие путь кролика, который перебегал из менее густого кустарника в более частые заросли, еще красноречивее доказывали это.
Дойдя до густых зарослей, Мадлен увидел, что проход, оставленный кроликом, стал гораздо шире после того, как за ним туда последовал Фигаро.
Мадлен обошел кустарник; возможно, Фигаро настиг кролика в этой чаше и, оставаясь недоступным постороннему взгляду, воспользовался этим своим положением, чтобы расправиться со зверьком в свое удовольствие; но, по убеждению Мадлена, Фигаро неспособен был так злоупотребить доверием своего хозяина.
И в самом деле, Мадлен напрасно исследовал взглядом заросли: он совершенно ничего не увидел.
И тогда он позвал Фигаро.
В ответ на этот призыв, как ему показалось, послышалось одно из тех жалобных повизгиваний, которые собаки издают, испытывая прилив нежности к своим хозяевам или, напротив, тоскуя по ним.
Он вновь окликнул Фигаро, и вторично ему ответил жалобный визг.
Мадлен вошел в кустарник.
В своих высоких кожаных гетрах и велюровых штанах он особенно не рисковал. Однако, когда острые колючки дважды или трижды достали до его кожи, Мадлен решил идти дальше, лишь убедившись, что, приближаясь к середине зарослей, он тем самым приближается к Фигаро.
Он позвал в третий раз, и в третий раз Фигаро ответил ему; но жалобный визг, казалось, доносившийся из-под земли, перешел в завывания.
Фигаро не просто отвечал, он звал на помощь.
Мадлен больше не колебался и ценою нескольких новых царапин добрался до края ямы, которая напоминала отверстие колодца, расположенное на уровне земли.
На этот раз Фигаро, чувствуя, что к нему идут на помощь и не ожидая нового зова, издал продолжительное завывание, свидетельствующее о том, в каком затруднительном положении он оказался.
Мадлен понял все: погнавшись за кроликом, вероятно, нырнувшим в эту нору, Фигаро устремился туда вслед за ним и, упав в яму глубиной в двадцать футов, не мог выбраться на поверхность. Охотник как можно ближе подошел к зияющему отверстию, ударил ногой, и земля обвалилась под этим ударом. На Фигаро посыпался целый град камней, заставивший пса завыть от боли.
Не было никаких сомнений в том, что Фигаро провалился в нечто вроде западни, из которой он не мог вылезти.
Предстояло достать его оттуда, но предварительно следовало измерить глубину ямы.
Мадлен вырвал пучок сухой травы, скрутил ее, поджег и бросил вниз. Отверстие осветилось на несколько мгновений. И тогда он смог разглядеть выработку в каменной породе, имевшую глубину в пятнадцать — восемнадцать футов.
На дне ее Фигаро, встав на задние лапы, пытался вскарабкаться по стенам; но он не мог подняться так высоко, чтобы выскочить наружу.
Мадлен, разумеется, решил не оставлять Фигаро в столь сложном положении, но у него под рукой не было никакого приспособления, чтобы спуститься вниз, и из благоразумия он не мог рисковать, прыгая с высоты пятнадцати футов, чтобы помочь псу выпутаться из беды. Но, даже рискнув и прыгнув, он, очутившись рядом с Фигаро, оказался бы в такой же ловушке, как и тот.
Его взгляд упал на охотничий домик, и он вспомнил, что в его дворе стоит лестница высотою с пять-шесть метров — как раз это ему и было нужно.
Он прислонил ружье к кустарнику и направился к охотничьему домику.
Несколько минут спустя он вышел оттуда с лестницей на плече.
Фигаро, который стал издавать самые мрачные свои завывания, почувствовав, что хозяин уходит, теперь учуял его издали и радостно залаял, когда тот стал приближаться.
Мадлен большими шагами пробрался сквозь заросли, не обращая внимания на новые царапины, которые он мог получить, и решительно опустил лестницу в отверстие.
Фигаро подошел к лестнице и поставил на нее передние лапы, словно намереваясь двинуться навстречу хозяину и избавить его от части пути.
Но Мадлен, вернувшись, был скорее озабочен некой мыслью, только что пришедшей ему в голову, нежели тем, как вытащить Фигаро из западни.
Он убедился, что лестница прочно встала на землю, а верхний ее конец крепко уперся в край отверстия, стал спускаться вниз и вскоре целиком исчез под землей.
Без всяких происшествий он добрался до самого дна.
Фигаро ждал его там, держа раненого кролика в пасти, как доказательство того, что он был неспособен на преступление, в котором на миг его заподозрил Мадлен.
Но Мадлен, как уже было сказано, с некоторого времени полностью был поглощен какой-то новой заботой. Он приласкал Фигаро и похвалил его, сказав ему: "Хорошая собака". Затем, более не интересуясь ни Фигаро, ни его кроликом, он высек огонь и зажег свечу.
Фигаро наблюдал на его действиями взглядом, в котором сосредоточился весь разум, каким наградил его Господь; но было ясно, что пес не в силах понять, ради чего его хозяину понадобилось освещать эту своеобразную пещеру, когда он мог выбраться сам и помочь выбраться ему на солнечный свет, казавшийся собаке гораздо предпочтительнее свечи.
Но, похоже, это обследование, на которое Фигаро не согласился бы потратить и секунды, представляло для Мадлена огромный интерес, так как он, поднося свечу к стенам выработки, внимательно разглядывал и изучал следующие друг за другом слои.
По мере этого осмотра, который сопровождался звучными возгласами "A-а!", с каждым разом становившимися все громче и громче, лицо Мадлена приобретало все более радостное выражение.
Чтобы основательно все проверить, он трижды взбирался на две трети вверх по лестнице и дважды спускался вниз.
Во второй и третий раз с ножом в руке он постучал по камню, и звуки, которые издали три расположенных друг над другом слоя, эти звуки, заметно отличавшиеся по тональности, казалось, целиком и полностью удовлетворили Мадлена.
Спустившись с лестницы, Мадлен осмотрелся вокруг и определил, что от центра, то есть от того места, где он стоял, расходились, подобно лучам звезды, четыре галереи. Он одну за другой обошел все галереи, по-прежнему внимательно осматривая стены, и результат проведенного обследования, похоже, был весьма благоприятным и обнадеживающим.
Одна из этих галерей особо привлекла его внимание. Отходя к западу, она шла в сторону того склона холма, подножие которого огибала речка Урк. Дойдя до конца этой галереи, он обнаружил, что ее преграждают не пласты камня, как это было в трех других галереях, а стена из бута, за которой, казалось, скрывался выход на поверхность. Мадлен задул свечу, желая проверить, не проникает ли дневной свет через трещины в буте.
Он ничего не смог различить и оказался в полнейшей темноте. На полу виднелось единственное светлое пятно. Свет шел из того отверстия, через которое Мадлен спустился вниз.
Он сосчитал шаги от бутовой стены до отверстия: их было двадцать семь.
Он сделал Фигаро знак пойти лечь у стены из бута, но Фигаро выказал такое нежелание выполнить этот приказ, что Мадлен был вынужден вернуться в конец галереи, положить там на землю свою куртку и велеть Фигаро лечь на нее.
На этот раз тот повиновался. Фигаро понимал, что раз хозяин приказывает ему охранять свою куртку, то, значит, он не собирается покинуть его здесь.
Однако Фигаро не без тревоги наблюдал за тем, как Мадлен поднимается на поверхность и оставляет его во мраке. Он в последний раз завыл, словно обращаясь к совести Мадлена, а затем послушно лег на куртку.
Выбравшись наверх, Мадлен сориентировался, определил, в какую сторону идет галерея, в глубине которой находился Фигаро, и отсчитал двадцать три шага.
В этом месте холм шел под откос. В четырех шагах ниже он отвесно обрывался на высоту восьми — десяти футов.
Этот обрыв обнажал каменные слои, обнаруженные Малленом под землей.
Перед этой частью стены, выходившей на поверхность, рос густой кустарник. Мадлен вошел в заросли и несколько раз воткнул свой железный шомпол в эту часть откоса.
Шомпол вонзился в трещины стены шириной в один метр и высотой в три метра.
Это была стена из бута.
При звуках вонзавшегося в стену шомпола Мадлену почудилось, будто с той стороны стены до него доносится приглушенный лай.
Он находился с другой стороны преграды, за которой Фигаро остался лежать на куртке.
Затем Мадлен бросил взгляд на откос холма в том направлении, где текла речка Урк; с каждым новым открытием настроение его становилось все радостнее. Он вернулся к отверстию каменоломни, спустился в нее, зажег свечу, вновь обошел все четыре галереи, надел куртку, повесил поверх нее охотничью сумку, положил туда кролика, взял на руки Фигаро, нежно поцеловал его в морду и, добравшись до последней перекладины, поставил собаку, к огромной ее радости, на край отверстия.
Затем пружинящим шагом настоящего ходока, делающего шесть километров в час, он вернулся на ферму.
Мы уже говорили, что на крыльце он увидел двух молодых людей, обеспокоенных его чрезвычайно длительным отсутствием и готовых отправиться на поиски; мы также рассказали, как, предоставив полную свободу действий дону Луису, он воспротивился отъезду Анри, как молодые люди обнялись в последний раз и как дон Луис, вскочив на одну из оседланных лошадей, пустил ее галопом и скрылся из виду.
После его исчезновения Анри, все еще не придя в себя от случившегося, повернулся к Мадлену и, одновременно огорченный тем, что не уехал, и счастливый от того, что остался, сказал ему:
— Я повиновался вам, мой старый друг, не спрашивая никаких объяснений, так велико мое доверие к вам. Но что будет со мной?
— Я за все отвечаю, — торжественно ответил ему Мадлен.
Услышав эту фразу, словно произнесенную врачом у смертного одра больного, за жизнь которого он ручается, когда все другие уже отступились, Анри склонил голову и стал смиренно ждать дальнейших событий.
XLI
ГЛАВА, В КОТОРОЙ МАДЛЕН ДАЕТ ГРАФУ ДЕ РАМБЮТО ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗРУШИТЬ СТАРЫЙ ПАРИЖ И ОТСТРОИТЬ НА ЕГО МЕСТЕ НОВЫЙ
Мадлен вернулся на ферму; Анри шел за ним, низко опустив голову, словно ребенок, следующий за своим учителем.
Мадлен отказался давать какие-либо объяснения; Анри надеялся, что хотя бы два-три слова, вырвавшиеся у крестного, помогут раскрыть его планы.
Но Мадлен слишком сильно проголодался, чтобы вести разговор о своих намерениях, каковы бы они ни были. Он сел за стол, из-за которого недавно встали оба молодых человека, и прикончил остатки завтрака.
Однако в этом не было ничего, что могло бы подсказать Анри хоть что-нибудь. Мадлен всегда отличался превосходным аппетитом. В этот день его аппетит разыгрался сильнее, чем обычно; вот и все.
Тем не менее Анри показалось странным, что Фигаро, обычно евший на кухне и довольствовавшийся тем, что мог раздобыть сам, был введен лично Малленом в столовую и накормлен прямо из хозяйских рук сытной похлебкой.
С чем была связана эта милость, полученная Фигаро из рук хозяина, хоть и справедливого, но не слишком склонного нежничать со своими собаками?
Без сомнения, это была одна из тех тайн, какими окружил себя Мадлен.
После завтрака Мадлен оделся, сам запряг лошадь в двуколку и поинтересовался у Анри, готов ли тот немедленно приступить к своим обязанностям его старшего приказчика.
И, получив утвердительный ответ, он сказал:
— Садись верхом, поезжай в деревню Суси и попроси папашу Огюстена прийти к нам на ферму завтра утром. Если ты его не застанешь у господина Жибера, то найдешь его в карьерах.
Папаша Огюстен, управляющий работами у г-на Жибера, кому помимо двух или трех тысяч арпанов земли принадлежали два карьера, слыл в департаменте человеком, лучше всех разбирающимся в различных породах камня. Однако оба карьера, разрабатываемые г-ном Жибером, почти истощились, и можно было надеяться, что папаша Огюстен согласится отдать свой богатый опыт для разработки новых залежей камня.
Не говоря ни слова, Анри оседлал лошадь и тронулся в путь.
До Данплё двуколка и верховая лошадь ехали по одной и той же дороге, но при въезде в деревню Мадлен и Анри расстались.
Анри свернул вправо и направился в Суси.
Мадлен же продолжал свой путь в том же направлении, то есть в сторону Виллер-Котре.
Три часа спустя каждый из них уже вернулся на ферму.
Анри привез обещание папаши Огюстена быть на следующий день в шесть часов утра у Мадлена.
Мадлен же вытряхнул все из своих карманов и бумажника на стол.
Он привез тридцать тысяч франков! И вдобавок к этому большую зеленую книгу с медными застежками.
— Господин приказчик, — обратился он к Анри, — вы окажете мне услугу, внеся тридцать тысяч франков в статью доходов.
Анри без единого возражения взял перо и чернила и занес тридцать тысяч франков в статью доходов Мадлена.
— Поистине, — сказал ему тот, — у тебя великолепный почерк.
— Что вы хотите? — отвечал Анри, пытаясь шутить. — Теперь, когда вы мне за это платите, я стараюсь.
— Возьми эти тридцать тысяч франков.
— Я?
— Да, ты.
— Зачем?
— Чтобы заплатить.
— Заплатить кому?
— Людям, которым мы должны будем выплачивать деньги, и тебе первому, в конце месяца.
Анри сложил золото и банкноты в сумку и по приказу Мадлена отнес ее в свою комнату.
На следующий день в шесть часов утра, когда Анри еще спал, пришел папаша Огюстен.
Мадлен, вставший с рассветом, ожидал его у ворот фермы.
Они были старые приятели.
Мадлен пошел навстречу папаше Огюстену, и бывший торговец игрушками и каменолом обменялись сердечным дружеским рукопожатием.
Папаша Огюстен, старик лет шестидесяти, жилистый и худой, как жердь, но еще полный сил, несмотря на свой возраст, пришел пешком. На нем был его обычный наряд: тиковые брюки, такие же гетры, серая полотняная блуза в белую крапинку и картуз с козырьком, из-под которого выбивались несколько седых прядей.
В руках он держал свой метр: тот всегда был при нем, так как служил заодно и тростью.
Чтобы не задерживаться слишком надолго, Мадлен, подумав, что папаша Огюстен после своей утренней прогулки охотно пропустил бы стаканчик белого вина, принес на скамейку около ворот бутылку и два стакана.
Они дважды наполнили стаканы и осушили их.
— Так что же? — спросил папаша Огюстен, поставив стакан на скамейку и прищелкнув языком в знак одобрения напитка, который имел два преимущества — освежать, когда жарко, и согревать, когда холодно. — Значит, есть кое-что новенькое, раз вы прислали ко мне господина Анри с просьбой быть здесь в шесть часов утра?
— Возможно, да… возможно, нет, папаша Огюстен. И я поджидаю вас, чтобы узнать ваше мнение. Пойдемте со мной, вы мне скажете, каково ваше суждение о том, что я вам покажу.
— А! Охотно, господин Мадлен, вы знаете, что я ваш преданный слуга.
— Я знаю, что вы честный и достойный человек, папаша Огюстен, поэтому мой выбор пал на вас. Еще стаканчик этого винца?
— Нет, благодарю вас, господин Мадлен; честное слово, хватит.
— Ба! А за здоровье Анри?!
— Право, если это за здоровье господина Анри, то я не в силах устоять.
Затем, пока Мадлен наливал ему вина, мастер-каменолом прибавил:
— Бедный господин Анри! Значит, он окончательно разорился?
— Полностью, мой дорогой друг, дотла. В данный момент у него осталось только его место.
— Так у него есть место… по крайней мере оно хоть не такое уж плохое?
— Пятьсот франков в месяц.
— Шесть тысяч франков в год не идут в сравнение с двадцатью тысячами.
— Что вы хотите, папаша Огюстен! Жизнь состоит из взлетов и падений. Приступим к нашим делам.
— Да, приступим, — ответил Огюстен.
И, сделав старику знак следовать за ним, Мадлен направился к выработке, которую он обнаружил благодаря падению Фигаро и обследовал накануне.
Поскольку Мадлен оставил лестницу там, куда опустил ее, он по тропинке, наполовину уже протоптанной среди колючек и шипов, привел папашу Огюстена к отверстию колодца, ухватился за две боковые опоры лестницы и первым начал спускаться под землю.
Мастер-каменолом последовал за ним.
Оба добрались до самой нижней ступеньки лестницы и встали на твердую землю.
— О-о! — воскликнул папаша Огюстен, оглядываясь вокруг. — И что же это такое?
— Вы же видите, это чертовски напоминает каменоломню.
Папаша Огюстен постучал по камню медным наконечником своего метра.
— Гм-гм! Надо бы взглянуть на это при свете дня.
— А разве свет фонаря не даст вам ту же картину? — спросил Мадлен.
— О! Разумеется, — ответил мастер-каменолом.
Мадлен высек огонь, как это делал уже вчера; только на этот раз свеча, зажженная им, была не обычной, а очень большой и толстой — из тех, что вставляют в фонари карет: такие свечи горят вдвое ярче.
Затем он передал фонарь папаше Огюстену.
Тот левой рукой поднял его так высоко, как только мог, желая осмотреть стены колодца, и одновременно с этим царапнул их углом своего метра.
— Я попрошу вас, господин Мадлен, пожалуйста, перенесите мне сюда лестницу, чтобы я мог рассмотреть все вблизи.
Мадлен подвинул лестницу.
— Подержите мой метр, — сказал ему папаша Огюстен.
Мадлен взял метр; папаша Огюстен вытащил из кармана нож, поднялся по лестнице на три четверти ее высоты и осветил стену.
Затем кончиком ножа он поковырял ее.
— Мягкий камень, — произнес он. — Это уж как водится, ведь почти всегда пласт, ближе всего после бутовых пород расположенный к перегною, это мягкий камень. Дайте мне мой метр, чтобы я мог проверить, какова толщина этого пласта.
Он сжал нож зубами, измерил толщину слоя и, передав метр Мадлену, воскликнул:
— Метр пятьдесят отличнейшего камня! Я буду очень удивлен, если под ним мы не найдем желтый известняк или даже королевский известняк.
Спустившись на несколько ступенек и исследовав нижний слой, он пробормотал:
— Как я и говорил! Вот он, королевский известняк, да еще какой! Пласт толщиной два метра, не меньше. Послушайте, дорогой господин Мадлен, этот камень, доставленный в парижскую ратушу, будет стоить сорок пять франков за кубометр, ни на лиард меньше, и это не считая того, что нам будет очень легко перевозить его в Париж: если я не ошибаюсь, то Урк течет в двух шагах отсюда. За вычетом всех расходов, и тут уж я считаю с избытком, прибыль составит десять франков с одного кубометра. Предположите теперь, что владелец карьера заключил с парижской мэрией договор о поставке пятидесяти тысяч кубометров, — чистая прибыль составит пятьсот тысяч франков.
— Черт! Ну вы и считаете, папаша Огюстен!
— Я считаю согласно тарифам. Смотрите, вот этот камень, — продолжил Огюстен, спустившись еще на четыре или пять ступенек и исследуя лезвием ножа третий пласт, — это настоящий твердый камень, который идет на строительство оборонительных сооружений. Шестьдесят франков за кубометр, ни одним су меньше.
— Вы насчитываете двадцать франков разницы между мягким и твердым камнем, папаша Огюстен?
— Я насчитываю между мягким и твердым камнем такую же разницу, какая существует между сосной и дубом. Мягкий камень режется пилой, как дерево, но твердый не поддается распиливанию, его необходимо обтесывать. Отсюда и разница в цене.
— Короче, папаша Огюстен, — сказал Мадлен, — что вы скажете обо всем этом?
— Я скажу, что вы мне сейчас показали настоящий клад, господин Мадлен, особенно если можно открыть галерею, выходящую на гору, в чем я не сомневаюсь.
— Проход в нее свободен, папаша Огюстен.
— Хорошо; если она открыта, то я взглянул бы на нее.
— Идемте, мой старый друг.
И Мадлен, положив кирку на плечо и ориентируясь по отверстию колодца, направился к галерее, ведущей на поверхность, и привел папашу Огюстена к стене из бута.
Оказавшись там, он с ожесточением принялся долбить стену; через десять минут преграда рухнула и образовался проход, через который мог пробраться человек.
Мадлен пролез внутрь первым и, увлекая вслед за собой своего спутника, радостно сказал ему:
— Посмотрите вот на это, папаша Огюстен.
Огюстен в свою очередь выступил вперед, поднес руки к глазам, чтобы защитить их от слишком яркого света, и, посмеиваясь характерным беззвучным смешком, пробормотал:
— Ну-ну! Тот, кому принадлежит эта каменоломня, вполне может утверждать, что он родился в рубашке.
Мадлен поклонился папаше Огюстену.
— Как, она ваша?! — вскричал тот.
— Да, папаша Огюстен, и поскольку этим должен заниматься молодой человек, то я поручил Анри следить за ее разработкой.
— Но господин Анри в этом ничего не смыслит.
— Поэтому-то я и хотел дать ему в помощь кого-нибудь, кто разбирается в этом, и пригласил вас сюда именно с этой целью. Я положу три тысячи франков руководителю работ.
— Это хорошая плата, господин Мадлен. У господина Жибера я имел всего полторы тысячи, а я могу с полным правом сказать, что знаю толк в руководстве подобными работами.
— Так значит, вы имеете всего полторы тысячи франков у господина Жибера?
— Я сказал, что имел всего полторы тысячи франков, потому что больше не служу у него.
— И с какого времени?
— Со вчерашнего дня.
— Ну, что же, папаша Огюстен, мне известно, что вы не любите напрасно терять ваше время, поэтому считайте, что служите у меня с сегодняшнего дня: начиная с этого утра вам уже идет ваше жалованье.
— Мое жалованье… в три тысячи франков?
— В три тысячи франков… Получайте их и считайте, что мы договорились.
Мадлен протянул руку старому каменолому.
— Господин Мадлен, — сказал папаша Огюстен, пожимая протянутую руку, — когда человек ведет дела так, как это делаете вы, то он заслуживает, чтобы ему хорошо служили, и вам не придется жаловаться.
— Не сомневаюсь в этом, — заметил Мадлен. — Теперь же поведем разговор кратко, но по существу. Сколько хороший рабочий может в день добыть камня в такой каменоломне под открытым небом, как эта?
— Один метр мягкого камня и пятьдесят сантиметров твердого камня — это можно сделать нормой для сдельной платы.
— Сколько местных рабочих вы сможете нанять за две недели?
— Около шестидесяти.
— Это годится для начала, но мало для продолжения работ.
— Хорошо, мы объявим набор в других департаментах. Это всего лишь вопрос денег, и ничего больше.
— Будьте спокойны, деньги будут. Но только необходимо, чтобы ежедневно, день за днем, из этой каменоломни мне извлекали сотню метров камня.
— Имея двести пятьдесят рабочих рук, вы достигнете этого.
— А когда начнутся работы?
— Ну, это достаточно просто: сегодня у нас четверг; в следующий понедельник начнем разработку. Это вас устраивает?
— Вполне.
— Теперь замечу, что помимо этой галереи я видел еще три другие, идущие в трех совершенно противоположных направлениях.
— Их пробили, чтобы убедиться, что по всему плато камень одного и того же сорта.
— А это так?
— Именно так.
Папаша Огюстен вполне доверял словам Мадлена; но еще больше он верил своим глазам, поэтому он вернулся в каменоломню, зажег свечу и быстро осмотрел три другие галереи, изучая различные пласты камня с той же добросовестностью, что и прежде.
— Теперь, — произнес папаша Огюстен, — господин де Рамбюто может разрушить Париж до самого основания: у нас достаточно камня, чтобы отстроить его заново.
— Пусть он его разрушит, а мы быстро сделаем на этом состояние. Мне необходимо иметь пятьсот тысяч франков в год.
— Доверьте мне вести работы, господин Мадлен, и вы получите не пятьсот тысяч франков в год, вы получите миллион.
— В тот день, когда я заработаю миллион, если это случится за один год, папаша Огюстен получит сто тысяч франков из этой суммы.
— Отлично! — воскликнул папаша Огюстен, засмеявшись. — Значит, я могу жениться, и у моих детей будет пять тысяч ливров ренты.
Мадлен и папаша Огюстен вернулись на ферму. Анри уже встал и ждал их.
— Извините, дорогой крестный, — вместо приветствия сказал Анри, — это мой последний день безделья.
Мадлен наклонил его голову и поцеловал юношу в лоб, как делал это, когда тот был ребенком, а затем произнес:
— Анри, из своих тридцати тысяч франков я открываю кредит в десять тысяч франков папаше Огюстену.
И, повернувшись к каменолому, спросил:
— Этого достаточно, чтобы дело двигалось?
— Не только двигалось, но и мчалось со всех ног.
XLII
ЧТО МАДЛЕН СОБИРАЛСЯ ДЕЛАТЬ В ПАРИЖЕ
В тот же вечер Мадлен, взяв у папаши Огюстена опись различных сортов камня, который они могли поставлять, уехал в Париж.
Первое, что он сделал, прибыв в столицу современных франков, это отправился к своему портному и заказал черный сюртук, черный редингот и такого же цвета панталоны, но уже не широкие и мешковатые, какие он носил в прошлом, отправляясь в "Три короны" или в "Сиреневый хуторок", а такие, какие соответствовали его новому положению владельца каменоломни стоимостью в несколько миллионов, прибывшего предложить мягкий камень, королевский известняк и твердый строительный камень виднейшим архитекторам Парижа.
Но Мадлен не счел уместным ждать выполнения своего заказа, чтобы нанести визит своему другу Пелюшу. Он только взял с собой внушительных размеров корзину с дичью — с двумя кроликами, двумя куропатками и двумя фазанами, а также не менее внушительных размеров корзину с рыбой — двумя карпами, угрем, уловом голавлей и полусотней превосходных раков.
И вот в одно прекрасное утро с высоты своего табурета, на котором он восседал около супруги, г-н Пелюш, как и в самом начале этой истории, когда события, описанные нами на этих страницах, еще не омрачили заботами его величественный лоб, увидел через стекло витрины "Королевы цветов" Мадлена, одетого в свой деревенский наряд, с корзинами в обеих руках.
Надо сказать, что первым порывом г-на Пелюша было закричать: "Мадлен! О, этот несчастный Мадлен!" и броситься ему навстречу.
— Держите себя в руках, господин Пелюш, — язвительным тоном заметила ему супруга. — Не забывайте о том оскорблении, которое нанес этот человек вашей дочери, а следовательно, и вам.
— Нет, — ответил г-н Пелюш, — в этом нет ничего оскорбительного. Господин Анри — прекрасный молодой человек, и если его и можно в чем-то упрекнуть, так лишь в том, что он слишком деликатно обошелся с этим разбойником-американцем, как нарочно явившимся из своего Монтевидео, чтобы разрушить наши надежды.
— И к счастью, — еще более язвительно продолжила г-жа Пелюш, — прибывшим как нельзя более кстати, чтобы расстроить эту свадьбу, которая могла бы лишить нас всего состояния.
— Замолчи! — произнес г-н Пелюш тем повелительным тоном, к которому он прибегал в особо торжественных случаях. — Вот и Мадлен.
Госпожа Пелюш поджала губы, но ничего не ответила. Мадлен как раз открывал дверь.
— Здравствуйте, друзья, — приветствовал он их, — здравствуйте! Я сегодня вечером пригласил сам себя к вам на обед и принес вам закуски и жаркое.
И он опустил обе корзины на пол.
— Ты же знаешь, что и без этого ты для нас всегда желанный гость, дорогой Мадлен, — произнес г-н Пелюш, уже на расстоянии четырех шагов от него разводя руки, как это делают в театре.
Но раньше чем Мадлен обнял своего друга, Камилла, находившаяся на антресоли, где она обитала, и оттуда увидевшая Мадлена, спустилась вниз и бросилась на шею своему крестному.
Мадлен воспользовался этим долгим объятием, чтобы опустить в карман шелкового передника девушки письмо, которое он предложил написать своему крестнику и которое взялся доставить в руки адресату.
Хотя Камилла боялась щекотки не меньше Эльмиры, она даже не вздрогнула, почувствовав руку Мадлена, мнущую шелк ее одежды, и, напротив, лишь сильнее прижалась губами к его щеке, повторяя:
— Крестный, дорогой крестный!
Объятия г-на Пелюша, который за это время успел несколько остыть под разгневанным взглядом Атенаис, были менее восторженными, чем объятия Камиллы, но тем не менее подобающими для друга, чье общественное положение обязывает проявлять некоторую сдержанность.
После настала очередь г-жи Пелюш; она удовольствовалась реверансом в ответ на почтительный и натянутый поклон Мадлена.
Затем открыли обе корзины.
Мадлен, надо признать, немного рассчитывал на то, что этот подарок позволит ему вновь завоевать сердце г-жи Пелюш, поскольку он знал, что она прежде всего экономная хозяйка.
И в самом деле, когда г-жа Пелюш увидела, как из первой корзины вытаскивают двух кроликов с их серым мехом, двух куропаток в их красных сапожках и с пестрой грудкой, фазана с шеей красновато-коричневого цвета с золотистым отливом и с длинным хвостом, острым, словно кинжал; а из другой — карпов с позолоченным круглым брюхом, угря, тут же поползшего, точно он только что вылез из реки, и раков, которые, не заботясь об оставшихся на дне корзины голавлях, взбирались по ее стенкам, падали на пол и разбегались во всех направлениях, — глаза ее оживились. Одним взглядом, каким хозяйка окидывает сразу всю плиту, какой бы большой та ни была, она представила себе, как кролики тушатся в белом вине в сотейнике, угорь и один из карпов варятся в винном соусе в котле, куропатки жарятся на вертеле, раки краснеют в кастрюле и, несмотря на это потрясающее изобилие, на следующий день остаются еще самый большой карп и фазан, лежащие на полках кладовой!
— Барышни, — сказала она, — помогите-ка мне поймать этого угря и собрать раков.
В магазине г-на Пелюша развлечения были редкостью, поэтому девушки, несмотря на страх перед этим угрем, походившим своей величиной еще больше, чем формой, на змею, и перед этими раками, опирающимися на хвосты и выставляющими против их изящных белых пальчиков свои уродливые черные клешни, а возможно, как раз из-за этого страха — женщины не всегда ненавидят то, что внушает им страх, — они немедленно выступили против беглецов в шумный крестовый поход, в котором мадемуазель Пелюш стала Готфридом Бульонским.
Сила осталась за законом, как говаривал г-н Пелюш: угорь и раки были водворены обратно в корзину, где ожидали теперь того часа, когда им придется переселиться в котел и кастрюлю.
Вот только вполне возможно, что закон этот показался им несправедливым.
Господин Пелюш, в отличие от своей супруги, с грустью следил за распаковкой дичи и рыбы. Он думал о своем прекрасном украшенном резьбой ружье, бившем так метко, когда Мадлен стрелял одновременно с ним; он думал о тех блестящих охотах на землях Норуа, которые полагал уже своими или, по крайней мере, землями своего зятя; он думал о том высоком благоухающем клевере, который он беспечно топтал ногами в своем пренебрежении к живым цветам и растениям; он думал о тех лежащих на земле охапках соломы, откуда, если приподнять их носком башмака, порой вылетала куропатка, отставшая от стаи; он думал о зарослях кустарника, которые раздвигал дулом ружья, в то время как с другой стороны из них выскакивал кролик, причем г-н Пелюш успевал заметить лишь белый хвост зверька: тот скрывался в другом кустарнике, прежде чем наш охотник вскидывал ружье к плечу; он думал, наконец, о том славном лесном массиве Вути где, подобно Геркулесу в Немейском лесу, ему пришлось сражаться с чудовищем, шкуру которого он привез с собой в качестве трофея, — и, мечтая обо всем этом, он тяжело вздохнул.
Этот вздох заставил Мадлена поднять глаза.
— О чем ты думаешь? — спросил он своего друга.
— Я вспоминаю о тех прекрасных днях, которые более никогда не вернутся, — ответил г-н Пелюш, пытаясь придать своему голосу и лицу меланхолическое выражение.
— Но почему же эти прекрасные дни больше не вернутся?
— Ведь земли, где мы совершали наши подвиги, перешли в чужие руки.
— Как видишь, у нас осталось их еще достаточно, чтобы наполнить дом дичью и поделиться ею с нашими друзьями.
— Но ведь там мы встретимся с людьми, которых не должны более видеть.
— А почему ты больше не должен видеть этих людей или, точнее, этого человека?
— После того, что произошло?
— А что произошло? — спросил Мадлен. — Молодой человек, красивый, добропорядочный, безупречного поведения, считавший себя богатым, полюбил твою дочь и был любим ею. В тот час, когда ему предстояло жениться на ней, то есть когда должно было исполниться его самое заветное желание, он узнал, что состояние, которое, по его мнению и мнению всех кругом, было его собственностью, принадлежит другому. Ему было достаточно сказать одно слово, чтобы сохранить его целиком, подать один знак, чтобы у него осталось хотя бы половина. Однако он не сказал этого слова, не подал этого знака и принес свое счастье в жертву чрезмерной щепетильности. Но где, черт возьми, ты видел, чтобы чрезмерная щепетильность служила поводом, чтобы не встречаться с людьми?
— О! Я не отрицаю, что господин Анри — человек достойный во всех отношениях. И в ту минуту, когда ты входил в эту дверь, я как раз говорил госпоже Пелюш… Что я говорил тебе, Атенаис?
— Такое, что излишне повторять в присутствии вашей дочери.
— Почему же, — возразил Мадлен, — излишне повторять в присутствии Камиллы, что она подарила любовь человеку, достойному ее во всех отношениях? Ну так я вам говорю, что вы встретитесь вновь и что вы будете несказанно рады этой встрече.
— Я, разумеется, со своей стороны… Я не имею ничего против господина Анри, и если только случай сведет нас…
— Да, — заметила Атенаис, — но пускай он не слишком рассчитывает на подобный случай.
— Хорошо, — сказал Мадлен, — я приглашаю вас всех через пол года на открытие сезона охоты ко мне на ферму.
— Но, — произнес г-н Пелюш, — ведь земли больше не принадлежат господину Анри. Где же мы будем охотиться?
— Сначала на плоскогорье, где я убил всех этих куропаток, этих кроликов и этого фазана, а потом и на всех других землях. Они совсем не обязательно должны принадлежать господину Анри, чтобы я и мои друзья имели возможность охотиться на них.
— Я надеюсь, господин Пелюш, — произнесла Атенаис самым язвительным тоном, — что вы не позволите вашей дочери вновь встретиться с этим молодым человеком.
— О отец… — прошептала Камилла, умоляюще складывая руки.
— Пусть время само рассудит, госпожа Пелюш, — заметил Мадлен. — Благоразумный человек никогда не связывает себя обязательствами ни за, ни против, если речь идет о будущем. А сейчас, — продолжил он, — мне надо сделать кое-какие покупки, не ждите меня раньше ужина.
Затем, обращаясь к г-ну Пелюшу, он спросил:
— Станция наемных кабриолетов по-прежнему находится в арке ворот на улице Сент-Оноре?
— Прекрасно! — пробормотал Пелюш. — Он собирается взять наемный кабриолет, когда вполне можно довольствоваться экипажем за двадцать пять су, и это разорившийся человек!
— Во-первых, дорогой мой Пелюш, разорен Анри, а вовсе не я. Я вернул себе двадцать тысяч франков, которые мне были должны и на которые я уже не рассчитывал; ты видишь, что мое состояние, напротив, увеличилось на треть. Кроме того, в наемном кабриолете я сделаю все свои покупки за один день, в то время как в экипаже за двадцать пять су на это потребовалось бы три дня: как видишь — твои расчеты неудачны. И наконец, мой дорогой Пелюш, — добавил Мадлен, взяв в кармане пригоршню золота, — даю тебе слово, что, как я приехал в Париж с моими деньгами, так и вернусь домой с ними же, поскольку, вероятно, не потрачу того, что взял с собой.
И, сказав это, Мадлен раскрыл под самым носом у г-на Пелюша ладонь, на которой лежало пятнадцать или восемнадцать сотен франков наполеондорами и луидорами.
Странное дело! Какими бы богатыми ни были люди, работающие с бумагами, даже если через их руки проходит в день простых векселей на сто тысяч франков, вид золота всегда производит на них впечатление.
Господин Пелюш склонился перед золотом Мадлена и замолчал.
Однако, когда Мадлен вышел, он, повернувшись к г-же Пелюш, сделал головой и плечами движение, как бы говорившее: "Ты видишь!"
— Разумеется, — поняв мужа, ответила Атенаис. — Он проматывает свой капитал, а когда он его промотает, то прибежит к вам за помощью.
— О сударыня! — пробормотала Камилла. — Мне думается, мой крестный слишком горд, чтобы просить милостыню у кого-либо.
— Сударыня, — в свою очередь заявил г-н Пелюш, — я не знаю, проматывает ли мой друг Мадлен свой капитал или свои доходы, но одно я знаю точно: если бы не он, то вы, весьма вероятно, лишились бы супруга, а Камилла — отца. Он спас мне жизнь, и в этот день я сказал ему: "Мадлен, касса "Королевы цветов" отныне твоя касса". И если он пожелает взять оттуда разумную, понятное дело, сумму, то под расписку он ее получит.
— О отец, мой добрый отец! — вскричала Камилла.
В то время как семья Пелюш вела этот спор, предметом которого он являлся, Мадлен отправился на улицу Сент-Оноре, где взял напрокат кабриолет за почасовую оплату, несмотря на совет своего друга Анатоля по поводу бережливости.
Сначала он велел отвезти себя к ратуше. Здание ее как раз в это время почти полностью перестраивали, ремонтируя сразу три стены из четырех.
Он остановил кабриолет около ограды и вышел.
Множество рабочих обтесывали камень. Мадлен подошел к ним и убедился, что это был тот самый камень, который называли "королевский известняк"; однако этот материал, находившийся перед его глазами, был с менее плотным зерном, чем его собственный, а следовательно, и менее красивым. Мадлен завязал разговоре человеком, руководившим работами, и ему не составило труда выдать себя за государственного служащего. Поскольку его выдумка сработала, Мадлен без особых хлопот оказался по другую сторону ограждения.
Там он нашел архитектора.
Это был славный малый по имени Лезюер.
Мадлен отрекомендовался Лезюеру как человек, способный поставить ему королевский известняк лучшего качества и по более дешевой цене, чем тот, который архитектор использовал в данное время.
Архитектор с сомнением покачал головой.
— Сколько вы платите за ваш камень? — спросил Мадлен.
— Сорок пять франков за кубометр, с доставкой в Париж, — ответил архитектор.
— А если вам предложат более красивый камень, чем этот, по сорок три франка?
— Это составит два франка экономии, а поскольку нам надо еще сто тысяч кубометров, то мы выиграем на этом двести тысяч франков.
— Я повторяю вам, — промолвил Мадлен, — что могу поставлять королевский известняк лучшего качества, чем этот, по сорок три франка.
— Предположим, что он действительно окажется более красивым и я приму ваше предложение, сколько кубометров вы сможете поставить?
— Все сто тысяч кубометров, необходимые вам.
Архитектор с удивлением посмотрел на этого человека, одетого, как рабочий, и только что предложившего ему сделку на четыре миллиона триста тысяч франков.
— Сударь, — сказал он Мадлену, — если камень таков, как вы об этом говорите, и если вы в состоянии поставить нам требуемое количество, то торг, считайте, состоялся. Но как мы сможем проверить качество камня?
— Через две недели мои образцы прибудут на канал Сен-Мартен. Однако я хочу иметь гарантии.
— Какие?
— Через две недели, если мой камень по отзывам экспертов, выбранных лично вами, окажется лучше, чем ваш нынешний, то вы заключите со мной контракт.
— Без сомнения.
— Не могли бы мы заключить с вами небольшой договор по этому поводу?
— У меня нет таких полномочий.
— А кто их имеет?
— Господин префект.
— Господин де Рамбюто… что же, я не желал бы ничего лучшего.
— Вам поставят условием заплатить неустойку.
— Мне кажется, что и я имел бы право на подобную неустойку.
— Возможно.
— Хорошо! Я буду в полном распоряжении господина префекта. Я остановился в "Оловянном блюде"; меня зовут Мадлен.
Архитектор вытащил из кармана записную книжку и внес туда адрес Мадлена и его имя.
Мадлен распрощался с архитектором, сел в экипаж и отправился с такими же самыми предложениями в Гербовое управление, Банк, на Восточный, Северный и Лионский вокзалы — три последних здания еще только строились, а в первых велись ремонтные работы.
Везде он предлагал свой камень по более низкой цене, и везде ему обещали дать ответ в конце недели.
Действительно, в конце той же недели у него на руках были предварительные договоры с ратушей — на поставку шестидесяти тысяч кубометров королевского известняка, с Банком и Гербовым управлением — на поставку пятидесяти тысяч кубометров того же самого королевского известняка и, наконец, с тремя вокзалами — на поставку ста восьмидесяти тысяч кубометров мягкого камня.
В общей сложности, если качество камня оказалось бы таким, как он его объявлял, у него было заказов на тринадцать миллионов семьсот тысяч франков.
К тому же он заручился обещанием инженеров, которые строили оборонительные укрепления и которым предстояло закончить еще три или четыре форта, о покупке шестидесяти тысяч кубометров твердого камня по цене пятьдесят пять франков за кубометр, если образцы будут соответствовать их требованиям.
Господин Пелюш был сильно заинтригован, видя Мадлена в его почти министерском наряде: в черном сюртуке и белом галстуке; Мадлена, которого он никогда не видел одетым иначе, чем в пальто орехового цвета, казацкие шаровары и серую шляпу.
С кем Мадлен мог вести дела и ради чего ему понадобилось нанимать кабриолет не на одну поездку и даже не на час, а на весь день? Господину Пелюшу безумно хотелось самому узнать эту тайну или подговорить Камиллу, чтобы та расспросила крестного.
Но он не осмелился.
Что касается г-жи Пелюш, то она утверждала, будто Мадлен хлопочет у правительства место для г-на Анри, но добавляла, что она питает надежду на то, что г-н Пелюш никогда не отдаст свою дочь за служащего, то есть за человека, зависящего от капризов министерства или случайностей революции.
Что же касается Камиллы, то девушка не строила никаких предположений. Она полностью полагалась на Господа, утром и вечером прося егоза Анри; на свою любовь, над которой, как ей говорило сердце, неспособно восторжествовать никакое насилие; на привязанность и дружбу своего крестного, который, как она знала, был столь же предан, сколь настойчив.
Мадлен оставался непроницаемым и уехал, так и не сказав ни слова, которое помогло бы г-ну Пелюшу и его жене сделать какие-либо предположения о цели его приезда в Париж. С собой он увозил, само собой разумеется, ответ на привезенное им письмо.
XLIII
ОБРАЗЦЫ
Мы уже упоминали о том, что Мадлен возвращался в Норуа, заключив предварительных сделок приблизительно на четырнадцать миллионов.
Он прибыл в Виллер-Котре в половине восьмого утра; в девять часов он уже спрашивал свою старую кухарку, где находятся сейчас папаша Огюстен и Анри.
Оба были в каменоломне.
Мадлен потер ладони.
— А во сколько Анри ушел туда?
— В пять часов утра, как обычно.
Мадлен потер ладони сильнее.
— Во сколько он возвращается к завтраку? — спросил Мадлен.
— Он не приходит есть, ему носят еду в каменоломню.
— О дорогое дитя! — вскричал Мадлен. — Я буду завтракать вместе с ним!
И, взяв свою падубовую трость с ручкой-птицей, Мадлен поспешил к каменоломне; было пятнадцать минут десятого.
Добравшись до плато, он остановился, и его сердце переполнилось радостью.
Никогда еще ни один генерал не испытывал подобного удовлетворения при виде лагеря, приказ о работах в котором он отдал при своем отъезде и который по своем возвращении нашел уже полностью укрепленным.
Чрево горы было раскрыто, тысяча кубометров различных пород камня, целыми кусками или уже распиленного, лежала на площади в двести квадратных метров.
Вынутый грунт использовали для устройства пологого спуска, который вел к самой реке.
Шестьдесят рабочих поглощали свою девятичасовую еду с веселой беззаботностью и воодушевлением людей, получивших в назначенный час плату в соответствии с выполненной ими работой.
Два человека, одетые в блузы и сидевшие друг против друга на глыбах камня, ели то же самое, что и их рабочие, расположившись на великолепном кубе королевского известняка: распиленный крестообразно, он должен был дать четыре кубометра.
Один из них не снимал фуражку, защищавшую его лысый череп, другой, совершенно не опасаясь за свою голову, украшенную великолепной шевелюрой, положил свою фетровую шляпу на землю.
Подойдя к ним, Мадлен узнал мастера-каменолома и его ученика — папашу Огюстена и Анри.
При виде его оба вскрикнули от радости.
Мадлен бросился в объятия Анри.
— Как, — смеясь, сказал молодой человек, — вы меня узнаете, крестный?
— И нахожу тебя еще красивее, чем когда-либо! — воскликнул Мадлен.
— В этом вы не похожи на господина Жиродо, который не узнает меня с тех пор, как я надел блузу. Но, правда, Жюль Кретон и господин мэр Вути, ежедневно осматривающие работы, относятся ко мне с гораздо большей теплотой, чем обычно.
— Значит, дела идут, папаша Огюстен?
— Вы видите, господин Мадлен, мы вытащили на поверхность около тысячи кубометров камня.
— А как Анри? — смеясь, продолжал Мадлен. — Он уже освоился с новым занятием?
— Можно подумать, что он занимался этим всю жизнь, — ответил папаша Огюстен.
— Почему ты не надел свой орденский крест, Анри?
— На эту блузу?
— Ну и что? Никогда еще ты не был более достоин носить его; это польстит людям, работающим под твоим началом. Надевай его завтра же, тем более что это создаст благоприятное впечатление: начальник работ, награжденный крестом. Но послушайте, меня интересует еще вот что: когда же вы мне дадите поесть? Я умираю от голода!
— Черт! — смеясь, ответил Анри. — У нас есть хлеб, сыр и вода из реки.
— Плачевный завтрак!
— Такой же, как у этих честных людей, а поскольку я не хочу ни унижать их, ни пробуждать в них зависть, то я живу как они.
— Хорошо, пусть будет кусок хлеба и сыр, смоченный в речной воде. Впрочем, ведь мы же рабочие, не правда ли, папаша Огюстен? Будем же жить как рабочие, как говорит Анри. Однако поскольку я рассчитываю на теплый прием со стороны моих новых компаньонов, то назначаю вознаграждение в сорок су каждому работнику.
— Все слышали? Каждому причитается вознаграждение в сорок су.
— Ура хозяину! — закричали рабочие.
— А теперь, когда предобеденная молитва произнесена, пора за стол.
Мадлен воздал должное завтраку, каким бы скудным он ни был; затем, в то время как Анри наблюдал за возобновлением работ, он отвел в сторону папашу Огюстена и задал ему вопрос:
— Ну как, потерь нет?
— Напротив, действительность превзошла наши ожидания.
— Когда я смогу получить образцы всех разновидностей камня?
— Через три дня.
— А когда они прибудут в Париж?
— В середине следующей недели. Вы видите, наклонный спуск уже установили; на катках блоки доставят к реке, а уже там мы погрузим их на баржу, которая пойдет в Париж через Ла-Ферте-Милон и Мо. Похоже, дело не терпит отлагательства?
— Да, время торопит.
— Значит, парижанам нужен наш несчастный бутовый камень?
— Да, нужен, и, боюсь, даже слишком нужен.
— Ну что же! Да пожелай они хоть двести тысяч кубометров, они их получат.
— А если они попросят вдвое больше?
— Гм! — хмыкнул папаша Огюстен, изумленно раскрыв глаза.
— Да, вдвое?
— Хорошо, черт возьми, уж мы позаботимся о том, чтобы они их получили; ведь это всего лишь вопрос рабочих рук.
— Пусть так, но пока, папаша Огюстен, никому ни словечка о том, что я вам сейчас сказал.
— И даже господину Анри?
— Особенно господину Анри. И давайте отберем самые лучшие образцы.
— Идемте со мной.
Мадлен и мастер-каменолом стали осматривать камни, обходя их один за другим; они отбирали превосходные образцы, причем такие, которые должны были выдержать обтесывание. Три дня спустя камни уже были на борту баржи.
И три дня спустя Мадлен вновь ехал в дилижансе.
Как и в прошлый раз ему не хотелось предстать перед своим другом Анатолем с пустыми руками.
Поэтому накануне отъезда он взял двух гончих, Ромбло и Пикадора, и с разрешения г-на Редона, купившего, как вы помните, лес Вути, углубился в заросли колючек, которые платили ему тем же, глубоко вонзаясь в его кожу.
За полтора часа Мадлен убил двух косуль.
В ту минуту, когда он свежевал вторую, раздавая гончим полагающуюся им часть добычи, за его спиной послышались шаги. Обернувшись, Мадлен узнал г-на Редона, который, подозревая, что сосед воспользовался данным ему разрешением, решил поинтересоваться, удачной ли была его охота.
Мадлен указал ему на двух косуль, лежащих на траве: одна из них предназначалась г-ну Редону, другая — г-ну Пелюшу.
Мадлен нисколько не грешил против истины, когда говорил своему другу Анатолю, что г-ну Анри или ему самому совершенно необязательно быть владельцами земель в Норуа, чтобы иметь возможность охотиться на них в свое удовольствие. Дело в том, что он никогда не забывал послать хозяину земли часть дичи, убитой на его территории, и поэтому владельцы земель, вместо того чтобы запрещать ему охоту, сами просили Мадлена охотиться в их владениях; особенно доволен бывал папаша Мьет, в результате этого взаимообразного обмена получавший каждую неделю свое заячье рагу или жаркое из куропатки.
Но, по правде говоря, г-н Редон ничем не напоминал папашу Мьета.
Господин Редон принадлежал к тому славному племени сельских дворян, которое в наше время с каждым днем становится все малочисленнее; его всякий раз приходилось долго упрашивать принять что-либо, а поскольку он, как правило, платил тем людям, с кем Мадлен посылал ему дичь, вдвое против того, что она стоила, Мадлен решил сам относить г-ну Редону предназначавшуюся тому добычу.
И на этот раз он не изменил своему обычаю: он связал копыта косуль, повесил по одной на каждое плечо, согласившись лишь на то, чтобы г-н Редон обременил себя его ружьем, и под тем предлогом, что ферма г-на Редона была ему по пути, пожелал проводить мэра до его дома.
Дойдя до двери его дома, он опустил одну из косуль на каменную скамью и промолвил:
— Черт возьми! Ноша слишком тяжела, я не могу нести ее дальше.
И, забрав свое ружье из рук г-на Редона, он отправился к себе на ферму.
— Вам всегда удается меня провести! — закричал г-н Редон вслед удалявшемуся с ухмылкой на лице Мадлену.
У г-на Пелюша не было слабости, присущей мэру Норуа, и его не приходилось с такими церемониями упрашивать принять что-либо. Поэтому, увидев Мадлена, а за его спиной посыльного с косулей, он издал возглас радости, которому словно эхо вторил радостный крик Камиллы; разница было лишь в том, что возглас г-на Пелюша относился к Мадлену и его косуле, а крик Камиллы — к ее крестному и г-ну Анри.
Госпожа Пелюш, пробовавшая мясо косули всего дважды в жизни — один раз в "Молочном теленке" в день своей свадьбы, а другой раз в замке Норуа у Анри, — соблаговолила поинтересоваться у Мадлена, как хранят мясо косули. Тогда Мадлену пришло в голову продолжить свой путь вместе с посыльным до магазина торговца съестными припасами, где он обменял половину своей косули, оцененную в семнадцать франков, на шартрский пирог с начинкой из молодых куропаток и на омара.
Затем он вернулся к г-ну Пелюшу с омаром, шартрским пирогом и половиной косули.
Не стоит и говорить, что Мадлен не был настолько жесток, чтобы покинуть магазин, не вручив Камилле то, что он привез для нее.
Анатоль для порядка навел кое-какие справки и, убежденный настойчивыми доводами г-жи Пелюш, что Мадлен наезжает в Париж, одетый в черный сюртук с белым галстуком, лишь ради того, чтобы добиться для г-на Анри места в одном из министерств, отважился на следующее замечание:
— Ты расточителен, Кассий, и поступил бы гораздо благоразумнее, если бы использовал все эти прекрасные подарки, чтобы найти покровителей своему крестнику.
Кассий Мадлен, совершенно не подозревавший того, что творится в голове у Анатоля, посмотрел на него, вытаращив глаза и широко открыв рот.
Затем после минутного молчания, причину которого не было нужды объяснять, так как лицо его выражало крайнее удивление, он спросил:
— Чтобы найти покровителей моему крестнику? Но почему мой крестник нуждается в покровителях?
— Чтобы получить то место, которого ты добиваешься от его имени.
— Слава Богу, — вскричал Мадлен, — моему крестнику не нужно место!
— Но ведь взрослый молодой человек, такой, как господин Анри, не может оставаться без дела, особенно если он разорен.
Мадлен покачал головой:
— У моего крестника, — заметил он, — есть место, о котором он ни у кого не должен просить.
— А я и не знал этого, — ответил удивленный г-н Пелюш.
Затем, не в силах сдержать свое любопытство, он спросил:
— В Париже?
— Нет, в провинции.
— Хорошее место?
— Так себе.
— Сколько оно приносит?
— Шесть тысяч франков в год.
— А-а! — откликнулся г-н Пелюш. — Для начала это не так уж и плохо. И при условии, если он и дальше будет устраивать своих начальников…
— Прежде всего, у Анри лишь один начальник, и этого начальника, ручаюсь тебе в этом, он всегда будет устраивать.
— А на этом месте, — продолжал г-н Пелюш, увлекаемый желанием узнать все подробности о жизни Мадлена, — на этом месте возможно рассчитывать на прибавку?
— Оно может давать тридцать, сорок, даже пятьдесят тысяч франков.
— Полно, ты шутишь.
— Нисколько. У него есть доля в одном предприятии.
— В каком же?
— В том, где я состою сам.
— Но разве ты не видишь, Анатоль, — раздраженно сказала потерявшая терпение г-жа Пелюш, — что твой друг не расположен сегодня к откровениям?
— И как раз, послушайте, — заметил Мадлен, — ваши слова, дорогая госпожа Пелюш, напомнили мне, что вы мне задали один вопрос, на который я так и не ответил.
— Какой же?
— Вы спрашивали меня, как сохранить мясо косули; ничего нет легче: вы относите ее к мяснику, тот вычищает внутренности и разрезает тушу. Вы заполняете большую миску отменным уксусом, настоянным на эстрагоне, кладете туда лук и лимоны, порезанные дольками, тмин, лавровый лист, перец, чеснок, петрушку, много соли и перца, опускаете туда бедро, лопатку и спину косули и оставляете так на неделю, если вы любите не слишком маринованное мясо, и на три недели, если вы любите его крепко маринованным; затем вы помешаете отбивные на решетку, а бедро и лопатку на вертел, не забывая о пикантном соусе, и подаете блюдо на стол горячим.
Поспешно вытащив часы, он вдруг закричал:
— О Боже мой! Уже одиннадцать часов утра!.. Хорошо, что я предусмотрительно привел в порядок свой туалет перед тем, как выйти из гостиницы. Иначе, — смеясь, добавил он, — мне пришлось бы заставить ждать покровителей моего крестника. — До свидания, Пелюш! Ровно в пять часов я буду у тебя; однако, если я не появлюсь в этот час, не ждите меня и садитесь на стол.
Мадлен, уже один раз заплативший посыльному, несшему косулю, отправив его за наемным экипажем, заплатил ему вторично, простился с Анатолем, Атенаис и Камиллой и ушел.
— Бедный малый! — пробормотал г-н Пелюш с видом глубокого сострадания. — Он закончит свои дни в приюте для бедных.
Мадлен позаботился о том, чтобы письменно предупредить всех своих клиентов о своем приезде, так что все они оказались на месте.
В первый день он должен был встретиться с архитекторами, строящими ратушу, Гербовое управление и Банк;
всем им требовалась одна и та же разновидность камня, то есть королевский известняк.
Он привел всех троих на канал Сен-Мартен.
Камень прибыл накануне — он был великолепен.
Каждый имел полные полномочия от тех, кого он представлял: архитектор из ратуши — полномочия от г-на де Рамбюто, архитектор Банка — от г-на д’Аргу, архитектор Гербового управления — от правительства.
В тот же день был заключен контракт на поставку ста шестидесяти тысяч кубометров королевского известняка на сумму в шесть миллионов восемьсот восемьдесят тысяч франков.
На следующий день настал черед директоров Восточной, Северной и Лионской железных дорог. Они также, найдя камень подходящим для себя, заключили сделку на сумму в шесть миллионов восемьсот двадцать тысяч франков, то есть на поставку ста восьмидесяти тысяч кубометров мягкого камня.
Общая сумма контрактов составила тринадцать миллионов семьсот тысяч франков, что давало, благодаря близости реки и удобному сообщению с Парижем, чистую прибыль более чем в три миллиона.
Мадлен ничем не выказал своего удовлетворения ни г-ну Пелюшу, ни его супруге, ни даже Камилле, но он вновь, не зная, удастся ли ему раньше сентября выбраться в Париж, стал настойчиво приглашать г-на Пелюша провести сезон охоты на ферме.
Камилла слушала, молитвенно сложив руки. Атенаис пробормотала, нахмурив брови:
— Но вы отлично знаете, господин Пелюш, что это невозможно.
Господин Пелюш, сгоравший от желания возобновить свои прошлогодние подвиги, отказывался весьма неловко. Но когда Мадлен пообещал владельцу "Королевы цветов", что тот сможет убить шесть косуль наподобие той, что он привез, и, по крайней мере, дюжину фазанов, с губ г-на Пелюша слетело: "Хорошо, посмотрим". Мадлен поручил Камилле поддерживать у отца подобные настроения и укреплять их, несмотря на постоянное противодействие со стороны г-жи Пелюш.
Вернувшись, Мадлен нашел Анри за работой; к его блузе был приколот орденский крест. Бывший торговец игрушками отвел в сторону папашу Огюстена и сообщил ему о подписанных договорах.
На этот раз они были окончательными.
— Ну так что? — спросил у него папаша Огюстен.
— Ну так что? — ответил Мадлен вопросом на вопрос.
— Нужно знать, — сказал папаша Огюстен, — хотите ли вы сразу получить миллион, организовав компанию, или же рассчитываете вести разработку своими собственными силами, ни с кем не делясь.
— А если я буду вести дело в одиночку и ни с кем не делясь, как скоро пятьсот тысяч франков банковскими билетами смогут оказаться на моем столе?
— Вам потребуется от двух до двух с половиной лет.
— А если я создам компанию?
— Самое большее пять или шесть месяцев.
— Организуем или, точнее, организуйте общество, папаша Огюстен. Я всегда буду достаточно богат, а вот счастье к детям никогда не придет слишком рано.
XLIV
ГЛАВА, В КОТОРОЙ ГОСПОДИН ПЕЛЮШ ГОТОВ ПРИЗНАТЬ, ЧТО ОН НЕ В СИЛАХ РАЗГАДАТЬ СМЫСЛ ПРОИСХОДЯЩЕГО
Пол года спустя знаток промышленных работ мог бы целый день без устали любоваться трудом двухсот пятидесяти рабочих, из которых одни обтесывали, другие распиливали, третьи, наконец, вытаскивали огромные каменные блоки из каменоломни Норуа под руководством папаши Огюстена и Анри, подбадриваемых и контролируемых Мадленом.
Внутрь горы в ее гранитное чрево вели три отверстия; от каждого из них были проложены рельсовые пути, по которым глыбы королевского известняка и мягкого камня доставлялись к берегу реки.
Там вступали в действие подъемные краны, они подхватывали эти глыбы, снимали их с платформ и переносили на баржи, которые, едва оканчивалась погрузка, сплавлялись вниз по Уркскому каналу в направлении Ла-Ферте-Милона и Мо и попадали в канал Сен-Мартен.
Весь путь от Порт-о-Перша до Ла-Виллета был, как пунктиром, отмечен этими баржами, двигавшимися беспрерывно одна за другой к Парижу.
Дело в том, что слух о превосходном качестве камня из карьера, принадлежавшего Мадлену, широко распространился, и Кассий теперь не только поставлял королевский известняк для ратуши, Гербового управления и Банка, а мягкий камень — для трех вокзалов и твердый — для оборонительных укреплений, он также продавал в частные руки песчаник и бутовый камень: песчаник по девять франков, бут — по тридцать.
Впрочем, как ясно из первых строк этой главы, работы в каменоломне, начатые на тридцать тысяч франков Мадлена, приобрели огромный размах благодаря коммандитному товариществу с капиталом в миллион двести тысяч франков, основанному стараниями папаши Огюстена.
Ведь именно папаша Огюстен, чей талант в этой области нам известен, имея на руках договора, заключенные Малленом, отправился к самым богатым людям округи и предложил им войти в дело. Правда, для их согласия вовсе не понадобилось ни настойчивых упрашиваний, ни долгих визитов.
Первые шесть человек, к которым он обратился, взяли каждый на двести тысяч акций.
Акционерами стали г-н Редон, папаша Мьет, Жюль Кретон, г-н Жибер из Суси, г-н Данре из Фавроля и еще один здешний землевладелец.
Три акции были предоставлены Мадлену как учредителю; кроме того, он получил шестьсот тысяч франков единовременно в возмещение принадлежавшей ему на правах собственности каменоломни.
Четыреста тысяч франков уставного капитала предназначались на проведение работ или, точнее, на то, чтобы эти работы начались.
В тот день, когда папаша Огюстен принес Мадлену решение общества, согласно которому тому представлялось шестьсот тысяч франков наличными и шестьсот тысяч франков акциями, Мадлен, верный своему слову, дал папаше Огюстену обещанные сто тысяч франков.
К концу шестого месяца работ первоначальная доля учредителей в двести тысяч франков уже стоила пятьсот тысяч.
Мадлен, если бы он пожелал продать свои акции, получил бы за них два миллиона.
В договоре ни слова не было сказано об Анри, который, по всей видимости, даже и не догадывался о финансовом положении крестного. Однако его жалованье было удвоено, и он, казалось, был полностью удовлетворен этой прибавкой.
Завершив сезон охоты и рыбной ловли, Мадлен, бывая наездами в Париже, продолжал наведываться, правда гораздо реже, к г-ну Пелюшу, чей прием стал несколько сдержаннее из-за отсутствия корзин с дичью, а в особенности из-за того молчания, которое Кассий хранил о своем крестнике, молчания, которое, на взгляд г-на Пелюша, было совершенно неприличным.
Но, настойчиво побуждаемый Мадленом, который рисовал ему великолепную картину будущей охоты, г-н Пелюш, в конце концов, к своему огромному удовольствию, дал твердое обещание Мадлену участвовать в продуктивном состязании по уничтожению кабанов, косуль, фазанов в лесу Вути, кроликов и куропаток на равнине Норуа и кроликов на плато Порт-о-Перша.
Труднее Мадлену было добиться, чтобы Камилла сопровождала отца; но тем не менее и это уже было почти обещано. Что касается г-жи Пелюш, то она заявила, что магазин не может оставаться без хозяев, и поэтому кто-то должен принести себя в жертву, а поскольку всегда приходилось жертвовать чем-то ей, то вполне естественно было, что и на этот раз дома останется она.
Все это было сказано тем язвительным тоном, которым г-жа Пелюш так умело пользовалась в тех случаях, когда любовь Пелюша к дочери брала верх над его снисходительностью к желаниям супруги.
Как бы ни оберегал г-н Пелюш свое достоинство офицера гражданского ополчения и как бы умело ни скрывал он свою почти детскую радость, охватывавшую его при одной мысли о приближении дня, способного вновь подарить ему наслаждения охоты, последнюю неделю августа хозяин "Королевы цветов" пребывал в лихорадочном возбуждении, вызывавшем у Камиллы безумную радость, а у г-жи Пелюш — неистовую зависть. Она уже говорила не о себе — о том, что она будет не только покинута, но и забыта, причем одному Богу известно, на какое время, — но об охлаждении у г-на Пелюша интереса к серьезным делам, охлаждении, свидетельствующем о роковом стремлении у него последовать примеру его друга Мадлена; однако г-н Пелюш лучше, чем кто-либо, знал предсказания, которые он сам делал о несчастной участи своего друга, уготованной Кассию в последние годы его жизни, предсказания, которые неминуемо должны были сбыться из-за его многочисленных наездов в Париж и его немыслимых трат на наемные экипажи и посыльных.
На следующий год должно было стать ясно, устоит ли ферма, раздавленная ипотекой, перед этой безумной расточительностью.
Господин Пелюш мысленно делал эти предсказания, заполняя свои сумки дробью, пороховницу — порохом, дорожную фляжку — водкой. Он одну за другой брал на мушку ружья барышень из магазина и оставался глух к их крикам ужаса. Он вынудил Камиллу привести Блиду, ее верную подругу, ее наперсницу, ее единственное утешение, чтобы та служила мишенью для его незаряженного ружья.
И наконец, что бы там ни говорила г-жа Пелюш о грозящих расходах и о насмешках, ждущих его, г-н Пелюш отправился в полицию за разрешением на ношение оружия, повесив ружье на плечо и взяв в руки удостоверение кавалера Почетного легиона.
В свою очередь Мадлен сделал все возможное, чтобы придать началу этого охотничьего сезона подлинную торжественность. Кроме двенадцати фазаньих курочек и четырех петухов, выпущенных им в лесок Вути, он расселил еще двести молодых фазанов, которые были высижены курами и которых он выкормил муравьиными яйцами; наконец, вокруг этого переполненного дичью заповедника он посеял гречиху, чтобы фазаны, находя поблизости свое излюбленное зерно, даже и не помышляли бы отправляться на пастбище.
Что касается плато, то не было никакой необходимости заселять его кроликами. Чем больше их там отстреливали, тем больше их там становилось, и работы в каменоломне не заставили этих дерзких соседей покинуть ни пяди зарослей вереска или хотя бы одного колючего куста.
И вот наступило 31 августа.
Все постоянные гости были приглашены на 1 сентября в семь часов утра; открытие сезона приходилось на воскресенье. Только один г-н Пелюш должен был прибыть накануне и заночевать в доме, и 29-го, в четверг, он объявил в письме, что если, полагаясь на обещание Мадлена, молодые люди не скажут друг другу ни единого слова о любви, то в семь утра он сядет в дилижанс и прибудет в Виллер-Котре в два часа дня. Он не смел надеяться, что Мадлен, столь занятый накануне охоты, приедет его встречать. Однако Камилла, вежливо добавлял г-н Пелюш, была бы весьма счастлива увидеть своего крестного на целый час раньше.
Письмо г-на Пелюша было пересказано Анри, и молодой человек с печальным видом, но без малейших возражений поклялся Мадлену, что Камилла не услышит от него ни единого слова, способного оскорбить отцовскую щепетильность.
В пятницу в половине второго Мадлен запряг лошадь в повозку и отправился в Виллер-Котре.
Было несколько минут третьего, когда в конце Суасонской улицы послышался грохот колес тяжелой кареты. Мадлен, не желавший ни на секунду оттягивать радостный миг встречи двух любящих сердец, ждал путешественников на почтовой станции, не распрягая лошадь, чтобы его друг с дочерью, выйдя из дилижанса, могли бы тут же сесть в повозку. Еще издали он заметил два лица, показавшиеся в окнах кареты. Не стоит и говорить, что это были г-н Пелюш и Камилла.
Камилла выпрыгнула из дилижанса, едва он остановился; г-н Пелюш, напротив, спустился на землю, величественно пятясь задом, и попросил оставшихся внутри пассажиров подать ему ружейный футляр. Он прибавил:
— Я полагаю, мне не стоит советовать вам крайне осторожно обращаться с этим великолепным оружием, ведь я имел честь положить его внутрь на ваших глазах!
Один из пассажиров поспешил со всей уважительностью к такому ружью, даже скрытому футляром, исполнить пожелание г-на Пелюша.
Господин Пелюш принял футляр на руки, как кормилица берет ребенка.
В это время Камилла, у которой не было такого ружейного футляра, а следовательно, ей и не надо было прижимать его к груди, обняла крестного и спросила:
— Как чувствует себя Анри?
— Великолепно. Он обожает тебя, но дал клятву, что не произнесет ни слова любви, и я предупреждаю тебя, что он ее сдержит.
— Но я такой клятвы не давала, — прошептала Камилла.
— Что такое? — сказал г-н Пелюш.
— Ничего, — ответила Камилла. — Я сказала крестному, что очень счастлива увидеть его вновь.
— Должен ли я достать мое ружье из футляра? — спросил г-н Пелюш.
— Для чего?
— На тот случай, если, как и в первый мой приезд, на дорогу выскочит косуля.
— Мы найдем достаточно косуль в заповеднике Вути, — промолвил Мадлен, — поэтому оставим в покое тех, что принадлежат государству.
— Кстати, а как этот негодник Фигаро? — спросил г-н Пелюш, увидев на пороге гостиницы хозяина, продавшего ему собаку.
— Фигаро бесподобен, — отвечал Мадлен. — Я буду неблагодарным человеком, если он не станет есть мясо три раза в день и не получит золотой ошейник и серебряную конуру.
— Ну вот, тебе осталось только обожествить эту собаку, — сказал г-н Пелюш, устраиваясь в глубине повозки. — По правде говоря, ты ни в чем не знаешь меры.
Мадлен ничего не ответил; он посадил Камиллу слева, сам сел с правой стороны, взял кнут и слегка прошелся им по спине великолепной лошади, пустив ее крупной рысью.
Не прошло и получаса, как они перевалили через вершину второй горы Данплё и стали спускаться к ферме Мадлена.
— Но где же ты разместишь всех гостей? — спросил г-н Пелюш. — Ведь я полагаю, что в этот раз, именно потому что ты разорился, их будет гораздо больше, чем в прошлом году?
— Дорогой Пелюш, — ответил ему Мадлен, — от твоей проницательности мне иногда становится страшно за тех, кто хотел бы что-то скрыть от тебя. Да, у меня соберется еще больше людей, чем в прошлом году, потому что, именно когда ты беден, следует обзаводиться друзьями, но пусть тебя не волнует вопрос, где ты будешь жить. Замок был предоставлен в мое распоряжение его нынешним владельцем, и ты сохранишь за собой свою прежнюю комнату, если только не предпочтешь ей какую-нибудь другую, и в этом случае тебе будет предоставлено право выбора. Что касается Камиллы, то, полагаю, она не захочет изменить своей комнатке.
— О нет, крестный! — вскричала Камилла, из писем Анри зная, что эта комната стала ее собственной.
— Но мне кажется, — заметил г-н Пелюш, — что если господин Анри живет с тобой, то место Камиллы рядом с ее отцом, и в этом случае она должна жить со мной в замке.
— Камилла остановится вместе с тобой в замке, если ты на этом настаиваешь; но вот уже полгода, как Анри живет в охотничьем домике, оттуда ему удобнее наблюдать за работами.
— Какими работами? — спросил г-н Пелюш.
— За трудом нескольких рабочих, которых мы наняли.
Отвечая на вопросы г-на Пелюша, Мадлен въехал во двор фермы, выпрыгнул из коляски на землю, предложил Камилле руку, помогая ей спуститься, и сделал то же самое для своего друга.
— Но, — сказал г-н Пелюш, — я полагал, что моя комната находится в замке, а не на ферме?
— Действительно, она в замке, — отвечал Мадлен, — но, поскольку мы ужинаем на ферме, я подумал, что ты отправишься к себе лишь после ужина. А пока ты можешь воспользоваться моей комнатой, чтобы заняться своим туалетом, если находишь это нужным.
В это время в разговор вмешался новый персонаж. Это был г-н Фигаро. Лениво развалившись перед очагом на кухне, пес услышал голос Мадлена и прибежал, чтобы сказать ему: "Добро пожаловать!"
Мадлен так горячо отвечал на его ласки, что г-н Пелюш, увидев, как его друг целует собаку в морду, почувствовал, что его человеческое достоинство задето, и не мог удержаться, чтобы не съязвить:
— Ты не прав, Кассий, что так фамильярничаешь с животным, в конце концов всего лишь собакой; одна из причин презрения, которое арабы испытывают к нам, как раз и состоит в том, что мы позволяем себе ласкать и даже целовать этих четвероногих. Посмотри, я не поступился своим достоинством ради него, и он даже не смотрит в мою сторону, хотя я такой же хозяин для него, как и ты.
— Это потому, что он злопамятнее Иосифа, — смеясь, произнес Мадлен. — Ноты видишь, он признал Камиллу.
И в самом деле, не удостоив г-на Пелюша даже взглядом, Фигаро приберег для Камиллы самое влюбленное свое ворчание и самые преданные повиливания хвоста.
Камилла, заботясь о мнении арабов не больше, чем ее крестный отец, и забыв нападки Фигаро на Блиду, к великому возмущению г-на Пелюша, вознаградила Фигаро за его ласки.
В эти минуты в воротах показался молодой человек в панталонах из тика и блузе из серого полотна, его длинные черные локоны выбивались из-под фуражки из такого же серого полотна, как и его блуза; в руках он держал линейку, к отвороту его блузы была приколота лента Почетного легиона.
— Господин Анри! — воскликнула Камилла, не в силах сдержать возглас одновременно радости и удивления.
— Господин Анри! — повторил г-н Пелюш. — Господин Анри, одетый таким образом! Молодой человек, занимающий место с жалованьем в шесть тысяч франков!
— В двенадцать тысяч, мой дорогой Анатоль. Со времени моего последнего визита к тебе в Париж его хозяин удвоил ставку.
Обнажив голову, Анри грациозно приблизился к крестному, с улыбкой протягивая ему руку, затем приветствовал Камиллу и г-на Пелюша с изяществом, резко контрастирующим с его нарядом.
— Дорогой крестный, — сказал он. — Я и не подозревал, что застану вас в подобном обществе, которое, я уверен, вы покинете с большим сожалением, пусть даже всего и на мгновение. Но сегодня суббота, день выдачи жалованья; вы обещали дать рабочим вознаграждение; к тому же из Парижа пришли два или три письма настолько важных, что я хотел бы незамедлительно ознакомить вас с ними.
— Дорогая Камилла, — сказал Мадлен, — твой отец сказал бы тебе: "Дела прежде всего". Поднимайся в свою комнату, дорогу ты знаешь, а я провожу твоего отца в мою спальню.
Затем он добавил, повернувшись к молодому человеку:
— Анри, ты найдешь меня в моем кабинете, куда войдешь через дверь с лестницы и откуда выйдешь тем же путем, чтобы не беспокоить моего друга Пелюша… Ступай, Камилла, идем, Анатоль.
Камилла сделала Анри грациозный реверанс, на который тот ответил почтительным поклоном. Господин Пелюш, собираясь последовать за своим другом и Камиллой, соблаговолил в знак приветствия поднести руку к своей фетровой шляпе. Анри, оставшись один, спросил:
— Когда я могу подняться к вам, дорогой Мадлен?
— Через пять минут, — ответил тот. — Этого мне хватит, чтобы устроить Анатоля в его комнате.
Камилла ушла в одну сторону, Анатоль и Кассий удалились в другую. Анри посмотрел на часы, чтобы подняться в кабинет к Мадлену в точно назначенное время.
Господин Пелюш был равнодушен к топографии фермы, но совсем иные чувства испытывала Камилла. С радостью обнаружив, что в ее комнате все осталось на прежних местах, она немедленно подбежала к окну, возле которого привыкла обмениваться утренним приветствием с Анри.
В комнате Мадлена также ничего не изменилось. За исключением черного сюртука и панталон, сшитых им для поездок в Париж, он ни в чем не отступил от своих повседневных привычек.
Мы забыли, правда, упомянуть о великолепном хронометре Брегета, который, возвышаясь на каминной полке, привлек внимание г-на Пелюша. Он показывал время, отсчитывал секунды и обозначал дни недели и числа месяца.
— Черт! — сказал г-н Пелюш. — Какие у тебя отличные часы!
— Они не отстали ни на секунду за те полгода, что прошли с те пор, как я их приобрел.
— Такие часы должны стоить, по меньшей мере, шестьсот франков.
— Тысячу двести.
— Тысячу двести франков! И ты заплатил тысячу двести франков за часы?
— Что поделаешь! Когда занимаешься предпринимательством, необходимо знать точное время. Так что сюда приезжают со всей округи, чтобы поставить свои часы по моим.
— Значит, ты занимаешься предпринимательством?
— Как, разве я тебе об этом не говорил?
— Ни единого слова.
— О! Я тебе все расскажу. А вот и мой крестник вошел ко мне в кабинет, извини, я должен выслушать отчет.
— Иди, Кассий, иди, — сказал г-н Пелюш. — Имея трех продавщиц в магазине и семь или восемь рабочих в городе, я знаю, что значит вести дела. Однако, чтобы управляться со всем этим, мне вполне достаточно серебряных часов, доставшихся по наследству от отца и стоивших ему семьдесят франков. Вот они.
И он достал из карманчика своего жилета тот безобразный и устаревший предмет, который парижские уличные мальчишки весьма выразительно окрестили "будильник" или "тикалки".
— Да, да, — ответил Кассий, входя в кабинет. — Я знаю эти часы, очень ценю их и даже предложил бы купить их у тебя, если бы смел надеяться, что ты согласишься с ними расстаться.
— Ты прав, — подхватил г-н Пелюш, опуская свои часы обратно в карман. — Я не расстанусь с ними ни за какие деньги.
— Ну вот, ты видишь, я правильно поступил, купив свои собственные. Через десять минут я буду в твоем распоряжении.
В приоткрытую дверь г-н Пелюш в самом деле мог видеть Анри, с распечатанными письмами и сумкой в руках ждавшего Мадлена.
Было похоже, что в сумке лежали деньги.
Господин Пелюш подошел к туалетному столику, стоявшему около двери в кабинет. Отсюда, делая вид, что он умывает себе лицо и руки, г-н Пелюш мог слышать все, о чем говорили Анри и Мадлен.
— Оплата произведена? — спросил Мадлен.
— Еще нет, — ответил Анри. — Во-первых, никак не удается поменять семь или восемь тысяч франков золотом на серебро. Мы исчерпали все запасы серебряных монет на десять льё в округе, к тому же мы наняли на испытательный срок двадцать новых рабочих, и пока не договаривались с ними об оплате.
— Они работают, как остальные?
— Почти так же.
— Тогда им надо положить по четыре франка, как и другим.
— Такое же мнение и у папаши Огюстена.
— Как ты поступишь с твоим золотом?
— Я заплачу луидорами каждой пятерке рабочих, и это уже будет их забота найти разменную монету. Но в первую же вашу поездку в Париж вы должны будете договориться с Банком, чтобы он давал нам ежемесячно сорок тысяч франков серебром в обмен на векселя или на золото.
— Нет ничего проще. Сколько мы должны заплатить сегодня рабочим?
— Шесть тысяч семьсот франков.
— Ты помнишь, я им обещал дать вознаграждение первого сентября, если останусь доволен их работой?
— Да.
— Ты добавишь еще одну тысячу франков в счет этого вознаграждения, которое они сегодня в охотничьем домике получат из рук Камиллы. Я хочу, чтобы они выпили за здоровье моей крестницы.
Господин Пелюш весь обратился в слух.
Выплата шести тысяч семисот франков за неделю из расчета четырех франков в день предполагала наличие двухсот пятидесяти рабочих.
Мадлен обещал договориться с Банком, чтобы тот присылал ему ежемесячно в обмен на золото около сорока тысяч франков серебром!
И наконец, Мадлен желал, чтобы его двести пятьдесят рабочих получили вознаграждение из рук Камиллы с единственной целью заставить их выпить за ее здоровье!
Все это ум г-на Пелюша, каким бы превосходным он ни был, совершенно отказывался понимать.
Но так как Анатоль ни слова не хотел упустить из разговора, казавшегося ему хотя и непонятным, но весьма интересным, то он продолжал внимательно слушать, машинально натирая руки куском мыла, который таял на глазах и с которым он обращался бы, вероятно, гораздо бережнее, если бы тот принадлежал ему.
— О чем сегодня говорится в письмах?
— Пришли три письма: от господина де Рамбюто, господина Талабо и господина Шарля Лаффита. Они пишут, что если вам в конце месяца будут нужны деньги, то вы можете рассчитывать на них: первые двое предлагают сто пятьдесят тысяч франков каждый, а последний — сорок тысяч франков.
— Тебе нужны деньги?
— Нет, мы сможем прожить весь следующий месяц, пользуясь тем, что находится в кассе.
— Ну что ж! В таком случае ответь этим господам, что в этом месяце мне ничего не надо, но поскольку срок выплаты первых дивидендов приходится на второе число следующего месяца, то в конце сентября мне понадобятся эти суммы в двойном размере.
— Но эти дивиденды не превышают восьмидесяти тысяч франков.
— Ты думаешь, нашим акционерам не будет приятно узнать, что, помимо их дивидендов, в кассе лежит еще около полумиллиона?
— Я напишу в этом духе. Я могу даже попросить гораздо больше. Вы ведь знаете, что вам должны более миллиона.
— Нет, так будет лучше всего. Спускайся и подожди нас, сцена выплаты жалованья позабавит наших гостей; не забудь положить тысячу франков отдельно в маленький кошелек.
— О! Будьте спокойны.
Анри вышел через дверь на лестницу. Мадлен вернулся в комнату и застал г-на Пелюша, продолжавшего машинально намыливать руки, в то время как таз был переполнен пеной.
Господин Пелюш вытер руки и позвал Камиллу; она спустилась. Анри ждал ее у дверей и вручил ей небольшой кошелек с золотом.
Затем все направились к маленькому охотничьему домику, в котором жил Анри и где должна была состояться выплата жалованья.
Их ожидала целая армия рабочих.
При приближении Мадлена ряды разомкнулись, и Мадлен, Пелюш, Анри и Камилла прошли сквозь толпу из двухсот пятидесяти рабочих, державших свои фуражки в руках.
Первый этаж небольшого дома был превращен в контору, где Анри держал кассу.
Во всю ширину комнаты была установлена решетка, оставлявшая свободным лишь коридор, который вел от входной двери до выхода.
Анри попросил рабочих заходить внутрь по пять человек, объявив, что в будущем им будут платить каждому отдельно, к этому уже приняты все меры, но сейчас, поскольку в наличии только наполеондоры по двадцать франков, им предлагают получить один наполеондор на пятерых.
Предложение было принято без всяких возражений.
В своем втором обращении Анри попросил их не расходиться, получив плату, поскольку г-н Мадлен, намереваясь поблагодарить их за расторопность, с которой они приступили к работам, хотел бы из рук своей крестницы дать им доказательство своего удовлетворения.
Все было проделано, как и договаривались, в совершеннейшем порядке.
Рабочие по пять человек входили в дверь, получали один наполеондор на всех пятерых, выходили через другую дверь и оставались ждать.
Камилла вышла к ним, и все головы вновь обнажились.
— Друзья мои, — сказала она им, — мой крестный пожелал, чтобы я вас отблагодарила от его имени за ваш добрый вклад в дела предприятия, руководителем которого он является, и как доказательство его удовлетворения вот кошелек с тысячью франков, предназначенный для того, чтобы вы выпили за мое здоровье. Я вручаю его вашему бригадиру, чтобы он разделил их поровну между вами.
Бригадир вышел вперед и приблизился.
— Держите, — продолжала Камилла. — И да благословит вас Бог, вас, ваших жен и ваших детей!
Не знаю, был ли заранее отдан приказ, но едва эти последние слова были произнесены, как крики "Да здравствует мадемуазель Камилла!" и "Ура!" в честь Мадлена вырвались из двухсот пятидесяти глоток в таком едином порыве, какого г-н Пелюш никогда не мог добиться в дни смотров в честь избранного им правительства, хотя в его роте было девяносто человек.
Господин Пелюш был так сильно растроган, что у него на глаза навернулись слезы.
Мадлен вполголоса сказал несколько слов бригадиру, взявшему кошелек из рук Камиллы, и тот ответил знаком, подразумевавшим, что он все понял.
Все направились на ферму: Камилла, радостная и довольная, как в пору самых сладких своих надежд; Анри, задумчивый и даже встревоженный; г-н Пелюш, снедаемый любопытством (всякое мгновение вопрос уже был готов сорваться у него с языка, и он с трудом удерживал его); Мадлен, молчаливый, но при этом предающийся жестикуляции, которая свидетельствовала об обширных замыслах, зреющих в его уме.
На пороге фермы их ждал мэр Вути, пришедший сообщить весьма неожиданную новость, что в силу своей неограниченной власти он переносит на второе сентября открытие охотничьего сезона, назначенное ранее на первое число.
В ответ на все расспросы он удовольствовался следующим объяснением: желая дать завтра торжественный завтрак в честь Мадлена, всех гостей и всех охотников округи, он, воспользовавшись своим всемогуществом в муниципалитете, отложил начало охоты на послезавтра.
Господин Пелюш вначале был сильно раздосадован. Но заверения Мадлена — казалось, раздосадованного не меньше, чем остальные, — в отличном качестве завтрака несколько примирили его с этой задержкой, в конце концов ставшей всего лишь суточной отсрочкой.
Дело заключалось в том, что в замке Вути должно было праздноваться новоселье.
XLV
КАК БЫЛО ОТПРАЗДНОВАНО НОВОСЕЛЬЕ В ЗАМКЕ ВУТИ
На следующее утро все охотники, созванные Мадленом к семи часам утра по списку, который был составлен лично им, будучи предупреждены г-ном Редоном, что вместо охоты в этот день состоится большой званый завтрак, почти равный обеду, вместо того чтобы явиться ко времени, указанному в первом приглашении, и в костюмах охотников, явились в десять часов утра одетые так, как и подобает людям, собирающимся пировать у главного лица всей округи, то есть у господина мэра.
Встреча была назначена на половину одиннадцатого в замке Вути.
Господин Пелюш с наслаждением вновь разместился в своей великолепной комнате, которую он покинул с таким сожалением, не надеясь ее больше увидеть. Он безмятежно проспал там всю ночь и проснулся в девять часов.
Камилла, ответив церемонным реверансом на почтительное приветствие Анри, удалилась в свою маленькую комнатку, но спала она далеко не так долго, как ее отец, проснулась в пять часов утра и немедленно подбежала к окну в надежде услышать от Анри его обычное пожелание доброго утра; но никого не было видно, и ничто не выдавало присутствия в близлежащих зеленых зарослях какого-либо влюбленного, пусть даже и безмолвного. Камилла тогда вспомнила, что ей сказал ее крестный отец об обещании, данном г-ном Анри, не говорить ей больше ни слова о любви, и, сожалея, что ей довелось повстречаться с молодым человеком, столь твердо держащим свое слово, она все же не могла не восхититься подобной твердостью. И чтобы вознаградить его, а быть может, чтобы наказать, она послала тысячу воздушных поцелуев в том направлении, где, по ее предположениям, он находился, то есть в направлении охотничьего домика.
Что касается Анри, то, будучи верным своему обещанию, он удалился в охотничий домик, где крайне плохо провел ночь, почти не в силах заснуть; но когда стало рассветать, он подумал, что если ему не позволено говорить Камилле о своей любви, то ему вовсе не запрещено смотреть на нее, когда она появится в окне, а при своем тщеславии он нисколько не сомневался, что она в нем покажется. Поэтому он встал на рассвете и известными ему тропинками пробрался к маленькой хижине, называвшейся домиком садовника, но не потому, что в ней жил какой-то садовник, а потому, что внутри него лежали различные орудия садоводства; и там, глядя в оконце, все покрытое пылью, посреди которой он расчистил отверстие величиной с глазок, Анри стал дожидаться, когда откроется окно Камиллы. Как мы и говорили, оно открылось, и Анри с несказанным удовлетворением мог наблюдать, с каким старанием Камилла разыскивала его всюду, где он должен был быть, но где его не было, и счесть те поцелуи, которые она ему посылала, убежденная, что ее сейчас видят лишь Господь Бог и ангелы.
В половине одиннадцатого, как и остальные, она под руку со своим крестным отцом пришла в замок, и г-н Пелюш с удовлетворением отметил, что г-н Анри появился пять минут спустя после нее, и пришел с противоположной стороны.
Без четверти одиннадцать все собрались в главной гостиной. Господин Редон приветствовал прибывших с удивительной любезностью, а затем, вполголоса обменявшись со слугой несколькими словами, сказал:
— Господа, мы сядем за стол лишь в час, поэтому у нас есть время прослушать чтение одного документа, впрочем, надеюсь, не лишенного интереса. Господин Анри, будьте так любезны предложить вашу руку мадемуазель Камилле и садитесь возле нее. Поскольку это чтение в первую очередь затрагивает ваши интересы, то было бы кстати, если бы вы могли поделиться друг с другом чувствами, которые оно породит в вас.
Яркая краска выступила на лицах обоих молодых людей; но, не имея ни малейшего понятия о том, что должно было произойти, при всем своем замешательстве Анри встал, подал руку Камилле и вместе с ней направился к двери второй гостиной, обе створки которой распахнул перед ними слуга.
Во второй гостиной находились г-н Дерикур, нотариус Вути, и г-н Менессон, нотариус Виллер-Котре: один сидел за столом, на котором лежал двойной лист гербовой бумаги, другой расположился рядом. Оба были одеты, как и полагается нотариусам, то есть в черные сюртуки и белые галстуки.
В ту минуту, когда г-н Редон пригласил Анри взять Камиллу под руку, г-н Пелюш сделал протестующий жест, но Мадлен схватил его уже протянутую руку и придавил своей, сказав при этом:
— Подожди конца спектакля. Ты всегда успеешь выказать свой гнев и позже, если потребуется.
И он прошел вместе с ним в распахнутую дверь сразу же вслед за молодыми людьми.
Господин Пелюш лишь попытался оттолкнуть ногой Фигаро, поскольку пес, проявив полное неуважение к нему, хотел попасть в гостиную вслед за Анри и Камиллой; но Мадлен остановил ногу своего друга так же, как до этого он задержал его руку.
— Не трогай его, — смеясь, произнес он. — Собака более чем кто-либо имеет право услышать то, что сейчас будет зачитано.
За г-ном Пелюшем и Мадденом шли Жюль Кретон, г-н Жиродо и другие друзья Мадлена — все те, кого мы встречали в начале этой истории.
Это была та же самая гостиная, где за восемь месяцев до этого они собрались для чтения брачного контракта, так внезапно расстроенного неожиданным появлением дона Луиса.
Господин Пелюш обратил на это внимание Мадлена.
— Надо же! Действительно, это так, — ответил тот, словно до сих пор и не заметил этого.
Каждый сел в кресло; только одно оставалось незанятым рядом с Малленом, и он, подозвав Фигаро, сделал ему знак расположиться в нем.
Фигаро повиновался, нимало не удивившись, что ему оказывают такую непомерную честь, и уселся, словно был вполне разумным существом.
— Господа, — произнес г-н Редон, — прошу вас выслушать, не перебивая, то, что вам сейчас будет прочитано. Те, у кого появятся какие-либо замечания, смогут высказать их после прочтения.
Присутствующие переглянулись с видимым удивлением. Господин Пелюш схватил за руку Мадлена, но тот, когда цветочник уже собирался открыть рот, прервал его словами:
— Прежде послушай, ведь это ни к чему не обязывает.
Камилла и Анри вздрогнули и побледнели. Их взгляды жадно устремились к нотариусу, державшему в руках документ. Анри вытер со лба проступивший пот. Камилла прошептала:
— Боже мой! Боже мой!
Одни из двух нотариусов, г-н Менессон, поднялся и стал читать:
"Перед лицом метра Менессона, нотариуса Вимер-Котре, и его коллеги метра Дерикура, нотариуса Вути, предстали:
1) господин Анри де Норуа, совершеннолетний, занимающий должность руководителя работ в обществе "Мадлен и компания ", с жалованьем в тридцать тысяч франков…"
Анри подался вперед.
— Господин де Норуа, — обратился к нему г-н Редон, — вы, как и все остальные, связаны обещанием отложить все замечания до окончания этой процедуры.
Нотариус продолжил:
"… проживающий в своем замке Норуа коммуны Вути…"
— Как! — вскричал Анри. — В моем замке Норуа?
— Тише, ради Бога! — промолвил Мадлен. — Иначе мы никогда не закончим.
— Но однако… — заметил г-н Пелюш.
— Но ведь вам же обещали, господа, что все разъяснится в самом конце, — настаивал Мадлен. — Неужели так трудно дослушать?
Анри посмотрел на своего крестного с невыразимой признательностью. Камилла молитвенно сложила руки.
"… в своем замке Норуа, — повторил нотариус, — выступающий от своего собственного имени, с одной стороны;
2) господин Мадлен, действующий от своего имени в связи с приданым, которое он назначит ниже сего будущему супругу, — с той же стороны…"
Молодые люди одновременно воскликнули:
— Мой друг!
— Мой крестный!
— Тише! — крикнул Жюль Кретон голосом судебного пристава из "Женитьбы Фигаро".
Нотариус возобновил чтение:
"3) мадемуазель Камилла Пелюш, несовершеннолетняя девица, выступающая от своего собственного имени при содействии и с разрешения господина Пелюша, ее отца, — с другой стороны…"
— Здесь, — произнес г-н Пелюш, отдавая честь на военный лад, — но, однако…
— Тише! — повторил Жюль Кретон голосом еще более гнусавым, чем в первый раз.
"4) господин Пелюш, — читал нотариус, — отец, выступающий в присутствии собравшихся при сем как с целью засвидетельствовать свое одобрение, так и желая оказать содействие своей дочери и дать ей разрешение на этот брак, в связи с приданым, которое он назначит ниже сего в ее пользу, — с другой стороны…"
Господин Пелюш открыл рот, чтобы заговорить, но Мадлен закрыл его рот ладонью.
"Каковые стороны, — продолжал нотариус, — установили нижеследующие правовые условия брака, решенного между господином Анри де Норуа и мадемуазель Камиллой Пелюш:
Статья 1.
Имущество будущих супругов будет нераздельно".
— Пропустите, — сказал Мадлен.
"Статья 2.
Супруги не будут иметь обязательства по долгам и ипотеке одного и другого".
— Дальше, — повторил Мадлен.
Нотариус пропустил обычную статью контракта, чтение которой представлялось бесполезным Мадлену, и перешел к статье третьей: "Назначение приданого будущему супругу".
При упоминании этой столь важной статьи брачных контрактов все напрягли слух.
"По случаю брачного союза, — читал г-н Менессон, — господин Мадлен выделяет и назначает в виде приданого господину Анри, своему крестнику, а тот с благодарностью принимает сумму в триста тысяч франков билетами Французского банка, которую через мое посредство господин Мадлен в настоящую минуту вручает будущему супругу…"
И г-н Менессон достал из своего кармана пачку банковских билетов, которую он положил на стол со следующими словами:
— Подсчет проведен, я все проверил.
Анри встал, дрожащий и бледный как мертвец, явно намереваясь что-то сказать, но прежде чем он успел раскрыть рот, Мадлен повелительно сказал ему:
— Молчите и садитесь. Я прошу вас об этом, а в случае надобности я вам это приказываю.
Анри упал на стул и, закрыв лицо руками, разрыдался.
Мадлен подал знак нотариусу, который продолжил:
"Статья 4.
Назначение приданого будущей супруге.
По случаю брачного союза господин Пелюш со своей стороны выделяет и назначает в виде приданого мадемуазель Камилле Пелюш, своей дочери, будущей супруге, а та с благодарностью принимает сумму в триста тысяч франков билетами Французского банка, которая будет ей вручена при чтении контракта".
— Но, — вскричал г-н Пелюш, — что за ерунду вы здесь читаете, сударь? Неужели вы полагаете, что я прибыл открывать охоту, имея в кармане триста тысяч франков в банковских билетах?
— Не знаю, сударь, — спокойно ответил второй нотариус. — Но я знаю, что мне их вручили сегодня утром от вашего имени…
— Кто? — вскричал г-н Пелюш.
— Ваш друг Мадлен, и вот они.
Сказав это, нотариус в качестве противовеса приданому Анри положил на стол пачку в триста тысяч банковских билетов, произнеся, как и его коллега:
— Подсчет проведен, я все проверил.
— Мадлен! Мадлен! — вскричал г-н Пелюш, не зная, что ему делать: то ли рассердиться, то ли броситься в объятия друга.
— Отец, — воскликнула Камилла, — отец, я согласна, последуйте моему примеру!
И подобно Герсилии, подталкивающей Ромула и Тация в объятия друг друга, Камилла толкнула г-на Пелюша в объятия Мадлена.
С этого мгновения ни с той, ни с другой стороны более не последовало никаких замечаний.
Молодые люди переглянулись, опьянев от счастья, но все еще сомневаясь.
Мадлен подтолкнул Камиллу в объятия Анри так же, как до этого Камилла отправила г-на Пелюша в объятия друга.
Ничего нельзя было разобрать, кроме взрывов смеха, радостных всхлипов, бессвязных восклицаний.
Оба нотариуса, в противоположность античным авгурам, которые не могли смотреть друг на друга без смеха, одновременно вытащили платки из карманов и взглянули друг на друга, утирая слезу.
Жюль Кретон опрокидывал одно за другим кресла, а Фигаро прыгал, радостно лая и не подозревая, что он являлся первопричиной всего этого.
Анри, как ребенок, подошел к Мадлену и упал перед ним на колени.
Мадлен обнял его и прижал к груди.
— О мой благородный, мой достойный друг, — сказал ему Анри, — вправе ли я принимать от вас подобные благодеяния?
— Как?! Вправе ли ты? — вскричал Мадлен. — Полагаю, да.
— На каком основании? — спросил Анри. — Кто я вам? Ваш крестник, только и всего.
— Несчастный! — сказал ему Мадлен. — Неужели ты до сих пор не понял одного?
— Чего?
— Того, что эта бедная девушка, которую соблазнил граф де Норуа, твоя мать…
— Да?
— Это была моя сестра, неблагодарный!
Анри вскрикнул от радости и бросился на грудь Мадлену.
— Да, да, — вскричал он, — я был страшно неблагодарным!
— Ну, дети мои, — произнес Мадлен, — все это прекрасно, но мы забыли главное.
— Что же мы забыли? — спросил г-н Пелюш со слезами на глазах.
— Черт возьми! Мы забыли подписать контракт.
— Это верно, — заметил г-н Пелюш и, взяв перо, подписал гербовую бумагу первым.
Мадлен поставил свою подпись вслед за ним.
Затем — оба супруга.
После этого — все вперемешку, как попало.
Величественные росчерки обоих нотариусов завершили дело.
Когда была поставлена последняя подпись, дверь обеденной залы распахнулась, открывая вид на великолепно накрытый стол, и слуга объявил:
— Господин и госпожа де Норуа, кушать подано!
— О-о! — произнес Жиродо, единственный, кто с сожалением смотрел на происходящее. — Господин и госпожа де Норуа — еще рано их так называть!
— Во всяком случае, этого не долго ждать, — заметил г-н Редон, — так как в назначенный час мы отправимся в мэрию, а господин кюре обещал нас ждать до двух часов в церкви.
Все произошло так, как и было намечено. После великолепного завтрака, во время которого молодые люди и крошки не взяли в рот, они, все еще не веря своему счастью, совершенно оглушенные случившимся, выполнили все формальности обеих процедур: гражданского брака и венчания.
После венчания, как обычно, все прошли в ризницу, где каждый поцеловал новобрачную и расписался в книге записей.
Господин Пелюш взял перо в свою очередь и уже собирался поставить свое имя.
— Черт возьми! — внезапно вскрикнул он так громко, что все обернулись.
— Что случилось? — спросил Мадлен.
— А как же Атенаис? Ведь мы забыли о ней, только и всего!
— Полно, — усмехнулся Мадлен. — Завтра открытие охоты: пошлешь ей в корзинке с добычей уведомительное письмо.
— А, черт возьми! Тем хуже! — произнес г-н Пелюш решительным тоном, каким Цезарь воскликнул, переходя Рубикон: "Аlеа jacta est![23]" В конце концов она не ее родная мать, а я ее отец!
И он поставил свою подпись.
КОММЕНТАРИИ
ОХОТНИК НА ВОДОПЛАВАЮЩУЮ ДИЧЬ
Повесть "Охотник на водоплавающую дичь" ("Le chasseur de sauvagine") впервые публиковалась в газете "Эхо фельетонов" ("L’Echo des feuilletons") в 1858 г.; первое отдельное ее издание во Франции: Paris, Cadot, 2 v., 8vo, 1858.
Время действия в ней — 1818–1841 гг.
Перевод ее был выполнен специально для настоящего Собрания сочинений по изданию: Paris, Calmann-Levy, 12mo — и по нему же была проведена сверка с оригиналом.
Это первое издание повести на русском языке.
7… Лорд Байрон восклицает в своей поэме "Дон Жуан"… — Байрон,
Джордж Гордон, лорд (1788–1824) — великий английский поэт-романтик, оказавший огромное влияние на современников и потомков как своим творчеством, так и своей яркой мятежной личностью и стилем жизни; в своих произведениях, особенно поэмах, создал образ непонятого, отверженного и разочарованного романтического героя, породившего множество подражаний в жизни и в литературе. "Дон Жуан" — роман в стихах Байрона, начатый в 1818 г. и оставшийся незаконченным; посвящен разоблачению ханжеской морали современного автору общества.
Приведенной цитаты (во французском оригинале повести: "О тег, le seul amour auquel je fus fidele!") ни в "Дон Жуане", ни в поэме Байрона "Паломничество Чайльд Гарольда" найти не удалось.
… Самые прекрасные стихи Гюго, самые прекрасные стихи Ламартина посвящены морю. — Гюго, Виктор Мари (1802–1885) — знаменитый французский поэт, драматург и романист демократического направления; имел титул виконта и в этом качестве при Июльской монархии в 1845–1848 гг. был членом Палаты пэров, где выступал как либерал; при Второй республике в 1849 г. был избран членом Законодательного собрания; после бонапартистского переворота 1851 г. жил до 1870 г. в эмиграции.
Ламартин, Альфонс Мари Луи де Прат де (1790–1869) — французский поэт-романтик, историк, публицист и политический деятель, республиканец; в 1848 г. министр иностранных дел Второй французской республики.
… сколь благозвучно бы ни пел прилив в заливе Байи либо в бухте Агригента… — Байя — древнеримский город на западном берегу Неаполитанского залива Тирренского моря, великосветский курорт; обладал хорошей гаванью.
Агригент — древний город, располагавшийся на южном побережье Сицилии; основанный греческими колонистами в VI в. до н. э., в кон. III в. до н. э. был завоеван Римом; славился процветающим хозяйством и архитектурными памятниками; ныне на его месте стоит город Агридженто (до 1927 г. он назывался Джирдженти).
… волны, ласкающие Палермо или лагуну, которая омывает Венецию… — Палермо — один из древнейших городов Сицилии; располагается на ее северном побережье; в XI–XI11 вв. — столица Сицилийского королевства; в 1799 и 1806–1815 гг. столица королей Обеих Сицилий после их бегства из Неаполя; ныне — административный центр одноименной провинции.
Венеция — город в Северной Италии; расположен на островах Венецианской лагуны в Адриатическом море; в средние века купеческая республика, занимавшая одно из ведущих мест в европейской торговле, в том числе в торговле с Турцией и со всем Востоком.
… глухой рев необузданной стихии в бухте Дуарнене… — Дуарнене — бухта на западной оконечности Франции, в департаменте Финистер, расположенном в провинции Бретань; на ее южном берегу лежит одноименный городок.
… жалобный рокот Ла-Манша, бьющегося о скалы Кальвадоса… — Ла-Манш — пролив в восточной части Атлантического океана, отделяющий Англию от Франции, фактическая граница между этими государствами.
Кальвадос — департамент в северо-западной части Франции, в провинции Нормандия.
… лепет изнеженной Амфитриты. — Амфитрита — в греческой мифологии морская богиня, супруга бога моря Посейдона и мать Тритона.
… все это побережье — от Остенде до Бреста… — Остенде — бельгийский город и порт на Северном море, паромом связанный с городом Дувр в Англии.
Брест — портовый город, расположенный на западной оконечности Франции, в провинции Бретань; крупнейшая французская военно-морская база на Атлантическом побережье.
… Взморье Бланкенберге, развалины Арка, скалы Этрета, утесы Гавра, дюны Курсёля, рифы Сен-Мало и ланды Плугерно известны мне не хуже, нем равнины и леса моего родного края. — Бланкенберге — бельгийский курортный город, расположенный на побережье Северного моря, в 15 км к северо-востоку от Остенде.
Арк — скорее всего, имеется в виду Аркла-Батай, старинный городок во Франции (департамент Нижняя Сена), в 10 км от берега Ла-Манша, вблизи города Дьеп; в нем находятся развалины замка, возведенного ок. 1040 г. графом Вильгельмом, дядей Вильгельма Завоевателя по материнской линии.
Этрета — селение в Нормандии (департамент Нижняя Сена), на берегу Ла-Манша, в 27 км к северу от Гавра; в сер. XIX в., после того как его стали посещать известные художники и литераторы, стало модным курортом.
Гавр — крупный город и порт на северо-западе Франции, на берегу пролива Ла-Манш.
Курсёль — имеется в виду Курсёль-сюр-Мер (департамент Кальвадос), рыбацкое селение на берегу Ла-Манша, в 15 км к северу от Кана.
Сен-Мало — старинный укрепленный портовый город в Северо-Западной Франции (департамент Иль-и-Вилен), служивший в XVII в. одной из главных баз корсаров, которые нападали на суда враждебных Франции стран.
Ланды — низменные песчаные равнины по берегам Атлантического побережья Франции.
Плугерно — курортное селение в Западной Франции (департамент Финистер), в 25 км к северу от Бреста.
Родной край Дюма — район города Виллер-Котре (департамент Эна), где писатель родился и провел детские и юношеские годы.
… охотясь на суше, где мне попадались гаршнепы и турпаны. — Гаршнеп — небольшая птица семейства бекасовых из отряда куликов; имеет длинный тонкий клюв; живет в болотах средней полосы Европы и Азии; объект охоты.
Турпаны — род птиц отряда гусиных; обитает на крайнем севере Европы, Азии и Америки; промысловое значение их невелико.
… О мои дни в Трувиле, где я писал "Карла VI!" и "Ричарда Дарлингтона"! — Трувиль — курортный город на севере Франции, в Нормандии, административный центр департамента Кальвадос.
"Карл VII в замке своих вассалов" ("Charles VII chez ses Grands Vassaux") — пятиактная стихотворная трагедия, написанная Дюма в 1831 г.; 20 октября 1831 г. поставлена в парижском театре Одеон и в том же году выпушена отдельным изданием.
Карл VII Победоносный (1403–1461) — французский корольс 1422 г. из династии Валуа; смог занять престол только благодаря помощи народной героини Жанны д’Арк и лишь в 1429 г.; успешно завершил Столетнюю войну (1337–1453) с Англией; провел ряд реформ, ограничивших влияние крупных феодалов и укрепивших королевскую власть; организовал регулярную армию.
"Ричард Дарлингтон" ("Richard Darlington") — трехактная драма на современную тему, написанная в 1831 г.; 10 декабря 1831 г. с большим успехом была поставлена в театре Порт-Сен-Мартен; в следующем году вышла отдельным изданием.
В июле-августе 1831 г. Дюма путешествовал по Нормандии и посетил Руан, Гавр, Онфлёр и Трувиль.
… О мои ночи в Люке, где я любовался огнями гаврских маяков… — Люксюр-Мер — небольшое приморское селение в Нормандии (департамент Кальвадос), чуть восточнее Курсёля; расположено в 45 км к западу от Гавра.
… прочел на стенах кельи Шартрёзской обители… — Шартрёзская обитель — монастырь в провинции Дофине в Восточной Франции, основанный святым Бруно Кёльнским в 1084 г. и ставший колыбелью католического монашеского ордена картезианцев, который принял весьма строгий устав и прославился своим гостеприимством и благотворительностью; эта обитель (славящаяся, между прочим, производством знаменитого ликера) была закрыта в 1793 г., но в 1816 г. открылась вновь.
… бросаясь в почтовую карету, в дилижанс или в вагон поезда… — Дилижанс — в XVI–XIX вв. большой крытый экипаж для регулярной перевозки по определенному маршруту пассажиров, почты и багажа.
… В Дьеп! В Гавр! В Трувиль! В Л а-Делив ранду! — Дьеп — старинный город в Нормандии (департамент Приморская Сена), водным путем связанный с Парижем; морской курорт.
Ла-Деливранда — селение на побережье Нормандии (департамент Кальвадос), известное церковью, которая была основана в VII в., разрушена норманнами ок. 850 г. и перестроена в 1050 г. (в ней находится чудотворная статуя Богоматери).
9… дело было как-то вечером, в Брюсселе. — Брюссель — старинный город в Бельгии, известный с VII в., столица герцогства Брабант; в средние века входил в состав нескольких феодальных государств, а после наполеоновских войн — в состав Нидерландского королевства; с 1831 г. — столица независимой Бельгии; центр легкой промышленности и торговли; в нем сохранилось много архитектурных памятников средневековья и XIX в.
Дюма уехал в Брюссель из Парижа вечером 10 декабря 1851 г. вместе с сыном Александром и слугой Алексисом. Его отъезд был вызван как происшедшим 2 декабря 1851 г. государственным переворотом во Франции, так и судебными преследованиями писателя со стороны кредиторов. В Брюсселе Дюма нанял два дома на бульваре Ватерлоо, Nq73. Взяв кредит, он распорядился пробить разделявшую их стену и снести внутренние перегородки; в результате был создан необыкновенно красивый особняк, который стал местом встреч для маленькой колонии политических эмигрантов. В ноябре 1853 г., уезжая из Брюсселя, Дюма передал дом (поскольку он был снят им до 1855 г.) Ноэлю Парфе и своей дочери Марии.
… Мы сидели за столом втроем: Шервиль, Ноэль Парфе и я. — Шервиль, Гаспар Жорж де Пеку, маркиз де (1821–1898) — французский литератор; познакомился с Дюма в 1852 г. в Брюсселе и в 1856—
1862 г. регулярно с ним сотрудничал; затем был редактором ряда охотничьих журналов и написал много книг на тему охоты и рыбной ловли; в 1853 г. стал директором парижского театра Водевиль, но вскоре потерпел неудачу на этом поприще.
Парфе, Ноэль (1813–1896) — французский литератор и политический деятель; участник Июльской революции и противник Второй Империи; в 1849 г. был избран депутатом Законодательного собрания, а в 1871 г. — Национального собрания; долго жил в изгнании; автор политических сатир, переводчик басен И.Крылова; в 1852—
1853 гг., находясь вместе с Дюма в эмиграции в Бельгии, исполнял обязанности его секретаря.
… Утром мы проводили его в Антверпен… — Антверпен — город в современной Бельгии, морской порт на реке Шельда, близ Северного моря; с XV в., после упадка Брюгге, крупнейший торговый и транспортный центр Северной Европы; в кон. XVI в. считался самым большим городом мира; со второй пол. XVII в., когда по Вестфальскому миру 1648 г. (завершившему Тридцатилетнюю войну) устье Шельды было закрыто, начался его упадок, продолжавшийся до кон. XVIII в. Во время, описываемое в повести, город переживал период своего возрождения.
Дюма сопровождал В.Гюго в Антверпен 31 июля — 1 августа 1852 г.
… он сел на английский пакетбот… — Пакетбот — в XIX в. парусное или паровое судно, совершавшее между отдельными портами регулярные рейсы для перевозки грузов, почты и пассажиров.
… судно скрылось из вида за излучиной Эско. — Эско — французское название Шельды, большой реки в Северной Франции, Бельгии и Нидерландах (длина 430 км); истоки ее находятся во Франции (в департаменте Эна); она впадает в Северное море, образуя эстуарий, и является важной транспортной артерией, в которую могут входить крупные морские суда.
… Прочтите в сборнике "Созерцания" чудесные стихи, которые поэт посвятил мне в память об этом мгновении… — "Созерцания" ("Les contemplations"), стихотворный сборник В.Гюго, вышедший в свет в 1856 г.; создавался на протяжении двадцати пяти лет; представляет собой лирический дневник поэта.
Стихотворение под № 15 из пятой книги этого сборника, обращенное к Дюма (оно называется "А Alexandre Dumas" и имеет подзаголовок "R6ponse й la dddicace de son drame "La Conscience"" — "Ответ на посвящение к его драме "Совесть"") и написанное в декабре 1854 г., содержит воспоминание о прощании друзей при отъезде Гюго из Антверпена в Англию 1 августа 1854 г. В заключительных строках этого стихотворения дана превосходная характеристика всего творчества Дюма:
"Ты вновь займешься блистательным трудом своим — несчетным, Многообразным, ослепительным, успешным и светом озаренным…"… пытались отыскать на карте остров Джерси. — Джерси — самый крупный остров из группы Нормандских островов (см. след, примеч.). На этом острове в 1852–1853 гг. жил в изгнании Гюго, перед тем как переехать на соседний Гернси, где он оставался в эмиграции до 1870 г.
… одной из трех точек, образующих треугольник английских островов… — Имеются в виду принадлежащие Великобритании Нормандские острова в проливе Ла-Манш (англичане называют их Ченнел-Айленде, или острова Канала, — по английскому названию Ла-Манша), вблизи побережья Нормандии. Три самые крупные острова этой группы — Джерси, Гернси и Сарк — в плане действительно образуют треугольник.
… провел им через департамент Манил… — Манш (Ла-Манш) — департамент на северо-западе Франции, на полуострове Нормандия; район рыболовства и фермерских хозяйств; административный центр — город Сен-Ло.
… на пути с островов Сен-Маркуф в Гран-Кан. — Группа небольших островов Сен-Маркуф расположена у восточного побережья полуострова Нормандия, в 15 км к северу от устья Виры; эти острова относятся к департаменту Манш.
Гран-Кан — имеется в виду Гран-Кан-Мези, приморское селение в Северо-Западной Франции, в Нормандии (департамент Кальвадос), недалеко от правого берега Виры.
10… между Вейской отмелью и устьем Виры. — Вира (Вир) — река на западе Франции; протекает по полуострову Нормандия с юга на север и впадает в пролив Ла-Манш; длина 118 км.
Всйская отмель — мелководный прибрежный район к западу от устья Виры.
… не рискнул бы добираться ни до Мези, ни до Жефосса, ни до Кардонвиля. — Мези — деревня на правом берегу Виры, близ ее устья. Жефосс-Фонтене — деревня на правом берегу Виры, в 2 км к югу от Мези.
Кардон вил ь — деревня в 2 км к югу от Жефосса.
… в нескольких льё оттуда, между Тревьером и Бальруа. — Льё — дорожная мера длины во Франции; сухопутное льё равняется 4,444 км. Тревьер — селение в Нормандии, в департаменте Кальвадос, в 15 км к юго-востоку от Мези.
Бальруа — селение в Нормандии, в департаменте Кальвадос, в 15 км к югу от Тревьера.
11… вроде сплетения приключений, лежащего в основе сюжетов "Королевы Марго", "Графа Монте-Крис то" или "Трех мушкетеров"… — Здесь перечислены некоторые из самых знаменитых и популярных произведений Дюма.
"Королева Марго" ("La Reine Margot", 1844–1845) — роман из истории Франции XVI в.
"Граф Монте-Кристо" ("Le Comte de Monte-Cristo", 1844–1846) — авантюрный роман Дюма из быта современной ему Франции.
"Три мушкетера" ("Les Trois Mousquetaires", 1844) — самый популярный историко-приключенческий роман Дюма.
… в "Полине", "Консьянсе блаженном" и "Ашборнском пасторе" есть нечто романическое… — "Полина" ("Pauline", 1838) — остросюжетная повесть Дюма.
"Консьянс блаженный" ("Conscience 1’innocent", 1852) — сентиментальный роман Дюма, в котором любовная история разворачивается на фоне крушения империи Наполеона.
"Ашборнский пастор" ("Le Pasteur d’Ashbourn", 1853) — тонкий психологический роман, действие которого разворачивается в атмосфере таинственного.
… от "А" до "Я" — от "Отче наш" до "Аминь"… — "Отче наш" — название одной из основных христианских молитв, т. н. молитвы Господней, именуемой католиками по первым ее словам "Paternoster" (в православной традиции "Отче наш"). По евангельским преданиям, текст молитвы был составлен самим Иисусом, который затем научил ему апостолов. Церковные постановления и труды отцов церкви предписывают включать "Отче наш" во все службы. Все христиане обязаны знать эту молитву наизусть и повторять ее по меньшей мере трижды в день в установленное время, а также при начале какого-нибудь действия.
Аминь (гр. amen издр. — евр.) — заключительное слово христианских молитв и проповедей, означающее: "истинно", "верно".
12… когда на мои книги — "Мемуары", "Исаак Лакедем", "Юность Людовика XIV", "Юность Людовика XV" и Бог весть еще какие — наложили арест, мне пришлось покинуть Брюссель… — Бонапартистский переворот 2 декабря 1851 г. и провозглашение Второй империи ровно через год, 2 декабря 1852 г., вызвали в русле общего наступления реакции во Франции и наступление на творчество Дюма.
Весьма резкой критике со стороны клерикальных кругов подвергся в прессе роман "Исаак Лакедем", как искажающий евангельскую традицию; были запрещены к постановке пьесы "Нельская башня" и "Юность Людовика XIV", так как в них раболепные цензоры усмотрели намеки на личную жизнь императора Наполеона III. Эти события заставили Дюма вернуться весной 1853 г. из Брюсселя в Париж.
Воспоминания Дюма "Мои мемуары" ("Mes Memoires") были опубликованы в газете "Пресса" (16.12.1851 — 26.10.1853; 10.11.1853; 12.05.1855) и вышли отдельным изданием в 22 томах в издательстве Кддо в Париже в 1852–1854 гг.; они охватывают период 1802–1833 гг. "Исаак Лакедем" ("Isaac Laquedem", 1852–1853) — исторический роман Дюма, опубликованный в 1832–1833 гг.; представляет собой его версию известной христианской легенды о Вечном жиде. "Юность Людовика XIV" ("La Jeunesse de Louis XIV") — пятиактная комедия Дюма, принятая к постановке в Комеди Франсез 30 августа 1853 г., однако запрещенная цензурой 19 октября того же года и впервые поставленная в Брюсселе, в театре Водевиль, 20 января 1854 г.
"Юность Людовика XV" — пятиактная историческая комедия Дюма, принятая в постановке в Комеди Франсез 17 ноября 1853 г. и впервые поставленная лишь 15 декабря 1856 г. под названием "Засов на дверях королевы" ("Le Verrou de la Reine").
В течение 1853 г. Дюма несколько раз приезжал в Париж из Брюсселя, чтобы попытаться снять запрет на "Исаака Лакедема", и окончательно уехал оттуда в ноябре 1853 г., главным образом из-за домогательств его кредиторов.
13… она исполнила свой долг, поставив слово "Конец" под первой частью тридцатитомного романа. — Скорее всего, имеется в виду остросюжетная дилогия Дюма "Парижские могикане" (в первом книжном издании составили 19 томов) и "Сальватор" (соответственно 14 томов), по сути представляющая один огромный роман, который был написан в 1854–1859 гг.
… припомнил историю под названием "Заяц моего деда", которую однажды вечером, вернувшись из Сент-Юбера, поведал мне Шервиль… — "Заяц моего деда" ("Le Lievre de mon grand-рёге") — повесть для детей, опубликованная Дюма в 1856 г.
Сент-Юбер (Сент-Ибер) — город в Бельгии, в провинции Люксембург; в нем находится могила святого Губерта (см. при меч. к с. 209).
… после того как была опубликована последняя глава этой повести… — Повесть "Заяц моего деда" публиковалась в газете "Век" 02.03–14.03.1856.
15… ни Сена, надменно омывающая стопы столицы мира… — Сена —
река во Франции, длина 776 км; течет в основном по Парижскому бассейну, впадает в пролив Ла-Манш, образуя эстуарий; соединена каналами с Шельдой, Маасом, Рейном, Соной, Луарой; на ней стоит "столица мира" Париж, Руан, а в ее эстуарии — Гавр.
… ни Луара, радостно орошающая сад Франции… — Луара — самая длинная река Франции (1012 км), протекает по центральной части страны; впадает в Бискайский залив Атлантического океана.
"Сад Франции" — ряд известных своим плодородием провинций в Центральной Франции, по течению Луары и ее притоков.
… ни Гаронна, гордо несущая такое же количество кораблей, как и море… — Гаронна — река в Южной Франции (длина 575 км), истоки которой находятся в Испании; впадает в Бискайский залив Атлантического океана; образует вместе с рекой Дордонь эстуарий Жиронду, доступный для морских судов (в верхней его части лежит крупный порт Бордо).
…ни Рона, изумленно отражающая в своих водах древние развалины… — Рона — река в Юго-Восточной Франции и Швейцарии (длина 812 км); вытекает из Женевского озера и впадает в Средиземное море; на ней стоят старинные города Авиньон, Арль и др., богатые античными и средневековыми памятниками архитектуры.
… не могут сравниться с Вирой, куда более скромным потоком, который жители Нижней Нормандии, чью жажду он утоляет наравне с сидром, испокон веков называют не иначе как ничтожной речкой. — Нижняя Нормандия — западная часть исторической провинции Нормандии, включающая департаменты Манш и Кальвадос (они примыкают к бухте Сены) и департамент Орн.
Сидр — слабоалкогольный напиток из яблок, изготовляемый во Франции, главным образом в Нормандии.
… Итальянцы не позволили бы так опошлить Арно или Себето. — Арно — река в Средней Италии (длина 248 км); берет начало в Апеннинах и впадает в Средиземное море; летом почти пересыхает. Себето (Себетус) — неширокая и мелководная речка в восточной части Неаполя, впадающая в Неаполитанский залив.
… как… ее великие собратья Рейн и Рона… — Рейн — река в Западной Европе (длина 1 320 км), важнейшая водная магистраль; берет начало в Альпах, впадает в Северное море; долина ее находится в пределах Швейцарии, Лихтенштейна, Австрии, Германии, Франции и Нидерландов.
… Река, зародившаяся в тех же местах, где, если верить археологическим изысканиям братьев Парфе, появился на свет водевиль… — Братья Парфе — Ноэль (см. примеч. к с. 9) и Шарль. Переписка между ними содержит сведения о биографии Дюма.
Водевиль (фр. vaudeville) — комедийная пьеса с несложным сюжетом, в которой диалоги сочетаются с музыкой, куплетами и танцами; считается, что название этого жанра происходит от долины реки Вира ("Vaux-de-Vire"), однако, может быть, и от названия городских песен — voix-de-ville ("городские голоса"). Сначала водевилями назывались песенки ярмарочных театров первой пол. XVIII в. Как театральный жанр водевиль сложился в годы Великой французской революции, но после ее завершения утратил политический пафос и революционную сатиру и стал развлекательным жанром.
… река, осененная в истоках тенистой листвой прелестного Сен-Северского леса… — Сен-Север — селение в Северо-Западной Франции (департамент Кальвадос), в округе Вир в Нормандии; близ него находится исток Виры.
… тысячи буасо сверкающих на солнце жемчужин… — Буасо — старинная французская мера сыпучих тел, равная 12,5 л.
… заставив вертеться поэтичную мельницу Оливье Баслена… — Баслен, Оливье — французский поэт-песенник; жил в Нормандии в нач. XV в. и владел сукновальной мельницей, дававшей ему средства для жизни (развалины ее сохранились доныне). Согласно преданию, он был автором популярных застольных песен под названием "Долины Виры", положивших начало водевилю — новому жанру народного искусства.
… в нескольких льё вверх по течению от Сен-Ло, на уровне Исиньи… — Сен-Ло — город в Западной Франции, на реке Вира, административный центр департамента Манш.
Исиньи-сюр-Мер — городок в Нормандии, в департаменте Кальвадос, на реке Вира; главный город кантона; находится в 22 км к северу от Сен-Ло.
… становится неким подобием Уркского канала. — Уркский канал, расположенный в Северо-Восточной Франции, соединяет реку Урк, правый приток Марны, и Сену (через бассейн Ла-Виллет и канал Сен-Мартен в черте Парижа); построен в 1802–1826 гг. для снабжения Парижа водой и как транспортная магистраль; длина 107 км.
… венцы скал, обагренные наперстянкой… — Наперстянка — род трав семейства норичниковых, произрастающих в Европе и западной части Азии; все виды ее ядовиты; препараты наперстянки применяются в медицине как сердечное средство.
… береговые нимфы омывали свои нежно-розовые ноги… — Нимфы (гр. nymphe — "девы") — в древнегреческой мифологии долголетние, но смертные божества живительных и плодоносящих сил дикой природы; различались нимфы моря (нереиды), рек, источников и ручьев (наяды), озер и болот (лимнады), гор (орестиды), деревьев (дриады) и др.; их представляли в виде обнаженных или полуобнаженных девушек.
… подобно тому как женщины из прованского Эг-Морта или итальянки из Понтийских болот лишаются яркого румянца от едких и острых поцелуев лихорадки… — Прованс — историческая провинция на юго-востоке Франции, на побережье Средиземного моря; ныне на его территории расположено несколько департаментов; в древности и в средние века входил в состав многих государств ив 1481 г. был присоединен к Франции, сохранив автономию и статус провинции вплоть до Французской революции. В широком смысле слова Провансом считается весь юг Франции.
Эг-Морт — небольшой старинный городок в Южной Франции, в Провансе, в департаменте Гар; расположен в болотистой местности вблизи дельты Роны.
Понтийские болота (в древности они назывались Помптинскими) — болотистая местность на западном побережье Средней Италии, в области Лацио, юго-восточнее Рима; до ее осушения эта местность отличалась крайне нездоровым климатом; название ее стало нарицательным.
… Океан — отец всех рек, как называл его Гомер… — Океан — в древнегреческой мифологии титан (божество старшего поколения), бог одноименной реки, обтекающей землю и служащей границей между мирами жизни и смерти; отец всех рек и источников.
Гомер (соврем, датировка его творений — вторая пол. VIII в. до н. э.) — легендарный древнегреческий эпический поэт; по преданию, слепой бродячий певец, которому со времен античности традиция приписывает авторство поэм "Илиада" и "Одиссея".
17… выступал на советах коммуны… — Коммуна — низшая административно-территориальная единица во Франции и некоторых других странах Западной Европы.
18… поехал на ярмарку в Байе… — Байё — старинный город в Нормандии (департамент Кальвадос), в 12 км от морского побережья; в XIX в. вел обширную торговлю.
… распродав партию котантенских коров… — Котантен — полуостров на северо-западе Франции, в Нормандии; вдается в пролив Ла-Манш.
19… лишь бы только из его сына сделали Гиппократа или Демосфена. — Гиппократ (ок. 460-ок. 370 до н. э.) — знаменитый древнегреческий врач, реформатор античной медицины. Хотя о его жизни известно очень мало, с его именем связано представление о высоком моральном облике врача, нормы поведения которого сформулированы в известной "Клятве Гиппократа".
Демосфен (ок. 384–322 до н. э.) — политический деятель Древних Афин, вождь демократической партии; знаменитый оратор.
20… превзошел всех не только в Мези, но и в Гран-Кане, а также в Сен-Пьер-дю-Моне… — Сен-Пьер-дю-Мон — приморская деревушка в 4 км восточнее Гран-Кана (департамент Кальвадос).
… всякого вида рыбы, от корюшки до макрели. — Корюшки — семейство костистых рыб из отряда сельдеобразных; обитают в морях и пресных водах бассейнов Северного Ледовитого и северной части Атлантического и Тихого океанов; во время нереста совершают длительные миграции по морям и рекам; имеют промысловое значение. Макрель — рыба семейства скумбриевых; распространена в северных морях Атлантического океана; важный объект промысла.
21… принадлежал не к человеческой породе, а к отряду голенастых. — Голенастые (аистообразные) — отряд из пяти семейств птиц, распространенных по всему миру и живущих на влажных затопляемых местах; при большом разнообразии внешности большинство из них имеют длинные клюв, шею и ноги.
… прибрежные птицы — утки и турпаны, бекасы и гаршнепы, кулики и кайры… — Турпаны — см. примеч. к с. 8.
Бекасы — болотные птицы из отряда куликов; распространены по всему свету; объект любительской охоты.
Гаршнеп — см. примеч. к с. 8.
Кулики — птицы семейства ржанкообразных; распространены по всему миру; гнездятся главным образом вблизи воды.
Кайры — род птиц из отряда чистиковых; распространены по скалам морей умеренного и полярного пояса; служат объектом промысла.
… всякие нимроды из Сен-Дени и Буживаля… — Нимрод — персонаж Библии: царь Вавилона, "сильный зверолов… пред Господом" (Бытие, 10: 9); его имя стало нарицательным и обозначает искусного охотника.
Сен-Дени — небольшой городок к северу от Парижа; известен старинным аббатством, основанным в VII в., где с XIII в. хоронили французских королей; пространство между Парижем и Сен-Дени называется равниной Сен-Дени.
Бужеваль — небольшой городок на Сене, в окрестности Версаля (департамент Се на-и-Уаза).
23… словно какой-нибудь Монморанси или Куси, принял имя своего владения. — Монморанси — старинный французский аристократический род, известный с X в.; до XIX в. играл большую роль в истории Франции; имя свое получил, по-видимому, отселения Монморанси в окрестности Парижа (департамент Сена-и-Уаза).
Куси — старинный французский дворянский род; имя его происходит от названия замка XIII в. Кусиле-Шато в Северной Франции (департамент Эна).
24… уже был отъявленным ловеласом… — Ловелас — герой романа "Кларисса, или История молодой леди" С.Ричардсона, бессовестный соблазнитель женщин, чье имя стало нарицательным. В образе Ловеласа типизированы черты вольнодумной, циничной и развратной английской аристократической молодежи.
…он волочился за всеми красотками, щеголяющими в бесенских колпаках. — Весен — историческая местность в Нижней Нормандии, вошедшая в соврем, департаменты Кальвадос и Манш; главный город — Байё.
…не стал замыкаться в кантональном кругу девиц Мези, Гран-Кана и Сен-Ло… — Кантон — низовая административно-территориальная единица во Франции и некоторых других странах.
… перекинулся на прелестниц изЛа-Камба, Форминьи и Тревьера… — Ла-Камб — деревушка в Нормандии (департамент Кальвадос), в 5 км к югу от Мези.
Форминьи — селение в Нормандии (департамент Кальвадос), в 12 км к юго-востоку от Мези.
Тревьер — см. примеч. к с. 10.
… расхаживают в желтых перчатках, с сигарами в зубах по тротуарам бульвара Итальянцев и будуарам квартала Бреда. — Бульвар Итальянцев (в русской литературе часто называется Итальянским) расположен на северо-западном фасе кольцевой магистрали Бульваров; сменил много названий; свое нынешнее название получил в 1783 г. от расположенного поблизости театра Итальянской оперы; относится к фешенебельной части бульварной магистрали — т. н. Большим бульварам, где расположены дорогие магазины, рестораны и театры и где собиралась аристократическая молодежь. Квартал Бреда — правобережный район французской столицы, на территории которого находилась одноименная улица (проложенная в 1822 г.) и стоит церковь Богоматери Лоретской; долгое время служил своеобразным центром продажной любви в Париже, поскольку здесь селилось много проституток (их называли тогда лоретками).
… ибо имя героя Ричардсона благодаря гибкости языка стало нарицательным… — Ричардсон, Сэмюэл (1689–1761) — английский писатель, автор романа "Кларисса, или История молодой леди".
25… молодой человек из Хрюшатника, в отличие от Фаона, отнюдь не получил от Венеры расслабляющего и благоухающего снадобья, которое свело с ума пылкую Сафо. — Фаон — в греческой мифологии житель острова Лесбос, который, перевозя богиню Афродиту, не взял с нее плату и получил в награду чудесное снадобье, сделавшее его юным и прекрасным, так что все женщины в него влюблялись. Венера (гр. Афродита) — богиня любви и красоты в античной мифологии; по некоторым сказаниям, родилась из пены морских волн.
Сафо (Сапфо; первая пол. VI в. до н. э.) — древнегреческая поэтесса; стояла во главе содружества девушек из знатных семей на острове Лесбос, воспевая красоту и любовь подруг; согласно одной из легенд, отвергала мужскую любовь, и потому с ее именем связывают женскую однополую, т. н. лесбийскую любовь; по версии, изложенной Овидием, была наказана Афродитой: по воле богини она влюбилась в Фаона и, когда тот не ответил ей взаимностью, покончила жизнь самоубийством. Сафо высоко чтили в античности и называли "десятой музой".
… и силен, как титан… — Титаны — в древнегреческой мифологии боги старшего поколения, олицетворение стихийных сил природы; безуспешно вели борьбу с богами-олимпийцами за власть над миром.
… изображать из себя амфитриона… — Амфитрион — в древнегреческой мифологии царь города Тиринфа, приемный отец величайшего героя Геракла; в литературе нового времени, благодаря трактовке его образа Мольером в одноименной пьесе, стал синонимом хлебосольного хозяина.
… играя с ними в бульот и экарте… — Бульот — французская карточная игра, известная со времен Директории, разновидность брелана; играют в нее вчетвером; каждый игрок, чтобы выиграть, должен собрать три карты одинакового достоинства.
Экарте — распространенная в XIX в. азартная карточная игра, рассчитанная на двоих игроков (хотя иногда в нее играют втроем или вчетвером); в ходе ее игроки часто сбрасывают карты, чтобы взять новые. По-французски "сбросить" — ecarter, отсюда и название игры.
27… у него от двух пятифранковых монет еще оставалось восемь ливров и одиннадцать су. — Ливр — старинная французская серебряная монета и основная счетная единица страны; во время Революции была заменена почти равным ей по стоимости франком.
Су — мелкая французская монета; одна двадцатая часть франка. Фраза говорит о скупости Ланго: за весь путь он истратил лишь один франк и девять су.
… подбирал с земли сигарные окурки и театральные контрамарки… — Контрамарка — здесь: дополнительный входной билет, который получает зритель, покидающий на время театральный зал с намерением вернуться в него.
… мало-помалу, лиард за лиардом, скопил сумму в сто франков… — Лиард — старинная французская медная монета, четверть су; выведена из обращения в 1856 г.
… нацепил бляху и принялся торговать старым тряпьем. — Речь идет о металлическом знаке, означавшем право заниматься какой-либо мелкой торговлей или другой профессией.
28… Жадность овернца, соединенная с коварством нормандца… — Овернцы — уроженцы Оверни, отсталой провинции в Центральной Франции; многие из них занимались неквалифицированными отхожими промыслами в крупных городах; считались людьми глупыми и неразвитыми.
В нескольких своих романах Дюма называет нормандцев людьми хитрыми и неискренними.
… Этот мелкотравчатый Шейлок, как и венецианский еврей… — Шейлок — жестокий ростовщик, персонаж пьесы Шекспира "Венецианский купец".
… и таможенную заставу Сен-Жак. — Застава Сен-Жак находилась на южной окраине Парижа, на одноименной площади, на пересечении улицы Предместья Сен-Жак и бульвара Сен-Жак; была основана в сер. XVIII в.; на ней взимались пошлины на ввозимые в Париж и вывозимые из него товары; представляла собой аркады с двумя фронтонами; ныне не существует.
… соблазны современного Вавилона… — Вавилон — крупнейший город Месопотамии, столица Вавилонского царства, раннего рабовладельческого государства на месте современного Ирака, Сирии и Израиля в нач. II тыс. — VI в. до н. э.; неоднократно подвергался завоеваниям и ко II в. н. э. был совершенно разрушен.
Согласно христианской традиции, Вавилон — вместилище греха, пороков и разврата, В этом смысле его название стало нарицательным. Здесь под Вавилоном разумеется Париж, который к сер. XIX в. стал мировым центром всякого рода развлечений и удовольствий.
29… был одновременно ризничим и слугой здешнего приходского священника… — Ризничий — служащий в церкви, ведающий церковным инвентарем.
… Кюре удовлетворил его просьбу. — Кюре — католический приходский священник во Франции.
… считавший Тома Ланго чуть беднее Иова… — Иов — персонаж библейской Книги Иова, праведник, которого дьявол с позволения Бога ввергнул во все жизненные несчастья, чтобы испытать его. Однако Иов сохранил веру и был за это вознагражден.
31… Удаляясь от этого эдема… — Эдем — согласно Библии, земной рай, место пребывания первых людей до их грехопадения. В переносном смысле райское место вообще.
32… оказались зажатыми в вальцы. — Вальцы — рабочий инструмент в кузнечных, дробильных, мукомольных и других машинах.
36… отведите четыре месяца на Золотой дом, четыре месяца на Фра скати, четыре месяца на квартал Бреда… — Золотой дом — возможно, имеется в виду чрезвычайно модный парижский ресторан, открывшийся в 1840 г. на улице Лаффит, № 1.
Фраскати — знаменитый увеселительный центр, просуществовавший с 1796 по 1836 гг. в северной части Парижа, на углу улицы
Ришелье и бульвара Монмартр; включал сад с иллюминацией, танцевальный зал, ресторан, меблированную гостиницу и игорный дом, открытый с четырех часов пополудни до двух часов ночи (единственный в столице, в который пускали женшин); был открыт в 1796 г. торговцем мороженым, неаполитанцем Гарки, в подражание аналогичному заведению в Неаполе, носившему имя Фраскати; в него приходили, главным образом, для игры.
… на балу в Опере. — Имеется в виду государственный музыкальный театр Гранд-Опера ("Большая Опера"), основанный в XVII в.; в его помещении устраивались публичные балы (часто костюмированные).
37… в девять часов утра в аллею Ла-Мюэтт. — Ла-Мюэтт — королевский охотничий дворец в Булонском лесу (см. примеч. к с. 374) на пути в Версаль.
… в Париже… в департаменте Сена… — Департамент Сена включал в XIX в. Париж и его ближайшие окрестности.
38… им поручено потребовать у обидчика сатисфакции… — То есть вызвать его на дуэль (от лат. satisfactio — "удовлетворение", "извинение").
… волен познакомиться с "Дуэльным кодексом" — превосходной книгой, изданной при содействии графа де Шато-Виллара, безупречного дворянина по происхождению, чести и отваге. — Имеется в виду книга "Очерк о дуэли" ("Essai sur le duel"), изданная в Париже неким графом Шатовилларом (правильно: Chatauvillards, а не Chateau-Villars, как написано это имя у Дюма) в 1836 г.; она доныне считается образцовым сводом правил, регламентирующих дуэли; английский ее перевод, выпушенный в 1837 г., назывался "Дуэльный кодекс".
39… Этого учителя фехтования звали Гризье. — Гризье, Огюстен Эдм Франсуа (1791–1865) — знаменитый французский фехтовальщик и учитель фехтования; по профессии перчаточник, он, тем не менее, уже в нач. XIX в. прославился как искусный мастер владения шпагой, одерживая многочисленные победы в самых престижных состязаниях Франции, а затем Бельгии; в 1819 г. уехал в Россию, где первым организовал публичные состязания по фехтованию и даже выступал в паре с великим князем Константином Павловичем (1779–1831); ему же было поручено основать на Неве первую в стране школу плавания; воспоминания Гризье о его десятилетнем пребывании в России послужили Дюма великолепным материалом для его романа "Записки учителя фехтования" (1840), написанного в форме мемуаров самого героя; по возвращении в Париж Гризье открыл свой знаменитый фехтовальный зал, который посещали многие именитые люди того времени; с 1839 г. Гризье — преподаватель Национальной консерватории музыки и декламации, а позже — Политехнической школы; в 1847 г. в Париже была опубликована его книга "Оружие и дуэль" ("Armes et le duel"), носившая как исторический, так и несколько дидактический характер, поскольку автор старался убедительно доказать всю бессмысленность дуэлей.
… отправились на улицу Предместья Монмартр, в дом № 4. — Улица
Предместья Монмартр находится в северной части Парижа; ведет к холму Монмартр, продолжая улицу Монмартр в старом Париже.
41… приобрел пару шпаг в магазине Девима. — Девим, Луи Франсуа (1806–1873) — известный французский оружейник, в основном изготовлявший гражданское оружие (дуэльные пистолеты, охотничьи ружья и т. п.); его продукция пользовалась большим спросом, неоднократно экспонировалась и награждалась на парижских и международных выставках; автор ряда изобретений и усовершенствований в области оружейного производства; кавалер многих орденов.
… обычно именуемому колишемардой… — Колишемарда — вид шпаги с клинком более длинным, чем у обычного оружия, и более узким в конце, чем в начале.
42… защищается, как святой Георгий! — Святой Георгий — христианский мученик и весьма почитаемый святой; римский военачальник, ставший проповедником христианства и казненный ок. 303 г. во время гонений на христиан; согласно легенде, убил змея-дракона, истреблявшего жителей некоего города, и освободил дочь правителя этого города, отданную змею на съедение, или, по наиболее распространенной версии предания, привел змея к повиновению молитвой, после чего дева отвела чудовище в город, где святой и поразил его мечом, а восхищенные жители обратились в христианство.
Сравнение искусного фехтовальщика со святым Георгием неоднократно встречается во французской литературе.
43… Рядом находился Мадридский павильон… — Вероятно, имеется в виду одно из строений старинного королевского Мадридского замка, расположенного в восточной части Булонского леса.
45… велел отвезти его в тир Госсе. — Сведений об этом заведении (tir de Gosset) найти не удалось.
48… Существует традиция трехтысячелетней давности, дошедшая до нас благодаря Библии… блудные сыновья… находят в отчем доме радушный прием… — Блудный сын — персонаж евангельской притчи (Лука, 15: 11–32) о молодом человеке, который в распутстве расточил выделенное ему отцом имение. И тогда он вернулся, попросил прощения и был радостно встречен родителем.
50… черпал мужество для борьбы с подагрой… — Подагра (гр. podagra, букв, "капкан для ног") — хроническое заболевание, вызванное нарушением обмена веществ; проявляется в виде деформации суставов и нарушений их функций.
… обвязать им свой ягдташ… — Ягдташ (нем. Jagdtasche) — охотничья сумка.
51… словно ему показали голову Медузы. — Медуза — в древнегреческой мифологии одна из горгон — крылатых чудовищ с женской головой и змеями вместо волос. Лица горгон были столь страшны, что человек, взглянувший на них, обращался в камень.
52… от высоких колпаков с кружевами, как у Изабеллы Баварской… — Изабелла (Елизавета) Баварская (1371–1435) — дочь герцога Ингольштадтского (в Баварии), жена французского короля Карла VI;
после того как он сошел с ума, предалась распутству и вместе со своим любовником Луи Орлеанским принимала активное участие в политических интригах; движимая ненавистью к своему сыну, будущему Карлу VII, объявила его незаконнорожденным и в 1420 г. заключила с Англией, с которой Франция вела Столетнюю войну, договор, передававший престол Генриху V Английскому; после смерти мужа была отвергнута всеми и кончила жизнь в одиночестве.
… от узких платьев и алансонских косынок с вышивкой. — Алансон — город в Северо-Западной Франции, главный административный центр департамента Орн; находится в 120 км к югу от Гавра; знаменит производством кружев.
… носила французские кашемировые шали… — Кашемир — мягкая шерстяная, полушерстяная или хлопчатобумажная ткань.
56… как новоявленный Агамемнон, вознамерился принести дочь в жертву на алтарь Гименея… — Агамемнон — легендарный царь Микен, предводитель ахейского войска в Троянской войне; герой древнегреческой мифологии, "Илиады" Гомера и античных трагедий. Поскольку богиня-охотница Артемида (рим. Диана) все время посылала противный ветер, мешавший отплытию греков к Трое, Агамемнон, чтобы умилостивить ее, решил принести ей в жертву свою дочь Ифигению, которую он вызвал в лагерь под предлогом ее свадьбы с Ахиллом.
Гименей — бог брака в греческой мифологии.
57… подобно Роланду, принялся бегать взад и вперед по полям, не отдавая себе отчет в том, что он делает. — Роланд — здесь: храбрый рыцарь, лишившийся рассудка от любви; герой поэмы итальянского поэта эпохи Возрождения Лодовико Ариосто (1474–1533) "Неистовый Роланд". В этом произведении, вышедшем в свет в 1516 г., на фоне описаний борьбы с маврами воплощены гуманистические идеи и жизнь Италии эпохи Возрождения.
58… Химическая спичка, которой он чиркнул о стену… — Речь идет о фосфорных спичках, изобретенных в 1833 г. немецким химиком Каммерером. Ему удалось составить массу, зажигающуюся при трении о любую шероховатую поверхность. Загорающаяся при этом головка спички состояла из следующих частей: воспламеняющей (белый фосфор), выделяющей кислород (селитра и т. д.), связывающей (клей и т. д.), передающей пламя дереву (сера, стеарин и т. д.), красящей и нейтральной. Это изобретение было куплено венскими фабрикантами и получило широкое распространение. Фосфорные спички считались опасными вследствие легкой воспламеняемости и токсичности продуктов горения. С открытием в 1847 г. красного фосфора, не ядовитого и трудно воспламеняемого, появилась возможность получить спички, лишенные указанных недостатков. Но лишь в 1866–1868 гг. в Швеции появились спички, являющиеся прототипом нынешних и известные под названием "шведских". В них масса головок совсем не содержит фосфора и состоит из смеси вещества, легко отдающего кислород (например, бертолетовой соли с серой или ее соединениями). Они зажигаются при трении об особую поверхность коробка, содержащую частицы красного фосфора.
65… Поскольку ему недоставало силы духа какого-нибудь Тимона или
Апьцеста, он не мог полностью отказаться от общества себе подобных… — Тимон — древнегреческий философ (V в. до н. э.), герой пьесы Шекспира "Тимон Афинский", человеконенавистник, удалившийся в изгнание.
Альцест — главный герой комедии Мольера "Мизантроп", человеконенавистник.
70… бить себя в грудь со словами: "Меа culpa!"… — "Меа culpa" (лат.
"Моя вина") — слова покаянной католической молитвы.
72… Судно село на Пленсевскую отмель! — Этот топоним (banc de
Pleineseve) идентифицировать не удалось.
… По широкой белой полосе, окаймлявшей вельс баркаса… — Вельс — утолшение наружной обшивки в районе грузовой ватерлинии деревянного судна.
75… "De profundis" — вот и все, что им остается от нас ждать. —
Имеется в виду начало католического покаянного псалма "De profundis" (букв. лат. "Из бездн"), читающегося как отходная молитва по умершему. В русском синодальном переводе: "Из глубины взываю к тебе, Господи" (Псалтирь, 129: 1).
77… обнаженный охотник походил на великолепную мраморную статую
Геркулеса Фарнезского… — Геркулес — латинский вариант имени величайшего героя древнегреческой мифологии Геракла, известного своей атлетической мошью и богатырскими подвигами; двенадцать самых известных из них он по приговору богов должен был совершить на службе у своего родственника, за что ему было обещано бессмертие.
"Геркулес Фарнезский" — огромная статуя II в. работы скульптора Гликона из Афин, изображающая обнаженного Геркулеса на отдыхе: он облокотился на свою палицу, на которую наброшен другой его атрибут — львиная шкура; хранится во дворце Фарнезе в Риме, отсюда и название статуи.
81… окруженный красивой изгородью из утесника, сверкал, словно, карбункул… — Утесник — ветвистый колючий кустарник; растет в Западной Европе и Южной Африке.
Карбункул — драгоценный камень, то же, что красный гранат.
82… все они записаны в судовые роли… — Судовая роль — список экипажа корабля, в котором указаны полные данные о моряках и самом судне.
… У короля шесть детей… — Король Луи Филипп (см. примеч. к с. 286): о котором здесь, по-видимому, идет речь, имел восемь детей: пять сыновей и трех дочерей.
83… Если ты ловишь треску и отправляешься на Большую банку… — Имеется в виду Ньюфаундлендская большая банка — обширный мелководный район в Северо-Западной Атлантике у острова Ньюфаундленд; один из богатейших в мире районов рыболовства, в том числе трески.
… не следует покрывать резьбой гальюн… — Гальюн — здесь: свес в носу парусного судна для установки носового украшения.
… заниматься раскрашиванием княвдигеда… — Княвдигед — верхняя часть форштевня (деревянной балки) парусных судов, на котором крепились фигуры из дерева, украшавшие носовую часть.
84… сняли все снасти и срубили мачты, как на блокшиве… — "Срубить мачты" на морском жаргоне означает снять их при разоружении корабля.
Блокшив — корпус старого судна, используемый у постоянного причала или на мертвом якоре как склад, жилье, плавучая тюрьма и т. д.
… бороздя Индийский океан, мы повстречали джонку из Кантона, отбивавшуюся от двух малайских судов. — Джонка — судно широкого предназначения с приподнятыми носом и кормой, низкой средней частью и плоским днишем; такие суда появились в Юго-Восточной Азии; используются для плавания по морям и рекам; европейцам стали известны с кон. XIII в.
Кантон (соврем. Гуанчжоу) — город и порт в Южном Китае, административный центр провинции Гуандун.
…мы работали помпами и дубасили ласкаров… — Л ас кар — моряк-индиец на кораблях в Юго-Восточной Азии.
85… неподалеку от Убо я заметил на дороге… — Убо — деревушка в Нормандии (департамент Кальвадос), в 4 км к югу от Исиньи.
… сделал несколько лишних галсов в городских кабаках… — Галс (гол. hals, букв, "шея") — курс судна относительно ветра; "левый галс" — если ветер дует в левый борт; "пройти одним галсом" — идти нс поворачивая; "лечь на другой галс" — повернуть; "идти короткими галсами" — все время менять галс.
86… отличить акулу от палтуса. — Палтус — семейство рыб из отряда камбалообразных, обитаюших в северной части Тихого и Атлантического океанов и в Северном Ледовитом океане; ценная промысловая рыба.
87… нужны Богу так же, как киту свайка… — Свайка — инструмент из твердых пород дерева для такелажных работ: заостренный стержень, который служит для раздвижения прядей троса.
… и линьком отделал бы ему хребет. — Линёк — здесь: короткий отрезок просмоленной веревки для корабельных снастей; на судах парусного флота служил для наказания матросов; линьком пользовались преимущественно старшины команды.
89… должен был уже сегодня сесть в Курсёле на "Молодого Шарля"… —
Курсёль-сюр-Мср — см. примеч. к с. 8.
93… впередсмотрящий на брам-стеньге. — Брам-стеньга — продолже ние стеньги в высоту. Брам (морской термин) — частица, прибавляемая ко всем предметам оснастки третьего снизу колена мачты. Стеньга — продолжение мачты в высоту, се второе колено; соединяется с мачтой специальными приспособлениями и также вооружается парусами.
97… лелеют, как обезьянок-игрунков, которых привозят из Бразилии… — Игрунки — род небольших обезьян семейства игрунковых, обитаюших в Южной Америке в лесах бассейна Амазонки.
98… во всех портах, близ которых я забрасывал свой лаг… — Лаг — навигационный прибор для измерения пройденного судном расстояния и скорости судна.
… в Пернамбуку у меня даже была одна мулатка. — Пернамбуку (Ресифи) — город в Бразилии, на восточной оконечности Южной Америки.
… Желтая, как брюканец, с глазами… словно бархатные клюзы! — Брюканец — смоленый парусный чехол или обивка, обшивка мачты у самой палубы, для защиты от сырости, а также у руля — от всплесков воды.
Клюз — отверстие в борту или фальшборте для пропуска якорной цепи или швартовов.
100… придется бегать ночью по полям, рискуя столкнуться со злыми волшебницами-прачками. — Имееются в виду злые волшебницы, которые, по нормандским и бретонским поверьям, по ночам отбивают железной рукой белье и умерщвляют любопытствующих прохожих.
104… несмотря на увещевания ее сына, ставшего Ментором нашего не отесанного Телемака… — Телемак — в древнегреческой мифологии и "Одиссее" Гомера сын царя Одиссея и Пенелопы.
Ментор — персонаж "Одиссеи", воспитатель Телемака. В нарицательном смысле — наставник юношества. В современном смысле — претенциозный человек, высокомерно поучающий окружающих.
Имя Ментора стало популярно во Франции после выхода в 1699 г. романа французского писателя и педагога, епископа города Камбре Франсуа де Салиньяка Фенелона (1651–1715) "Приключения Телемака".
108… Это составляет тысячу сто пистолей… — Пистоль — испанская золотая монета с содержанием золота в 7,65 г, имевшая хождение и во Франции, а также счетная денежная единица во Франции XVII–XVIII вв., составлявшая 10 ливров.
116… пошатываясь, словно фавн… — Фавн — в древнеримской мифологии бог полей, лесов, пастбищ и животных, покровитель сельских трудов; соответствовал греческому пастушескому богу Пану, появлявшемуся в свите бога виноградарства и виноделия Вакха.
117… эта книга — нечто вроде дагерротипа… — Дагерротип — фотография, сделанная способом, который был предложен во Франции Ж.Дагерром (1787–1851) в 30-е гг. XIX в., получил название дагерротипии и применялся до открытия современных методов фотографирования; в дагерротипии использовалась металлическая пластинка, покрытая слоем йодистого серебра.
126… смеется надо мной, как марсовый над горожанином… — Марсовый — на парусных судах матрос, работающей на марсе (площадке на мачте).
127… К отмели приближались зуйки, кулики, чирки… — Зуйки — широко распространенные небольшие птицы семейства ржанковых, живущие по берегам водоемов.
Кулики — см. примеч. к с. 21.
Чирки — общее название четырех видов мелких уток; широко распространены в Европе и Азии.
129… остерегаешься показывать свой истинный флаг. — "Показать флаг" — поднять национальный или морской флаг государства и тем обозначить свою национальность и одновременно заявить право на плавание в данном районе.
130… При бывшем, даром что он был сущей сухопутной крысой… — Здесь имеется в виду Наполеон Бонапарт (см. примем, к с. 383). Однако на самом деле Наполеон много занимался флотом, который при нем был отстроен заново после битвы при Трафальгаре. Другое дело, что морские силы Англии, безусловно, превосходили французские, которые к тому же были разрушены Революцией, а восстановить их полностью не удалось. Кроме того, Наполеон не сумел найти среди своих морских офицеров флотоводцев, равных по масштабам его маршалам и генералам.
… малюют огромные пушки на своих портах… — Порты — прорези в бортах военного корабля для пушек; в небоевой обстановке закрывались специальными крышками.
137… она отправится в Вал он ь… — Вал он ь — небольшой город в Се веро-Западной Франции, в Нормандии (департамент Манш), южнее Шербура.
139… говорил с ним о стакселях… — Стаксель — косой треугольный парус, который крепится впереди мачты.
142… приезжают за морскими водорослями и фукусами… — Фукусы (точнее: фукусовые водоросли) — род бурых морских водорослей, распространенных как в теплых, так и в холодных морях; широко используются как удобрения, корм скоту и для добычи калийных солей, а при сложной технологической переработке и для получения ряда органических продуктов.
143… водится множество мидий. — Мидии — род двустворчатых моллюсков, тело которых целиком заключено в раковину; распространены в морях Северного полушария; служат пишсй человеку и специально разводятся.
… составляют примерно четыре линии в ширину и десять в длину… — Линия — единица измерения малых длин до введения метрической системы; во Франции равнялась 2,255 мм.
144… вдоволь пострелять улитое… — Улиты — род птиц отряда куликов; живут в Европе, Азии и Северной Америке (преимущественно в болотах).
152… среди его предков была какая-нибудь собака с Ньюфаундленда. —
Ньюфаундленд — очень крупная лорода служебных собак, родиной которых является остров Ньюфаундленд (см. примеч. к с. 83); хорошо плавают, используются как спасатели на водах и пожарах, вытаскивают сети.
160… забыв выплатить в конце месяца свое сальдо… — Сальдо (ит.
saldo — "расчет", "расплата") — разность между денежными поступлениями и расходами за определенный период времени.
ПАПАША ГОРЕМЫКА
Повесть "Папаша Горемыка" ("Le Рёге la Ruine"), посвященная злободневной в сер. XIX в. теме разрушительного влияния капиталистического города и городского быта на деревню, впервые публиковалась в газете "Век" ("Le Siecle") с 21.03 по 04.05.1860 г.; первое ее отдельное издание во Франции: Paris, Michel Levy freres, 1860, 12mo.
Время действия в ней — 1794, 1814–1817 и 1834–1835 гг.
Перевод ее был выполнен специально для настоящего Собрания сочинений по изданию: Paris, Michel Levy freres, 1864, 12mo — и по нему же была проведена сверка с оригиналом.
Это первое издание повести на русском языке.
163… Прежде чем влиться у Шарантона в Сену, Марна вьется, изгиба ется и скручивается, словно змея… — Шарантон-ле-Пон — город к юго-востоку от Парижа при слиянии Сены (см. примем, к с. 15) и Марны; в нем находился большой госпиталь для душевнобольных. Марна — река в Северной Франции, правый приток Сены; длина 525 км; в XIX в. место ее впадения в Сену лежало выше Парижа, а ныне, когда город разросся, оно оказалось в его черте; судоходна, соединена каналами с бассейнами Рейна и Соны.
… подобная стыдливой наяде… — Наяды — в античной мифологии нимфы рек и ручьев.
… полуостров безукоризненной формы, на перешейке которого находится селение Сен-Мор… — Сен-Мор-де-Фосе — ныне городок у восточных окраин Парижа, в департаменте Валь-де-Марн.
… по соседству с ним раскинулись деревни Шампиньи, Шенвьер, Бонёй и Кретей. — Шампиньи (Шампиньи-сюр-Марн) — ныне городок к востоку от Парижа, в департаменте Валь-де-Марн; лежит на левом берегу Марны, в ее излучине.
Боннёй (Боннёй-сюр-Марн) — селение на левом берегу Марны, южнее Шампиньи; относится к департаменту Валь-де-Марн. Кретей — ныне небольшой город к юго-востоку от Парижа, административный центр депаргамента Валь-де-Марн; лежит на левом берегу Марны, против полуострова Ла-Варенна.
Все эти населенные пункты в наше время практически слились с Парижем, а в XIX в. их окрестности были местом загородных прогулок парижан (в особенности любителей гребли); они неоднократно описаны в литературе и увековечены в живописи.
… В 1831 году почти весь этот полуостров принадлежал прославленному семейству Конде. — Конде — французский род принцев, ответвление Вандомской линии дома Бурбонов; известен с первой пол. XVI в.; играл значительную роль в истории Франции; пресекся в нач. XIX в.
… как их сородичи в лесах Нового Света… — Новый Свет — название, данное европейцами Америке после ее открытия (в отличие от Старого Света — Европы).
… В 1793 году земли Ла-Варенны, ставшие национальными имуще — ствами, были выставлены на продажу… — Ла-Варенна — местность к востоку от Парижа, в глубокой излучине Марны, в ее нижнем течении; ныне застроена и является районом Большого Парижа. Национальными имушествами во Франции во время Революции называлась конфискованная государством движимая и недвижимая собственность церкви (с 1789 г.), короны, эмигрантов (с 1792 г.), казненных государственных преступников (с 1793 г.) и всех контрреволюционеров (с 1794 г.); конфискованное имущество сразу же выставлялось на продажу и приобреталось буржуазией и зажиточными крестьянами. При реабилитации или легальном возвращении эмигранта его собственность могла быть возвращена. После переворота 9 термидора распродажа была прекращена и нераспроданная собственность стала возвращаться бывшим владельцам; хозяева уже проданных национальных имушеств после восстановления монархии получили от государства компенсацию.
… когда последний из Конде вернулся в 1814 году из эмиграции, он нашел полуостров еще более пустынным, чем тот был прежде. — Великая французская революция с самого начала вызвала массовую эмиграцию лиц, связанных со старым порядком: дворянства, в первую очередь высшего, духовенства и т. д. Некоторые эмигранты вернулись на родину в последние годы XVIII в. и первые годы XIX в., когда во Франции утвердилась власть буржуазии в лице Директории, Консульства и Империи. В 1814 г. после реставрации монархии Бурбонов возвращение эмигрантов стало массовым.
Здесь имеется в виду герцог Луи Анри Жозеф де Бурбон, с 1818 г. принц Конде (1756–1830) — после начала Революции эмигрировал; в 1792–1801 гг. служил в корпусе дворян-эмигрантов, сражавшихся против Республики и состоявших под командованием его отца Луи Жозефа принца Конде (см. примеч. к с. 189); затем жил в Англии; после расстрела по приказу Наполеона герцога Энгиен-ского (см. примеч. к с. 206), его сына и наследника, остался последним носителем имени Конде; покончил жизнь самоубийством при невыясненных обстоятельствах, завещав значительную часть состояния своей любовнице; это завещание вызвало скандальный судебный процесс со стороны законных наследников, в который были замешаны важные особы.
… эта родословная не была ни запечатлена на пергаменте, ни усыпана арабесками, ни украшена гербовыми щитами, ни заверена Шереном или д'Озье. — Пергамент — материал для письма в древности и средние века: специально обработанная кожа молодых домашних животных; название получил от страны Пергам в Малой Азии, где со II в. до н. э. выделка такой кожи получила значительное развитие; в средние века на пергаменте писались важные и государственные документы.
Арабеска (фр. arabesque) — вид сложного орнамента из геометрических фигур или цветов и листьев; получил распространение в Европе под влиянием искусства Востока.
Шерен, Луи Никола Анри (1762–1799) — французский ученый, генеалог, судебный деятель и военный; при старом порядке был советником Высшего податного суда и входил в комиссию по исполнению решений, касающихся дворянства; в 1788 г. выпустил сборник законодательных актов французских королей о дворянстве; был сторонником Революции и участвовал в войнах Республики; погиб в военной кампании в Швейцарии.
Д’Озье, Пьер, сеньор деЛа Гард (1592–1660) — французский генеалог, составитель 150-томной "Генеалогии важнейших родов Франции" ("G6nealogie des principales families de France").
… являлась столь же по-библейски бесхитростной, как и родословная Авраама… — Авраам (первоначально его имя звучало как Аврам, но затем было изменено Богом на Авраам) — библейский патриарх, прародитель древних евреев; первый стал поклоняться единому богу Яхве; почитается иудеями, христианами и мусульманами. Родословная Авраама — см. Бытие, 11.
… был повешен у креста Круа-дю-Трауар… — Круа-дю-Трауар — распятие, с XIII в. стоявшее в Париже на пересечении улиц Сент-Оноре и Сухого Дерева; возле него была установлена виселица, и там же разрыва™ на части преступников, привязав к их рукам и ногам лошадей.
…в 1473 году, в эпоху царствования славного короля Людовика XI… — Людовик XI (1423–1483) — король Франции с 1461 г.; отличался хитростью, коварством и деспотизмом; окружал себя людьми, способными на любые низости, но верными ему; будучи блестящим политиком и умело управляя людьми, он многого добился в деле централизации государства, присоединив к королевским владениям Анжу, Бургундию, Бретань и другие провинции.
165… снискал бы печальную славу последнего француза-висельника, если бы им не стал маркиз де Фаврас. — Фаврас, Тома де Майи, маркиз де (1744–1790) — офицер гвардии, казненный на виселице за участие в контрреволюционном заговоре. В годы Революции и позже казнь через повешение во Франции была заменена гильотинированием и расстрелом.
… в пределах досягаемости его лука, арбалета или ружья… — Арбалет — ручное метательное средневековое оружие, из которого стреляли короткими стрелами; состояло излука, укрепленного на деревянном ложе, и механизма для натягивания тетивы. Дальность полета стрелы арбалета составляла до 150 шагов.
… падал в обморок от одного вида этих безобидных тварей, почти как Генрих Валуа при виде кошки или Цезарь при виде паука… — Генрих Валуа — имеется в виду французский король Генрих III (1551 —
1589; правил с 1574 г.), последний из династии Валуа; был известен своими противоестественными наклонностями.
Цезарь, Гай Юлий (102/100-44 до н. э.) — древнеримский государственный деятель, полководец и писатель, диктатор; был убит заговорит ками-республиканцами.
… всякая дичь делалась для сына табу, по выражению жителей Новой Каледонии… — Табу — существующая во многих религиях мира система запретов на какие-либо действия или прикосновения к каким-либо предметам. Табу возникало из веры и страха перед сверхъестественными силами, налагалось священнослужителями, и нарушение его влекло суровое наказание; было особенно развито у туземцев Австралии и островов Тихого океана. В речевом обиходе слово "табу" означает неприкосновенность чего-либо.
Новая Каледония — остров в юго-западной части Тихого океана, открыт в 1774 г.; с 1853 г. колония Франции, а ныне ее т. н. "заморская территория" (вместе с рядом более мелких островов); с 1864 г. служила местом ссылки преступников.
166… судья, прево или бальи вручал очередному Гтару то, что переходило к сыну по наследству от отца… — Прево — королевский чиновник в средневековой Франции, осуществлявший судебную, административную, военную и финансовую власть в своем округе; с кон. XV в. прево сохранили лишь судебные функции; в 1749 г. эта должность была ликвидирована.
Бальи — в северной части дореволюционной Франции королевский чиновник, глава судебно-административного округа.
… после восшествия на престол Людовика XVI установления по надзору за охотой стали на редкость мягкими… — Людовик XVI (1754–1793) — король Франции в 1774–1792 гг.; был казнен во время Великой французской революции.
До кон. XVIII в., то есть в период расцвета ленных отношений, право охоты принадлежало только государям, которые продавали феодалам-вассалам охотничьи лицензии. Для крестьян охота была запрещена, а участие в охоте феодала превращалось для них в повинность. С падением феодализма в кон. XVIII в. охота была признана свободным занятием, а право на нее — составной частью поземельной собственности.
… вернулся из Майнца, который он оборонял от войск Фридриха Вильгельма… — Майнц — город в Западной Германии на левом берегу Рейна (ныне в земле Рейнланд-Пфальц ФРГ); известен с I в. до н. э., возник из римского военного укрепленного лагеря; с VIII в. столица духовного княжества (курфюршества) Майнцского архиепископства в составе Священной Римской империи (князь-архиепископ входил в коллегию курфюрстов — выборщиков императора). В 1792 г. во время войны Франции с первой коалицией европейских государств (1792–1797) был занят французами; в апреле 1793 г. был осажден войсками Пруссии и Саксонии и в августе 1793 г. сдался на почетных условиях. Гарнизон был отпущен с обязательством не воевать против союзников. В 1801 г. поЛюневиль-скому миру, закончившему войну второй антифранцузской коалиции, Майнц отошел к Франции; после падения наполеоновской империи — к герцогству Гессен-Дармштадт, а в 1866 г. вошел в состав Пруссии.
Фридрих Вильгельм II (1744–1797) — король Пруссии с 1786 г.; проводил захватническую политику; участвовал в войне первой антифранцузской коалиции, но в 1795 г. после ряда поражений заключил с Францией сепаратный мир.
… В ту пору Конвент противостоял своре аристократов и королей, дружно ополчившихся на него… — Конвент (точнее: Национальный конвент) — высший представительный и правящий орган Франции во время Французской революции, избранный на основе всеобщего избирательного права и собравшийся 20 сентября 1792 г.; декретировал уничтожение монархии, провозгласил республику и принял решение о казни Людовика XVI; окончательно ликвидировал феодальные отношения в деревне; беспощадно боролся против внутренней контрреволюции и иностранной военной интервенции; осуществлял свою власть через созданные им комитеты и комиссии, а также через посылаемых на места и в армию комиссаров. До начала лета 1793 г. наибольшим влиянием в Конвенте пользовалась партия жирондистов (получили свое название по имени департамента Жиронда в Южной Франции, откуда происходило большинство ее лидеров), которые представляли интересы промышленной, торговой и связанной с земледелием буржуазии, выигравшей от Революции и готовой зашишать ее завоевания. Затем преобладание перешло к более радикальной группировке якобинцев, названных так по месту их собраний в бывшем монастыре монахов-якобинцев, и представлявших те классы и социальные слои, требования которых в ходе Революции еще не были удовлетворены. В отличие от жирондистов, якобинцы стремились к дальнейшему углублению революционных преобразований. После принятия новой конституции 26 октября 1795 г. Конвент был распушен.
Великая французская революция вызвала большой страх у монархов Европы, опасавшихся, что ее влияние приведет к крушению феодализма в их государствах. Поэтому в 1792 г. началась почти беспрерывная до 1815 г. череда войн (некоторые историки считают ее одной большой войной) сначала против Французской республики, а потом против ее наследницы — наполеоновской империи. В этих войнах против Франции выступали Англия, Австрия, Пруссия и другие германские государства, Россия, Швеция, Испания, государства раздробленной тогда Италии и даже Турция.
… направит защитников Майнца на усмирение грозной и разъяренной Вандеи. — Вандея — область на западе Франции, у побережья Атлантического океана; в прошлом составляла северную часть исторической провинции Пуату; в кон. XVIII-нач. XIX в. — центр контрреволюционных крестьянских мятежей, возглавлявшихся дворянам и-роялистам и и католическим духовенством.
Отдельные вспышки, происходившие с 1791 г., в марте 1793 г. переросли в настоящую войну. Восстание, причинами которого явились объявленный Конвентом массовый набор в армию, усиление эксплуатации деревни со стороны городской буржуазии и преследования церкви, было использовано контрреволюционным дворянством и духовенством в своих целях. Восставшие получали помошь из-за границы от эмигрантов и Англии. Правительственные войска в начале этой войны потерпели ряд серьезных поражений. Сопровождавшееся чрезвычайными жестокостями с обеих сторон, восстание было подавлено летом 1796 г. Однако отдельные мятежи в Вандее повторялись в 1799, 1813 и 1815 гг.
167… Чтобы попасть из Майнца в Сомюр, надо было пересечь всю Фран цию. — Сомюр — древний город в Западной Франции на реке Луара, ныне в департаменте Мени-Луара; находится вблизи района, который был охвачен вандейским восстанием.
… звучала труба и раздавалась "Марсельеза"… — "Марсельеза" — революционная песня; первоначально называлась "Боевая песнь Рейнской армии"; с кон. XIX в. — государственный гимн Франции; была написана в Страсбурге в апреле 1792 г. поэтом и композитором, военным инженером Клодом Жозефом Ружеде Лилем (1760–1836); под названием "Гимн марсельцев" (сокращенно "Марсельеза") была принесена в Париж батальоном добровольцев из Марселя и вскоре стала популярнейшей песней Революции.
… майнцские батальоны вошли в Ланьи… — Ланьи — селение к востоку от Парижа, в округе Мо, в департаменте Ссна-и-Марна; расположено на Марне, к северу от полуострова Ла-Варен на.
… он принял решение освободить своего командира, генерала Клебера, от одной десятитысячной части возложенной на его плечи ответственности… — Клебер, Жан Батист (1753–1800) — один из талантливейших полководцев Республики; сын каменщика, по образованию архитектор; в 70-80-х гг. служил в баварской армии; в 1789 г. вступил в национальную гвардию Эльзаса; с 1793 г. генерал; участвовал в обороне Майнца; затем во главе 18 000 бывших защитников Майнца был отправлен на подавление вандейского восстания; позднее принимал участие в Египетской экспедиции Бонапарта, после отъезда которого принял командование сю; был убит в Каире фанатиком-мусульманином.
168… казался столь же спокойным и беззаботным, словно какой-нибудь буржуа из предместья Сент-Антуан… — Предместье Сент-Антуан (Сснт-Антуанскос) — рабочий район старого Парижа, располагавшийся у его восточных окраин и известный своими революционными традициями.
… продал свой улов одному трактирщику из Венсена. — Be нее н — селение у восточных окраин Парижа, бывшее королевское владение; ныне вошло в черту города; включало в себя внешний форт парижский укреплений, построенный в 40-х гг. XIX в., а также примыкавший к нему феодальный замок XIV в., который служил в XVII–XVI11 вв. государственной тюрьмой. В 50-х гг. XVII в. около замка был построен загородный дворец.
… рыба стала для Франсуа Гишара тем же, чем должен был стать кувшин молока для Перетты. — Перстта — героиня басни Лафонтена "Молочница и кувшин молока" ("La Laitidre et le Pot au lait"; VII, 10). Девушка несла на базар кувшин молока и мечтала, чтб она купит на вырученные деньги; однако, замечтавшись, она разбила кувшин.
… юная крестьяночка доброго Лафонтена… — Лафонтен, Жан (1621–1695) — знаменитый французский поэт-сатирик, автор шести книг "Басен" и озорных свободомысленных "Сказок и рассказов в стихах", запрещенных правительством; писал также поэмы и комедии; сочинения его, составившие более десяти томов, служат своеобразной проповедью житейской мудрости и отличаются красотой поэтического языка и высокой художественностью.
… ловились усачи, карпы и угри. — Усач — рыба семейства карповых; для нее характерны две пары околоротовых усиков; обитает в континентальных водах Африки, Европы и Азии; для размножения заходит далеко в реки.
Угорь — рыба из отряда костистых, отличается змеевидным телом; обитает по всему миру в теплых морях и реках; из рек уходит размножаться в моря.
169… древняя и чистая, лишенная примесей кровь кельтов, как и много столетий назад, продолжала течь в жилах всех мужчин рода Гишаров. — Кельты — группа родственных по языку и материальной культуре племен, населявших в I тысячелетии до н. э. территорию современных Франции, Бельгии, Англии, Ирландии, верховья Дуная и Западную Германию; в I в. до н. э.-l в. н. э. были покорены Римом. К кельтам относились и племена галлов, которые считаются предками современных французов.
… он мог наслаждаться столь же абсолютной властью, как и Робинзон на своем острове. — Робинзон Крузо — моряк, герой знаменитого романа английского писателя Даниеля Дефо (ок. 1660–1731) "Жизнь и странные и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка" (1719). В первой части этой книги герой, потерпевший кораблекрушение, проводит несколько лет на необитаемом острове в обществе собаки и кошки.
… В то время как Республика, Директория и Консульство сменяли друг друга… — Республика — здесь имеется в виду начальный период Первой французской республики, возникшей после свержения монархии в 1792 г. и формально существовавшей до 1804 г. Директория — правительство Французской республики, действовавшее с 4 ноября 1795 до 10 ноября 1799 г.; состояло из пяти директоров, выбиравшихся палатами народного представительства — Советом пятисот и Советом старейшин; конец режиму Директории положил государственный переворот 18 брюмера (9 ноября 1799 г.), совершенный Наполеоном Бонапартом. Политика Директории соответствовала интересам крупной буржуазии Франции;
Консульство (Консулат) — форма политического режима во Франции с декабря 1799 г. по май 1804 г. Согласно Конституции VIII года Республики (1799) исполнительная власть в стране была вручена трем консулам. Однако всей полнотой власти фактически обладал лишь первый из них — Наполеон Бонапарт, назначенный на 10 лет. В мае 1802 г. его консульство было объявлено пожизненным, а в мае 1804 г. заменено императорским титулом.
… коммуны…не помышлявшие о том, чтобы сдавать в аренду свои рыбные угодья… — Коммуна — см. примеч. к с. 17.
171… О Ричард, повелитель мой… — Это знаменитая ария из комической оперы французского композитора Андре Эрнеста Модеста Гретри (1741–1813) "Ричард Львиное Сердце" (1784), либретто которой написал французский поэт Мишель Жан Ссден (1719–1797); исполнялась и как отдельный романс; в начале Революции стала своего рода гимном роялистов.
Ричард I Львиное Сердце (1157–1199) — английский король с 1189 г.; известен своими рыцарскими подвигами.
… Да меня арестуют за эту песню аристократов… — Аристократами во Франции в период Революции называли всех се врагов, в большинстве своем дворян.
172… закидывать свои донные удочки в заводь Жавьо. — Жавьо — остров на Марне в районе городка Шам пин ьи.
173… причалил к берегу департамента Сена-и-Марна… — Департамент — основная территориально-административная единица Франции, введенная во время Революции вместо прежних провинций; получал название по имени гор, рек и других ландшафтных об1>сктов на его территории.
23 — 272
Число департаментов во Франции довольно часто менялось в зависимости от территориальных переделов, а также завоеваний новых земель или их потерь.
Сена-и-Марна — департамент в Северной Франции; примыкает к окрестностям Парижа с востока.
… с тем же выражением роковой решимости на лице, с каким, вероятно, Вильгельм Завоеватель впервые ступил на территорию Англии. — Вильгельм Завоеватель (1027–1087) — с 1033 г. герцог Нормандии; в 1066 г. во главе большого войска из европейских авантюристов высадился в Великобритании и захватил английский престол, заявив на него довольно сомнительные права; нормандское завоевание способствовало тому, что в Англии завершилось формирование феодализма.
… враги нормандского герцога избавили своего будущего победителя от докучливой заботы блуждать в поисках их войска… — В нач. VII в. Британия была завоевана германскими племенами англов и саксов (их часто называют англо-саксами), и в стране возникло несколько феодальных королевств. В IX в. они объединились в единое государство, вскоре распавшееся в результате набегов датчан-викингов, но в XI в. восстановившееся. Однако вскоре Англия подверглась новому нападению норманнов. Успех этого вторжения был обеспечен победой Вильгельма Завоевателя в битве при Гастингсе в Южной Англии 14 октября 1066 г. Дружина короля Гарольда и ополчение саксонского крестьянства были разгромлены, и Вильгельм стал королем Англии.
175… немало нужно арпанов, чтобы получить один мюи вина. — Арпан — старинная французская поземельная мера; варьировался в разных местностях от 0,2 до 0,5 га; во время Революции был заменен гектаром.
Мюи (мюид) — старинная французская мера объема жидкости и сыпучих тел, различавшаяся в разных местностях и для разных веществ; в Париже один мюи вина составлял 268 л.
… она обработает и сетье виноградника не хуже нас с вами. — Сетье — здесь: старинная французская поземельная мера (то же, чтосетере), приблизительно 17 квадратных метров.
… те пистоли, что мне заплатят завтра… — Пистоль — см. примеч. к с. 108.
… не променял бы свое ремесло даже на звание первого консула… — См. примеч. к с. 169.
176… все необходимое для приготовления матлота. — Матлот — кушанье из кусочков рыбы в соусе из красного вина и различных приправ.
178… Иаков двадцать лет работал на Лавана, чтобы жениться на его дочери Рахили. — Иаков — герой Библии, внук Авраама, родоначальник двенадцати колен израилевых; как гласит Первая книга Моисеева Бытие (29: 4—28), Иаков полюбил дочь своего дяди Лавана красавицу Рахиль. Чтобы жениться на ней, он служил Лавану семь лет. Но Лаван обманул его, воспользовавшись тем, что у древних евреев невесту вручали жениху под покрывалом, и дал племяннику в жены старшую сестру Рахили — некрасивую Лию. Чтобы получить Рахиль, Иакову пришлось отслужить Лавану еще семь лет, а затем еще шесть лет — за приданое, то есть всего, действительно, двадцать лет.
180… верхнее течение Марны вплоть до острова Тир-Винегр… — Перед своим впадением в Сену река Марна разделяется на два русла, между которыми имеется несколько мелких островов; вероятно, Тир-Винегр (Tire-Vinaigre) — название одного из них.
181… как некогда ему было угодно испытать Иова. — Иов — см. примем, к с. 29.
… от Жуэнвиля до Ормесона и от Гравеля до Сюси… — Жуэнвиль-ле-Пон — селение на левом берегу Марны (департамент Сена), недалеко от впадения ее в Сену, чуть выше Ла-Варенны; ныне фактически слилось со столицей.
Ормесон-сюр-Марн — населенный пункт на Марне, несколько выше селения Жуэнвиль-ле-Пон; относится к департаменту Валь-де-Марн.
Гравель — селение на правом берегу Марны, неподалеку от ее впадения в Сену, ниже Ла-Варенны, на южной границе Венсенского леса.
Сюсиан-Бри — городок в департаменте Валь-де-Марн, к югу от Шенвьера.
182… никогда еще под небом Бри не бывало столь безупречной хозяйки. — Бри — небольшое плато, сырое и лесистое, расположенное к востоку от Парижа.
… получал… представление о гастрономических радостях граждан директоров из Люксембургского дворца. — Граждане директора — это члены Директории (см. примем, к с. 169). Люксембургский дворец был построен архитектором Соломоном де Броссом (1571 —
1626) в 1615 г. по распоряжению королевы Марии Медичи (1573–1642), которая после смерти своего мужа Генриха IV в 1610 г. решила построить себе резиденцию. Название к дворцу перешло от имени владельца дома, стоявшего здесь ранее, — герцога Пине-Люксембургского. Он расположен на левом берегу Сены, в юго-восточной части Парижа (в XVII в. это была далекая окраина города). После смерти Марии Медичи дворец перешел к другим членам королевской семьи. Во время Революции, после свержения монархии в 1792 г., он был превращен в тюрьму, а в 1795—
1799 гг. служил резиденцией Директории (члены Директории жили в нем); при Наполеоне стал его резиденцией в период Консульства, а во время Империи — местом заседания сената; в эпоху Реставрации (1814–1830) служил местом заседания верхней палаты французского парламента — Палаты пэров; с 1852 г. в нем заседал сената.
… в цвет флорентийской бронзы… — Флоренция — древний город в Центральной Италии, ныне главный город области Тоскана; основан ок. 200 г. до н. э.; с XI в. становится крупным международным центром; в 1115 г. превратилась в фактически независимую городскую республику, в которой с 1293 г. власть принадлежала торговым и финансовым цехам; с 1532 г. столица Тосканского герцогства; в 1807–1814 гг. входила в состав наполеоновской империи; в 1859 г. присоединилась к королевству Пьемонт, в 1865–1871 гг. столица объединенного Итальянского королевства. В средние века
23*
Флоренция славилась своими художественными изделиями, в том числе литьем бронзы.
… это был департамент Сены… — Департамент Сена — см. примем, к с. 37.
183… При рекрутском наборе обоим сыновьям выпал жребий стать сол датами. — Революция возродила во Франции всеобщую воинскую повинность (вместо комплектования армии вербовкой наемников); все взрослое население страны находилось в состоянии реквизиции, т. е. было военнообязанным. По закону 1798 г. призыву подлежали мужчины в возрасте от 20 до 25 лет, за исключением женатых и непригодных к военной службе. Дальнейшее упрочение республики привело к новым смягчениям воинской повинности. В 1800 г. был разрешен наем заместителей призывников; в 1804 г. был установлен частичный призыв военнообязанных одного возраста по жребию. В 1805 г. Сенат уполномочил императора проводить призывы своими декретами. Призванные оставались под знаменами до окончания войны, а так как во время правления Наполеона войны велись непрерывно, то призыв фактически означал пожизненную службу в армии, комплектовавшейся в основном из низов народа.
Пользуясь законом 1805 г., Наполеон проводил призывы в армию ежегодно. Часто он забирал в армию призыв следующего года (так, в 1809 г. были призваны военнообязанные 1810 и 1811 гг.). Постоянно практиковались также наборы военнообязанных, оставленных дома по каким-либо причинам в год их призыва, и зачисление в армию солдат, которые по семейному положению или слабосилию первоначально направлялись в национальную гвардию.
… солдат, лишившийся одной ноги в Ваграмской битее… — Ваграм — селение близ левого берега Дуная, в 16 км к северо-востоку от Вены; 5–6 июля 1809 г. на равнине у Ваграма произошло генеральное сражение между армией Наполеона и войсками австрийского эрцгерцога Карла, решившее исход а встро-французе кой войны (или войны пятой антифранцузской коалиции). Потерпев поражение в апреле в пятидневном бою в Баварии, эрцгерцог все же сумел отвести главные силы своей армии на левый берег Дуная, разрушил мосты и занял позиции в районе Ваграма. Попытка Наполеона форсировать Дунай по понтонным переправам закончилась неудачей в сражении под Эслингом и Асперном. 5 июля французская армия после тщательной подготовки вторично форсировала Дунай в этом же районе, оттеснила австрийцев от реки и 6 июля нанесла им поражение, принудив к отступлению. Эрцгерцог Карл потерял 30 тысяч убитыми и ранеными и 9 тысяч пленными — треть своих сил. Хотя австрийская армия отступила в порядке и ее стойкость произвела на Наполеона большое впечатление, Австрия после этого поражения пошла на мир.
… В разгар одной из таких бесед, посвященной Египетской экспедиции, после живописного описания таинственных гаремов пашей… — Имеется в виду Египетская экспедиция 1798–1801 гг., предпринятая по инициативе и под командованием Бонапарта. Это предприятие имело целью завоевание новой колонии, защиту интересов французских коммерсантов в Восточном Средиземноморье и создание плацдарма для борьбы с Англией на Востоке, прежде всего базы для дальнейшего наступления на главную английскую колонию — Индию. После уничтожения в 1798 г. французского флота армия Бонапарта, несмотря на многочисленные победы, фактически была в Египте заблокирована. В 1799 г. командующий покинул ее и уехал во Францию. В 1801 г. его войска сдались англичанам.
Паша — титул высших сановников в султанской Турции.
184 …во время сражения при Монмирае пушечное ядро унесло жизнь обоих братьев. — Монмирай — город в Северо-Восточной Франции, около которого 11 февраля 1814 г. Наполеон нанес поражение русским и прусским войскам, пытавшимся наступать на Париж.
185… во время учений в Венсене… — Здесь речь идет о Венсенском замке (см. примеч. к с. 168), в котором в XIX в. размещались различные государственные и военные учреждения, артиллерийская школа, склады и т. д.
… рее сражения доносился не от крепости, а со стороны Сен-Дени. — Речь идет о сражении 30 марта 1814 г. под Парижем, который был атакован наступающей армией союзников. Главные бои проходили близ селений, располагавшихся у восточной и северо-восточной окраин столицы, и велись в основном русскими войсками. К концу дня французы были оттеснены к границам города. Ночью было подписано соглашение о капитуляции и французские войска покинули Париж.
Серьезных боев у Сен-Дени (см. примеч. к с. 21) в это время не было. К его окрестностям французские войска были оттеснены к вечеру 30 марта.
… прусские разведчики бродят уже неподалеку от Мо. — Мо — небольшой город в департаменте Сена-и-Марна, восточнее Парижа; находится на Марне, к северу от мест, где разыгрывается действие романа. Наступая в 1814 г. на Париж, союзные войска приближались к нему с востока и прошли через Мо.
… Франции, как и Франсуа Гишару, предстояло дорого заплатить за двадцать лет безмятежного счастья и величия. — Дюма имеет в виду то обстоятельство, что с 1793 по 1814 гг. Франция не подвергалась вторжению иностранных войск. Однако эти годы были временем почти беспрерывных ее войн против всей Европы, истощивших страну; 1793–1799 гг. были также годами очень серьезных политических потрясений и вооруженной борьбы внутри нее.
186… залпы орудий ясно и отчетливо доносились с высот Монмартра и Роменвиля. — Монмартр — возвышенность в северной части современного Парижа; расположенные на ней кварталы вошли в черту города только в 1860 г. и долго сохраняли полусельский характер; этот бедный район был населен в XIX в. рабочими; на южных его склонах находились многочисленные увеселительные заведения. Его название происходит от слов: mont — "гора" и martyr — "мученик"; на этом холме по приказу римского наместника в 250 г. н. э. был казнен святой Дени, первый епископ Парижа, проповедовавший христианство в Галлии, небесный заступник Франции. Роменвиль — селение у восточных окраин Парижа, ныне фактически слившееся с городом; один из центров боев 30 марта 1814 г.
… Миновав Венсенский лес, женщина вошла в Монтрёй вслед за нашими солдатами, противостоявшими корпусу Шварценберга, и добралась до Бельвиля… — Венсенский лес — обширный лесной массив у восточных окраин Парижа, вблизи одноименного селения (см. при меч. к с. 168), охватывающий территорию от форта Венсен до берега Марны; в царствование Наполеона III лес был благоустроен и превращен в общественный лесопарк, существующий доныне. Монтрёй — в нач. XIX в. селение у восточной окраины Парижа; в настоящее время слилось с городом.
Шварценберг, Карл Филипп, князь, герцог Крумауский (1771–1820) — австрийский военачальник и дипломат, фельдмаршал, участник войн против Французской революции и Наполеона; в 1808 г. посол в Петербурге, с 1809 г. — в Париже; в 1812 г. командовал вспомогательным австрийским корпусом при вторжении в Россию; в 1813–1814 гг. командовал Главной армией союзников в Германии и Франции; во главе этой армии наступал в марте 1814 г. на Париж; как военачальник отличался медлительностью действий.
Бельвиль — рабочий район на северо-восточной окраине Парижа; в черту города вошел в 1860 г.
… Маршал Мармон… шагал в последнем ряду по Парижской улице, сжимая солдатское ружье в искалеченной руке. — Мармон, Огюст Фредерик Луи Вьес де (1774–1852) — французский военачальник и военный писатель, маршал Франции (1809); стал адъютантом Бонапарта в 1796–1797 гг. во время кампании в Италии и сопровождал его в Египет; в 1806 г. стал наместником Далмации, в 1808 г. за успешную оборону города Рагуза от русских и черногорцев в 1806 г. получил титул герцога Рагузского; воевал в Португалии (1811); в 1814 г. сражался у стен Парижа с наступавшими союзными войсками и подписал капитуляцию города, а затем сдался со своим корпусом, лишив Наполеона возможности вести дальнейшие переговоры; за это был заклеймен императором как предатель, что закрепилось в сознании современников; Людовик XVIII сделал его пэром; маршал стоял во главе войск, сражавшихся с участниками Июльской революции 1830 года, он же сопровождал Карла X в изгнание; оставил мемуары.
… казалось, что этот крик вырывается из груди одного из героев "Илиады"… — "Илиада" — древнегреческая эпическая поэма, созданная, по-видимому, в VIII–VII вв. дон. э.; приписывается Гомеру (см. примеч. к с. 16); посвящена Троянской войне — походу греческих героев на город Трою (второе его название Илион) в Малой Азии в XIII в. до н. э. "Илиада" изобилует описаниями сражений, в которых участники издают воинственные клики.
188… Когда браконьеру хочется отведать рагу из дичи, он, независимо от того, известен ли ему замечательный афоризм из "Домашней поваренной книги" или нет, отправляется на поиски зайца. — Речь идет о весьма популярной в XVIII–XIX вв. во Франции "Домашней поваренной книге" ("La Cuisinidre bourgeoise"); впервые вышла в свет в 1746 г. под фамилией некоего Менона, даже имя которого осталось неизвестно; была рассчитана на средние слои городского населения и предназначалась для опытных кухарок.
… Республика конфисковывала имущество врагов отчизны… — Французская революция сопровождалась многочисленными декретами о конфискациях земель и другого достояния ее врагов и превращения их в т. н. национальные имущества (см. примем, к с. 163). Декреты о конфискации различных видов собственности дворян, эмигрантов, духовенства, осужденных принимались законодательными собраниями Франции в 1791, 1792, 1793 и 1795 гг.
189… Принц де Конде командовал эмигрантским корпусом, сражавшимся на Рейне… — Имеется в виду сформированный в Кобленце корпус дворян-эм и грантов, выступавших против Франции; командовал им член королевского дома Луи Жозеф де Бурбон принц де Конде (1736–1818), военачальник, отличившийся еще в Семилетней войне (1756–1768) и эмигрировавший из Франции в 1789 г., сразу же после взятия Бастилии.
Корпус Конде участвовал в войнах первой и второй антифранцузских коалиций (1792–1797 и 1798–1801 гг.) на рейнском и швейцарском театрах. После окончания этих войн он перешел в Россию, а в 1801 г. был распушен.
… цветы, которые он дарил жене в день Святого Людовика. — Католическая церковь знает нескольких святых с таким именем. Здесь, скорее всего, имеется в виду Людовик IX Святой (1214–1270) — король Франции с 1226 г., возглавивший седьмой (1248) и восьмой (1270) крестовые походы; канонизирован в 1297 г.; день его памяти отмечается во Франции 25 августа.
… Бурбоны вернулись во Францию… — Имеется в виду восстановление королевской монархии во Франции в 1814 г. (Первая реставрация) и после окончательного падения Империи в 1815 г. (Вторая реставрация).
Бурбоны — французская королевская династия в 1589–1792, 1814–1815 и 1815–1830 гг.
… Конде снова обрел и Шантийи… — Шантийи — небольшой город в 40 км к северу от Парижа, в департаменте Уаза; известен дворцово-парковым ансамблем XVI–XVII вв., который принадлежал дому Монморанси, а в первой пол. XVII в. был конфискован Людовиком XIV и затем стал владением семейства Конде. После того как род Конде пресекся, дворец перешел к младшей ветви Бурбонов — Орлеанам, собравшим здесь в первой пол. XIX в. ценный музей.
… был родом из окрестностей Рамбуйе… — Рамбуйе — город в окрестности Парижа, в 30 км от Версаля, в департаменте Ивелин; известен феодальным замком XIV–XV вв., перестроенным в XVI–XVIII вв. в загородный дворец с большим парком и лесом и купленным в 1783 г. Людовиком XVI за десять миллионов ливров (в настоящее время он служит летней резиденцией президента Французской республики).
191… согласно известному манифесту, его следует немедленно подвер гнуть преследованию… — По-видимому, речь идет об ордонансе Людовика XVIII от 6 марта 1815 г., который объявлял бежавшего с Эльбы Наполеона Бонапарта бунтовщиком и предателем и предписывал "всем наместникам, командующим вооруженными силами, национальной гвардии и даже простым гражданам подвергнуть его преследованию…"… гигантское фрикасе из кроликов, обильно орошенное вином Сюси… — Фрикасе — мелкие кусочки жареного или вареного мяса с приправой.
Сюси — см. примеч. к с. 181.
195… на фоне темных саржевых занавесок… — Саржа — хлопчатобу мажная ткань с диагональным переплетением волокон; обычно употребляется в качестве подкладки.
197… если бы он внезапно перенесся в долину Иосафата или услышал, как среди разверзшихся облаков раздаются грозные звуки труб Страшного суда. — Долина Иосафата — согласно Библии, местность в ближайших окрестностях древнего Иерусалима, названная в память погребенного там иудейского царя Иосафата. Точное ее местонахождение не определено. Обычно ее отождествляют с долиной Кедрон (Кидрон) к северо-востоку от Иерусалима, которая в своей верхней части называется Иосафатовой. Некоторые богословы разделяют мнение, что под Иосафатовой долиной Священное писание имеет в виду не конкретное место, а пророческий символ.
В христианском вероучении Иосафатова долина — место, где, согласно книге Нового завета Откровение святого Иоанна Богослова, будет происходить Страшный суд, куда соберутся жившие на земле и где с неба раздастся "громкий голос как бы многочисленного народа" (Откровение, 19: I), после чего нечестивцы будут отделены от праведников: одни окажутся низвергнутыми в ад, другие же получат вечное блаженство.
Начало Страшного суда возвестят семь ангелов последовательными звуками труб.
198… и подобрал вальдшнепа. — Вальдшнеп — лесная птица с рыжевато-бурым оперением, лесной кулик.
199… желтые портупеи из Сен-Мора… — Вероятно, "желтыми портупеями" здесь названы жандармы — военизированная государственная полиция, созданная во Франции в 1791 г. вместо прежней местной стражи.
201… благородное искусство, первые правила которого начертал еще ко роль Модус… — Имеется в виду заглавный персонаж самой старинной из французских охотничьих книг "Король Модус и королева Рацио" ("Le roi Modus ct la royne Racio"), относящейся, вероятно, к нач. XIV в.; автор ее жил либо в Пикардии, либо в Артуа; книга содержит правила псовой и соколиной охоты; впервые была издана в I486 г.
… преследовал до самых Арденн какого-нибудь оленя… — Арденны — лесистая возвышенность в Северо-Восточной Франции, Люксембурге и Южной Бельгии; на французской территории входит в одноименный департамент.
… он охотился с ружьем в лесах Шантийи и Морфонтена… — Шантийи — см. примеч. к с. 189.
Морфонтен (или Мортфонтен) — селение в департаменте Уаза, в 30 км к северо-востоку от Парижа, вблизи Эрменонвильскоголеса; там, в окружении прекрасного парка, находился дворец XVIII в., которым поочередно владели Жозеф Бонапарт и последний из Конде.
202… в обществе господина де Талейрана, который считается самым остроумным человеком во Франции и Наварре. — Талейран-Перигор, Шарль Морис, князь Беневентский (1754–1838) — выдающийся французский дипломат; происходил из старинной аристократической семьи; в 1788–1791 гг. — епископ; член Учредительного собрания, где присоединился к депутатам от буржуазии; министр иностранных дел в 1797–1799, 1799–1807, 1814–1815 гг.; посол в Лондоне в 1830–1834 гг.; был известен крайней политической беспринципностью, корыстолюбием и в то же время необычайным остроумием.
Наварра — королевство в Пиренеях на границе Франции и Испании; наследственное владение Генриха IV; после его вступления на французский престол вошло в состав Французского королевства, которое до Великой революции официально называлось "Королевство Франция и Наварра".
203… Я дам ему один луидор… — Луидор (или луи, "золотой Людовика") — французская монета XVИ-XVIII вв.; накануне Революции стоила 24 ливра; при Империи получила название наполеондор ("золотой Наполеона") и стоила 20 франков, эту же стоимость сохранила при Реставрации, вернув себе старое название.
206… Это Венсен. Так вот, уже три года я тщетно собираюсь с духом,
чтобы пойти туда и преклонить колени на одном из камней его рвов… я коснусь стен, которые герцог окидывал прощальным взором… — В Венсенском форте во время Империи заседал военный суд, находилась политическая тюрьма и там же производились казни.
Здесь имеется в виду герцог Энгиенский — принц французского королевского дома Луи Антуан Анри де Бурбон (1772–1804), сын последнего принца Конде, с начала Революции эмигрант; сражался против Республики в корпусе своего деда; после этого жил в Западной Германии; в 1804 г. был захвачен там французской кавалерией, отвезен в Венссн и предан военному суду, обвинен в организации покушений на Наполеона и расстрелян во рву замка.
… за последнюю четверть века многие сильные мира сего были лишены этой возможности. — Во время Великой французской революции казненных по приговору Революционного трибунала хоронили в братских или безымянных могилах.
209… все еще напоминал самого молодого из того маскарада римских императоров, который Леопольд Робер назвал "Рыбаки Адриатики". — Робер, Луи Леопольд (1794–1835) — французский художник, автор многочисленных жанровых картин из итальянской жизни; покончил жизнь самоубийством в Венеции.
Здесь имеется в виду его картина "Рыбаки Адриатики" (полное название: "Depart dcs pechcurs de TAdriatique pour la рёсИс au long cours", 186x247); написанная в 1834 г., она хранится ныне в Нсвша-теле, в Музее изящных искусств.
… Юберте или, точнее, Беляночке — именно так обычно называл ее папаша Гишар, не разделявший любви своего покойного зятя к покровителю охотников… — Юбсрта (Hubcrte) — женский вариант имени Юбер, Губерт (Hubert).
Святой Губерт — епископ Льежский (?—727), считавшийся покровителем охотников; день его памяти — 3 ноября.
210… волнистых волос, шелковистые пряди которых то и дело выбивались из-под старавшегося удержать их в плену Мадраса… — Мадрас — женский головной убор: платок из одноименной ткани (ярких цветов, из шелковых и хлопчатобумажных нитей), повязанный на голове.
212… мечтая о пантагрюэлевских матлотах и гомерических жареньях… — Пантагрюэль — великан, обладающий громадным аппетитом, главный герой романа французского писателя-гуманиста Ф.Рабле (1494–1553) "Гаргантюа и Пантагрюэль" — художественной энциклопедии французской культуры эпохи Возрождения; в гротескных образах роман раскрывает жизнеутверждающие идеалы своего времени, свободного приятия жизни, культ удовлетворения телесных и духовных потребностей.
В поэмах Гомера (см. примем, к с. 16) образы, качества и действия героев часто описаны как превосходящие обычные человеческие. Отсюда возникло определение "гомерический" — что-то необычайное по силе, размерам, количеству. Здесь имеются в виду необычайные по своему изобилию трапезы гомеровских героев.
213… у жестянщика с улицы Лапп… — Улица Лапп располагается в восточной части старого Парижа, в Сент-Антуане ком предместье; известна с 1652 г.; название получила по имени некоего Жирара де Лап па, владевшего землями в ее районе.
215… Мужчину звали Аттила Единство Кварт иди Батифоль — несом ненный признак того, что он родился в 93-м году и что его отец был одним из ярых поклонников революционного календаря. — Аттила (?— 453) — с 434 г. предводитель кочевого народа гуннов, которые вместе с другими племенами в 70-х гг. IV в. начали из Предуралья движение на запад; в 40-х гг. V в. гуннский союз совершил два опустошительных вторжения в пределы Римской империи.
Накануне и особенно во время Революции во Франции было распространено увлечение античностью. Из древности перенимались элементы одежды, имена, символика и т. д. Героика ее использовалась в политической борьбе. Иногда это увлечение, как в данном случае, принимало смешные формы, поскольку Аттила никоим образом не мог быть примером для подражания.
Новый революционный календарь был принят Конвентом 25 октября 1793 г. Согласно этому календарю, отсчет времени начинался с 22 сентября 1792 г., дня основания Республики; началом нового года было объявлено осеннее равноденствие, определяемое каждый раз специальными астрономическими вычислениями. Год делился на 12 месяцев по 30 дней и 5–6 дополнительных дней, отводившихся для народных торжеств. Названия месяцев отражали характер данного времени года. Месяц делился на три декады по десять дней, девять были рабочими, десятый предназначался для отдыха; четвертый день декады назывался квартиди. В 1806 г., во время царствования Наполеона 1, революционный календарь был отменен.
… Полученное им воспитание не могло задвинуть внутрь или устранить ни одну из вредоносных шишек на его черепе. — Имеются в виду принципы френологии — учения об определении способностей человека по строению его черепа. Согласно этому учению, головной мозг есть главный орган всех духовных и физических функций человека; все психические свойства человека локализуются в полушариях мозга и при своем развитии вызывают разрастание определенного его участка; это разрастание, в свою очередь, вызывает выпуклость на соответствующем участке черепа; недоразвитость же какого-либо психического свойства индивидуума проявляется, напротив, во впадине на определенном участке его черепа. В действительности, рельеф мозга не определяет психику человека, а форма черепа не повторяет форму мозга.
… в будущем юного мечтателя не фигурировали ни митры с рубинами… — Митра — головной убор епископов, надеваемый во время богослужения.
… свято хранил каждое су из перепадавших ему чаевых… — Су — см. примеч. к с. 27.
216… не посещал весьма популярные в ту пору певческие общества — потоки вина и восторженных слез, которые проливались там под влиянием Дезожье и Беранже, пугали его… — Дезожье, Марк Антуан (1772–1827) — французский поэт, драматург, комедиограф и водевилист; в годы Революции эмигрант; во время Империи вернулся и приобрел известность как шансонье (поэт-песенник); возглавлял кружок авторов этого жанра; во время Реставрации — певец монархии Бурбонов.
Беранже, Пьер Жан (1780–1857) — французский поэт, известный своими популярными песнями; воспринял идеи Революции, придерживался демократических взглядов.
… это куда приятнее, чем спать на розах, не в обиду Куаутемоку будет сказано. — Куаутемок (1497–1522/1525) — последний император государства индейцев-ацтеков в Мексике; испанские завоеватели взяли его в плен и повесили, а перед этим пытали на раскаленных углях, чтобы он выдал место, где были спрятаны сокровища ацтеков. Когда один из его приближенных, которого подвергли пытке вместе с императором, стал умолять его, чтобы он позволил ему выдать сокровища, Куаутемок сказал: "А я, по-твоему, возлежу на розах?"
217… оказался замешанным в заговоре генерала Бертона… — Бертон, Жан Батист (1769–1822) — французский генерал, с отличием участвовавший в войнах Республики и Наполеона; во время Реставрации был уволен из армии за свои либеральные выступления; в 1822 г. организовал в Западной Франции заговор, а потом и восстание против Бурбонов; был казнен.
… через полтора года он скончался в тюрьме Ла-Форс. — Ла-Форс — тюрьма в Париже, открытая в 1780 г. в перестроенном старинном дворце брата короля Людовика IX Святого — графа Шарля Анжуйского (1220–1285), с 1265 г. короля Неаполя и Сицилии под именем Карла I; название получила по фамилии последних владельцев дома; находилась в квартале Маре, на улице Короля Сицилийского, названной в честь Карла I Анжуйского; состояла из большого отделения (собственно тюрьмы — Ла-Форс) и малого отделения, помещавшегося в соседнем доме, который также был прежде дворянским особняком; в 1850 г. была разрушена.
… было вывешено в мэрии девятого округа. — Округа — районы внутреннего территориального деления Парижа.
Девятый округ находится выше северного полукольца Бульваров, у подножия южного склона холма Монмартр; во времена Дюма это была окраина города.
218… двадцатый округ нынешнего Парижа еще только строился… — Двадцатый округ, расположенный на восточной окраине города, включал в себя в то время рабочие районы, в том числе Сснт-Ан-туанское предместье.
… осторожный овернец не решился приобрести собственность… — Овернец — см. примеч. к с. 28.
… скупать землю рядом с церковью святой Магдалины и за улицами Шоссе-д!Антен, Предместья Пуассоньер и Предместья Сен-Дени… — Церковьсвятой Магдалины до Революции принадлежала монастырю Дочерей Успения Богоматери, основанному в нач. XVII в. в центре Парижа, на улице Сент-Оноре; после закрытия монастыря она стала приходской и была названа во имя святой Магдалины; первоначальное ее здание было сооружено ок. 1283 г.; в 1764–1806 гг. на ее месте было возведено новое здание, превращенное Наполеоном в храм Славы; в 1814–1842 гг. она снова была перестроена в церковь, а в 1850 г. передана польской католической общине в Париже.
Христианская святая Мария Магдалина, происходившая, согласно своему прозвишу, из города Магдала в Сирии, до встречи с Христом была одержима бесами и вела развратную жизнь; Христос исцелил се, после чего она стала ревностной его последовательницей и проповедницей его учения.
Шоссе д'Антен — аристократическая улица Парижа, расположенная в северной части города; известна с XVII в.; с 1793 г. по 1816 г. называлась улицей Монблан по имени вновь присоединенного к Франции департамента; в 1816 г. ей было возвращено первоначальное название.
Улица Предместья Пуассоньер находится в северной части Парижа; ведет от бульвара Пуассоньер через одноименное предместье к холму Монмартр; в средние века была т. н. "болотной дорогой", по которой везли рыбу (poisson) в Париж, отчего предместье и получило свое название.
Улица Предместья Сен-Дени находится в северной части Парижа, несколько восточнее улицы Предместья Пуассоньер; ведет от Бульваров через предместье Сен-Дени к аббатству Сен-Дени; известна с VIII в.
219… изобилующие фруктами и овощами неведомых даже у Шеве сортов… — Шеве — содержатель ресторана в Париже, в середине XIX в. находившегося на улице Кадран.
… свершилось грехопадение нашей праматери. — Согласно библейскому преданию, Ева, первая женшина на земле, уговорила своего мужа, первочеловека Адама, съесть плод познания добра и зла с заповедного дерева в раю. После этого свершилось их грехопадение и изгнание из рая (Бытие, 3: 3-23).
222… бараны Панурга мало-помалу сдвинулись с места… — Имеется в виду эпизод, изложенный в главах V–VI11 четвертой части романа "Гаргантюа и Пантагрюэль" Ф.Рабле. Панург, один из героев романа, поссорился на корабле с купцом, владельцем стада баранов. Чтобы отомстить за насмешки, Панург купил у купца барана и бросил его в море. Тогда остальные бараны кинулись за ним и все до одного утонули вместе с владельцем, пытавшимся их остановить. Возникшее на основе этой сцены выражение "панургово стадо" употребляется для характеристики толпы, бездумно следующей за своим вожаком.
223… Торговый мир Парижа от площади Шатле до заставы Трона при шел в возбуждение… — Площадь Шатле находится в центре старого Парижа, на правом берегу Сены; спланирована в 1802–1810 гг. на месте крепости Большой Шатле, защищавшей в раннее средневековье подступы к городу.
Застава Трона находилась на восточной окраине Парижа, в Сент-Антуанском предместье, на дороге в Венсен; современное название этого места — площадь Нации.
… земли, которой каждый из нас… обязан вернуть прах, заимствованный у нее для его сотворения… — Согласно Библии, Бог сотворил человека "из праха земного" (Бытие, 2: 7). Изгоняя Адама из рая, Бог сказал ему: "В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты и в прах возвратишься" (Бытие, 3: 19).
… взяв за образчик наиболее примитивные строения из тех, что производило такого рода искусство от Эвандра до наших дней… — Эвандр (Евандр) — герой древнеримской мифологии и эпической поэмы Вергилия (см. примеч. к с. 254) "Энеида"; вывел из Греции колонию в Италию, основал на Палатине, одном из семи холмов будущего Рима, город; был просветителем своего народа; помог Энею обосноваться в Италии.
… он совершил прогулку в Оберланд… — Оберланд — высокогорная часть Бернского хребта Швейцарских Альп (т. н. Бернские Альпы)… ради вящей славы трехпробной водки… — Трехпробная водка — водка с большим содержанием спирта.
… вынес оттуда неистребимую страсть к шале. — Шале (фр. chalet) — здесь: в некоторых европейских странах небольшой загородный дом, архитектура которого подражает сельским домикам в горах Швейцарии.
… были призваны изображать заснеженные луга на склонах Монблана и Юнгфрау. — Монблан — горный массив в Западных Альпах, на границе Франции и Италии; одноименная вершина его — самая высокая точка Западной Европы (она имеет высоту 4 807 м). Юнгфрау — вершина в Бернских Альпах в Швейцарии; высота 4 158 м.
… украсил цветочную клумбу грядкой шпината и грядкой салата-латука… — Шпинат — род травянистых одно- или двухлетних растений; в диком виде растет в Средней Азии, Иране и Закавказье. Многочисленные сорта огородного шпината, содержащего большое количество витаминов, используют в пишу в различных блюдах и для приготовления консервов.
Салат-латук — широко распространенное посевное однолетнее овощное растение, употребляемое в пищу в сыром виде.
… задумал представить в Академию наук доклад о спорынье и головне, которые поражают эту культуру, подобно оспе, поражавшей людей до человеколюбивого открытия Дженнера. — Академия наук (точнее: Французская Академия естественных наук) была основана в 1666 г.; в XVIII в. и позже часто называлась Парижской академией наук; входит в состав Института Франции.
Спорынья — болезнь злаков, вызываемая грибком; поражает главным образом рожь и кормовые злаки; у заболевшего ею растения в колосе вместо зерен образуются фиолетово-черные рожки. Головня — инфекционная болезнь многих растений, вызываемая головнёвыми грибами; наибольший вред приносит зерновым культурам.
Дженнер, Эдвард (1749–1823) — английский врач, создатель метода предохранения человека от заболевания оспой путем вакцинации.
224… выдававшими шенвьерское вино за вино из Жуаньи, а полынную водку с улицы Ломбардцев за швейцарский абсент… — Жуаньи — небольшой город в Центральной Франции, к юго-востоку от Парижа, окружной центр в департаменте Йонна; известен виноделием.
Улица Ломбардцев расположена в центре старого Парижа, на правом берегу Сены, известна с XIII в.; на ней селились виноторговцы, а также коммерсанты, выходцы из Италии (в том числе из Ломбардии), в руках которых находилось в средние века банковское дело во Франции и которые дали улице название.
Абсент — полынная настойка зеленоватого цвета; была широко распространена во Франции в XIX в.; обычно ее пили перед едой, по преимуществу разбавляя водой; в настоящее время запрещена к употреблению из-за своей токсичности.
225… в стенах заведений, предназначенных для поклонения Бахусу, как говаривали поэты-песенники из "Погребка", процветавшие в ту пору… — Бахус — латинская транскрипция имени Вакха (Диониса), бога вина и виноделия в античной мифологии.
"Погребок" (фр. Caveau) — возникшее в 1729 г. "вакхически-по-этическое" сообщество известных литераторов, участники которого собирались в парижских кабачках или задней комнате облюбованного ими ресторанчика (отсюда и название). Собравшиеся пили вино, отдавали должное еде и застольной беседе, читали друг другу свои стихи, но особенно много пели (часто песни собственного сочинения). В 1739 г. общество распалось, однако лет через двадцать оно было воссоздано в новом составе, но под тем же названием. В 1806 г. в Париже было создано общество "Новый погребок" ("Le Caveau moderne"), объединившее нескольких известных поэтов-песенников, авторов водевилей, других представителей литературного, театрального, интеллектуально-художественного мира. В 1817 г. оно распалось, однако позднее дважды воссоздавалось — сначала под другим именем, а с 1834 г. под первоначальным названием "Погребок" (это последнее существовало довольно долго).
227… мягкую мебель, обитую кретоном… — Кретон — плотная жесткая хлопчатобумажная ткань с цветным узором; применяется для драпировок и обивки мебели; получила название по имени фабриканта, ее первого производителя; по другим сведениям, по имени деревни, где она начала вырабатываться.
229… это так же верно, как то, что святой Франциск мой заступник! — Католическая церковь знает несколько святых, носивших это имя. Наиболее известен из них святой Франциск Асизский (по-французски Франсуа; 1182–1226) — видный церковный деятель, основатель нищенствующего монашеского ордена францисканцев; день его поминовения — 4 октября.
230… сверкали, как костры в ночь святого Иоанна. — В некоторых европейских странах церковь соединила древний языческий земледельческий праздн и к летнего солнцестояния 7 июля с днем Иоанна Крестителя (в России Иоанна Предтечи, или Ивана Купалы), подвижника, который крестил Иисуса и первый признал в нем Мессию. В Иванову ночь проходят праздники на лоне природы и разжигаются костры.
… как будто камни и кирпичи могли его услышать и, подобно тростнику царя Мидаса, повторить его слова… — Мидас — герой древнегреческой мифологии, царь Фригии (страны в Малой Азии). Аполлон, бог солнечного света, прорицатель и покровитель искусств, знаменитый игрок на кифаре (струнном инструменте) в наказание за то, что Мидас в музыкальном состязании присудил победу его противнику, дал царю ослиные уши. Мидас скрывал это украшение под большой шапкой, и о нем знал лишь его цирюльник, который, страдая от невозможности рассказать об этом, вырыл яму, прошептал в нее: "У царя Мидаса ослинные уши" — и засыпал ее. Однако на месте ямы вырос тростник, который прошелестел тайну всему миру.
236… сколь ни мало похожими на Антиноя сотворил их Господь Бог… —
Антиной (?— 130) — прекрасный греческий юноша, любимец императора Адриана; после смерти был объявлен богом; в древности считался идеалом красоты молодого человека.
… торговал фаянсовой посудой на Королевской площади… — Королевская площадь (ныне площадь Вогезов) находится в восточной части старого Парижа; строительство на ней было начато Генрихом IV, а окончено при Людовике XIII; в XVII в. считалась красивейшим архитектурным ансамблем Парижа; теперешнее ее название появилось в годы Революции.
… становился страстным любителем помологии. — Помология (от лат. pomum — "плод" и гр. logos — "учение") — наука, изучающая особенности сортов плодово-ягодных культур и родство между ними и дающая их классификацию.
241… Дебюро приобщил меня к тайнам пантомимы… — Дебюро — фа милия двух знаменитых французских мимических актеров: Гюстава Дебюро (1796–1846) и его сына Шарля (1829–1873), прославившегося исполнением роли Пьеро.
… ответила тебе тем же, чем Пьеро отвечает Кассандру… — Пьеро — персонаж французского народного театра, заимствованный в
XVII в. из итальянской народной комедии; первоначально был образом хитреца, выдающего себя за простака; позже в пантомиме XIX в. стал воплощением грусти и меланхолии; был неизменно одет в белый балахон и покрывал лицо густым слоем муки. Кассандр — доверчивый глупый старик (иногда отец), персонаж итальянской средневековой народной комедии, перешедший на французскую сцену.
243… играл на флажолете. — Флажолет — старинный деревянный ду ховой музыкальный инструмент наподобие маленькой флейты с наконечником.
245… среди беспорядочно разбросанных островов близ мельницы Бонёй… — См. примеч. к с. 163.
246… цепляла на крючки… тухлую рыбу, как это делала Клеопатра с удочкой Антония. — Клеопатра VII (69–30 до н. э.) — царица Древнего Египта, славившаяся своим умом, образованностью, красотой и любовными похождениями; в борьбе за престол использовала помощь правителей Рима Юлия Цезаря и Марка Антония, но, потерпев поражение в борьбе с Октавианом, будущим императором Августом (63 до н. э.-14 н. э.), лишила себя жизни, чтобы не стать его пленницей.
Антоний, Марк (ок. 83–30 до н. э.) — древнеримский полководец и государственный деятель; боролся за власть в Риме; после поражения при Акции покончил с собой.
После убийства Юлия Цезаря (44 г. до н. э.) и поражения в гражданской войне его противников владения Рима фактически были разделены на две части. Западной частью управлял Октавиан, а восточной — Антоний. В 40 г. до н. э. Антоний встретился с Клеопатрой, нуждавшейся в его помощи для укрепления своей власти. Она с большой пышностью прибыла в его ставку и вскоре, пустив в ход весь свой ум и очарование, стала возлюбленной Антония, а позже (вопреки всем римским обычаям) — женой.
Согласно "Сравнительным жизнеописаниям" греческого историка Плутарха, Клеопатра, находясь в ставке Антония, не отпускала его от себя ни на шаг и участвовала во всех его развлечениях. "Как-то раз он удил рыбу, клев был плохой, и Антоний огорчался, оттого что Клеопатра сидела рядом и была свидетельницей его неудачи. Тогда он велел рыбакам незаметно подплывать под водою и насаживать добычу ему на крючок и так вытащил две или три рыбы. Египтянка разгадала его хитрость, но прикинулась изумленной, рассказывала об этом замечательном лове друзьям и приглашала их поглядеть, что будет на другой день. Назавтра лодки были полны народу, Антоний закинул лесу, и тут Клеопатра велела одному из своих людей нырнуть и, упредивши рыбаков Антония, потихоньку насадить на крючок понтийскую вяленую рыбу. В уверенности, что снасть не пуста, Антоний вытянул лесу и под общий хохот, которым, как и следовало ожидать, встретили "добычу" все присутствующие, Клеопатра промолвила: "Удочки, император, оставь нам, государям фаросским и канопским. Твой улов — города, цари и материки"" ("Антоний", 29).
250… в перелеске, прилегающем к парку замка Рец. — Рец — феодальный род во Франции, игравший некоторую роль в XV–XVII вв. Усадьба
Рец, окруженная большим парком, находится на левом берегу Марны, напротив Л а-Варен ны.
… несет избыток вод из Ормесонского парка к Марне. — Ормесон — см. примеч. к с. 181.
254… воспринял это бегство как попытку раззадорить его. Если бы он знал, кто такой Вергилий, то сравнил бы Юберту с Галатеей. — Галатея — героиня сельской поэмы Вергилия "Буколики", грациозная и красивая девушка.
Здесь содержится намек на стихи: "Галатея игривая тут же // В ветлы бежит, а сама, чтобы я увидал ее, хочет" (111, 64–65, пер. С.Шервинского).
Вергилий (Публий Вергилий Марон; 70–19 до н. э.) — знаменитый римский поэт, автор героического эпоса "Энеида", а также т. н. "сельских поэм" "Буколики" и "Георгики"; приобрел большую популярность в средние века, когда ему поклонялись как волшебнику и оракулу.
… Геркулес, столь недвусмысленно заявивший о своей недюжинной физической силе… — Геркулес — см. примеч. к с. 77.
255… настоящая Психея/— Психея — в древнегреческой мифологии олицетворение человеческой души; обычно изображалась в виде бабочки или молодой девушки с крыльями бабочки. Согласно позднейшим сказаниям, возникшим накануне новой эры, Психея была возлюбленной бога любви Амура (Эрота), но нарушила запрет встречаться с ним только в темноте, и любовник се покинул. Чтобы вновь обрести его, Психее пришлось пройти через множество испытаний, в том числе преследования матери своего возлюбленного богини любви и красоты Венеры-Афродиты.
256… вспомни о храбром Биссоне, этой гордости французского военно-морского флота, и бросайся в пучину со своей жертвой… — Биссон, Ипполит (1796–1827) — французский офицер, добровольцем участвовавший в Греческой национально-освободительной революции (1821–1829); героически погиб в бою — взорвал находившийся под его командованием бриг вместе с экипажем, чтобы не отдавать судно в руки напавших на него пиратов.
… изображая процедуру снятия скальпа… — Во время войн между европейскими колонизаторами при завоевании Северной Америки они привлекали на свою сторону индейцев, платя им за каждого убитого неприятеля. В качестве доказательства убийства предъявлялся скальп — сорванная с головы жертвы кожа с волосами.
259… подам на вас жалобу… королевскому прокурору. — Королевский (республиканский, императорский) прокурор — во Франции XIX в. прокурор при суде первой инстанции.
260… предоставляю вам право выбрать не королевского прокурора, а мокрый трюм. — Здесь речь идет о существовавшем до 1848 г. в военно-морском флоте Франции наказании матросов, повинных в особо тяжелых проступках. Матроса подвешивали на канате и опускали под воду; эту пытку можно было повторять до трех раз подряд.
Более легким считалось наказание "сухим трюмом": виновника лишь опускали на канате до поверхности воды.
261… судно скрылось за мысом Жавьо-Фламандца… — Этот топоним (1а pointe du Javiot-Flamand) идентифицировать не удалось.
262 Орест и Пилад. — Орест — герой древнегреческой мифологии и античных трагедий, сын Агамемнона, предводителя греческого войска, осаждавшего Трою; по воле богов убил свою мать, погубившую отца, и пережил множество страданий и приключений, пока не получил прощения.
Пилад — верный друг Ореста и сотоварищ в его приключениях. Отношения Ореста и Пил ад а стали примером мужской дружбы.
… В 1822 году он выставил скульптурную группу — Прометея, прикованного к скале… — Прометей — в древнегреческой мифологии титан (бог старшего поколения), благородный герой и мученик; похитил для людей огонь, научил их чтению и письму, ремеслам, за что его сурово наказал верховный бог Зевс (рим. Юпитер): он был прикован к скале на Кавказе и каждый день орел прилетал терзать его печень.
263… молодой человек принялся проматывать английские гинеи. — Гинея — английская золотая монета, которая чеканилась с 1663 г. из золота, привезенного из Гвинеи, отчего и получила свое название; по своей стоимости была несколько больше фунта стерлингов; как ценовая единица сохранилась до второй пол. XX в.
… Однако в Салоне ее отказались принять. — Салон — ежегодные выставки современного искусства, проводимые во Франции с XVII в.; в 1737–1848 гг. устраивались в Квадратном салоне Луврского дворца, отчего они и получили свое наименование. Начиная со времен Империи жюри Салона поддерживало официальную академическую живопись и нередко отвергало картины прогрессивных художников.
266… отвез друга на улицу Сен-Сабена… — Улица Сен-Сабена, расположенная в восточной части Парижа, в предместье Сент-Анту-ан, была открыта в 1777 г. и присоединила к себе несколько небольших соседних улиц; название получила в честь некоего Шарля Анжелена де Сен-Сабена, члена парижского городского самоуправления.
267… Дело было в сентябре 1830 года; оба молодых человека горячо приветствовали революцию… — Речь идет об Июльской революции 1830 года, в результате которой была окончательно свергнута монархия Бурбонов; непосредственным поводом к ней стала серия указов короля Карла X, подписанных им 25 июля и опубликованных на следующий день. Этими указами во Франции фактически восстанавливалась дореволюционная абсолютная монархия. В ответ на это 27 июля в Париже началось народное восстание, одержавшее 29-го числа того же месяца победу; 1 августа Карл X отрекся от престола.
… изваял скульптурную группу, которая изображала двух рабочих, водружающих трехцветный флаг над баррикадой. — Французский флаг в годы монархии (и во время Реставрации тоже) был белым. В начале Революции (в 1789 г.) в качестве национальных цветов были приняты белый (флаг монархии), синий и красный (цвета революционного Парижа). Под этим флагом, остающимся флагом Франции до настоящего времени, проходили баррикадные бои Июльской революции.
… золотым дождем Данаи высыпал на скульптора множество пятифранковых монет. — Даная — в греческой мифологии дочь аргосского царя Акрисия, мать одного из величайших героев Персея. Желая избежать судьбу, предсказанную ему оракулом (смерти от руки сына Данаи), Акрисий заточил свою дочь в подземелье, но влюбленный в нее Зевс проник в темницу в виде золотого дождя, и она родила сына Персея. Услышав крик новорожденного, Акрисий спустился в подземелье, увидел внука и повелел запереть его вместе с матерью в сундук и бросить этот сундук в море. Однако дитя и мать спаслись, и Персей совершил великие подвиги. Акрисий все же не ушел от судьбы: диск, брошенный рукой Персея во время состязаний, случайно стал причиной смерти царя.
269… распевал… баркаролу, которую принято было петь на борту "Чайки". — Баркарола (от ит. Ьагса — "лодка") — песня лодочника, бытовой музыкальный жанр, а также лирический романс и инструментальная пьеса.
270… должно было произвести неотразимое впечатление на порт Берси и прочие места на всем протяжении так называемого "мар некого тура". — Берси — селение на правом берегу Сены, в ближайших окрестностях Парижа, к юго-востоку от города; в 1860 г. вошло в городскую черту.
… начинается с вхождения в Марну по Сен-Морскому каналу… — Сен-Морской канал — небольшой канал на Марне, неподалеку от впадения ее в Сену; соединяет два рукава реки, служит речным портом; построен в 1825 г.
… такие же пестрые, как наряд арлекина. — Арлекин — традиционный персонаж итальянской комедии масок, перешедший в кон. XVII в. во Францию; первоначально простак, затем слуга-хитрец; ловко выходит из затруднительных положений, в которые часто попадает; одним из его атрибутов служит пестрый костюм из цветных треугольных лоскутков.
271… одеяния были бы более уместными на карнавале в Ла-Куртиле… — Ла-Куртиль — территория, примыкавшая к улице Предместья Тампль у северо-восточной окраины старого Парижа и с XVIII в. ставшая излюбленным местом прогулок и развлечений столичных жителей; там находилось огромное количество питейных заведений (в том числе и знаменитое кабаре "Ла-Куртиль", принадлежавшее семейству Денуайе), а во время масленицы, в первый день Великого поста, проводился красочный карнавал (эта традиция сохранялась вплоть до революции 1848 года).
… позлить лихих парней с "Дориды", которые столько раз… изображали марсовых в своих дрянных рубахах из красной бумазеи… — Судно названо в честь мифологической Дориды — дочери Океана и Фетиды, супруги Нерея и матери пятидесяти нерид.
Марсовый — см. примеч. к с. 126.
Бумазея — мягкая ткань с начесом, главным образом хлопчатобумажная.
… Гибкая, как брам-стеньга… — Брам-стеньга — см. примем, к с. 93.
272… Можно подумать, что речь идет о королеве Маркизских островов! — Маркизские острова — архипелаг в центральной части Тихого океана; открыт (частично) испанцами в 1595 г. и окончательно — американцами в 1797 г.; в 1804 г. исследованы русскими мореплавателями; с 1842 г. находятся под протекторатом Франции. Возможно, однако, что здесь подразумевается Помаре IV (1813–1877) — королева Таити с 1827 г., принадлежавшая к правившей на этом острове в 1762–1880 гг. королевской династии Помаре.
273… твои панцирь надежно защищает тебя от маленького шалопая с луком и стрелами. — Бог любви в античной мифологии греческий Эрот (рим. Амур, или Купидон) представлялся древним в виде мальчика с луком, стрелы которого, попадая в сердце человека, вызывают или убивают любовь.
… Сегодня праздник в Аржантёе… — Аржантёй — курортный городок на Сене, к северо-западу от Парижа, ниже столицы по течению реки.
274… шагал вдоль берега канала, направляясь к Сене… — Речь идет о судоходном канале Сен-Мартен, проложенном в 1802–1825 гг. в восточной части Парижа; длина его составляла 4,5 км; он был сооружен как обводной канал и питался водой из Марны, которая поступала по Уркскому каналу в бассейн Ла-Виллет, расположенный на северо-восточной окраине города; из этого бассейна канал Сен-Мартен шел на юг и впадал в Сену, отделяя в своем нижнем течении Сен-Антуанекое предместье от собственно города; по нему в столицу доставляли строительные материалы, продовольственные продукты, топливо и лес. Ныне он частично засыпан, а его конечная часть служит речным портом.
… дошел до моста Мари, где стояла его любимая шхуна. — Мост Мари, расположенный в центре Парижа, соединяет остров Сен-Луи на Сене с правым берегом реки; построен в 1614–1630 гг.; назван в честь генерального строителя мостов того времени Х.Мари.
… осматривать корпус, рангоут и такелаж своего судна… — Рангоут — совокупность надпалубных конструкций и деталей, предназначенных для несения парусов.
Такелаж — совокупность снастей (тросы, цепи и т. д.) для крепления рангоута и управления парусами.
275… введя в столичном флоте порку линьком. — Линёк — см. примеч. к с. 87.
… в кукушке, направлявшейся в Ла-Варенну… — Кукушка — здесь: двухколесный фиакр, вмешавший пять-шесть пассажиров; во времена Империи и Реставрации, до начала строительства железных дорог, такие общественные экипажи ходили по регулярным маршрутам в окрестностях Парижа.
… проходил через площадь Бастилии. — Бастилия — крепость на восточной окраине старого Парижа, известная с XIV в., позже вошла в черту города; с кон. XV в. тюрьма для государственных преступников. В начале Великой французской революции, в 1789 г., она была разрушена, а на ее месте была распланирована одноименная площадь, восточнее которой находится Сент-Антуане кое предместье.
276… и без кронциркуля ясно… — Кронциркуль — инструмент в виде циркуля с дугообразно изогнутыми ножками, предназначенный для измерения наружных размеров деталей машин.
277… табань по левому борту/— "Табанить" — грести в обратную сторону, чтобы сделать разворот или дать шлюпке задний ход.
279… Клянусь моим толедским клинком… — Толедо — древний город в Центральной Испании (Новая Кастилия), в VI–VI11 вв. столица Вестготского королевства, в XI–XVI вв. — Кастилии и Испании; в средние века Толедо славился производством холодного оружия.
283… как истинные дети Нептуна, веселились до самого утра. — Нептун — в римской мифологии первоначально считался богом источников и рек, позднее его стали отождествлять с Посейдоном — греческим богом морей.
284… Послушать их, так правительство должно было оставить свои тревоги по поводу недружелюбного отношения к нему европейских государств… — Июльская революция 1830 года, падение Бурбонов и утверждение во Франции Июльской монархии Орлеанов было встречено монархической Европой с беспокойством. Николай I даже вынашивал идею интервенции во Францию, предполагая привлечь к этому Австрию и Пруссию. И, хотя другие державы его не поддержали, Франции пришлось приложить известные усилия, чтобы добиться от монархов Европы признания Луи Филиппа Орлеанского и нормализации с ними отношений.
285… все жители восточных предместий поспешили на берег Марны… — Ближайшими предместьями Парижа к застраиваемому в то время району Ла-Варенны было Сент-Антуанское предместье (см. примеч. к с. 168) на правом берегу Сены, а также рабочие предместья Сен-Виктор и Сен-Марсель на ее левом берегу.
… должны были довольствоваться состязаниями на шестах… — Имеется в виду французское народное двоеборье: два человека на лодках стараются шестами столкнуть друг друга в воду.
… играми в узлы и в кадушку… — Игрой в узлы (или в ремень, или в угря — jeux de I’anguille) называется состязание школьников, несколько похожее на русские салочки. Завязанный в узел платок прячут, а затем ищут; нашедший получает право гоняться за остальными игроками и бить их платком.
Игра в кадушки (jeux de baquet) состоит в следующем. Кадушка, полная воды, подвешивается на высокую П-образную опору; участник игры, стоя на быстро мчашашейся под опорой повозке и держа в руках длинную жердь, должен успеть вставить ее конец в отверстие, которое проделано в доске, прибитой к кадушке снаружи; если он промахивается, кадушка переворачивается и неудачника обливает водой.
286… Подобно тем легитимистам, что продолжали после восшествия короля Луи Филиппа на престол в августе 1830 года еще долго величать его господином герцогом Орлеанским… — Легитимисты (от фр. legitime — "законный") — во Франции в XIX в. сторонники династии Бурбонов, которые считали, что те занимали престол согласно божественному праву (в основном дворяне-землевладельцы и представители тесно связанного с аристократией высшего духовенства).
Луи Филипп — герцог Луи Филипп Орлеанский (1773–1850), представитель Орлеанской ветви дома Бурбонов, в 1830–1848 гг. король французов Луи Филипп I, старший сын Филиппа Орлеанского и Луизы де Бурбон-Пентьевр; во время Великой французской революции в составе революционных войск участвовал в сражениях против войск первой антифранцузской коалиции; в 1793 г. перешел на сторону австрийцев; был в эмиграции в ряде европейских стран и в США; женился на Марии Амелии Бурбон-Неаполитанской (1782–1866); после падения Наполеона получил обратно конфискованное во время Революции имущество и стал одним из богатейших людей Франции; в период Реставрации поддерживал связи с оппозиционно настроенными кругами буржуазии; после Июльской революции 1830 года был провозглашен королем французов; его правление отмечено господствующим положением финансовой аристократии, во внешней политике — сближением с Англией и колониальной войной в Алжире; был свергнут в результате Февральской революции 1848 года и бежал в Англию.
… сегодня это позволяет делать монета в сто су? — Имеется в виду серебряная монета в 5 франков (в просторечии ее называли "колесо"), обращавшаяся во Франции в XIX-нач. XX вв.
288… показалась на повороте, который делает река ниже острова Сторожей. — См. примеч. к с. 180.
289… вы Нестор речного народа… — Нестор — старейший из греческих героев Троянской войны; царь Пил оса (города на полуострове Пелопоннес на берегу Ионического моря); мудрец, к которому в трудную минуту обращаются его соратники.
290… поднять бокалы за свободу морских просторов…и посрамление Англии… — Намек на вековое морское соперничество Франции с Англией (кон. XVll-нач. XIX вв.) и натянутые отношения между этими странами в первые годы после Июльской революции.
… повел свою возлюбленную на прогулку в Сен-Клу. — Сен-Клу — окруженный большим парком замок-дворец неподалеку от Версаля; построен во второй пол. XVII в. гериогом Орлеанским, братом Людовика XIV; в 1871 г., в ходе Франко-прусс кой войны, был уничтожен пруссаками.
291… Пригони шхуну к девяти часам в Фалоньер… — Этот топоним (Falonniers) идентифицировать не удалось.
292… был облачен в одеяние античного борца… — В античную эпоху борцы выходили на поединок обнаженными.
… лез из кожи вон, как каторжник на галерах… — Галера — деревянное гребное военное судно VI1—XVI11 вв., имевшее в качестве вспомогательного движителя паруса. В средние века гребная команда галер часто состояла из каторжников.
293… камбуз для спиртного будет открыт… — Камбуз — здесь: провиантская кладовая на судне.
295… одолжил… кабриолет… — Кабриолет — легкий одноконный открытый двухколесный экипаж без козел с одним сиденьем для двух седоков — кучера и пассажира; появился во Франции, где первоначально (преимущественно в Париже) был наемным экипажем; имел откидной верх. В кон. XIX в. кабриолетом также называли легкий четырехколесный открытый экипаж.
… буковой роще, которую называли лесом Монахов… — Этот топоним (le bois des Moines) идентифицировать не удалось.
… израсходовал… столько разноцветного коленкора… — Коленкор — род жесткой и лошеной крашеной хлопчатобумажной ткани.
297… пошлая кадриль, которую девушка танцевала днем… — Кадриль —
популярный в XVII–XIX вв. танец из шести фигур, который исполняется поочередно четным количеством пар, располагающихся одна против другой.
299… с тем присущим старикам самодовольным многословием, что столь хорошо описал Гомер… — В поэмах Гомера (см. при меч. к с. 16) многие герои, независимо от их возраста, произносят длинные речи в советах и велеречиво рассказывают на пирах о своих подвигах.
308… чрезвычайно длинную дорогу, которая тянется от Венсена до за ставы Трона. — Имеется в виду восточная часть нынешней улицы Предместья Сент-Антуан (см. примеч. к с. 320).
Застава Трона — см. примеч. к с. 223.
… они бок о бок сражались на баррикадах во время Июльской революции. — Июльская революция — см. примеч. к с. 267.
312… мчаться со скоростью десять узлов… — Узел — принятая в мореплавании единица скорости, равная одной морской миле в час.
313… она не очень-то похожа на Олимп… — Олимп — священная гора древних греков в области Фессалия, местопребывание богов.
314… не собирался в данном случае играть роль Пигмалиона… — Пигмалион — в греческой мифологии скульптор и царь острова Крит, который влюбился в изваянную им статую девушки, названную им Галатесй; по его просьбе богиня любви и красоты Афродита оживила статую, и Галатея стала женою Пигмалиона.
315… ловит в сети славку… — Славка — небольшая птица из отряда воробьиных; распространена по всему восточному полушарию.
… мог бы превзойти самого образцового из мужей квартала Маре… — Маре — в XVII–XVI11 вв. аристократический район в восточной части старого Парижа; с востока к нему примыкает Сент-Антуан-ское предместье.
316… он возьмется за дело и создаст статую Веледы… — Веледа — дева-жрица древнегерманского племени бруктеров; пользовалась большим авторитетом у германских племен и была судьей в их спорах; в 69 г. участвовала в восстании вождя племени батавов Цивилиса против римлян; была пленена и отвезена в Рим, где и умерла.
… не позволявших ей походить на друидскую жрицу. — Друиды — языческие жрецы религии древних кельтов Галлии, Британии и Ирландии; помимо религиозных функций, исполняли и судебные;
вместе с племенной знатью составляли господствующий слой кельтского общества периода распада родового строя; в народе пользовались большим авторитетом.
320… на собрания экипажей верхнего течения Сены… — То есть собра ния гребцов, которые плавали по Сене выше Парижа.
… завернув за угол улицы Предместья Сент-Антуан и выйдя на Шаронскуюулицу… — Улица Предместья Сент-Антуан, находящаяся в восточной части Парижа, начиналась когда-то от ворот Сент-Антуан в городской стене и проходила через одноименное предместье; восточная ее часть называлась прежде Вснсенской дорогой. Шаронская улица, бывшая дорога из Парижа в селение Шарон, начинается от улицы Предместья Сент-Антуан, недалеко от площади Бастилии.
323… Брак — это "Deprofundis" любви… — "Dc profundis" — см. примеч.
к с. 75.
326… корнета-пистон — новый инструмент, в ту пору только-только приобретавший известность… — Корнета-пистон — духовой медный музыкальный инструмент в виде рожка, снабженный поршневым вентильным механизмом.
327… напоминавшие прыжки грядущего канкана… — Канкан — французский бальный танец, довольно фривольный, с высоким вскидыванием ног; появился на публичных балах в Париже в 30-х гг. XIX в.; оттуда перешел в оперетту, а затем и на кафешантанную эстраду, где приобрел весьма вульгарные формы.
334 Офелия — героиня трагедии Шекспира "Гамлет, принц Датский", возлюбленная заглавного героя, сошедшая с ума от любви. Она собирала цветы на берегу реки и вешала венки на дерево, держась за него; сук обломился, девушка упала в поток и утонула (4, 7).
340… она скрылась за углом Шарантонской улицы. — Шарантонская улица проходит от площади Бастилии почти через все предместье Сент-Антуан в юго-восточном направлении, в сторону Шарантона; статус улицы получила в 1785 г., а до этого считалась дорогой.
342… шагнула вперед, словно, подобно апостолу, она была одарена спо собностью шествовать по водам. — Здесь, вероятно, имеется в виду евангельский эпизод хождения Иисуса по водам. Когда Иисус догонял лодку со своими учениками, идя по морю, те испугались, увидев его и решив, что перед ними призрак, и один из них, Петр, сказал: "Если это ты, повели мне придти к тебе по воде". Иисус сказал: "иди", и Петр пошел к нему, но испугался, стал тонуть и воззвал о помощи. "Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился?" (Матфей, 14: 25–31).
346… на берегах Марны, от Шарантона до Ла-Кё… — Шарантон — см.
примеч. к с. 163.
Ла-Кё-ан-Бри — селение на Марне, в департаменте Валь-де-Марн, восточнее Парижа.
… Абсент тогда только что вошел в моду благодаря нашей африканской армии… — Африканская армия — войска, которые с 1830 г. вели колониальную войну в Алжире.
… убив в ней столько храбрецов, которых не брали ни пули, ни арабские ятаганы… — Ятаган — восточное холодное оружие: слегка изогнутый кинжал с заточенным внутренним лезвием.
ПАРИЖАНЕ И ПРОВИНЦИАЛЫ
Роман "Парижане и провинциалы" ("Parisienset provinciaux"), высмеивающий меркантильность и ограниченность французских буржуа, был написан в 1866 г. На фоне незамысловатой любовной истории Дюма с неподражаемым юмором описывает свои родные места, парижские и провинциальные нравы и быт, сцены охоты.
Время действия — лето 1846 г. — осень 1847 г.
Роман впервые публиковался в газете "Пресса", с 26.06 по 13.10.1866. Первое его книжное издание: Paris, Techen, chez Charles Prochaska, Libr.-Editeur, 24mo, 4 v., 1867.
Сверка перевода с оригиналом была выполнена по изданию: Paris, Michel Levy freres, 12mo, 2 v., 1868.
351… Старый Париж уходит от нас! — Во второй пол. 50-60-х гг.
XIX в. была произведена коренная перестройка старой части Парижа в пределах кольца Бульваров, проложенных в кон. XVII в. на месте средневековых городских стен. Там было снесено множество домов (до 27 тысяч), построено много новых, сооружено девять мостов, проложены новые прямые и широкие улицы, заменено покрытие улиц. Кроме украшения города и улучшения его санитарного состояния, эти меры имели целью создать условия для использования артиллерийского огня и атак кавалерии при подавлении народных восстаний.
… с нарисованным или высеченным на углу изображением Мадонны… — В католических странах Европы рисованные или скульптурные изображения распятия или Богоматери служат обычными украшениями углов улиц и глухих стен.
… резными деревянными фризами — скромными парфенонами каких-то безвестных Фидиев… — Фриз — полоса в верхней части здания, заключенная между его главной балкой и карнизом и обычно украшенная сплошным орнаментом.
Парфенон — храм Афины, древнегреческой богини-воительницы, покровительницы мудрости и женских ремесел; был построен в 447–488 гг. до н. э. в Афинах, крупнейшем городе и культурном центре Древней Греции; архитекторами храма были Иктин и Калликрат, а статуи его фронтонов и рельефы фриза создавались под руководством Фидия; храм был разрушен в 1687 г. при осаде Афин венецианцами, а его сохранившиеся скульптурные изображения в нач. XIX в. были вывезены в Англию; ныне он частично восстановлен.
Фидий (нач. V в. — ок. 432/431 до н. э.) — знаменитый скульптор Древней Греции, автор статуй на афинском Акрополе и скульптурного убранства Парфенона; друг Перикла и приверженец демократического строя. Его произведения дошли до нового времени лишь в копиях. Статуя Зевса Олимпийского работы Фидия в древности входила в число т. н. "семи чудес света".
… застывшими, словно подлинные вехи крепостной стены Карла У!… —
Карл VI (1368–1422) — французский король с 1380 г.; большая часть его царствования отмечена неудачами в Столетней войне (1337–1453) с Англией и гражданскими раздорами, прежде всего враждой "бургиньонов" ("бургундцев") и "арманьяков", т. е. феодальными кликами сторонников двух соперничавших за власть и влияние родственников короля — герцога Бургундского и герцога Орлеанского (последнего поддерживал граф д’Арманьяк, по имени которого получила название партия его сторонников). Эти потрясения в значительной мере были связаны с тяжелым психическим заболеванием Карла VI.
Однако при Карле VI крепостные стены в Париже не сооружались, и здесь, скорее всего, подразумеваются те, что были воздвигнуты в период царствования Карла V (см. след, примеч.).
… это стены дворца Сен-Поль, отбрасывавшие свою тень на лоб мудрого короля Карла V… — Дворец Сен-Поль, находившийся на восточной окраине Парижа, был построен в XIV в. Карлом V; после подавления народного восстания в столице туда была перенесена королевская резиденция из дворца на острове Сите; разрушен в XVI в.
Карл V Мудрый (1337–1380; правил с 1364 г.) — король Франции из династии Капетингов; успешно вел Столетнюю войну против Англии, упорядочил внутреннее управление и финансы страны; в 1358 г. подавил крестьянское восстание Жакерия в Северной Франции и народные выступления в Париже.
… это образ Богоматери, у подножия которого, на улице Барбетт, оборвалась эта почти кровосмесительная и все же такая поэтичная любовная связь герцога Орлеанского, прославившаяся в веках скорее благодаря его супруге Валентине, чем его любовнице Изабелле… — Улица Барбетт находится в восточной части старого Парижа; она была проложена в 1563 г. через территорию располагавшегося здесь особняка Барбетт и первое время называлась Новой улицей Барбетт, поскольку поблизости находилась Старая улица Барбетт, вошедшая позднее в улицу Вьей-дю-Тампль (Старую улицу Тампля). Герцог Олеанский, Луи (1372–1407) — представитель т. н. второго Орлеанского дома, родоначальник линии Орлеан-Валуа, младший брат короля Карла VI; воспользовавшись слабоумием короля и благосклонностью Изабеллы Баварской (см. примеч. к с. 52), его жены — поэтому Дюма и называет их связь почти кровосмесительной, — в 1404 г. стал регентом государства; был убит своими политическими противниками (его закололи 23 ноября 1407 г. убийцы, напавшие на него, когда он, направляясь к королю, переходил улицу Вьей-дю-Тампль).
Валентина Висконти (ок. 1370–1408) — жена Луи Орлеанского с 1389 г., дочь герцога Миланского; после убийства мужа, относившегося к ней весьма холодно, обратилась к королю с просьбой об отмщении, но была удалена от двора; имела восьмерых детей и перед смертью взяла с них клятву отомстить за отца.
352… это Венсенский замок, где добрый король Людовик IX читал молитвы, а г-н де Бофор вешал раков в знак своей ненависти к знаменитому плуту Мазарино Мазарини… — Венсенский замок — см. примеч. кс. 168.
Людовик IX Святой (см. примем, к с. 189), известный своим благочестием, часто жил в Be нее не и вершил суд под дубом в местном лесу.
Бофор, Франсуа Вандом, герцог де (1616–1669) — побочный внук Генриха IV; один из вождей "Фронды принцев"; пользовался в Париже большой популярностью, за что получил прозвище "Король рынков".
За противодействие политике Мазарини герцог Бофор был заключен в Венсенский замок и провел там несколько лет. Его развлечения там, и в частности то, как он вешал Мазарини под видом вареного рака, красный цвет которого намекал на кардинальское одеяние министра, описаны Дюма в романе "Двадцать лет спустя" (глава XX).
Мазарини, Джулио (1602–1661) — французский государственный деятель, по рождению итальянец; с 1643 г. — первый министр; кардинал; фаворит королевы Анны Австрийской; продолжая политику кардинала Ришелье, добился гегемонии Франции в Европе; был приглашен на французскую службу Ришелье, который познакомился с ним в Италии во время дипломатических переговоров, и, находясь при смерти, рекомендовал его Людовику XIII в качестве своего преемника.
… это замок Тампль, где кровавым потом истекала королевская власть… — Тампль (от фр. temple — "храм") — укрепленный монастырь в Париже, построенный в XII в.; служил резиденцией рыцарей военно-монашеского ордена тамплиеров (храмовников).
В Тампль в августе 1792 г. был заключен вместе с семьей король Людовик XVI, и оттуда в январе 1793 г. он был уведен на казнь.
… это тюрьма Аббатства, откуда вышли жертвы 2иЗсентября… — Аббатство — средневековая тюрьма монастыря Сен-Жермен де Пре, куда заключали крестьян монастырских владений; с 1674 г. — военная тюрьма; в годы Революции — политическая.
2-5 сентября 1792 г. городские низы Парижа, возбужденные неудачами французской армии в войне с вторгшимся во Францию неприятелем и слухами о контрреволюционном заговоре в тюрьмах, произвели там массовые казни заключенных: аристократов, священников, не присягнувших конституции, и королевских солдат, расстреливавших народ во время восстания 10 августа. В результате погибло около половины заключенных.
… балаганные подмостки на бульваре Тампль, где жители предместий изумлялись шутовским выходкам Бобеша и Галимафре… — Бульвар Тампль — часть магистрали Больших бульваров на ее северо-восточной части; название получил от монастыря Тампль, располагавшегося неподалеку; проложенный и благоустроенный в кон. XVII — нач. XVIII в., он был засажен стоящими в пять рядов крупными деревьями; позднее на нем появилось множество кафе и мелких театров. Бобеш (фр. bobeche означает "башка", "рожа"; настоящее имя Антуан Марделяр, или Манделяр) — французский комический актер нач. XIX в.; прославился во времена Империи и Реставрации; считался характерным артистом на амплуа балаганного шута и простака, развлекающего толпу; на бульваре Тампль выступал в театре Пигмеев.
Галимафре (фр. galimafree означает "бурда"; настоящее имя Огюст Герен; 1791-ок. 1870) — французский комический актер на амплуа шута, партнер Бобеша, выступавший вместе с ним в балаганных театрах в период Империи и Реставрации; умер в безвестности.
… увидев в приоткрытую дверь, охраняемую служащим Курция, добродетельную Сусанну, одеяние которой состояло лишь из ее собственного целомудрия, меж двух похотливых старцев… — Курций (настоящее имя Курц, или Курс) — основатель двух музеев восковых фигур в Париже (ок. 1770 г.): один из них располагался в Пале-Рояле (там были представлены изображения великих и замечательных людей), а другой — на бульваре Тампль (здесь были выставлены фигуры всякого рода негодяев и преступников).
Сусанна — героиня Библии, красивая и благочестивая жительница Вавилона, перешедшая в иудаизм; она была ложно обвинена в прелюбодеянии двумя старцами, домогательства которых были ею отвергнуты, однако от казни ее спас юный Даниил, обнаруживший обман. Рассказ о Сусанне (Даниил, 13) в первоначальном древнееврейском тексте Ветхого завета отсутствует: это более поздняя вставка, относящаяся к кануну нашей эры. Здесь имеется в виду сцена, когда Сусанна купается в своем саду, а похотливые старейшины подглядывают за ней.
… бессмертный суд царя Соломона с фигурами настоящей матери, обманщицы и ребенка, которого чуть было не разрубили на две части! — Соломон — царь Израильско-Иудейского царства с 965 до 928 г. до н. э. в период его наивысшего расцвета; согласно библейской легенде, славился мудростью, любвеобильностью и справедливостью и был автором нескольких книг Библии.
Здесь речь идет о библейской легенде, получившей название "Суд Соломона". К царю обратились две женщины-блудницы, родившие в одно и то же время и в одном и том же доме по ребенку, один из которых вскоре умер; каждая из них утверждала, что в живых остался ее ребенок. И тогда Соломон сказал: "Рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой" (3 Царств, 3: 25). Истинная мать из-за жалости к сыну тотчас отказалась от такого решения, а равнодушная обманщица согласилась с ним. Так царь узнал, какая из двух женщин — мать этого ребенка, и отдал его ей.
… Прощай Париж Филиппа Августа, Карла VI, Франциска / и Генриха IV! — Филипп II Август (1165–1223) — король Франции с 1180 г.; успешно проводил политику централизации государства и расширил его пределы.
Франциск 1 (1494–1547) — король Франции с 1515 г. (до воцарения — граф Ангулемский, герцог Валуа, первый принц крови); крупный государственный деятель, правление которого явилось важным этапом формирования абсолютной монархии в стране; вел активную внешнюю политику, отмеченную постоянным соперничеством с германским императором Карлом V Габсбургом, пытался (не всегда успешно) противостоять гегемон истеки м устремлениям Габсбургского дома и удержать французские территориальные завоевания в Италии; оказывал покровительство наукам, искусствам и просвещению, способствовал развитию французской культуры Возрождения, создал самый блестящий в Европе двор, где важную роль играли представительницы прекрасного пола, большим поклонником которого был он сам.
Генрих IV (1553–1610) — король Наварры с 1572 г. под именем Генриха III и Франции с 1589 г. под именем Генриха IV; в 70—нач. 90-х гг. XVI в. глава протестантской (гугенотской) партии во Франции; став королем Франции, первым из династии Бурбонов, фактически восстановил единство страны, разрушенное религиозными войнами второй пол. XVI в., и проводил политику ее экономического развития; способный полководец; самый популярный из французских королей.
… начиная с терм Юлиана и кончая Триумфальной аркой на площади Звезды… — Термы Юлиана — так Дюма называет дворец Терм, грандиозное сооружение римской эпохи (III в. н. э.), одно из древнейших в Париже, сохранившееся вблизи исторического центра города; в XIX в. это здание принято было считать дворцом, построенным императором Констанцием I Хлором, а в настоящее время считают общественными купальнями (термами).
Юлиан — римский император с 361 г. Флавий Клавдий Юлиан (331–363), прозванный Отступником, поскольку он пытался возродить язычество и остановить распространение христианства; в 355–360 гг. в качестве соправителя своего предшественника Констанция II управлял провинцией Галлией (соврем. Францией) и, возможно, жил во дворце Терм.
Триумфальная арка — грандиозное сооружение (высотой до 50 м), возведенное по замыслу Наполеона I в честь его побед; она должна была служить западными воротами Парижа; воздвигать ее начали в 1806 г., а завершили в 1836 г.; арка построена на возвышенности, которой заканчивается в своей западной части проспект Елисейские поля, на площади Звезды; богато украшена скульптурами; на ней выбиты имена 386 генералов, участвовавших в битвах времен Республики и Империи.
Площадь Звезды — большая круглая площадь в конце Елисейских полей, от которой лучами расходятся 12 широких проспектов; начала формироваться в первые годы XVIII в., а окончательное устройство приобрела в 50-х гг. XIX в.; свое современное название получила в 1863 г.; в XVI11—XIX вв. на ней находилась застава для сбора ввозных пошлин в Париж.
353… забыли даже название той улицы, из которой вырос Севастополь ский бульвар. — Севастопольский бульвар — одна из центральных магистралей Парижа; идет от площади Шатле на правом берегу Сены через центр старого города в северном направлении к Восточному вокзалу; проложен в 1855–1857 гг. во время реконструкции столицы в 50—60-х гг.; название получил в честь взятия английскими и французскими войсками Севастополя в 1855 г. во время Крымской войны 1853–1856 гг. против России. Севастопольский бульвар вобрал в себя более десяти улиц торговой части старого Парижа, через которую был проложен.
… Мы имеем в виду старую и почтенную улицу Бур-л 'Аббе. — Улица Бур-л’Аббе находилась в торговой части старого Парижа, между улицами Сен-Дени и Сен-Мартен, и шла в меридиональном направлении, связывая несколько небольших улочек этого района; она была известна с XII в. и когда-то служила улицей находившегося здесь небольшого селения; в сер. XIX в. была поглощена Севастопольским бульваром. После этого в том же районе была проложена Новая улица Бур-л’Аббе, соединявшая улицы Сен-Мартен и Севастопольский бульвар и позднее ставшая называться просто улицей Бур-л’Аббе.
… в сплетении улочек и переулков, соединявших улицы Сен-Дени и Сен-Мартен. — Улица Сен-Дени — одна из радиальных магистралей старого Парижа; ведет от правого берега Сены на север к Бульварам; существует с VIII в.; с развитием города Сен-Дени и одноименного монастыря у северных окраин столицы приобрела большое значение как путь в этом направлении.
Улица Сен-Мартен — другая радиальная магистраль Парижа, проходящая параллельно улице Сен-Дени, восточнее ее; ведет от правого берега Сены на север к Бульварам.
… острый угол, образовавшийся там, где Бур-л \Аббе выходила к улице Гренета… — Улица Гренета, наискось соединяющая улицы Сен-Дени и Сен-Мартен, известна с XIV в.; в нее своим северным концом упиралась улица Бур-л’Аббе, образуя с ней острый угол на западной своей стороне.
… экзотическое растение из страны феи Морганы или королевства Титании… — Фея Моргана — волшебница, героиня народных легенд о короле бриттов Артуре (V–VI вв.), на основе которых в средние века возникло множество рыцарских романов; соперница другого великого волшебника этого цикла — Мерлина.
Титания — королева эльфов, персонаж комедии У.Шекспира "Сон в летнюю ночь".
354… указать занятие предпринимателя, носившего столь изысканную и благозвучную фамилию. — Фамилия Пелюш (фр. Peluche) означает "плюш".
…за последние годы искусство разного рода Наттье и Баттонов достигло значительного развития. — Магазины искусственных цветов, принадлежавшие парижским торговцам Наттье и Ф.Баттону в сер. XIX в. располагались на улице Ришелье.
… безрассудные попытки новоявленных Икаров и Фаэтонов в большинстве случаев кончаются крахом. — Икар — в древнегреческой мифологии сын замечательного художника, строителя и изобретателя Дедала; вместе с отцом находился в плену на острове Крит, откуда они улетели на крыльях из перьев, слепленных воском. По пути Икар поднялся слишком высоко, жар солнца растопил воск, а юноша упал в море и погиб.
Фаэтон — в древнегреческой мифологии сын бога солнца Гелиоса, упросивший отца дать ему один день управлять колесницей светила; управляя колесницей, он не смог сдержать огнедышащих коней, и они бешено бросились в сторону, отклонившись от обычного пути солнца, что вызвало страшный пожар; за это верховный бог-громовержец Зевс поразил Фаэтона молнией.
… подобно праведнику Горация, с полной безучастностью относясь к тому грохоту, с которым вокруг него рушились империи… — Квинт Гораций Флакк (65—8 до н. э.) — древнеримский поэт; автор сатир, од и письма о поэтическом искусстве, получившем еще в древности название "Наука поэзии".
Здесь имеется в виду образ из посвященной Августу оды Горация — человек, уверенный в своей правоте и неуклонно идущий к намеченной цели (justum et tenacem propositi virum):
Кто прав и к цели твердо идет, того Ни гнев народа, правду забывшего,
Ни взор грозящего тирана Ввек не откинут с пути; ни ветер,
Властитель грозный бурного Адрия,
Ни Громовержец дланью могучей, — нет:
Пускай весь мир, распавшись, рухнет —
Чуждого страха сразят обломки.
(Оды, III, 3, 1–8; пер. Н.Гинцбурга.)
Дюма хочет сказать, что Пелюш не обращал внимания на политические катаклизмы и перемены политического строя во Франции в первые годы XIX в.: падение империи Наполеона в 1814 г., ее кратковременное восстановление в 1815 г. и две реставрации королевской монархии — в 1814 и 1815 гг., а затем и Июльскую революцию 1830 года.
355… продолжал при Бурбонах младшей ветви, точно так же как он делал это при Бурбонах старшей ветви… — Младшая ветвь Бурбонов — их Орлеанская линия, занимавшая французский престол в 1830–1848 гг.
Старшая ветвь Бурбонов царствовала во Франции в 1589–1792, 1814–1815 и 1815–1830 гг.
… наводнять Францию, Европу, Старый и Новый Свет своим флёрдоранжем из тонкой замши… — Флёрдоранж (фр. fleur d’orange) — здесь: искусственные цветы померанцевого дерева, которые служат в ряде стран (как и естественные цветы) принадлежностьюсвадебного убора невесты; символ невинности.
… напомнило мне во дворце Кьятамоне, что… в благословенном королевстве Фердинанда Н, куда не проникают ни наши газеты, ни наши романы… — Дворец Кьятамоне — летняя резиденция неаполитанских королей, в которой с 13 сентября 1860 г. по 6 марта 1864 г. жил Дюма после того как он принял деятельное участие в итальянской революции 1860 г.
Благословенным королевством Фердинанда II Дюма иронически называет Королевство обеих Сицилий (или Неаполитанское) — государство, включавшее в себя юг Апеннинского полуострова и (с перерывами) Сицилию и имевшее своей столицей Неаполь; существовало с кон. XIII в.; в I860 г. вошло в состав единого Итальянского королевства.
Фердинанд II (1810–1859) — король Королевства обеих Сицилий с 1830 г.; возглавлял один из самых реакционных режимов в Европе; беспощадно подавлял свободомыслие, народные и революционные движения; за варварскую бомбардировку города Мессина в 1848 г. получил прозвище "король-бомба". Ему наследовал его сын Франческо II (1830–1894), утративший трон в 1860 г.
… Имея высокий чин в национальной гвардии, он получил красную ленточку — предел всех тщеславных желаний буржуа. — Национальная гвардия — часть вооруженных сил Франции, гражданская добровольческая милиция, возникшая в первые месяцы Великой французской революции (летом 1789 г.) в противовес королевской армии и просуществовавшая до 1872 г. Национальные гвардейцы, имея на руках оружие, продолжали жить дома, заниматься своей профессией и время от времени призывались для несения сторожевой службы (обычно в порядке очередности, а в чрезвычайных ситуациях — поголовно). В годы Революции национальная гвардия участвовала в обороне страны от внешнего врага, в подавлении контрреволюционных мятежей, а также использовалась против выступлений народных масс.
Во время Реставрации национальная гвардия в значительной степени состояла из представителей средней и мелкой буржуазии и была проникнута оппозиционно-либеральными настроениями, поэтому, хотя служба в ней и была номинальной, в 1827 г. Карл X распустил ее. Луи Филипп, вступлению на престол которого весьма способствовали бывшие национальные гвардейцы, восстановил это формирование, и оно в какой-то мере заменило королевскую и императорскую гвардию. Национальная гвардия строилась по территориальному признаку и делилась на легионы (полки), батальоны и роты; оружие и форма по-прежнему приобретались гвардейцами за свой счет, что открывало доступ в гвардию только буржуазии. Как и прежде, гвардейцы жили дома и собирались для караульной службы, а также в случае беспорядков и для подавления революционных выступлений. Младший их офицерский состав избирался гвардейцами, средний назначался королем из представленных гвардией кандидатов. К концу Июльской монархии, когда наметился се разрыв с массой буржуазии, в национальной гвардии усилился оппозиционный дух.
Пслюш, очевидно, стал кавалером ордена Почетного легиона (см. примеч. к с. 450): его знак носят на красной муаровой ленте.
… после тридцати пяти лет неустанных сражений — но не на полях Беллоны, а на полях Флоры… — Бсллона — древнеримская богиня из окружения бога войны Марса; в се храме в Риме происходили церемонии объявления войны и принимали победоносных полководцев.
Флора — римская богиня цветения, "мать цветов"; почиталась также как богиня юности; на ее празднике (Флоралии) было принято себя украшать.
356… тот образчик парижского Прюдома оставался, так же как и дикарь с Ван-Дименовой земли или Новой Каледонии, несведущ в радостях жизни… — Господин Жозеф Прюдом — тупой, чванливый и самодовольный парижский буржуа, герой карикатур и сатирических книг французского писателя-сатирика и художника-карикатуриста Анри Бонавентюра Моннье (1805–1877).
Ван-Дименова земля — первоначальное название расположенного у южных берегов Австралии острова Тасмания; оно было дано ему в честь генерал-губернатора Голландской Индии в 1636–1645 гг. Ван Димена голландским мореплавателем Тасманом (1603–1659),
который обнаружил неизвестную землю и, обогнув только ее южную часть, не понял, что перед ним остров.
Новая Каледония — см. примеч. к с. 165.
… Судьба, единственное языческое божество, которое пережило античный пантеизм и, все столь же могущественное и почитаемое, перешло от наших предков к нам. — Язычество — богословский и частично исторический термин, обозначающий дохристианские и нехристианские религии; в более узком смысле — религии, которым свойственно многобожие (пантеизм). Пантеистическими были и религии античного мира.
В древнегреческой мифологии воплощениями судьбы были древние грозные богини мойры, которым в римской мифологии соответствовали парки. Мойра Клото прядет нить жизни человека, Лахсзис вынимает его жребий, мойра Атропос — приближает неотвратимое. Мойрам подвластно все, и даже боги не смеют с ними спорить. Кроме того, в римской и этрусской мифологии существовало воплощение неотвратимой судьбы — фатум, тоже отождествляемое с мойрами.
357… За эти семь лет его службы состоялась Испанская кампания /823 года… — Весной 1823 г. правительство Реставрации, к негодованию либеральной оппозиции, отправило на Пиренейский полуостров экспедиционный корпус под командованием герцога Ангулсмского, племянника короля Людовика XVIII, для подавления испанской революции. Действия французских войск привели к восстановлению в Испании неограниченной королевской власти и торжеству крайне реакционного режима, начавшего проводить массовые репрессии нс только против непосредственных участников революции, но и вообще против любых либерально мыслящих граждан.
… дочерью, которую регулярно каждое воскресенье и каждый четверг забирал из пансиона на улице Сен-Клод в Маре… — Пансионы — средние закрытые учебные заведении, широко распространенные в Европе в XVI11—XIX вв.; часто существовали при монастырях. Большей частью в пансионах воспитывались девочки из дворянских и буржуазных семей.
В учебных заведениях Франции вплоть до XX в. четверг и воскресенье были свободными от занятий днями.
Улица Сен-Клод (до 1851 г. официально называлась улицей Сен-Клод-о-Маре), находящаяся в квартале Маре (см. примеч. к с. 315), была открыта в 1640 г.; своим названием обязана статуе свитого Клода, стоявшей на одном из ее перекрестков.
… приверженец порядка, а следовательно, сторонник Луи Филиппа… — Порядок — политический термин первой пол. XIX в., обозначавший подавление революционных и народных движений и твердую власть буржуазии.
Луи Филипп — см. примеч. к с. 286.
… тратя несколько су на каждого. — Су — см. примеч. к с. 27.
359… пусть Кант и г-н Кузен, эти два великих философа, объяснят ту странность… — Кант, Иммануил (1724–1804) — великий немецкий философ-идеал ист, родоначальник немецкой классической
24 — 272 философии; в 1755–1770 гг. — доцент, в 1770–1796 гг. — профессор Кёнигсбергского университета.
Кузен, Виктор (1792–1867) — французский философ-идеалист и политический деятель; выступал против материализма, полагал, что основные философские идеи уже высказаны и задача ученых состоит в отборе положений, созвучных современности; министр просвещения в царствование Луи Филиппа, пэр Франции.
… вслед за Ларошфуко, утверждавшим, что в несчастье друга, как бы дорог он ни был нашему сердцу, всегда есть нечто доставляющее нам удовольствие… — Ларошфуко, Франсуа VI, герцог де (1613–1680) — знаменитый французский писатель-моралист, автор книги "Максимы и моральные размышления", представляющей собой сборник изречений и афоризмов; активный участник Фронды, события и атмосферу которой он изобразил в своих мемуарах (1662).
Упомянутый здесь афоризм (в переводе ЭЛинецкой: "В невзгодах наших лучших друзей мы всегда находим нечто даже приятное для себя") содержится в первом издании "Максим" (1665) под номером 99; в современных русских изданиях — под номером 583.
360… со стоическим смирением переносил все упреки… — Стоицизм — одно из направлений античной философии, последователи которого считали необходимым бесстрастно следовать природе и року. Термин происходит от греческого слова Stoa — названия галереи в Древних Афинах, в которой учил основатель школы стоиков философ Зенон из Китиона (ок. 333–262 до н. э.).
… внушала своему мужу нечто вроде того боязливого уважения, которое Юнона вызывала у Юпитера. — Юнона (гр. Гера) — богиня-покровительница семьи и брака в античной мифологии, супруга Юпитера (гр. Зевса), отличавшаяся ревнивым и сварливым характером.
Юпитер — верховный бог в античной мифологии, повелитель грома и молний, владыка богов и людей.
… после подобного приветствия, вполне уместного в Шомьере… — "Шомьер" (фр. "Хижина"; или "Гранд Шомьер" — "Большая хижина") — название построенного в т. н. "сельском стиле" здания в левобережной части Парижа, где проходили самые известные общественные балы. Заведение просуществовало с 1787 до 1853 гг.; особой популярностью оно пользовалось в конце периода Реставрации и во время Июльской монархии (1830–1848), когда его возглавлял папаша Лаир — зять первого владельца. Унаследовав заведение, он усовершенствовал его, добавил некоторые аттракционы и отказался от услуг полиции, но при этом сам строго следил за порядком, не допуская, чтобы веселье переходило в распущенность. Балы в "Шомьере" носили демократический характер, и особенно охотно его посещали студенты и девушки-работницы.
361… должны были немало заинтересовать вольтижеров из роты Пелюша… — Вольтижёры (от фр. voltiger — "порхать") — солдаты легкой пехоты во французской армии; набирались из призывников ниже уставного роста; вооружались ружьями облегченного образца; имели хорошую стрелковую подготовку и часто использовались в качестве разведчиков.
… улыбаясь, подобно Авроре… — Аврора (лат. Aurora — букв, "утренний ветерок") — в древнеримской мифологии богиня утренней зари; соответствует древнегреческой богине Эос.
… Подобно Гаргантюа после кончины его супруги Бадбек и рождения его сына Пантагрюэля… продолжал рыдать… и хохотать как безумный… — Здесь упоминаются герои романа Ф.Рабле "Гаргантюа и Пантагрюэль" (см. примеч. к с. 212). Бадбек — жена великана Гаргантюа, мать Пантагрюэля, умершая от родов. После ее смерти Гаргантюа одновременно скорбел по ней (и даже сочинил восхваляющее покойницу стихотворение) и бурно радовался рождению сына ("Гаргантюа и Пантагрюэль", книга II, глава III под названием "О том, как скорбел Гаргантюа по случаю смерти своей жены Бадбек").
362… разрывая, подобно Калхасу, завесу будущего… — Калхас (точнее: Калхант) — в древнегреческой мифологии, античных трагедиях и "Илиаде" Гомера жрец из города Микен, прорицатель, сопровождавший греческое войско в Троянской войне.
… откладывая экю за экю, луидор за луидором… — Экю — старинная французская монета; с XIII в. по 1653 г. чеканились золотые экю; с 1641 г. по 1793 г. — серебряные; экю равнялось 60 су, или 3 ливрам; в кон. XVIII в. в обращении находились также экю, стоившие шесть ливров; в XIX в. название экю сохранялось за пятифранковой монетой.
Луидор — см. примеч. к с. 203.
… зимой в Тюильри, а летом в Сен-Клу — за столом конституционного монарха… — Тюильри — королевский дворец в Париже, построенный во второй пол. XVI в.; в кон. XVIII и в XIX в. — главная резиденция французских монархов; в 1871 г., во время событий Парижской коммуны, основная часть дворца была уничтожена пожаром.
Замок Сен-Клу (см. примеч. к с. 290) служил резиденцией короля Луи Филиппа, а при Второй империи — Наполеона 111. Конституционный монарх — государь, власть которого ограничена конституцией и парламентом. Во Франции в 30—40-х гг. XIX в., т. е. во время Июльской монархии, это ограничение в значительной степени было номинальным и власть Луи Филиппа приближалась к абсолютной.
363… домика в пяти или шести льёот Парижа… — Льё — см. примеч. к с. 10.
… на склоне холма Вути, в ста шагах от Уркского канала… — Вути — хутор в департаменте Эна, в 6 км к юго-востоку от Виллер-Котрс; расположен примерно в 5 км севернее реки Урк.
Уркский канал — см. примеч. к с. 16.
364… табурет, обитый красным утрехтским бархатом… — Утрехт — промышленный и торговый город в Нидерландах, в дельте Рейна; известен с древнейших времен как поселение германского племени батавов; ныне административный центр одноименной провинции; известен выделкой бархатных тканей.
365… погрузившись в стратегические комбинации дёбета и кредита… — Дебет (от лат. debet — "он должен") — левая сторона бухгалтерских
24*
счетов; в счетах актива (то есть дохода) туда заносятся все поступления; в счетах пассива (убытков, долга) — все расходы поданному счету. В просторечии — суммы денег, зачисленных в дебетную часть счетов.
Кредит — правая часть бухгалтерских счетов; в счетах актива — расходная часть, в счетах пассива — приходная.
366… превращают ее в настоящего Талейрана прилавка. — Талейран — см. примеч. к с. 202.
367… Если бы, подобно Пифагору, мадемуазель Атенаис могла вспомнить свои прошлые существования… — Пифагор (ок. 580–500 до н. э.) — древнегреческий философ и математик, политический и религиозный деятель, основатель пифагорейской школы, которая была одновременно научной группой и политической партией.
Учение Пифагора включало в себя положение о бессмертии души и переселении душ и о способности души помнить о том, что она видела в потустороннем мире.
… ей пришлось бы признаться, что во времена Юпитера она была Данаей. — Юпитер — см. примеч. к с. 360.
Даная — см. примеч. к с. 267.
368… смертью от мгновенного внутреннего возгорания или же от белой горячки. — Белая горячка — острое психическое заболевание, развивающееся при злоупотреблении спиртными напитками.
… Эти слова сопровождались резким нервным смехом, так сильно напоминавшим г-же Пелюш смех Мефистофеля, который во времена своей юности она слышала в театре Порт-Сен-Мартен… — Мефистофель (гр. "Ненавидящий свет") — в художественном творчестве народов средневековой Европы имя одного из демонов, чертей, духов зла, который заключает союз с человеком, обещая в обмен на его душу помогать ему; герой многих литературных и фольклорных произведений, из которых наиболее известна трагедия Гёте "Фауст".
Театр Порт-Сен-Мартен — драматический театр в Париже, на кольцевой магистрали Бульваров, у ворот (фр. porte) Сен-Мартен, открывшийся в 1814 г.; принадлежал к группе т. н. "театров Бульваров", которые в первой пол. XIX в. конкурировали с государственными привилегированными театрами, живо откликаясь на художественные вкусы и политические настроения общества.
… кучер небольшой повозки из Виллер-Котре… — Виллер-Котре — городок, расположенный в 70 км к северо-востоку от Парижа, в XVI–XVII вв. одна из королевских резиденций; во второй пол. XVII в. перешел во владение младшей ветви династии Бурбонов — герцогов Орлеанских.
С этим городом связана жизнь Дюма: он родился и жил в нем и его окрестностях до 1822 г.; сюда же в 1871 г. были перенесены его останки (Дюма умер во время Франко-прусской войны близ города Дьепа, и выполнить желание писателя — похоронить его в Виллер-Котре — сразу после его смерти не было возможности), и здесь они покоились до 28 ноября 2002 г.; 30 ноября 2002 г. по решению президента Франции их перенесли в парижский Пантеон (Дюма стал шестым великим французским писателем, удостоенным этой чести).
369… рожденный при Консульстве отцом-республиканцем… — Консульство — см. примем, к с. 169.
… получил в крестильной купели имя тираноубийцы — Кассия… — Кассий — Гай Кассий Лонгин (ум. в 42 г. до н. э.), древнеримский политический деятель, республиканец; один из организаторов убийства Юлия Цезаря.
… ему желательно отмечать свой праздник 1 ноября, то есть в День всех святых. — Имеется в виду праздник всех святых христианской церкви.
370… имя Мадлен… напоминая о женщине и о Евангелии… — То есть напоминая о персонаже Евангелия — святой Марии Магдалине (см. примем, к с. 218; Мадлен — французская форма имени Магдалина).
… мрачные предсказательства… — мне кажется, что я соорудил новое слово; клянусь честью, тем лучше для Академии/ — Одной из целей Французской академии (см. примем, к с. 223) является изучение языка и литературы. С этой целью она с 1694 г. периодически издает толковые словари французского языка для выработки норм единого национального литературного языка.
Следует отметить, что слово pronostication, использованное здесь Дюма и переданное в русском переводе несуществующим словом "предсказательство", все же зафиксировано в старых французских словарях, хотя и с пометкой "редко употребляемое".
371… Легко возбудимая натура женщин наделяет их даром предвидения. Кумекая сивилла, Дельфийская пифия, Аэндорская прорицательница, пророчица Кассандра — вот те, что подтверждают наше заявление и оставляют далеко позади себя старого зануду Калхаса и бретонца Мерлина. — Сивиллы (или сибиллы) — легендарные прорицательницы древности. Наиболее известна Кумекая сивилла, которой приписываются "Сивиллины книги", — сборник изречений и предсказаний, служивших в Древнем Риме для официальных гаданий.
Пифия — жрица-прорицательница в древнегреческом храме Аполлона в Дельфах; сидя на треножнике у расщелины, из которой выходили дурманящие газы, она впадала в состояние экстаза и выкрикивала бессвязные слова, которые жрецы затем истолковывали и переводили в стихотворную форму.
Согласно Библии (1 Царств, 28), израильский царь Саул накануне решающей битвы с филистимлянами обратился к жившей в палестинском местечке Эйн-Доре (Аэндоре) волшебнице, которая вызывала мертвых. Та призывает дух пророка Самуила, к тому времени покойного, и он предвещает царю гибель от рук его врагов. Позднейшие толкователи единодушно считали, что обращение Саула к ворожбе и гаданию свидетельствовало о том, что он окончательно отвратился от путей Господа и впал в нечестие.
Калхас — см. при меч. к с. 362.
Мерлин — знаменитый волшебник и мудрый советник легендарного короля бриттов Артура; герой народных "артуровских легенд" и "романов круглого стола", повествующих о подвигах рыцарей — соратников Артура.
372… предательство Фортуны в то время, когда он нуждался в ее бескопечных милостях… — Фортуна — древнеримская богиня счастья, случая, судьбы, удачи.
… его живот, который был столь же неподвижно величествен, как и у знаменитого Брийа-Саварена… — Брийа-Саварен, Ансельм (1755–1826) — французский писатель и крупный чиновник; известнейший гастроном и остроумец; автор книги "Физиология вкуса, или Размышления о высокой гастрономии" ("Physiologie du gout ou M6ditations de gastronomie transcendante"), изданной анонимно в 1825 г. и снабженной эпиграфом: "Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты".
374… после столь долгого заключения в Маре, то есть в одном из самых удаленных кварталов Парижа… — Маре — см. примеч. к с. 315.
… во время ее ежедневных прогулок от Бульваров к Елисейским полям и от Елисейских полей к Булонскому лесу… — Елисейские поля — одна из главных и красивейших магистралей Парижа; ведет от сада Тюильри в западном направлении.
Булонский лес расположен к западу от Парижа; в средние века служил местом королевских охот; ныне это общественный лесопарк в черте города; наименование получил по названию городка Булонь, находящегося неподалеку.
… за две недели этого увеселительного стипль-чеза. — Стипль-чез (англ, steeplechase) — здесь: преодоление препятствий, вообще скачки с препятствиями.
… облачиться…в свой деловой редингот… — Редингот — длинный сюртук особого покроя; первоначально — одежда для верховой езды.
375… пришли к нам с противоположной стороны Ла-Манша… — То есть из Англии. Ла-Манш — см. примеч. к с. 7.
… смахивает слезу нарукавниками из голубого перкалина… — Перка — лин — хлопчатобумажная подкладочная ткань.
376… оружие, которое правила предписывают носить национальным гвардейцам. — На вооружении национальной гвардии в описываемое в романе время состояли ружья и короткие пехотные сабли.
380… привели его в тот старый Париж, притоны которого стали тогда так широко известны благодаря знаменитому роману. — Имеется в виду роман Эжена Сю "Парижские тайны" ("Les mysteres de Paris", 1842–1843), в котором автор изобразил бедствия и бесправие народа на фоне парижского "дна". Роман этот вызвал большой общественный резонанс.
Сю, Эжен (настоящее имя — Мари Жозеф; 1804–1857) — французский писатель, по образованию врач; автор авантюрных романов; за критику современного ему общества подвергался преследованию властей; сочувственно относился к простым людям, за что некоторые исследователи называли его "романистом пролетариата"; в 40-х гг. проникся идеями социапистов-утопистов, и это нашло отражение в большинстве его романов; был одним из основоположников газетного романа-фельетона.
… Этот роман был опубликован в "Газете дебатов". — "Газета дебатов" (точнее: "Газета политических и литературных дебатов" — "Journal des Debates politiques et litteraires") — французская ежедневная газета; выходила в Париже в 1789–1944 гг.; в 30-50-х гг. XIX в. — орган сторонников династии Орлеанов.
Роман Э.Сю "Парижские тайны" печатался в "Газете Дебатов" в 1842–1843 гг.
… Однажды г-н Пелюш, услышав, что это лучшее парижское издание и по этой причине любимая газета короля Луи Филиппа, оставил "Конституционалиста"… — "Конституционалист" ("Le Constitutionnel") — французская ежедневная газета, выходившая в Париже с 1815 г.; в период Июльской монархии поддерживала правительство; во время революции 1848 года — орган ее противников.
… войдя в сумрачные улочки Сите… — Сите — остров на Сене, исторический центр Парижа; там расположены собор Парижской Богоматери, Дворец правосудия (бывший дворец королей) и другие общественные здания.
… стал думать… больше о Поножовщике и Грамотее… — Поножовщик — персонаж романа "Парижские тайны", преступник, возродившийся к честной жизни.
Грамотей — персонаж романа "Парижские тайны", бандит и убийца, исправившийся под влиянием герцога Родольфа.
381… силуэт бандита, готового поступить с ним, как с принцем Родольфом… — Герцог Родольф Герольштсйнский — герой романа "Парижские тайны", немецкий аристократ, проникший в мир парижского дна сначала для помощи сыну своего друга, а потом поставивший себе целью социальное и нравственное возрождение низов французского общества.
Здесь имеется в виду эпизод из первой главы "Кабак "Белый кролик"" первой части "Парижских тайн": драка герцога Родольфа с бандитом Поножовщиком.
… носил двойные серебряные эполеты и гордился своим званием капитана… — Эполеты (от фр. epaulette — "наплечник") — особые наплечные знаки различия военнослужащих, преимущественно офицеров, имеющие с внешней стороны расширение круглой формы, украшенное позументами и бахромой; введены с нач. XVIII в.
… узнал ныне уже исчезнувшую, подобно многим другим, улицу Шевалье-дю-Ге… — Эта маленькая старинная улица (и одноименная площадь) находилась в центре старого Парижа, на правом берегу Сены, в густо застроенном районе недалеко от башни святого Иакова; в 50-х гг. XIX в. во время перестройки Парижа была уничтожена; ныне на ее месте находится улица Жан-Лантье.
… караульное помещение роты того легиона, в состав которого входил и он… — Легион — см. примеч. к с. 355.
… подобно краснокожему индейцу, вышедшему на охоту за скальпами в безлюдье американских лесов. — См. примеч. к с. 256.
382… играя в бильбоке с ловкостью, какой позавидовали бы даже миньоны Генриха III. — Бильбоке — игра, известная со времен средних веков, ныне ставшая детской: привязанный на шнурок шарик ловится в чашку и на заостренную палочку.
Миньоны (фр. mignons — "милые") — прозвище молодых дворян, составлявших свиту Генриха III.
Генрих III (1551–1589) — король Франции с 1574 г., последний из династии Валуа; подозревался в противоестественных сексуальных наклонностях.
… должен был раздаваться в ушах постового не менее звучно, чем трубный зов к Судному дню… — О Судном дне, или Дне страшного суда, см. примем, к с. 197.
383… история доносит до нас, что при подобных обстоятельствах первый консул не погнушался занять место заснувшего часового, и искусство отразило этот великодушный поступок… — Первый консул — официальное звание Наполеона Бонапарта, главы Французской республики в 1799–1804 гг., обладавшего всей полнотой военной и гражданской власти.
Наполеон Бонапарт (1769–1821) — французский полководец, реформатор военного искусства, генерал Французской республики; 18–19 брюмера VIII года Республики (9-10 ноября 1799 г.) совершил государственный переворот: фактически ниспровергнув республиканский строй, установил режим личной власти, т. н. Консульство; в 1804 г. провозгласил себя императором; находясь у власти, проводил завоевательную политику, закрепил законодательно выгодные для французской буржуазии результаты Революции; в 1814 г. потерпел поражение в борьбе с коалицией европейских держав, отрекся от престола и был сослан; в 1815 г. ненадолго вернул себе власть (в литературе этот период называется "Сто дней"), но снова был разбит и сослан на остров Святой Елены в южной части Атлантического океана, где и умер.
… Вступление этой речи, которое одобрил бы сам г-н Прюдом… — Прюдом — см. примем, к с. 356.
384… Но, как Сципион Назика, г-н Пелюш отдернул свою руку, завел ее за спину и откинулся назад с таким видом, что это на мгновение придало ему смутное сходство с героем, взятым им себе за образец. — В римской истории известно несколько персонажей, носивших имя Сципион Назика. Здесь, скорее всего, имеется в виду Публий Корнелий Сципион Назика (219 до н. э.-?), в двадцатисемилетием возрасте неизвестно за какие заслуги провозглашенный лучшим человеком в Риме; вскоре после этого он домогался должности эдила и, встречаясь на Форуме с избирателями и пожимая им руки, сказал одному из них, у которого были чрезвычайно мозолистые руки: "У тебя что, привычка ходить на руках?" Эта шутка стоила ему провала на выборах. Однако позднее он стал проконсулом в Испании, консулом, а в старости — председателем сената.
Описанная здесь поза была излюбленной у Наполеона Бонапарта.
385… разве сам папаша Долибан не подает нам пример счастливого сочетания долга короля-гражданина и обязанностей отца семейства? — Луи Филипп, несмотря на свое аристократическое происхождение, боевое прошлое и огромное личное богатство, вел подчеркнуто буржуазный образ жизни (например, он ходил по Парижу в штатском костюме и с зонтиком в руках).
Словосочетание "король-гражданин" впервые появилось в воззвании от 29 июля 1830 г., в котором орлеанисты призывали избрать королем французов Луи Филиппа. Таким образом, он получал трон не по наследству, а был приглашен на него гражданским обществом.
… утверждал на последних выборах, что вас следует послать в Палату… — Палата депутатов (то есть нижняя палата французского Национального собрания) являлась законодательной властью страны, а также обсуждала текущие государственные дела; избиралась на основе высокого имущественного ценза.
386… вы не могли не заметить на последней Выставке ружье… — Про мышленный переворот, происшедший во Франции в первой пол. XIX в., вызвал бурное развитие всех видов промышленности в стране. Поэтому в это время состоялось много торгово-промышленных выставок, имевших целью не только демонстрацию успехов французской экономики, но и установление торговых связей. Задачей этих выставок было также повышение политического престижа Франции и показ ее моши. Здесь, вероятно, имеется в виду выставка, проходившая в 1844 г. на Елисейских полях и представлявшая 3 281 производителя.
… Ствол из дамасской стали… — Дамасскую сталь изготавливают горячей ковкой скрученных вместе стержней; прежде такую производили исключительно в странах Востока и использовали для изготовления холодного оружия, но уже в XIX в. в Европе было налажено ее фабричное производство.
388… за свои жалкие сто су… — Сто су — серебряная монета в пять франков, имевшая прозвище "колесо".
389… начинались с двух отложенных лиардов… — Лиард — см. примеч. к с. 27.
390… мастер творил по модели Бари, а Бари подправлял работу мастера. — Бари, Антуан Луи (1795–1875) — французский скульптор-анималист, один из признанных мастеров этого жанра.
392… будь это даже коноплянка… — Коноплянка (реполов) — неболь шая птичка из отряда воробьиных; распространена в Европе, Западной Азии и Северной Африке.
… ему вновь пришлось преодолеть восемнадцать ступеней, ведущих на антресоли… — Антресоли — верхний полуэтаж, встроенный в объем основного помещения; характерная деталь особняков и дворцов XVIII — первой пол. XIX в.
394… избыток упоения, в которое его приводил смотр национальной гвар дии или обед во дворце. — Имеется в виду дворец Тюильри (см. примеч. к с. 362), который в XIX в. был резиденцией французских монархов, в том числе и Луи Филиппа.
396… разве недавно ты не читала в правительственных ведомостях, что
Версальская галерея стоила ему двенадцать миллионов? — Версаль — дворцово-парковый ансамбль в окрестности Парижа, архитектурный шедевр мирового значения; построен Людовиком XIV во второй пол. XVII в.; до Революции был главной резиденцией французских королей.
Во время Революции покинутый Версаль пришел в упадок, и лишь в годы Июльской монархии дворец был отреставрирован и в нем был создан громадный музей истории Франции.
… изготовить огромнейшую гирлянду из искусственных роз и спиралью обвить ею от подножия до самой вершины башню святого Иакова… — Башня святого Иакова — колокольня разрушенной старинной церкви Сен-Жак-ла-Бушри (святого Иакова на Мясном рынке) в Париже; построена в 1508–1522 гг.; шедевр французской готики; имеет высоту в 57 м; находится в сквере на площади Шатле, на правом берегу Сены, неподалеку от реки.
397… этот сон, вышедший из роговых ворот, давал ему объяснение происходящего. — По представлениям древних греков, те сны, что сбываются, проходят сквозь ворота из рога, а те, что не сбываются, — через ворота из слоновой кости.
Ср. со стихами Вергилия:
Двое ворот открыты для снов: одни — роговые,
В них вылетают легко правдивые только виденья;
Белые створы других изукрашены костью слоновой,
Маны, однако, из них только лживые сны высылают. ("Энеида", VI, 893–896; пер. С.Ошерова под ред. Ф. Петровского.)
398… внушает ему необыкновенную страсть, нечто похожее на ту, какую Пигмалион испытывал к творению, вышедшему из-под его резца. — Пигмалион — см. примеч. к с. 314.
399… Из семи чудес света г-н Пелюш до сих пор полагал лишь одно действительно достойным этого наименования… — Семью чудесами света в древности назывались величайшие творения архитектуры и ваяния: египетские пирамиды; висячие сады Семирамиды в Вавилоне; храм Артемиды в Эфесе; статуя Зевса Олимпийского работы Фидия; надгробный памятник царя Мавзола (Мавзолей) в городе Галикарнасе; статуя бога Гелиоса на Родосе (Колосс Родосский); маяк в Александрии.
… Сен-Жермен, Бельвю, Сен-Клу для него всегда были лишь хаотичным смешением деревьев и валунов… — Здесь перечислены известные дворцово-парковые ансамбли в окрестностях Парижа.
Замок Сен-Жермен (в городе Сен-Жермен-ан-Ле у западных окраин Парижа) известен с XII в.; в XIV в. перестроен в загородный дворец; до сер. XVII в. был одной из резиденций французских королей; его окружал регулярный парк, переходящий в пейзажный.
Бельвю — замок, построенный в 1748 г. около одноименной деревни в живописной окрестности Версаля (департамент Сена-и-Уаза) для фаворитки Людовика XV маркизы Помпадур.
Сен-Клу — см. примеч. к с. 290.
400… прелести тенистых холмов, у подножия которых Сена и Марна закручивались серебристой спиралью. — См. примеч. к с. 163.
… Большого труда стоило уговорить его выбраться на экскурсию в Ботанический или Люксембургский сад, в Тюильри… — Ботанический сад — научно-исследовательское и учебное заведение в Париже; включает в себя Музей естественной истории, коллекции животных и растений; создан в кон. XVIII в. на базе собственно ботанического сада, основанного в 1626 г.; расположен на левом берегу Сены, выше острова Сите, на западной окраине старого Парижа.
Люксембургский сад — большой регулярный парк в левобережной части Парижа; разбит в нач. XVII в. вместе со строительством Люксембургского дворца, одной из королевских резиденций; после Революции был открыт для публики; один из самых красивых парков Парижа, излюбленное место встреч учащейся молодежи.
Тюильри — большой и красивый регулярный парк, разбитый в 1664 г. с западной стороны дворца Тюильри (см. примеч. к с. 362); во время Революции был открыт для публики; после гибели дворца в 1871 г. значительно расширился к востоку, заняв место дворцовых построек.
… провести вторую половину дня в Венсенском лесу. — Венсенский лес — см. примеч. к с. 168.
401… мог бы его сравнить со Свинцовыми кровлями Венеции или Шпильбергом, если бы ему довелось читать Казанову или Сильвио Пеллико… — Свинцовые кровли — старинная тюрьма в Венеции (см. примеч. к с. 7), соединенная с дворцом дожей закрытым висячим переходом — "Мостом вздохов". Крыши в ней были из свинца, вследствие чего летом в камерах было нестерпимо жарко, а зимой страшно холодно.
Шпильберг — крепость в Чехии (входившей до 1918 г. в состав Австрийской монархии), служившая с XVII в. до 1855 г. политической тюрьмой, которая стала особенно известной после заключения в нее в 1821–1828 гг. большого числа итальянских патриотов; в 1855 г. была обращена в казармы.
Казанова, Джованни Джакомо (1725–1798) — итальянский писатель и мемуарист, известный авантюрист; переменил много профессий, в поисках богатства исколесил всю Европу; неоднократно попадал в тюрьму, в том числе и в Свинцовые кровли, откуда ему удалось бежать. Его многотомные мемуары (подлинность их подвергалась сомнению), содержащие проницательные характеристики современников, нравов эпохи и исторических событий, были изданы лишь после его смерти. В 1788 г. он опубликовал книгу "История моего бегства из венецианской тюрьмы, именуемой "Свинцовые кровли"" ("Histoire de та fuite des prisons de Venice qu’on appelle les Plombs").
Пеллико, Сильвио (1789–1854) — итальянский писатель и общественный деятель, выступавший за национальное освобождение и объединение Италии; в 1820 г. за участие в революционном заговоре был приговорен к 15 годам заключения и заточен в Шпильберг; муки своего заключения описал в книге "Мои темницы" ("Mie Prigioni", 1832), имевшей большой успех; в 1830 г. был освобожден и отошел от политической деятельности.
… олицетворяла для него сразу две Палаты… — Имеются в виду нижняя и верхняя палаты французского парламента того времени: Палата депутатов и Палата пэров.
402… фрикандо со щавелем… — Фрикандо — мясо, нашпигованное салом.
… замочи по крайней мере на неделю в шабли… — Шабли — белое сухое столовое вино, производимое в Бургундии.
403 …если тебе когда — либо придет желание, как тому римскому поэту…
отложить на завтра все серьезные дела… — О каком римском поэте здесь идет речь, установить нс удалось.
… владельцем четырехсот пятидесяти арпанов земли… — Арпан — см. примеч. к с. 175.
404… ароматизированное шабли можно… заменить орлеанским уксусом… — Имеется в виду винный уксус, изготовленный по старинной рецептуре, которую принято называть орлеанской (Орлеан — старинный город во Франции, порт на реке Луара, административный центр департамента Луаре).
… казалось, сидел, словно Куаутемок, на горящих углях. — См. примеч. к с. 216.
405… скрылся в проходе… с быстротою клоуна, проходящего сквозь английский люк. — Английский люк — театральное устройство: отверстие в стене, закрытое сливающимися с ней по цвету стальными полосами, которые восстанавливают свое первоначальное положение после того, как сквозь них проходит человек.
… наряд показался г-же Пелюш не менее фантастическим, чем наряд Мефистофеля… — Здесь имеется в виду вторая сцена "Рабочая комната Фауста" из первой части трагедии "Фауст" Гёте, в которой Мефистофель (см. примеч. к с. 368) вновь является к Фаусту и говорит:
Смотри, как расфрантился я пестро.
Из кармазина с золотою ниткой Камзол в обтяжку, на плечах накидка,
На шляпе петушиное перо.
А сбоку шпага с выгнутым эфесом.
(Пер. Б.Пастернака.)
… вместо своего редингота делового человека, белого пикейного жилета… был одет в куртку из зеленого вельвета… — Пике — плотная хлопчатобумажная ткань в рубчик, иногда с вышитым узором. Вельвет — плотная хлопчатобумажная ткань, имеющая на лицевой поверхности профильные рубчики из утолщенного ворса.
406… можно было подумать, будто он исполняет знаменитую арию Марселя из пятого акта "Гугенотов". — Марсель — персонаж оперы "Гугеноты", старый солдат-протестант, слуга главного героя Рауля де Нанжи.
"Гугеноты" — пятиактная опера, впервые представленная в Гранд-Опера 29 февраля 1836 г.; музыка к ней была написана Дж. Мейербером, а либретто — Э.Скрибом; действие се связано с событиями Варфоломеевской ночи.
Здесь явно подразумевается гугенотская песня Марселя "Пиф! Паф!", однако она исполняется в первом акте. В пятом акте звучит трио погибающих любовников и Марселя.
… когда впервые надел форму капитана национальной гвардии и 14мая отправился защищать общественный порядок. — Возможно, здесь ошибка в дате и речь идет о восстании республиканцев и рабочих в Париже 13–14 апреля 1834 г. Это восстание, сопровождавшееся ожесточенными боями и жестоко подавленное, было одним из многочисленных откликов во Франции на рабочее восстание в апреле 1834 г. в Лионе, также жестоко подавленное. Национальная гвардия с воодушевлением приняла участие в расправах над рабочими.
… ему предстояло сражаться вовсе не с анархистами… — Анархи зм (гр. "безначалие", "безвластие") — общественно-политическое течение, отрицавшее всяческую государственную власть. Становление его как политической и философской системы проходило в революционном движении во Франции как раз во время, описанное в романе. Однако здесь анархистам и названы мелкобуржуазные и пролетарские революционеры вообще, поскольку они в 30-х гг. XIX в. выступали против монархического государства, во главе которого стоял Луи Филипп.
… из защитника конституционной власти… превращался в бунтаря… — Июльская монархия являлась формой правления, в которой власть короля была ограничена конституцией (хартией) страны. Хартия отдавала монарху исполнительную власть, ограниченную контролем Палаты депутатов и Палаты пэров, которые имели, кроме того, законодательную власть. Однако на практике, благодаря назначению членов Палаты пэров королем и высокому избирательному цензу, правительство сохраняло за собой над ними контроль, и это обеспечивало личное правление Луи Филиппа.
407… Ваша гордость погубит вас, как она погубила Сатану! — Сатана —
у христиан и иудеев враг Бога и людей, повелитель ада и бесов; согласно учению отцов церкви, он также является творением Господа и первоначально был добрым ангелом, но затем из гордости и высокомерия отпал от Бога и вступил с ним в борьбу.
… Со своими двумя тысячами пятьюстами ливрами ренты… — Ливр — см. примеч. к с. 27.
Рента — доход с капитала или имущества, не требующий от получателя предпринимательской деятельности.
409… напоминал Суллу г-на де Жуй — он мог порой менять свои намере ния, но в своих решениях был так же непоколебим, как сама судьба. — Сулла, Луций Корнелий (138—78 до н. э.) — древнеримский политический и военный деятель; в 81 г. до н. э. был объявлен диктатором без ограничения срока (диктатор в Римской республике — высшее должностное лицо с неограниченными полномочиями, избиравшееся сроком не более чем на полгода, причем указанные полномочия давались л ишь для выполнения определенной задачи); в 79 г. до н. э., признав, что он не достиг своих целей, неожиданно сложил с себя полномочия и последний год жизни провел в своем поместье.
Де Жуй — псевдоним французского писателя Виктора Жозефа Этьена (1764–1846), члена Французской академии с 1815 г. Генерал королевских войск Жуй во время Революции эмигрировал, затем вернулся и с 1797 г. занялся литературной деятельностью; при Реставрации участвовал в либеральной оппозиции; после Июльской революции стал мэром Парижа, затем хранителем библиотеки Лувра; успешно выступал как автор бытовых комедий, трагедий и оперных либретто. Здесь имеется в виду его трагедия "Сулла" (1822), написанная в духе Вольтера.
… пошел заказывать два места на экипаж, отправляющийся от "Оловянного блюда". — "Оловянное блюдо" — гостиница на одноименной улице (Плад’Этэн), расположенной на правом берегу Сены, в центре старого Парижа, и известной с XIV в.
… появление Юпитера — Пелюша во всем его блеске и величии поразило Атенаис — Семелу… — Се мел а — персонаж греческой мифологии, фиванская царевна, возлюбленная Юпитера — Зевса (см. примеч. к с. 360), мать бога виноделия Диониса. Ревнивая жена Зевса Гера подговорила Семелу потребовать от Зевса явиться к ней не в обличии простого смертного, как всегда, но в виде бога-громовержца. Зевс выполнил просьбу, но нечаянно испепелил любимую своими молниями.
… однажды, выходя из театра Порт-Сен-Мартен, где давали "Марино Фальеро", он слышал, как повторяли имя Казимира Делавиня… — Делавинь, Казимир, Жан Франсуа (1793–1843) — французский поэт и драматург, член Французской академии (1825), приверженец классицизма; автор сатир, элегий, од и трагедий; в одной из них — "Марино Фальери" (1829) — выступал против власть имущих. Фальери (или Фальеро), Марино (1274–1355) — дож (правитель Венецианской республики) с 1354 г., казнен после неудавшейся попытки государственного переворота.
410… От Виллер-Котре было три часа езды до Шато-Тьерри, родины Лафонтена, час — до Ла-Ферте-Милона, родины Расина, и сорок минут — до Вути… — Шато-Тьерри — небольшой город в Северо-Восточной Франции, на реке Марна (департамент Эна); расположен примерно в 30 км к юго-востоку от Виллер-Котре.
Лафонтен — см. примеч. к с. 168.
Ла-Ферте-Милон — городок в департаменте Эна, в 10 км южнее Виллер-Котре, по дороге в Шато-Тьерри.
Расин, Жан (1639–1699) — французский поэт и драматург; автор пьес на библейские и исторические сюжеты.
Вути — см. примеч. к с. 363.
… заказал два места в купе… — Купе — здесь: переднее отделение дилижанса.
411… с поясом из шотландки… — Шотландка — пестрая ткань в клетку.
413… Сильный аромат вербены… — Вербена — род трав и полукустарников семейства вербеновых, растущих главным образом в тропиках и субтропиках Америки; применяются в медицине, парфюмерии, кулинарии и декоративном садоводстве.
… пробормотал сквозь зубы "мюскаден", хотя запах, распространившийся от взмахов платка, не имел ничего общего с мускусом. — Мюскаден (от фр. muse — "мускус", букв, "душащийся мускусом") — щеголь-роялист эпохи реакции, наступившей после контрреволюционного переворота 1794 г.
Мускус — пахучий продукт, содержащийся в выделениях желез некоторых животных и в корнях некоторых растений. Широко применялся в парфюмерии и в XIX в. в медицине.
414… Этот молодой человек носит имя претендента… Должно быть, он какой-нибудь аристократ. — После Июльской революции 1830 года Карл X и его сын герцог Ангулемский отреклись от своих прав на престол в пользу внука короля герцога Бордосского Анри Шарля (1820–1883), чаше называвшегося графом Шамбором и ставшего последним представителем старшей линии Бурбонов и претендентом на престол под именем Генриха V.
… подняться в кабриолет, венчающий крышу дилижанса. — Кабриолет — здесь: козлы экипажа, накрытые сверху тентом.
416… навыками, достаточными для того, чтобы бегло говорить на языке газет "Таймс" и "Морнинг Пост"… — "Таймс" ("The Times" — "Времена") — крупнейшая английская ежедневная газета консервативного направления, всегда являвшаяся официозом правительства; была основана в Лондоне в 1785 г.
"Морнинг Пост" ("The Morning Post" — "Утренняя почта") — английская ежедневная газета, орган английской аристократии и партии консерваторов; выходила в Лондоне в 1772–1937 гг.
… простерла до чтения старых и современных поэтов Великобритании: Грей, Колридж, Саути, Томас Мур и особенно Байрон, произведения которого в 1840 году были еще весьма популярны во Франции, стали ей хорошо знакомы, а романы Вальтера Скотта занимали после упомянутых нами поэтов первое место в ее скромной библиотеке. — Грей, Томас (1716–1771) — английский поэт, профессор истории и философии в Кембриджском университете; автор од в стиле классицизма; прославился стихотворением "Элегия, написанная на сельском кладбише", выразившим его демократические симпатии и ставшим образцом поэтики сентиментализма.
Колридж (Кольридж), Сэмюэл Тейлор (1772–1834) — английский поэт-романтик, критик и философ; в начале 90-х гг. XVIII в. под влиянием Французской революции писал свободолюбивые стихи, осуждавшие правяшие классы Англии, но скоро перешел к критике революционных идей и консервативному романтизму; с началом XIX в. в его творчестве стали преобладать элементы классицизма и религиозного мистицизма.
Саути, Роберт (1774–1843) — английский поэт, представитель консервативного романтизма; известен своими романтическими балладами; был близок к Колриджу и повторил его путь от революционных идей и бунтарских настроений к мистике, религиозному смирению и к охранительным настроениям в поддержку реакции. Мур, Томас (1779–1852) — английский поэт, литературовед и историк, по происхождению ирландец; автор стихотворений, которые воспевают борьбу и отражают скорбь ирландского народа и многие из которых стали народными песнями; писал также сатирические стихи; опубликовал переписку и дневники Байрона.
Байрон — см. примеч. к с. 7.
Скотт, Вальтер (1771–1832) — английский писатель; автор романтических баллад, которые принесли ему славу выдающегося поэта; вошел в национальную и мировую литературу прежде всего как создатель жанра исторического романа; большинство его произведений написано на богатейшем литературном и хроникальном материале Шотландии — его родины.
… под воздействием поэтических творений обожаемых ею стихотворцев "Озерной школы". — "Озерная школа" — идейное содружество английских поэтов, представителей консервативного романтизма (Водсворт, Колридж, Саути), сформировавшееся в кон. XVIII — нач.
XIX в. Лирика "Озерной школы", несмотря на консервативные взгляды и патриархальные и мистические настроения се авторов, все же отражала их протест против буржуазной действительности. Такое название содружества поэтов связано с тем, что они жили в местности, называвшейся "Озерный край" (она находится на севере Англии).
… книги или бристольский картон, — все это безоговорочно ей представлялось. — Бристольский картон (или бумага Изабе) — род клееного картона, употребляемого для рисунков акварелью или карандашом.
417… ей виделся новый эдем… — Эдем — см. примеч. к с. 31.
… во время прогулок в… Роменвиле… — Ромснвиль — селение у северных окраин Парижа (департамент Сена), в округе Сен-Дени… ржание трех першеронов, тянувших дилижанс. — Першероны — французская порода крупных лошадей-тяжеловозов; получила свое название от области Перш, где она была выведена.
418… к этой девственной чистоте природы, которая, подобно гуриям, каждое утро возрождалась еще более свежей и невинной. — Гурии (араб, "черноокие") — вечно юные и вечно девственные красавицы, обещанные в жены праведникам в мусульманском раю.
419… длинные полосы эспарцета с розовыми метелками… — Эспарцет — род многолетних трав семейства бобовых, растущих в Европе, Азии и Африке; медоносное и кормовое растение.
… и рапса с золотистыми цветами… — Рапс — однолетнее травянистое медоносное растение рода капусты; выращивается на корм животным и для получения пищевого и технического масел.
420… играющих в уголки в зарослях кустарника… — Уголки — детская игра, в которой играющие становятся по углам квадрата и по сигналу перебегают по периметру к соседнему углу. В это время тот, кто водит, оставаясь при этом в центре квадрата, должен попытаться занять пустой угол.
… добрались до самой нижней части долины Восьен… — Восьсн — деревушка в 5 км к юго-западу от Виллср-Котрс, на дороге в Париж.
421… долины Восьен… изрезанной крохотной речушкой… — Эта речка носит поэтичное название Осень (фр. Automnc — Отон).
… расстилался во всю ширину долины пруд Вуалю… — Вуалю — пруд и мельница у истока речки Отон, немного севернее Восьсна.
… подобно гранитному эгрету, стояла гордая и живописная башня Вез — феодальные руины XV века. — Имеется в виду феодальный ммок в северной части долины Восьсн, в деревушке Вез, которая некогда была столицей исторической области Валуа, входившей в королевский домен; построен в нач. XIII в.; укреплен в XV в.; в течение XIX в. был отреставрирован.
422… Вот, вне всякого сомнения, Вшыер-Котре, родина Демустье. — Дс-мустьс, Шарль Альбер (1760–1801) — французский литератор и поэт; родился в Виллср-Котрс; по отцовской линии был потомок Расина, а по материнской — Лафонтена.
… Автор "Писем к Эмилии о мифологии"… — "Письма к Эмилии о мифологии" ("Lettres & Emilie sur la mythologie") — сочинение Дс-мустье, частично в прозе" частично в стихах, вышедшее в свет в Париже в 1786–1798 гг. и имевшее большой успех, особенно у женщин.
… в конце Суасонской улицы, в части города, противоположной той, откуда въезжал дилижанс из Парижа… — В Виллср-Котре две улицы носили такое название: Большая Суасонская (соврем, улица Генерала Манжена) и перпендикулярная ей Малая Суасонская (соврем. улица Левейе); по ним пролегал путь из центра города на Суасон.
Суасон — промышленный город и крепость в департаменте Эна, в 25 км к северо-востоку от Виллер-Котре; был известен ешс до н. э. как город нескольких кельтских племен; в средние века входил в состав римской провинции Галлии и Франкского государства; принадлежал к числу крупных феодальных владений в средние века, и оттого времени в нем осталось несколько интересных сооружений; с 1734 г. принадлежал французской короне; весной 1814 г. во время вторжения войск шестой анти наполеоновской коалиции несколько раз переходил из рук в руки.
… по достоинству ценили путешественники, направлявшиеся из Лана в Париж и из Парижа в Лан… — Лан — город в Северной Франции, в 140 км северо-восточнее Парижа, административный центр департамента Эна. Виллер-Котре стоит примерно на пол пути из Парижа в Лан.
423… на ее пороге появлялась большая легавая собака… — Легавые —
группа пород подружейных собак, используемых преимущественно для охоты на пернатую дичь.
… такой же неподвижный, как сфинкс с горы Киферон, собирающийся задать свою смертельную загадку античным путешественникам, которые направляются из Дельф в Фивы. — Сфинкс — в древнегреческой мифологии крылатое чудовишс с телом льва и головой женщины; жил у города Фив и предлагал всем приходящим загадку, а не разгадавших ее убивал; когда герой Эдип (шедший из Дельф в Фивы) дал правильный ответ, Сфинкс бросился со скалы.
Киферон — гора в Средней Греции, в области Беотия близ города Фивы; знаменита своими лесами и пещерами; место действия многих мифов Древней Греции.
Дельфы — город в Средней Греции, у подножья горы Парнас, где в античную эпоху находился храм и оракул Аполлона.
Фивы — один из древнейших городов Греции (основание его относят к мифологическим временам), центр Беотии, области на западе Средней Греции; в первой пол. IV в. до н. э. были самым могущественным городом-государством Греции, однако во второй половине того же столетия попали в зависимость от Македонии, а в 335 г. до н. э., после произошедшего там восстания, были разрушены Александром Македонским.
… ученик Бабёфа и г-на Прудона… не имел ни малейшего нравственного понятия о чужой собственности. — Бабсф, Франсуа Ноэль (1760–1797) — французский публицист, участник Великой французской революции, республиканец, сторонник утопического коммунизма; выступил с проектом аграрного закона, предусматривавшего уравнительное распределение земли между земледельцами при сохранении государственной собственности на нее; в 1795 г. организовал заговор против правительства Директории и после раскрытия заговора был казнен.
Прудон, Пьер Жозеф (1809–1865) — французский социолог, публицист и экономист, один из основоположников анархизма, автор книги "Что такое собственность?" (1840), в которой подвергал критике капитализм с позиций мелкого собственника, утверждая: "Собственность — это кража".
424… вследствие мучившей его булимии… — Булимия ("волчий голод") — патологическое усиление аппетита, сопровождающееся ощущением голода и различными болезненными ощущениями; наблюдается при некоторых заболеваниях центральной нервной системы.
425… прыгнул через препятствие, словно скаковая лошадь в стипль-чезе… — Стипль-чез — см. примеч. к с. 374.
… Подобно Эпаминонду, он сам вытащил из раны клинок. — Эпаминонд (ок. 490–362) — фиванский государственный деятель и полководец, превративший Фивы в третью политическую силу Греции (после Спарты и Афин); открыл один из важнейших принципов военного искусства — сосредоточение сил на важнейшем участке, а также некоторые приемы тактики. В битве при Мантинее (362 до н. э.) с войсками антифиванской коалиции он был ранен в решающий момент боя; узнав, что его войска одержали победу, он велел вынуть из раны острие копья и, после того как это было сделано, спокойно умер.
Коростель (или дергач) — ночная птица из семейства пастушковых; обитает почти во всей Евразии, зимует в Африке; селится на влажных лугах и лесных полянах; издает скрипучий крик; объект спортивной охоты.
427… достаньте-ка бутылочку доброго бургундского… — Бургундское (бургонское) — общее название группы красных (в основном) и белых столовых вин, в том числе высококлассных сортов, производимых в исторической провинции Бургундия во Франции.
… как признался бы на исповеди нашему бедному аббату Грегуару, если бы он еще был жив… — Грегуар, Луи Хризостом (1767–1835) — аббат, друг семьи Дюма; служил в Виллер-Котре, но в 1793 г. был отстранен от своей церковной должности; в 1810 г. открыл в Виллер-Котре коллеж, который будущий писатель посещал в 1811–1813 гг. Став викарием, аббат Грегуар продолжал преподавать юному Александру латынь.
Дюма с большим уважением рассказывает о нем в главе XXVI своих "Мемуаров".
… отыщет для нас в погребе бутылочку старого бонского… — Бонское — знаменитое вино, которое производится в окрестностях городка Бон в Бургундии, в департаменте Кот-д’Ор, в 38 км от Дижона.
428… молодой соперник Вателя и Карема. — Ватель — метрдотель принца Конде; в 1671 г. в замке Шантийи близ Парижа заколол себя шпагой, узнав, что в замок не доставлена свежая рыба, заказанная им для приглашенного туда короля Людовика XIV.
Карем, Мари Антуан (1784–1833) — знаменитый французский повар, автор нескольких книг по кулинарному искусству.
… запряженную в тильбюри… — Тильбюри — открытая двухколесная коляска, в которую запрягают одну лошадь; названа по имени се изобретателя-англичанина.
… был виден грум ростом с кулачок… — Грум (англ, groom) — слуга, сопровождаюший своего господина верхом, на козлах или на запятках; а также мальчик-лакей.
… Ну-ка, юный гроом, — он произнес это слово так, как оно пишется… — Грум по-английски пишется "groom", а произносится "грум".
431… одно из ответвлений вело к Новому дому на суасонской дороге, а другое — к деревне Данплё и далее к ферме Вути… — Новый дом — лесничество, расположенное в 6 км к северо-востоку от Виллер-Котре, на дороге в Суасон.
Данплё — селение в департаменте Эна, в 4 км к востоку от Виллер-Котрс.
Вути — см. примеч. к с. 363.
433… забыть удовольствия столицы цивилизованного мира. — Столицей цивилизованного мира ("Capitate du mondc civilise") называли в XIX–XX вв. Париж.
434… В окрестностях Парижа есть деревушка Монморанси, в которой проживал, как вам должно быть известно, философ из Женевы, великий Жан Жак Руссо… — Руссо, Жан Жак (1712–1778) — французский философ, писатель и композитор, сыгравший большую роль в идейной подготовке Великой французской революции.
Во второй половине 50-х гг. XVIII в. Руссо жил около леса Монморанси в доме, специально построенном для него одной из его поклонниц.
Женева — город в Швейцарии, на берегу Женевского озера, у границы с Францией; в XVI в. примкнул к Швейцарскому союзу; административный центр одноименного кантона (области); в средние века один из центров реформации и крупный торговый центр. Руссо родился в Женеве и жил там до 1728 г.; в 1754 г. он попытался снова поселиться в родном городе, но в 1755 г. вынужден был уехать оттуда.
435… Прекрасная земля Норуа… — Норуа-сюр-Урк — селение в департаменте Эна, у восточной границы Крене кого леса, в 10 км юго-восточнее Виллер-Котре.
436… Он приезжал, чтобы купить Генский лес, площадью в восемьдесят арпанов, расположенный между Малым портом и Ансьенвшем. — Генский лес (bois de Gaine) — судя по всему имеется в виду Кренский лес (bois de Cresnes) в 8 км юго-восточнее Виллер-Котре. Малый порт — лесистая низменность на правом берегу реки Урк, в 2 км к юго-западу от Кренского леса.
Ансьенвиль — деревня в департаменте Эна, в 3 км к юго-востоку от Вути.
… распалившись при мысли стать равным Мелеагру. — Мелеагр — в греческой мифологии калидонский царевич, сын Ойнея и Алфеи, убивший чудовищного вепря, на охоту за которым собрались герои со всей Греции; шкуру убитого зверя он подарил деве-охотнице Аталанте, которая принимала участие в охоте и к которой он воспылал любовью.
437… редкость в ту пору, когда кристофль стал употребляться даже в лучших домах. — Кристофль — здесь: металлическая посуда, подвергшаяся гальванопластическому серебрению или золочению; изготавливалась с 1X41 г. на фабрике в Париже, которой управлял мастер Шарль Кристофль (1805–1863), внедривший этот способ в производство.
439… В вересковых зарослях Гопдревиля? — Гондревиль — селение в де партаменте Орн, в 14 км к юго-западу от Виллер-Котрс, на дороге в Париж.
443… Тубо, Фигаро! — Тубо — команда охотничьей собаке остановить ся и не брать дичь.
… Вы знаете, что такое овсюг? — Овсюг — пустой овес, однолетнее злаковое растение; трудноискоренимый сорняк, широко распространенный по всему миру.
… обратившись в камень, как собака Кефала. — Кефал — в древнегреческой мифологии страстный охотник, владелец чудесного быстроногого пса Лайлапа (Лелапа), обладавшего способностью не упускать любую прсслсдуюмую им добычу; во время охоты на неуловимую Тевмесскую лисицу, посланную в наказание городу Фивы богами и опустошавшую его окрестности (ее можно было умилостивить, только жертвуя ей каждый месяц младенца), и пес и лисица были превращены Зевсом в камень.
… принялись смаковать этот порошок, столь дорогой для Сганареля. — Здесь имеется в виду Сганарсль, персонаж комедии Мольера "Дон Жуан, или Каменный гость", слуга заглавного героя. В первом явлении первого действия пьесы Сганерель с табакеркой в руках произносит речь во славу нюхательного табака.
448… В это время… готовил шарабан. — Шарабан — (фр. chara bancs — "повозка со скамьями") — открытый четырехколесный экипаж с поперечными сиденьями.
450… будто ленточка ордена Почетного легиона дает право охотиться в любом месте… — Орден Почетного легиона — высшая награда Франции, вручаемая за военные и гражданские заслуги; ныне имеет пять степеней; основан Бонапартом в 1802 г.; первые награждения им были произведены в 1804 г.
… Лажёнес, в прошлом, возможно, и заслуживший это прозвище, но вот уже более тридцати лет, безусловно, не имевший права его носить… — Прозвище Лажёнес (фр. Lajeunesse) — означает "молодость", "юность".
… мое ружье было заряжено тройкой. — То есть дробью третьего номера. Такую дробь используют в охоте на крупных уток, зайцев и кроликов.
… всегда будет при себе крупная картечь. — Картечь — здесь: дробь крупнее 5 мм в диаметре.
… Папаша Лажёнес видел казаков в молодости… — То есть в IК14 г., когда войска шестой антинаполсоновской коалиции (Австрия, Пруссия, Англия, Россия, Швеция и др.) вторглись во Францию. В составе русской армии были многочисленные казачьи части.
… после возвращения императора, в 1815году… — См. примеч. к с. 383.
451… его собаки, хотя их и зовут Картуш и Мандрен… — Кличками собак служили имена известных францу зских разбойников. Картуш (фр. cartouche — "патрон") — прозвишс, которое носил французский разбойник Луи Доминик Бургиньон (1693–1721), в течение двенадцати лет орудовавший в Париже и его окрестностях; был казнен на Гревской плошади в Париже.
Мандрен, Луи (1724–1755) — знаменитый французский бандит, глава шайки; был схвачен и заживо сожжен на костре.
452… остановился на Суасонё. — Суасоне — небольшая историческая область на северо-востоке Франции, в Иль-де-Франсе, главный ее город — Суасон.
… так называли небольшую прелестную с остроконечной шиферной крышей каменную постройку времен Людовика XIII… — Людовик XIII (1601–1643) — король Франции с 1610 г.; сын Генриха IV.
… маленькие трехцветные замки, все еще часто встречающиеся в Нормандии, Пикардии и в той части Иль-де-Франса, куда мы ведем наших читателей… — Нормандия — историческая провинция на северо-западе Франции, на территории которой располагаются современные департаменты Манш, Кальвадос, Нижняя Сена и частично департаменты Орн и Эр; название области связано с норманнами — скандинавами-викингами, завоевавшими в нач. X в. территорию в устье Сены; с этого периода и до сер. XV в. Нормандия пользовалась относительной политической самостоятельностью; в 1468 г., при короле Людовике XI (см. примеч. к с. 164), была окончательно включена в королевские владения.
Пикардия — историческая область на севере Франции, у берегов Ла-Манша; окончательно отошла к французской короне к 1477 г.; ее территория входит в современные департаменты Эна, Сомма и Уаза.
Иль-де-Франс — историческая область Франции, расположенная в центральной части Парижского бассейна, между реками Сена, Марна и Уаза; на его территории находятся восемь департаментов: Париж, О-де-Сен, Сен-Сен-Дени, Валь-де-Марн, Эсон, Валь-д’Уаз, Ивелин, Сена-и-Марна.
… две деревни — Фавроль и Ансьенвиль — служили двумя углами его основания. — Фавроль — селение в департаменте Эна, у восточной границы леса Виллер-Котре, в 7 км к юго-востоку от города Виллер-Котре.
Ансьенвиль — см. примеч. к с. 436.
… У подножия этих склонов бежала маленькая речка Урк… — Урк — река в Северо-Восточной Франции, протскаюшая в департаментах Эна, Уаза, Сена-и-Марна; правый приток Марны; длина 80 км; соединена одноименным каналом с Сеной.
453… Эта равнина или, скорее, эти ланды… — Ланды — здесь: пустоши… находились с противоположной стороны, то есть со стороны Шуи и Ансьенвиля. — Шуи — населенный пункт в 2 км к востоку от Норуа; как и Ансьенвиль, лежит к северу от реки Урк.
… Иоанн Безземельный нашего времени, охотник, не имеющий своего удела, европейский могиканин… — Иоанн Безземельный (1167–1216) — король Англии с 1199 г. из династии Плантагенетов; провел свою жизнь в феодальных междоусобицах, в результате которых потерял много земель, принадлежавших английским королям во Франции, и ослабил королевскую власть в собственной стране; после восстания феодалов был вынужден принять в 1215 г. Великую хартию вольностей, ограничивавшую права короля в пользу знати и церкви.
Могикане — племена северо-американских индейцев алгонкинской группы; ныне практически исчезли после междоусобных и колониальных войн и насильственных переселений. Слово "могиканин" после появления романа Ф.Купера "Последний из могикан" стало нарицательным и означает представителя какой-либо исчезающей группы человеческого общества.
… если великий святой Губерт того пожелает… — Святой Губерт — см. примеч. к с. 209.
… при лае таксы убегает, как самый ничтожный представитель иерархии зверей… — Такса — небольшая порода гончих охотничьих норных собак, в настоящее время в основном декоративная.
… совершенно бесполезный для звериного рода, как и прозопопеи Боссюэ для коронованных особ. — Прозопопея — олицетворение, способ художественного изображения, при котором животные, неодушевленные предметы и явления природы наделяются человеческими чувствами.
Боссюэ, Жак Бенинь (1627–1704) — французский писатель и церковный деятель, епископ города Мо; автор сочинений на исторические и политические темы; консерватор; известный проповедник; со своими проповедями и надгробными речами обычно выступал при французском дворе.
454… обломки герба, по которому прошелся молот 93-го года — Во время Французской революции, особенно в год ее наивысшего подъема, в 1793 г., во Франции происходили многочисленные аресты и казни дворян, настроенных, как правило, против революции; многие из них уезжали в эмиграцию, а их имения конфисковывали и продавали. Тем самым дворянскому землевладению и социальному положению дворянства во Франции был нанесен сильнейший удар.
… платил тот единственный налог, который дворянин соглашался платить, — налог кровью. — Во Франции при старом порядке два первых сословия — духовенство и дворянство — были освобождены от уплаты налогов. Неоднократные попытки ввести налогообложение дворянских имений, предпринимавшиеся государством в XVIII в., встречали ожесточенное сопротивление привилегированных сословий и кончались неудачей. Вместе с тем дворянство считало своим долгом и привилегией службу в королевской армии, ставшую добровольной к кануну Революции и называвшуюся "налог крови".
… тот, кого с самого начала называли "шевалье", хотя чаще всего он вовсе и не принадлежал к Мальтийскому ордену… — Шевалье (фр. chevalier — "рыцарь", "кавалер") — низший дворянский титул во Франции; так назывались младшие сыновья титулованных дворян, а также мелкопоместные нетитулованные дворяне. Так же называли *шснов военно-монашеских орденов, в которые охотно вступали младшие отпрыски феодальных семей, нс имевшие права на наследование родовых имений.
Мальтийский орден — старейший из военно-монашеских орденов; был основан под названием ордена святого Иоанна Иерусалимского в 1099 г. в Палестине крестоносцами для обороны их владений от мусульман. Рыцари его приносили обеты послушания, бедности и целомудрия; они обязывались ухаживать за больными, для чего устроили в Иерусалиме госпиталь (отсюда второе название ордена — "госпитальеры"). Изгнанный из Палестины, орден обосновался сначала на острове Родос, а с XVI в. — на острове Мальта, с чем и связано его третье название, указанное выше. После изгнания ордена с Мальты в 1798 г. французами центр его переместился в Россию, а в нач. XIX в. — в Италию, где к концу столетия орден превратился в благотворительную организацию.
… в любом случае командование ротой и крест Святого Людовика, совершенно забытый в наши дни, служили верхом его притязаний. — Продвижение по службе в дореволюционной французской армии часто было связано с большими расходами. Воинские чины и должности продавались как командирами частей и соединений, так и государством. Кроме того, командир, набирая солдат, на вербовку которых он получал казенные деньги, вынужден был содержать их за свой счет.
Орден Святого Людовика был основан Людовиком XIV в 1693 г. и назван в честь французского короля Людовика IX (см. примеч. к с. 189.), причисленного к лику святых; им награждались офицеры армии и флота за боевые заслуги. После падения монархии Бурбонов в 1792 г. награждения орденом прекратились, затем они возобновились в годы Реставрации, а 1830 г. были прекрашены окончательно.
456… так никогда ничего и не потребовал ни из своей распроданной нацией собственности, ни из миллиарда, который был выделен Палатами Реставрации на возмещение ущерба, причиненного эмигрантам. — На первом же году царствования короля Карла X был принят закон о возмещении убытков эмигрантам, недвижимое имушество которых было конфисковано и продано во время Революции; в соответствии с ним на эти цели была выделена сумма в один миллиард франков.
Палаты — см. примеч. к с. 401.
Реставрация — период правления монархии Бурбонов, восстановленной с помощью иностранных армий после падения (двукратного) империи Наполеона I в 1814–1815 гг. (первая Реставрация) и в 1815–1830 гг. (вторая Реставрация). Политика режима Реставрации, стремившегося ликвидировать результаты Великой французской революции, вызывала сильное недовольство в стране. В 1830 г. этот режим был свергнут в результате новой революции — Июльской.
… не тронул изображение этого неведомого Жана Барта… — Барт, Жан (1650–1702) — французский военный моряк, корсар, прославившийся смелыми операциями против морской торговли Нидерландов и Англии; получил дворянство от короля Людовика XIV и был назначен командующим эскадрой; обычным его боевым приемом был абордаж; прославился также как мастер прорыва вражеских блокад.
… метру Жаку женского пола, исполнявшему в доме… тройные обязанности — повара, лакея и псаря. — Метр Жак — персонаж из комедии "Скупой" Мольера: кучер и одновременно повар у Гарпагона.
… кровать, обитая зеленой саржей… — Саржа — см. примеч. к с. 195.
457… кого, в согласии с римским правом, в провинции все еще называют фамилией… — Понятие семьи ("фамилии" — лат. familia) в Римском государстве было иным, чем сегодня: помимо родственников, связанных узами крови, она включала в себя и рабов, и все домашнее имущество.
Римское право — свод законов Древнего Рима, самая разработанная система права рабовладельческого строя; наибольшее развитие получило в III в. до н. э. — III в. н. э.; подразделялось на публичное, регулировавшее юсударствснно-правовые отношения, и частное, упорядочивавшее гражданско-правовые отношения. Римское частное право оказало огромное воздействие на развитие феодального и буржуазного права (в том числе, и на французское право), поскольку оно было наиболее совершенной формой права, основывающегося на частной собственности.
458… придавал вид длинного и тонкого корня козлобородника. — Козлобородник — род растений семейства сложноцветных, двух- и многолетние травы; растут в Европе, Азии и Африке; некоторые виды а сдобны и медоносны.
459… сабо с подложенной в них соломой… — Сабо — во Франции грубые башмаки, вырезанные из цельного куска дерева; обувь крестьян и городской бедноты.
… выкроенный из какого-то казакина покойной г-жи Мьет… — Казакин — короткий жакет, сшитый в талию, с оборками сзади.
… сумел… клочок за клочком, перш за першем, арпан за арпаном собрать… сто пятьдесят или двести гектаров земли… — Перш — старинная французская поземельная мера, одна сотая арпана.
… г-н Дерикур, нотариус в Да-Ферте-Милоне… — Л а-Ферте-Милон — см. примеч. к с. 410.
Сведений о Дсрикурс (Dericourt) найти нс удалось.
… настоящая Золушка, но без ласковой феи-крестной… — Золушка — добрая и трудолюбивая девочка, героиня одноименной сказки французского поэта и критика Шарля Перро (1628–1703).
Когда Золушка собирается на бал, фея-крестная даст ей красивое платье, хрустальные башмачки и карету.
… никогда не имела в своем распоряжении даже сантима. — Сантим — мелкая французская монета, сотая часть франка.
… Одетая зимой в юбку из мольтона… — Мольтон — мягкая шерстяная или хлопчатобумажная ткань с начесом на одной стороне или обеих, напоминающая плотную фланель.
… летом — в платье из руанского ситца… — Имеется в виду крашеная хлопчатобумажная ткань, производство которой во Франции было вначале налажено в городе Руане (на севере Франции) и его окрестностях.
460… салат, заправленный маслом из буковых орешков… — Из плодов букового дерева, которые напоминают каштаны, но имеют треугольную форму и меньшие размеры, добывают высококачественное пищевое масло.
… по одному су за кадриль… — Кадриль — см. примеч. к с. 297.
… делавший вид, что он благосклонно относится к старому Гарпагону… — Гарпагон — скупец, герой комедии Мольера "Скупой".
… четверть сыра мароль… — Мароль — сорт сыра, производимый в селении Марой департамента Нор; имеет высокое содержание жиров, обладает сильным запахом и присущим ему характерным вкусом; форма сыра — прямоугольная.
462… носил рубашку с отложным воротничком на манер Колена… — Колен (уменьшительное от Николен) — персонаж комических опер XIX в., влюбленный деревенский юноша с характерной манерой одеваться; впервые появился в комической опере "Жанно и Колен" французского композитора Николо (Никола Изуар; 1776–1818), сыгранной в театре Фейдо в 1806 г.
… галстук, продетый в кольцо с оправленным топазом… — Топаз — прозрачный драгоценный камень (I класса; встречаются топазы винно-желтого, голубого, розового и др. цветов.
… Его звали Бенуа…не находя достаточно изысканным имя основателя ордена бенедиктинцев, данное ему при крещении…он поменял его на имя "Бенедикт"… — Бенедиктинцы — старейший из католических монашеских орденов; основан около 530 г. в Италии святым Бенедиктом Нурсийским (480–543), реформатором западноевропейского монашества, давшим ордену устав; нс требуя от монахов особо суровой аскезы, этот устав предписывал им, помимо молитв и участия в богослужениях, постоянные духовные упражнения, чтение духовных книг, обязательный физический труд, предпочтительно земледельческий, а также обучение юношества. Орден был широко распространен по всей Европе; бенедиктинцы славились тем, что они собирали, хранили, изучали, а впоследствии и издавали древние рукописи.
Французский вариант латинского имени Бенедикт и есть Бенуа.
463… к которой орнитологи относят среди птиц аистов и цапель, то есть к голенастым. — Голенастые — см. примеч. к с. 21.
464… Какая жалость, что король Луи Филипп отменил лотерею… — Лотереи во Франции в кон. XVII-нач. XIX вв. нс раз запрещались и вновь вводились, пока рядом законов 1829–1836 гг. они все не были запрещены окончательно, за исключением нескольких благотворительных.
466… учится итальянской музыке и весь день терзает мой слух одной восьмой и одной шестнадцатой господина Верди. — Одна восьмая, одна шестнадцатая — деления музыкальной ноты.
Верди, Джузеппе (1813–1901) — итальянский композитор, автор 26 опер, нескольких кантат, духовных сочинений, вокальных ансамблей, романсов и песен; мировую известность получили оперы, созданные им в 50-е гг. XIX в. — "Риголетто" (1851), "Трубадур" (1852), "Травиата" (1853), а также один из его последних шедевров — "Аида" (1870). Постановки многих сочинений Верди сопровождались патриотическими демонстрациями, направленными против австрийского господства в Италии.
… Вы читаете "Век"… Значит, вы принадлежите к оппозиции? — "Век" ("Le Siecle") — французская ежедневная газета; выходила в Париже с 1836 г.; во времена Дюма выступала за конституционные реформы и республиканскую форму правления; в этой газете печатались в виде фельетонов многие романы Дюма.
Оппозиция правительству Июльской монархии была весьма разнообразна. Она включала буржуазных либералов и республиканцев, требовавших реформы избирательного права, то есть расширения круга выборщиков; легитимистов — сторонников легитимной (то есть законной) монархии Бурбонов, а также т. н. "династическую оппозицию", которая состояла из сторонников правительства и расходилась с ним в частностях политики. Кроме этих течений, представленных в Палатах, тогда имелся еще ряд социалистических и радикальных групп.
… Я, как Базиль, учитель музыки и органист. — Дон Базил ь — персонаж комедии французского драматурга Пьера Огюстена Карона де Бомарше (1732–1799) "Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность", органист, даюший уроки пения юной Розине.
467… Опубликованный в нем роман-продолжение. Его автор — Дюма, один из моих учеников. — В 1846 г., в котором происходят события, описанные в романе, в газете "Век" произведения Дюма не публиковались. В 1844 г. в ней печатались "Три мушкетера" (13.03–11.07); в 1845 г. — "Двадцать лет спустя" (21.01–28.07) и "Эрминия" (29.09–04.10); в 1847 г. там начал печататься "Виконт де Бражелон" (20.10–12.01.1850).
… Его мать, получавшая дрова как вдова генерала… — Мать Александра Дюма — Мари Луиза Элизабет, урожденная Лабуре (1769–1838); в 1792 г. вышла замуж за республиканского офицера Дюма, впоследствии генерала Республики; овдовела в 1802 г. и осталась без средств к существованию; вслед за горячо любимым и любящим сыном переехала из родного городка Виллер-Котре в Париж; с 1829 г. была парализована.
Отец писателя — Тома Александр Дюма Дави де ла Пайетри (1762–1806), мулат с острова Сан-Доминго (соврем. Гаити), сын французского дворянина-плантатора и рабы ни-негритянки; с 1789 г. — солдат королевской армии; с 1792 г. — офицер армии Французской республики; пламенный республиканец; прославился своим гуманным отношением к солдатам и мирному населению, легендарными подвигами и физической силой. Он стал бригадным генералом 30 июня 1793 г.; дивизионным генералом — 3 сентября 1793 г.; 8 сентября 1793 г. был назначен главнокомандующим Западно-Пиренейской армии; 22 декабря 1793 г. — Альпийской армией; 16 августа 1794 г. — Западной армией.
… она отдавала часть причитающихся ей дров моему учителю музыки за то, чтобы он учил меня играть на скрипке. — В главе XXIII своих "Мемуаров" Дюма рассказывает о том, как в возрасте от 9 до 12 лет он учился музыке в Виллер-Котре у местного органиста Антуана Никола Иро (Hiraux; 1766–1836); под чуть измененным именем Жиро (Giraux) он и выступает в данном романе.
… Он поехал в Париж и стал писать романы. — Дюма уехал из Виллер-Котре в Париж в 1823 г. Первый его исторический роман ("Изабелла Баварская") был опубликован в 1835 г.
468… племянник приора монастыря премонстрантов, жительствова вших в обители Бур-Фонтен, которая располагалась в одном льё от Виллер-Котре… — Приор (лат. prior — "первый", "важнейший") — настоятель небольшого католического монастыря.
Премонстранты (норбертины, белые каноники) — католический духовный орден т. н. регулярных каноников, привилегированной части белого духовенства; был основан в 1120 г. святым Норбертом в аббатстве Премонтре (от лат pratum monstratum — "луг, указанный <Небом>"), расположенном в лесу Куси, в 20 км к западу от Лана; содействовал централизации католической церкви и пользовался многими привилегиями; к XV в. распространился по всей Западной Европе; в XVI в., после Реформации, число монастырей премонстрантов значительно сократилось; во Франции после Революции орден прекратил свое существование.
Развалины монастыря Бур-Фонтен находятся в 4 км от Виллер-Котре, в направлении к Ла-Фсрте-Милону.
… от него я услышал, как в этом убедится тот, кто возьмет на себя труд перелистать мои "Мемуары", все те монастырские и раблезианские истории, что приведены там мною. — Они приведены в главе XXIII "Моих мемуары" (см. примеч. к с. 12).
Раблезианские истории — то есть изложенные в стиле Ф.Рабле (см. примеч. к с. 212): одновременно в духе сатиры, жизнелюбия и нарочитой грубоватости.
… легендарный персонаж, который, возможно, под рукой Гофмана стал бы вторым Коппелиусом или Повелителем блох. — Гофман, Эрнст Теодор Амадей (1776–1822) — немецкий писатель-романтик, композитор и художник; его литературные произведения насыщены фантастикой.
Коппелиус — персонаж фантастического рассказа Гофмана "Песочный человек" ("Sandman"; 1816), зловещий убийца, адвокат, перевоплотившийся в мастера-оптика.
Повелитель блох — имеется в виду Перегринус Тис, молодой человек с большими странностями, заглавный герой одноименного сатирического романа Гофмана ("Meister Floh"; 1822), в котором содержатся выпады против полицейского режима Пруссии; за этот роман писатель оказался под судом и до конца жизни считался политически неблагонадежным.
… внешность Жиро могла бы подарить волшебнику, создавшему "Майорат" и "Кремонскую скрипку", одного из новых персонажей… — "Майорат" ("Das Majorat") — повесть Гофмана из цикла "Ночные рассказы" (1817). В ней излагается старинная легенда о вражде двух братьев из-за феодального поместья их отца-барона. Изложение сопровождается рассказами о преступлениях и разного рода таинственных явлениях. Действие происходит в Германии, на побережье Балтийского моря, во второй пол. XVIII в.
"Кремонская скрипка" ("Le Violon de Сгётопе") — принятое во Франции название новеллы Гофмана "Советник Креспель" ("Rat Krcspel") из сборника "Ссрапионовы братья". Сюжет новеллы такой: Антония, замечательная певица и девушка необыкновенного обаяния, дочь заглавного героя, тяжело больна, ей запрещено петь под страхом смерти, и она находит утешение лишь в восхи-тельных звуках волшебной скрипки, принадлежащей ее отцу; но вот однажды ночью советник слышит небесный концерт, в котором голос его дочери сливается со свуками волшебной скрипки, и наутро находит Антонию мертвой, а скрипку — разбитую вдребезги.
469… мизинец клал на квинту таким образом, что между пальцем и кобылкой едва оставалось место для смычка… — Квинта — первая струна на скрипке, настроенная на ноту ми второй октавы. Кобылка — устаревшее название подставки, деревянной детали струнных музыкальных инструментов, ограничивающей длину звучащей струны и передающей ее колебания деке (верхней части корпуса некоторых инструментов, служащей как усилитель и излучатель звука).
… Его платье походило на одеяние квакера. — Квакеры (от англ, quaker — "трясущийся") — члены протестантской секты "Общество друзей", основанной в Англии в сер. XVII в.; отвергали официальную церковную организацию с се пышной обрядностью и роскошью; считали высшим выражением своей веры "внутренний свет" и добродетельный образ жизни; с кон. XVII в. учение квакеров и их общины были широко распространены в английских колониях в Северной Америке, а затем и в США.
… Он не дошел до золотой середины Горация, но и не бедствовал. — Имеется в виду известное выражение Горация "Aurea mediocritas" (лат. "Золотая середина") из второй книги од (10, 5), отражающее его этические и эстетические принципы (со временем эта формула приобрела ироническое значение, ббозначая заурядность, посредственность). Однако в данном случае подразумевается нс столько философия Горация, сколько скромность его жизненных потребностей.
… доход с которых ему выплачивал нотариус Ниге… — Ниге — реальное, лицо, потомственнный нотариус в Виллер-Котре.
… жил на них счастливый, как Эпикур, и пользующийся всеобщим уважением, как Нестор. — Эпикур (341–270 до н. э.) — древнегреческий философ-материал ист, утверждавший, что целью филосо-фи и является обеспечение безмятежности духа, свободы от страха перед смертью и явлениями природы. Понятие "эпикурейство" часто употребляется и в переносном смысле — как стремление к личным удовольствиям и чувственным наслаждениям.
Нестор — см. примеч. к с. 289.
470… отвечу вам, но иначе, чем дон Родриго ответил дону Диего после убийства дона Гормаса. Он сказал: "Ешьте, отец!" — Имеется в виду сцена (111,6) трагедии П.Корнеля "Сид": Сид (дон Родриго) сообщает своему отцу дону Диего, что он убил его обидчика графа Гормаса и тем самым погубил свое счастье, поскольку граф — отец его возлюбленной Химсны. Однако приведенных здесь Дюма слов в пьесе нет. На самом деле, Родриго произносит: "… Расплата свершена. // Я отдал все. Мой долг я вам вернул сполна".
471… забронировал мне одно место в купе, а другое — в ротонде. — Ротонда — здесь: заднее отделение в дилижансе.
… жарил на сильном огне фрикасе… — Фрикасе — см. примеч. к с. 191.
474 …Я знаю, как выглядят газели, я видел их в Ботаническом саду. — Газель — название нескольких родов парнокопытных животных, обитающих в степях и пустынях Азии и Африки.
Ботанический сад — см. примеч. к с. 400.
475… Какого черта вы вмешиваетесь, прекрасный Амадис? — Амадис, Рыцарь льва (или Амадис Галльский) — странствующий рыцарь, постоянный и почтительный любовник; герой средневековых рыцарских романов, первый из которых написан в 1379 г.
476… изготовленная во времена царствования Людовика XVI… — Jo есть в 1774–1792 гг. О Людовике XVI см. примеч. к с. 166.
477… сшиты из набивного кретона… — Кретон — см. примеч. к с. 227… для гнезда коноплянки необходим самый мягкий мох… — Коноплянка — см. примеч. к с. 392.
478… развалины замка Ла-Ферте-Милон… — В Ла-Фсрте-Милоне (см. примеч. к с. 410) находятся развалины феодального замка XII в., построенного Людовиком Орлеанским, братом Карла VI.
479… Если ты станешь говорить что-то плохое об этой знаменитой сточной канаве на Паромной улице, о которой госпожа де Сталь печалилась в Коппе, то есть в виду Монблана и Женевского озера… — Паромная улица расположена в парижском предместье Сен-Жермен, на левом берегу Сены; идет перпендикулярно к реке к переправе, по которой в 1550–1564 гг. из каменоломни, расположенной в окрестности Парижа, в местности Вожирар, привозили камень на строительство дворца Тюильри.
Сталь-Гольштейн, Анна Луиза Жермена де (1766–1817) — французская писательница, публицистка и теоретик литературы; противница политического деспотизма; в кон. 80-нач. 90-х гг. XVIII в. хозяйка литературного салона в Париже, где собирались сторонники конституционной монархии; в 1792 г. эмигрировала и вернулась во Францию после переворота 9 термидора; в годы наполеоновского господства подверглась изгнанию.
Коппе (Коппет) — небольшой городок в Швейцарии, в кантоне
Ваадт, на берегу Женевского озера. Там в замке своего отца Неккера в 1793–1796, 1804 и 1806–1812 гг. жила госпожа де Сталь. Монблан — см. примем, к с. 223.
Женевское озеро (французское название — Леман) расположено в Швейцарии, на границе с Францией, между Юрой и северными предгорьями Альп.
Здесь имеется в виду знаменитое высказывание г-жи де Сталь, вошедшее в поговорку. Когда после долгих лет изгнания, проведенных ею в живописных окрестностях Женевского озера, кто-то пожелал заговорить об удовольствии, которое она получает, глядя на зеленые рощи и слушая журчанье ручьев, писательница воскликнула: "Ах! Ни один ручей не стоит в моих глазах сточной канавы на Паромной улице!"
482… о преимуществах режима "золотой середины"… — Режимом "золотой середины" иногда называли политику французского правительства во второй половине 40-х гг. XIX в., когда правящие круги всячески старались избежать внутренних и внешних осложнений, особенно всякого рода реформ, и сохранить существующий в стране порядок вещей.
… клеймил как сговор аристократов, стремившихся увлечь правительство вспять, то есть привести его к абсолютной монархии… — Имеются в виду противники Июльской монархии из числа легитимистов — сторонников легитимной (законной) династии Бурбонов, которые до ее свержения в 1830 г. неуклонно вели дело к восстановлению королевского абсолютизма. В число роялистских противников Луи Филиппа входили главным образом выходцы из парижской аристократии, провинциального дворянства и духовенства. Число их было невелико, а политическое влияние незначительно. Однако Луи Филипп сам больше всего стремился к установлению личного правления и понемногу освобождался от его противников в правительстве.
… доводы… заимствованные им наполовину из передовиц "Конституционалиста", наполовину из репертуара Жозефа Прюдома… — "Кон ституционалист" — см. примем, к с. 380.
Прюдом — см. примем, к с. 356.
483… мы не собираемся никому вменять в преступление то, что последователи Барема считают добродетелью… — Барем, Франсуа Бертран (1640–1703) — французский математик, автор "Книги готовых счислений" ("Livre des comptes faits", 1682), служившей для производства различных расчетов.
484… подхваченное ветром и разносимое шелестом того самого тростника, что три или четыре тысячи лет назад разоблачил царя Мидаса… — См. примеч. к с. 230.
… прошли в обеденную залу, чтобы, приняв там стаканчик абсента, приготовиться достойно встретить предстоящий завтрак. — Абсент — см. примеч. к с. 224.
485 Артишок — многолетнее травянистое растение семейства сложноцветных; мясистое основание цветов и некоторые другие его части употребляют в пишу.
… стенами, используемыми вместо шпалер… — Шпалера — здесь:
специальная решетка, к которой подвязывают кусты и деревья, чтобы придать им определенную форму.
… находилась площадка для игры в шары… — Имеется в виду старинная французская игра, в которой бросают тяжелые металлические шары, стараясь при этом, чтобы они заняли определенное положение.
… вырастил розы… золотарник, осенний безвременник и китайские астры. — Золотарник — многолетнее травянистое растение семейства сложноцветных с желтыми цветками.
Безвременник (зимовник) — род многолетних трав семейства лилейных; растут главным образом в Юго-Западной Европе, Малой Азии, в Африке, Иране, на Кавказе; ядовиты; некоторые виды их разводят как декоративные.
Китайские астры — однолетнее растение с крупными одиночными корзинками цветов; в диком виде произрастает в Китае и Японии; разводится как декоративное.
… ты же владеешь настоящим рынком Невинно убиенных… — Парижский рынок Невинно убиенных (располагавшийся там, где сейчас находится Форум Рынка) существовал в 1788–1858 гг. на месте уничтоженного в 1780–1786 гг. одноименного древнего кладбища; на территории этого кладбища ок. 1150 г. была построена церковь, посвященная Невинно убиенным — мальчикам-младенцам, истребленным по приказу царя Ирода, который полагал, что среди них окажется новорожденный Иисус (Матфей, 2: 16).
486… вкуснее даже самого превосходного шасла, который в корзинах по ставляют из Фонтенбло… — Шасла — группа столовых сортов винограда, используемых также для изготовления вин и соков. Фонтенбло — замок-дворец неподалеку от Парижа, в юго-восточном направлении; одна из летних резиденций французских монархов.
… и стоит один франк за фунт… — Фунт — старинная мера массы во Франции до введения во время Революции метрической системы мер и весов; равнялся 489,5 г.
488… этакий денди… — Денди (англ, dandy) — изысканно одетый светский человек из высшего общества; в значении "щеголь", "франт" это слово вошло в другие европейские языки (во французском зафиксировано с 1817 г.).
… копирующий в своей одежде и манерах этих островитян, одно только имя которых должно быть ненавистно каждому доброму французу. — Эта фраза, как и несколько подобных ей в романе, отражает недоброжелательное отношение французских буржуа к Англии, с которой Франция столетиями вела жестокие войны.
489… должен, словно Дон Кихот, сражаться с ветряными мельницами. — Имеется в виду эпизод из первого тома романа испанского писателя Мигеля де Сервантеса Сааведра (1547–1616) "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский". Герой, вообразивший себя странствующим рыцарем, встретил на своем пути несколько ветряных мельниц и, приняв их за великанов, вступил с ними в бой.
490… считавший меня прежде якобинцем… — Якобинцы — революционно-демократическая политическая группировка во Франции в период Великой французской революции. В течение лета 1793 — лета 1794 гг. эта группировка находилась у власти, боролась с внешней и внутренней контрреволюцией, стремилась к углублению революционных завоеваний. Название она получила по месту заседаний своего клуба в библиотеке якобинского монастыря (т. е. монастыря святого Иакова). Термин "якобинец" стал в кон. XVIII и в XIX в. (особенно в литературе и разговорном языке) синонимом понятия "радикальный революционер".
.. пресловутый "красный призрак" больше не внушает тебе ужас? — Вероятно, имеется в виду угроза революции, витавшая в атмосфере французского общества в 30–40 гг. XIX в.
Вместе с тем "Красный призрак" ("Le spectre rouge") — это название вышедшей в 1851 г. брошюры Огюста Ромьс (1800–1855), литератора, драматурга и крупного чиновника, в которой автор предрекал революционную гражданскую войну во Франции. Это сочинение призвано было вызвать в общественном мнении беспокойство и оправдать государственньш переворот Наполеона III, совершенный 2 декабря 1851 г.
… Дворянство — это пережиток, с которым революция восемьдесят девятого года справедливо покончшш. — Речь идет о Великой французской революции 1789–1794 гг.
…Не считая той, что была в девяносто третьем году. — 1793 год стал периодом наивысшего подьема Французской революции. Вторая его половина была также временем террора, во время которого погибли многие представители французской аристократии.
…Я говорю о революции порядочных людей, о революции господина де Лафайета… — Лафайст, Мари Жозеф Поль Ив Рок Жильбер де Мотьс, маркиз де (1757–1834) — францухкий военачальник и политический деятель; сражался на стороне американских колоний Англии в Войне за независимость; участник Французской революции, сторонник конституционной монархии, командующий национальной гвардией; после свержения монархии эмигрировал; поскольку в лагере, враждебном Революции, считался одним из главных се инициаторов, был сразу же арестован и несколько лет (до 1797 г.) провел в заключении в Германии и Австрии; после переворота 18 брюмера вернулся во Францию, однако при Наполеоне политической роли не играл; в период Реставрации стал депутатом, видным деятелем либеральной оппозиции, был связан с карбонариями; сыграл сметную роль в Июльской революции 1830 года, поддержав кандидатуру Луи Филиппа Орлеанского на трон, однако вскоре после воцарения нового короля перешел в умеренно-демократическую оппозицию режиму; в последние годы жизни пользовался большой популярностью.
… таков подсчет господина Шарля Дюпена… — Дюпен, Франсуа Пьер Шарль (1784–1873) — французский геометр и экономист, член Парижской академии наук (1818); по образованию морской инженер; занимал важные посты в морском ведомстве; как экономист был сторонником протекционизма; первый предложил использовать цветную карту для изображения динамики народного хозяйства.
… Но я не Жорж Данден! — Жорж Данден — герой комедии Мольера "Жорж Данден, или Одураченный муж" (1668), богатый крестьянин, который женился на девушке-дворянке; по ходу действия его все время обманывают и подвергают унижениям.
491… участвовал в двух африканских кампаниях. — То есть в колон иал ь-ной войне, которую Франция вела в Алжире с 1830 г.
… Впервой, в Кабилии, он, служа под командованием генерала Юсуфа, взял в плен арабского шейха и захватил знамя… — Кабил и я — горный район в восточной части Алжира, населенный кабилами — потомками коренного берберского населения Северной Африки; неоднократно служил местом боев во время французского завоевания Алжира.
Юсуф — имеется в виду французский генерал Жозеф (Джузеппе) Вантини, по прозвищу Юсуф (1808–1866); родом с Эльбы, он в детстве был захвачен тунисскими пиратами и ничего нс помнил о свом происхождении; состоял при дворе тунисского бея; попав в немилость, бежал и поступил на французскую службу; во время колониальной войны в Алжире командовал туземной кавалерией и отличился при захвате городов Бон (соврем. Аннаба), Константины и пленении ставки алжирского эмира Абд аль-Кадира (1807–1883); в 1845 г. принял христанство; в 1850 г. написал книгу "Война в Африке" ("La guerre d’Afriquc"); в 1854–1856 гг. участвовал в Крымской войне.
Шейх (араб, "старик") — в большинстве мусульманских стран представитель высшего духовенства.
… сопровождал герцога Орлеанского во время перехода того через Железные ворота… — Герцог Фердинанд Орлеанский (1810–1842) — французский военачальник, старший сын и наследник короля Луи Филиппа; до 1830 г. герцог Шартрский; полковник (1824), генерал (1831); принимал участие в подавлении Лионского рабочего восстания 1831 г. и в колониальной войне в Алжире (1834–1842); погиб в результате несчастного случая: разбился, выскочив на ходу из коляски, когда запряженные в нес лошади понесли; Дюма был с ним в дружеских отношениях и близко принял к сердцу его смерть. Железные ворота — ушсл1>с, находящееся на южной оконечности Кабильских гор в Алжире; считалось непроходимым, поскольку его бдительно охраняли воинственные местные племена. 28 июля 1839 г., на заре, французский отряд в 5 300 человек вступил в мрачное ущелье, столь тесно сжатое между двумя высокими каменными стенами, что понадобилось 7 часов, чтобы пройти 6 километров. Бурный ручей Уэд-Буктун, который помешал бы колонне пройти, если бы в нем хоть немного прибавилось воды, на этот раз был маловоден. Радость избавления была так велика, что на одной и \ стен ущелья была высечена надпись: "Французская армия, 1839". Правительство поздравило командующего с тем, что он "ввел французов в этот край такими дорогами, которыми нс осмеливались идти древние властители мира". Позднее выяснилось, что подвластный Франции халиф Мокрани обеспечил безопасность прохода, подкупив за свой счет племена, которые могли противостоять здесь французам.
492… Пелюш предусмотрительно сделал первый шаг с левой ноги. — С левой ноги обычно начинается строевое движение в армии.
25-272
… Английский парк… пришелся псу по вкусу… — Английский парк — тип свободно распланированного пейзажного парка, возникший в сер. XVIН в. В основе композиции такого парка лежали мотивы живой природы.
… Не найдя ничего достойного, что было бы способно удержать его в этом Эльдорадо… — Эльдорадо (исп. El dorado — "золотая страна") — сказочная страна, изобилующая золотом и драгоценными камнями; ее тщетно искали в Америке испанские колонизаторы.
493… от зарослей сирени к кустам рододендронов… — Рододендрон — род кустарников или небольших деревьев семейства вересковых; произрастает в умеренном поясе Северного полушария; распространен как садовая, оранжерейная и комнатная культура.
… Его рога, слегка изогнутые на концах, подобно рогам серны… — Серна — небольшое парнокопытное животное семейства полорогих; имеет небольшие рога; обитает в горах Европы, Малой Азии и Кавказа.
… в его глазах все были равны, начиная с г-на Бюффона, писавшего на коленях у Природы, и кончая Уотертоном, ехавшим верхом на спине каймана. — Бюффон, Жорж Луи Леклерк, граф (1707–1788) — французский математик, физик, геолог и естествоиспытатель, автор трудов по описательному естествознанию, которые подвергались жестокому преследованию со стороны духовенства; выдвинул представления о развитии земного шара и его поверхности, о единстве плана строения органического мира; отстаивал идею об изменяемости видов под влиянием условий среды.
Уотертон, Чарлз (1782–1865) — английский естествоиспытатель, орнитолог, автор множества научных трудов; совершил ряд путешествий по Канаде и США. Ему действительно удалось побывать на спине каймана, который проплывал рядом с его лодкой.
Кайман — род крупных пресмыкающихся из отряда крокодилов; обитают в реках и болотах Центральной и Южной Америки.
494… напоминавший тот выдаваемый за настоящий стипль-чез, что устраивают в Олимпийском цирке. — Стипль-чез — см. примеч. к с. 374.
Олимпийский цирк был основан в северо-восточной части Парижа, на улице Предместья Тампль, в кон. XVIII в.; в нем давали представления с животными; в 1807 г. он перехал в центр, на улицу Сент-Оноре, на место ипподрома, устроенного в первые годы XIX в. там, где прежде находился упраздненный во время Революции монастырь капуцинов.
497… Это ввел в моду некто Флориан. — Флориан, Жан Пьер Клари де (1755–1794) — французский писатель, внучатый племянник Вольтера, член Французской академии (1782); в его творчестве сочеталась аристократическая галантность и сентиментализм; писал пасторальные и исторические романы, поэмы, новеллы.
498 …Ее зовут Блида — это название маленького городка в окрестностях Алжира. — Блида — город и крепость у подножия Атласских гор, в окрестностях Алжира; центр сельскохозяйственного района; захвачен французами в 1837 г.
Алжир — главный город государства Алжир, порт на Средиземном море; основан во второй пол. X в. арабами; в XVI в. стал столицей вассального по отношению к Турции государства; в 1830 г. был захвачен Францией и стал административным центром их новой колонии в Африке.
500… предметы великолепного севрского и саксонского фарфора… — Севрский фарфор — изделия знаменитой королевской мануфактуры в городе Севр под Парижем, основанной в 1756 г.
Саксонский фарфор — изделия основанной в 1710 г. фарфоровой мануфактуры в городе Мейсене в Саксонии.
501… вы нам тут задали… настоящий свадебный пир Камачо… — Камачо — персонаж романа "Дон Кихот" Сервантеса, богатый крестьянин, на грандиозное свадебное пиршество которого попадают Дон Кихот и его верный Санчо Панса (часть 11, глава XX).
502… купил на четыре су терпентинного масла… — Терпентинное масло (скипидар) — бесцветная или желтоватая жидкость с едким запахом, добываемая перегонкой смолы хвойных деревьев.
… эти каплуны и эти утки поставлены к столу с моего птичьего двора… — Каплун — кастрированный и специально откормленный петух.
503… дам себя соблазнить ласковыми речами господина супрефекта. — Супрефект — глава гражданской администрации одного из административных округов, входящих в департамент; супрефекты являлись как бы посредниками между этими округами и префектурой (гражданской администрацией округа), они могли также замещать префектов при чрезвычайных обстоятельствах или в случае, если префект по каким-то причинам передавал им на время свои полномочия.
504… Все именно так и считают, но не учитывают ипотеку! — Ипотека (от гр. "залог", "заклад") — ссуда под залог недвижимости в городе и деревне (главным образом, земли).
505… месяц тому назад разыскивали в лесу Жорже. — Лес Жорже (bois de Georget) — этот топоним идентифицировать не удалось.
506… от чистого сердца охотно дал бы два наполеондора… — Наполеондор — французская золотая монета в 20 франков, чеканившаяся в годы Империи; в эпоху Реставрации на смену ей снова пришел луидор (см. примеч. к с. 203).
507… не говоря уж о сапожнике из Монгобера… — Монгобер — селение в Северной Франции, в департаменте Эна, примерно в 7 км к северу от Виллер-Котре.
… расчистив себе путь под остролистом… — Остролист (падуб) — род небольших большей частью вечнозеленых деревьев или кустарников семейства падубовых; распространены по всему миру.
514… крестный превратил моего отца в Нимрода, а вы хотите сделать из его дочери Диану? — Нимрод — см. примеч. к с. 21.
Диана (гр. Артемида) — покровительница живой природы в античной мифологии, богиня-охотница, девственница.
517… ирисы, устремляющие вверх свои зеленые клинки… — Ирис (каса тик, петушки) — род многолетних растений семейства касатиковых, распространенных в Северном полушарии; некоторые их виды разводятся как декоративные.
25*
524… исполнял вариации на тему арии из "Дезертира"… — "Дезертир" ("Le Deserteur") — трехактная комическая опера французского композитора Пьера Александра Монсиньи (1729–1817); впервые была поставлена в 1769 г. в Париже.
525… охота напоминает Царство Божье: прибывшие последними занимают первые места… — Имеется в виду евангельский стих: "И вот, есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними" (Лука, 13: 30). См. также Матфей, 20: 30 и Марк 10: 31.
530… два вальдшнепа висели на плечах загонщиков. — Вальдшнеп — см. примем, к с. 198.
… решился последовать примеру Магомета, который, видя, что гора не идет к нему, решил сам пойти к горе… — Магомет (точнее: Мухамед, или Мохамед; ок. 570–632) — основатель религии ислама, пророк.
Существует много версий происхождения известного восточного изречения "Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе". В данном варианте оно содержится в сочинении английского философа Френсиса Бэкона (1561–1626) "Нравственные и политические опыты" (1597). Магомет обещал народу сдвинуть гору, а когда это ему не удалось, он сказал: "Что ж! Раз гора не хочет идти к Магомету, Магомет пойдет к горе".
531… ему в голову приходила мысль об ужасах, которые жестокие карфагеняне приберегали для Регула… — Регул, Марк Атилл и й (ум. ок. 248 до н. э.) — древнеримский полководец, участник Первой пунической войны (264–241 до н. э.) между Римом и Карфагеном; после нескольких побед был разбит карфагенянами и взят в плен. По недостоверному преданию, Регул, в качестве посредника отправленный в Рим вместе с карфагенским посольством, дал слово возвратиться в плен, если его посредничество не будет удачным. В Риме он уговорил сенат продолжать войну и, твердо держа слово, вернулся в Карфаген, где и был замучен.
Карфаген — город-государство в Северной Африке в районе современного города Тунис; основан в кон. IX в. до н. э. финикийцами; крупный торговый центр, завоевавший много земель и распространивший свое влияние на всю западную часть Средиземноморья. После многолетней борьбы с Древним Римом в 111—11 вв. до н. э. был в 146 г. до н. э. полностью разрушен римлянами.
535… воскликнул тоном, от которого не отрекся бы и Тальма… — Тальм£, Франсуа Жозеф (1763–1826) — знаменитый французский драматический актер, реформатор театрального костюма и грима.
540… попробую перефразировать один из псалмов царя Соломона на ваш счет: "Имеете глаза, и не видите, имеете уши, и не слышите". — Псалмы — ветхозаветные религиозные гимны, песни и молитвы. Создание их приписывается древнееврейскому царю и герою Библии Давиду, но анализ текстов показал, что они были написаны многими авторами в течение более тысячи лет. 150 псалмов, считающихся каноническими, объединены в библейскую книгу Псалтирь и используются христианами при богослужениях различного рода, а также в быту.
Однако ни в псалмах Давида, ни в притчах Соломона (см. примем, к с. 352) подобного выражения найти нс удалось. Возможно, здесь перефразированы слова пророка Исаии "Слухом услышите — и нс уразумеете, и очами смотреть будете — и нс увидите (Исаия, 6: 9), повторенные в евангелиях от Матфея (13: 14), Марка (4: 12), Луки (6: 10), Иоанна (12: 40).
542… разбрасывая камешки аллеи носком туфельки, которую могла на деть, кроме нее, разве только Золушка. — Туфельки у Золушки (см. примем, к с. 459) были такие маленькие и изящные, что никто, кроме нее, не мог их надеть.
545 Вексель — письменное долговое обязательство установленной формы, выдаваемое заемщиком кредитору (векселедержателю) и представляющее последнему право требовать в определенное время уплаты суммы долга.
548… на расписке стоит передаточная надпись… — Передаточная надпись — удостоверение о передаче векселедержателем права получения денег по векселю третьему лицу.
549… Вот уже три тысячи лет все упрекают Иеффая в том, что он принес в жертву свою! — Библейский персонаж, судия израильского народа Иеффай, возглавлявший борьбу израильтян против враждебного племени аммонитян, обещал Богу принести в жертву в случае своей победы первого, кто выйдет ему навстречу из ворот его дома. Первая вышла его единственная дочь, которая и была предана всесожжению. Однако прежде Иеффай по ее просьбе отпустил ее на два месяца в горы оплакать свое девство. С тех пор еврейские девушки ежегодно уходили на четыре дня в горы оплакивать принесенную в жертву девственницу (Судей, 11: 30–40).
555… А, дворянство мантии? — Дворянство мантии — выходцы из богатой буржуазии, которые в конце средних веков, покупая государственные должности и поместья разорившейся аристократии, сами приобретали права дворянства.
556… Едва этот новоявленный Цезарь перешел Рубикон… — 10 января 49 г. до н. э. Цезарь (см. примеч. к с. 165) начал гражданскую войну за власть над Римом и перешел с войсками речку Рубикон в Северной Италии, отделявшую провинции, которыми он тогда управлял, от собственно римских владений в Италии (по римским законам, он имел право сделать это только по разрешению сената). С тех пор появилось крылатое выражение "Перейти Рубикон" — то есть сделать решительный шаг, бесповоротный поступок.
… ставил себе в пример пеликана, который разрывает собственные внутренности, чтобы накормить своих голодных птенцов… — Поскольку самка пеликана кормит птенцов, вынимая пойманную ею и почти всегда окровавленную рыбу из кожистого мешка под своим клювом, то еще в древности родилось поверье, что пеликан разрывает себе грудь, чтобы накормить свое потомство.
557… Проснувшись, как он выражался в духе поэтики Первой империи, в тот час, когда белокурая Аврора открывала Фебу ворота Востока… — Первая империя — время царствования во Франции Наполеона I (1804–1814 и 1815 гг.); называлась так в отличие от эпохи царствования его племянника Луи Наполеона, носившего имя Наполеон III (1857–1870), — Второй империи.
Аврора — в римской мифологии богиня утренней зари, соответствующая древнегреческой Эос.
Феб — второе имя древнегреческого бога солнечного света, покровителя искусств, целителя и прорицателя Аполлона.
558 Апорт — команда собаке принести что-либо.
561… угрожала участь покрывала Пенелопы. — Пенелопа — героиня древнегреческой мифологии и "Одиссеи" Гомера, ставшая символом супружеской верности; она двадцать лет ждала своего мужа Одиссея, пока он участвовал в Троянской войне и странствовал, и все это время отказывала многочисленным женихам. Однажды, чтобы избавиться от их притязаний, она объявила, что выйдет замуж только после того, как соткет погребальный покров для своего свекра, а сама по ночам распускала сотканную ею ткань.
562… этого новоявленного Груши, позор этого второго Ватерлоо. — Груши, Эммануэль де, маркиз (1768–1848) — французский военачальник, маршал Франции (1815); до Революции офицер королевской гвардии, с падением монархии перешедший в республиканскую армию; участник войн Республики и Наполеона; во время "Стадией" принял сторону императора; накануне Ватерлоо был послан Наполеоном преследовать с большими силами отступавшую прусскую армию, но не смог задержать ее и, несмотря на советы своих генералов, не оказал помощи императору в сражении с англичанами; в 1815 г. покинул Францию и вернулся лишь в 1819 г.; Бурбоны лишили его звания маршала, но он был восстановлен в нем при Июльской монархии.
18 июня 1815 г. в сражении при бельгийском селении Ватерлоо, расположенном южнее Брюсселя, армия Наполеона была разгромлена войсками Англии, Нидерландов и Пруссии. После этого поражения Наполеон окончательно отрекся от престола и вскоре был сослан на остров Святой Елены.
563… он заметил бледное лицо в обрамлении двух темных локонов, которое произвело на него впечатление головы Медузы. — Медуза — см. примеч. к с. 51.
… Если бы гренадеры, на чью долю выпадала честь маршировать под командованием г-на Пелюша… — Гренадеры — солдаты пехоты, обученные бросанию ручных гранат; появились в европейских армиях в первой пол. XVII в.; уже в конце этого столетия составляли отборные подразделения, назначавшиеся в самые ответственные места боя.
565… Разве мы ведем свое происхождение со времен крестовых походов? —
Крестовые походы — военно-колонизационные экспедиции западноевропейских феодалов на Ближний Восток в XI–XIII вв.; вдохновлялись и направлялись католической церковью, выдвинувшей в качестве предлога для них отвоевание у мусульман Гроба Господня в Иерусалиме. Историческая наука насчитывает восемь крестовых походов.
… не отдаст и двенадцати гроссов бумажных цветов розничному торговцу… — Гросс — мера счета: двенадцать дюжин (при счете некоторых видов товаров).
569… давала девушке вдыхать нюхательную соль… — Нюхательная соль — вещество с резким запахом, употреблявшееся в медицине вплоть до XIX в., чтобы приводить больного в чувство путем раздражения его верхних дыхательных путей.
571… владел им лишь на основании фидеикомисса. — Фидеикомисс в римском частном праве — неформальное поручение наследователя выдать третьему лицу определенное имущество из наследства.
… длинном рединготе из облезлого кастора… — Кастор — плотное тонкое сукно с ворсом на изнаночной стороне, изготовляемое из пряжи с добавлением бобрового пуха и используемое для пошива зимней одежды.
572… обсуждает достоинства венецианских, валансьенских, брюссельских или английских кружев… — Венеция — см. примеч. к с. 7. Валансьен — город в Северной Франции, у границы с Бельгией, славящийся производством кружев.
Брюссель — см. примеч. к с. 9.
573… жавелевая вода, скребница из ростков пырея и все другие средства, которые парижане используют для быстрого отбеливания белья… — Жавелевая вода — хлористый раствор, зеленовато-желтая едкая жидкость, употребляемая для отбеливания тканей.
Пырей — сорное растение семейства злаковых, родственное пшенице и ее особому виду — полбе.
576… лишь тропическое солнце могло усилить эти теплые коричневатые тона флорентийской бронзы. — См. примеч. к с. 182.
… Он носил одно из тех бурых одеяний причудливой формы, какие служат одновременно одеялом, укрытием или подстилкой для наездников в пампасах Южной Америки и известны под названием "пончо". — Пампасы — равнинные области Южной Америки с преобладанием травянистой растительности.
Пончо — плащ из прямоугольного куска ткани, не имеющий рукавов, с проделанным в центре отверстием для головы; традиционная одежда индейцев Южной и Центральной Америки.
… Касалась его брюк из серого драпа… — Драп — толстая плотная ткань из чистой шерсти или с бумажной основой.
… словно находился на берегах Рио-Гранде или Ла-Платы. — Рио-Гранде — возможно, подразумевается крупная река, которая ныне служит границей между Мексикой и США; второе ее название: Рио- Браво-дел ь- Норте.
Ла-Плата — залив Атлантического океана, расположенный у юго-восточного побережья Южной Америки, эстуарий рек Парана и Уругвай; берега его принадлежат Аргентине и Уругваю.
… заворачивал немного табаку в лист маиса… — Маис — другое название кукурузы.
577… Это какой-нибудь карам б а, пожиратель чеснока… — Карамба (c&ramba — "черт возьми!") — испанское и португальское ругательство.
578… Именно так подобные события происходят в Опера-Комик… —
Опера-Комик (Комическая опера) — музыкальный театр нового демократического оперного жанра, противопоставлявшегося французским обществом XVIII в. классической придворной опере; возник в Париже в 1725 г.; в течение столетия объединился с несколькими театрами аналогичного направления.
581… убитого в сражении на Москве-реке… — Сражением на Москве-реке французы называют битву при Бородине.
… наблюдал нашествия тысяча восемьсот четырнадцатого и тысяча восемьсот пятнадцатого годов. — Имеется в виду вторжение русских, английских, прусских, австрийских и других войск во Францию в 1814 г., закончившееся первым отречением Наполеона в апреле 1814 г., а также вступление союзных войск во Францию летом
1815 г. после разгрома наполеоновской армии при Ватерлоо.
… был лейтенантом в легионе департамента Мёрт… — Мёрт — в прошлом департамент на северо-востоке Франции, включавший пять округов, из которых теперь два входят в современный департамент Мозель, а три — в департамент Мёрти-Мозель.
… Именно в эту пору в Париже случился первый военный заговор. — В первые годы Реставрации ее реакционная политика (принятие репрессивных законов, жестокие преследования сторонников Империи, вплоть до смертной казни, преследования вообше всех противников монархии) вызывали во Франции большое недовольство. Следствием его было несколько заговоров и восстаний, осуществленных либералами, военными-бонапартистами и коалиционными группами оппозиционеров. Военные заговоры относились к более позднему времени — к нач. 20-х гг. XIX в. Эти заговоры и попытки восстания организовывались тайным обществом карбонариев, которое в результате жестоких репрессий со стороны правительства и собственных неудач значительно сократило свою деятельность.
582… После двух одобренных в тысяча восемьсот двадцатом году законов об уничтожении свободы прессы и о свободе личности некоторые члены оппозиции решили организовать восстание и объединились в комитет. Это были генерал Лафайет, Вуайе д!Аржансон, Манюэль, Дюпон (из Эра), Mepu/iy, де Корсель, Босежур и генерал Тарайр. — Закон об уничтожении свободы прессы был принят Палатой депутатов в
1816 г.; согласно этому закону до 1818 г. продлевалась введенная ранее цензура, а также система предварительного разрешения на издание газет.
Закон о временной отмене свободы личности давал правительству право ареста и длительного заключения лица, подозреваемого в злоумышлении против особы и власти короля, королевской семьи и государственной безопасности.
Лафайет — см. примеч. к с. 490.
Вуайе д’Аржансон, Марк Рене (1771–1842) — французский политический деятель, в 1815–1834 гг. (с перерывами) член Палаты депутатов, противник политики Реставрации и Июльской монархии. Манюэль, Жан Антуан (1775–1827) — французский политический деятель, участник войн Республики, по профессии адвокат, с 1815 г. член Палаты депутатов, примыкавший к группировке либеральной оппозиции, т. н. независимым.
Дюпон, Жак Шарль (его называли "Дюпон из Эра", т. е. из департамента Эр; 1767–1855) — французский политический деятель; во время Революции и Империи делал успешную юридическую и административную карьеру — главным образом в своей родной Нормандии; в 1814 г. (и недолго в 1815 г.) был депутатом, с 1817 г. постоянно избирался в Палату депутатов, где занимал место среди радикальной левой оппозиции; славился своей порядочностью и беспристрастностью; был близким другом Лафайета; входил в организацию карбонариев; после революции 1830 года недолго занимал пост министра юстиции, но вскоре разочаровался в новом режиме и подал в отставку; еще в течение нескольких лет был депутатом; в 1848 г. стал членом Временного правительства (и был избран его председателем), а также депутатом Учредительного собрания; занимал в это время умеренную позицию, отличаясь интересом к сугубо политическим, но не к ставшим столь важными социальным проблемам; в Законодательное собрание избран не был, и более в политической жизни не участвовал.
Мерилу, Жозеф (1788–1856) — французский юрист, во время "Ста дней" помощник генерального прокурора; во время Реставрации примыкал к оппозиции, выступал защитником на политических процессах; при Июльской монархии был крупным чиновником. Корсель, Клод де (1768–1843) — королевский офицер, в начале Революции эмигрировал; вернулся при Консульстве, служил в национальной гвардии; после Ватерлоо бежал в Бельгию; с 1819 г. член Палаты депутатов, либерал; участник Июльской революции; поддерживал политику Луи Филиппа.
Босежур (Beausejour) — сведений об этом персонаже найти не удалось.
Тарайр, Жан Жозеф, барон (1770–1855) — участник наполеоновских войн, генерал; с 1819 г. член Палаты депутатов, либерал.
В 1821 г. некоторые из перечисленных лиц вошли в заговор с целью свержения династии Бурбонов и намечались в члены временного правительства.
… Выступление должно было произойти в Париже по приказу и при содействии капитана Нантиля… — Имеется в виду т. н. "заговор 19 августа 1820 года". В ночь на 20 августа заговорщики (республиканцы, орлеанисты и бонапартисты), среди которых была большая группа военных, намеревались, захватив арсенал в городке Венсен под Парижем, снабдить своих сторонников имеющимися там боеприпасами и оружием, занять дворец Тюильри и арестовать королевскую семью. В провале заговора особую роль сыграло предательство одного из его участников, капитана Берара, который, усомнившись в успехе и испугавшись наказания, сообщил обо всем начальству и назвал имена ряда заговорщиков. Последовали многочисленные аресты. Трое руководителей заговора, в том числе Нантиль, успели скрыться и были впоследствии заочно приговорены к смертной казни. Арестованные же участники заговора были наказаны довольно мягко. Такая умеренность частично объяснялась тем, что следствие и судебный процесс тянулись около года и приговор был вынесен вскоре после того как во Франции было получено успокоительное для правительства Бурбонов известие о смерти Наполеона.
… легион должен был овладеть Венсенским замком-крепостью. — Венсенская крепость — см. примем, к с. 168.
… они передали бы командование ею в руки генерала Мерлена… — Мерлен, Антуан Франсуа Эжен (1778–1854) — генерал, участник войн Республики и Империи; после "Стадией" был вынужден на несколько лет покинуть родину; в 1820 г. был привлечен к суду по делу о военном заговоре, но оправдан Палатой пэров; после Июльской революции 1830 года вернулся на службу.
… капитан Берар, командир батальона в легионе Кот-дю-Нора… должен был вступить на площадь Бастилии… захватить сад Бомарше… и таким образом занять господствующее положение над линией Бульваров и подступами к площади Сент-Антуан. — Берар — см. примем, выше.
Кот-дю-Нор — департамент на северо-западе Франции, на полуострове Бретань, административный центр — город Сен-Бриё. Бастилия — см. примем, к с. 275.
Сад Бомарше — вероятно, имеется в виду бульвар Бомарше, который находится в восточной масти старого Парижа, прилегающей к Сент-Антуанскому предместью; этот бульвар проложен на месте старых крепостных стен в 1670 г. и до 1831 г. именовался бульваром Сент-Антуан; новым своим названием он обязан тому, что в XVIII в. на нем стоял дом драматурга Бомарше (см. примем, к с. 466).
Бульвары (Большие бульвары) — кольцевая магистраль Парижа, проложенная на месте снесенных во второй пол. XVII в. старых крепостных стен.
Площадь Сент-Антуан (точнее: площадь Сент-Антуанских ворот) находилась между этими воротами и Бастилией; ныне входит в площадь Бастилии,
… В то же самое время первый легион департамента Нор, ведомый капитаном Декевовиллером… — Нор — департамент в Северной Франции, у границ с Бельгией; административный центр — город Лилль.
Декевовиллер (Dequevauvillers) — сведений об этом персонаже нс найдено.
… должен был расположиться перед ратушей, на набережных по ту и другую сторону Сены… — Ратуша — здание в городе, в котором в Западной Европе сосредоточивалось со времен средних веков городское самоуправление; в Париже традиционно находится на площади Ратуши (бывшей Гревской), расположенной на правом берегу Сены, в восточной части центра Парижа. Во время, описанное в романе, там стояло средневековое старинное здание, расширенное в 1803 г. и перестроенное в 1837–1841 гг.; в 1871 г., в ходе уличных боев Парижской коммуны, оно сгорело.
… довершить социальное и имущественное разделение, существующее между предместьями Сент-Антуан и Сен-Марсо и богатыми кварталами Парижа. — Предместье Сент-Антуан — см. примем, кс. 168.
Предместье Сен-Марсо находится на левом берегу Сены, южнее старых городских укреплений; рабочий район города.
… Пятнадцатого августа был праздник Святого Людовика, то есть именины короля. — Праздник Святого Людовика (см. примеч. к с. 189) отмечается 25 августа.
Людовик XVIII (1755–1824) — младший брат Людовика XVI; король Франции формально с 1795 г., фактически в 1814 и 1815–1824 гг.; до 1795 г. носил имя Луи Станислас Ксавье граф Прованский.
583… герцог Рагузский, начальник главного штаба королевской гвардии… — То есть маршал Мармон (см. примеч. к с. 186).
… затем у служащего Бурбонского дворца… — Бурбонский дворец, принадлежавший королевской семье, был сооружен в 1722–1728 гг. и несколько раз достраивался и перестраивался; находится в Париже, на левом берегу Сены, напротив площади Согласия; во дворце заседала Палата депутатов Национального собрания Франции.
… он покинул Париж и укрылся в Нанте… — Нант — город и порт на западе Франции, в Бретани, в устье реки Луара; административный центр департамента Атлантическая Луара.
584… Заседание Палаты пэров состоялось в январе тысяча восемьсот двадцать первого года. — Палата пэров — верхняя палата Французского национального собрания в первой пол. XIX в.; состояла из лиц, назначаемых королем; обладала высшей судебной властью в стране; заседала в Люксембургском дворце.
585… вышли из Парижа через заставу Ла-Виллет. — Застава Ла-Вил-лст располагалась у северной окраины Парижа и называлась по имени находившегося здесь селения, позже одного из районов города. Ныне зданий заставы, построенных в XVIII в., нс существует, а образованная на их месте площадь носит имя Сталинграда.
… пошли прямо к нотариусу, господину Менессону, редкостному патриоту и честнейшему человеку… — Менсссон. Арман Жюльсн Максимильсн (1782—?) — нотариус в Виллср-Котре, друг дома семьи Дюма; юный Александр Дюма работал у него писцом с августа 1816 г. по август 1822 г.
586… раздобыл документы моряка из Порт-о-Перша… — Порт-о-Перш — маленькая пристань на реке Урк, к югу от Вути.
… направлялся в Гавр, чтобы отплыть оттуда в Америку и присоединиться в Техасе к французской колонии, которую основал там генерал Лаллеман, дав ей название "Сельский приют". — Гавр — см. примеч. кс. 8.
Техас — штат на юге США, граничащий с Мексикой и примыкающий к Мексиканскому заливу; территория его была открыта испанцами в XVI в., которые тогда же основали там первые европейские поселения; в XVII в. вошел в состав колонии Новая Испания, ас 1821 г. — всостав Мексики; с нач. XIX в. стал осваиваться плантаторами из США, которые в 1835 г. провозгласили его самостоятельность; в 1845 г. вошел в состав США как рабовладельческий штат.
Лаллеман, Шарль Франсуа Антуан, барон (1774–1839) — французский генерал, участник войн Революции и Наполеона; во время "Ста дней" поддержал императора; был взят в плен, а в 1816 г. уехал в Америку: в 1X17 г. основа! в Техасе земледельческую колонию из 350 эмигрировавших из Франции офицеров и солдат, которая в IX19 г. распалась из-за препятствий, чинимых ему испанскими властями: строил планы освобождения Наполеона с острова Святой Елены; в 1X23 г. сражайся в Испании на стороне приверженцев конституции; после Июльской революции вернулся во Францию, был восстановлен в генеральском звании и стал пэром.
5X7… мне пришлось, против воли, участвовать в Испанской кампании. —
См. примеч. к с. 357.
… небольшой магазин игрушек на улице Бурдоне… — Имеется в виду часть нынешней одноименной улицы, заключенная между улицами Сент-Оноре и Бстизи, к востоку от Лувра, в торговой части старого Парижа; названа так в кон. XIII в. в честь трех братьев Бурдонов, богатых горожан.
… король Людовик Восемнадцатый скончался, ему наследовал Карл Десятый… — Карл X (1757–1836) — король Франции в 1824–1830 гг., последний монарх из династии Бурбонов, младший брат Людовика XVI и Людовика XVIII; до вступления на престол носил титул графа д’Артуа; во время Революции и империи Наполеона вождь контрреволюционной эмиграции; был свергнут Июльской революцией 1830 года и умер в изгнании.
… "Сельский приют "был разгромлен по приказанию вице-короля Мексики. — С 1535 г. по 1821 г. Мексика была испанским вице-королевством, то есть колонией, управлявшейся испанским наместником. В 1810–1816 гг., то есть как раз накануне того времени, о котором здесь идет речь, местное население предприняло несколько попыток освободиться от испанского владычества, но все они оказались неудачными. Однако в 1821 г. испанский генерал Итурбид перешел на сторону восставшего народа, разбил королевские войска и объявил себя императором Мексики под именем Агустина I (1822). В 1823 г. его свергли и была провозглашена Мексиканская республика.
… обошел весь залив от Остина до Вера-Круса, от Мехико до Кубы… — Залив — имеется в виду Мексиканский залив в западной части Атлантического океана, между полуостровами Флорида (Северная Америка), Юкатан (Центральная Америка) и островом Куба.
Остин — город на юге США, административный центр штата Техас; лежит на расстоянии 200 км от побережья Мексиканского залива.
Веракрус — город в Мексике, ее важнейший порт в Мексиканском заливе; основан испанскими колонизаторами в 1519 г.
Мехико — важнейший центр страны и столица Мексики; основан ок. 1325 г. индейцами-ацтеками; с XVI в. центр испанского колониального вице-королевства Новая Испания, ас 1821 г. столица независимой Мексики.
Куба — остров в группе Больших Антильских в западной части Атлантического океана; основная часть государства Республика Куба.
… поднялся по Амазонке, прошел обширные леса и бесконечные равнины, спустился по реке Парана, пересек Уругвай и прибыл в Монтевидео. — То есть пересек центральную часть Южной Америки по генеральному направлению с севера на юг.
Амазонка — река в Южной Америке, крупнейшая в мире по водоносности и размерам бассейна; длина ее свыше 7 000 км; пересекает континент с запада на восток, впадая в Атлантический океан; большая часть бассейна Амазонки находится в Бразилии.
Парана — вторая по величине река в Южной Америке, протекает в Бразилии, Парагвае и Аргентине главным образом с севера на юг; длина ее (без эстуария) 4 380 км; начинается на Бразильском плоскогорье и впадает в Атлантический океан.
Уругвай — республика в Южной Америке, омываемая с востока и юга Атлантическим океаном. Территория Уругвая была открыта в XVI в. испанцами, которые начали ее колонизацию в XVII в., жестоко подавляя сопротивление индейцев и борясь с притязаниями Португалии; в 1776 г. Уругвай вошел в состав вице-королевства Ла-Плата, но в 1811 г. провозгласил свою независимость; однако эта независимость утвердилась лишь в 1828 г., после ряда войн против Буэнос-Айреса и Португалии, а позже (в 1839–1852 гг.) — Аргентины и Бразилии, поддержанных Англией и Францией. Монтевидео — город на северном берегу залива Ле-Плата в Атлантическом океане, столица Уругвая с 1828 г.; был основан испанскими завоевателями в 1726 г.; ныне крупный порт, транспортный узел и промышленный центр страны.
… У меня были рекомендательные письма к уважаемым жителям этого города и среди прочих к полковнику Овандо. — Полковник Овандо упомянут в "Мемуарах Гарибальди", которые были отредактированы и изданы Дюма и из которых почти дословно взяты эпизоды настоящего романа, касающиеся гражданских распрей в Аргентине и ее войны с Уругваем.
588… по возвращении из экспедиции, которую полковник Овандо собирал ся предпринять против генерала Лопеса, губернатора Санта-Фе-дела-Платы… — Лопес, Эстанислао (1786–1838) — аргентинский генерал и политический деятель, губернатор провинции Санта-Фе, одна из центральных фигур периода гражданских войн, федералист, пользовавшийся большой популярностью; был убит по приказу Росаса.
Санта-Фе — провинция в Северо-Восточной Аргентине, недалеко от реки Парана, с центром в одноименном городе.
590… Лопес в свою очередь умер, отравленный Росасом. — Росас, Хуан
Мануэль де (1793–1877) — аргентинский политический деятель, происходивший из знатной семьи, но с юных лет живший среди пастухов; вождь федералистов (сторонников широкой автономии провинций) с 1828 г., присвоивший себе неограниченную власть и возглавивший в 1832–1851 гг. (с перерывами) кровавую диктатуру, которая, однако, способствовала развитию экономики страны; когда его противники укрылись в Уругвае, он начал осаду Монтевидео, что вызвало интервенцию англичан и французов (1843); в 1852 г. был разбит коалицией отпавшего от Аргентинской конфедерации штата Энтре-Риос, Бразилии и Парагвая — территорий, которые он мечтал объединить с Аргентиной в одно государство, и бежал в Англию, где впоследствии и умер.
… Новость об амнистии пришла в Монтевидео. — После вступления на престол Карла X репрессивная политика по отношению к оппозиции не только не прекратилась, но даже усилилась, однако он помиловал многих лиц, пострадавших за политические убеждения.
… На кладбище Пер-Лашез. — Кладбище Пер-Лашез — одно из самых больших и известных кладбищ Парижа; названо по имени духовника Людовика XIV отца Лашеза (реге La Chaise; 1624–1709), который подолгу жил поблизости в доме призрения иезуитов (по другим сведениям, владел здесь виноградником). После запрещения ордена иезуитов и изгнания его из Франции (1763) эта земля находилась в частных руках до 1790 г., когда Учредительное собрание специальным декретом запретило захоронение в черте города во избежание эпидемий и определило места для подобных обрядов; в их числе оказалась и территория бывшей обители иезуитов; в 1803 г. кладбище было выкуплено городскими властями и официально открыто в 1804 г. как городское.
591… Заночевали мы в Нантёй-ле-Одуэне. — Нантёй-ле-Одуэн — город в Центральной Франции, в департаменте Уаза, на пути из Парижа в Виллер-Котре.
592… Росас, став диктатором Буэнос-Айреса, угрожал Монтевидео. — Буэнос-Айрес — провинция в восточной части Аргентины, между заливом Ла-Плата и Атлантическим океаном; наиболее развитый экономический район страны; столица — город Буэнос-Айрес. Колонизация ее территории испанцами началась в кон. XVI в.; в 1816 г. она вошла в состав Соединенных провинций Ла-Платы (а позднее — республики Аргентина), занимая в стране руководящее положение.
… Спустя какое-то время после революции тысяча восемьсот десятого года… — В кон. XVllI-нач. XIX вв. в поселениях по берегам залива Ла-Плата под влиянием Французской революции значительно усилилось национально-освободительное движение, возглавляемое местной знатью. С этим движением соединилась борьба народа против попыток англичан в 1807 г. захватить Буэнос-Айрес. В результате 25 мая 1810 г. было создано временное правительство провинции Рио-дела-Плата, и связанные с этим события получили название Майской революции.
… затерялся в пампасах, ведя жизнь гаучо… — Гаучо — первоначально этническая группа, возникшая из смешения испанцев с индейцами; ее представители вели бродячую жизнь на равнинах Аргентины и Уругвая, занимались контрабандой и похищением скота; с кон. XVIII в. стали наниматься пастухами на фермы; в нач. XIX в. принимали активное участие в борьбе за независимость, а затем играли большую роль в гражданских войнах.
… научился искуснее многих других… бросать лассо и болу. — Лассо (исп. lazo — "петля") — длинный (ок. 12 м) аркан со скользящей петлей, сплетенный из сыромятных ремней и смазанный жиром; применялся гаучо для отлова скота и использовался в военных целях.
Бола (болас) — сыромятный ремень с двумя или тремя обшитыми кожей каменными или деревянными шарами на концах, орудие для отлова скота; болу бросают на скаку под ноги бегущему животному и стреноживают его. Гаучо использовали болу как оружие в годы Войны за независимость и гражданских распрей.
… поступил как peon на службу в эстансию, стал capataz, а затем и mayordomo. — Пеоны — полузависимое от крупных землевладельцев сельское население (батраки) ряда южноамериканских стран. Эстансия — скотоводческое поместье, типичное для зоны аргентинской пампы.
Capataz — в Южной Америке надзиратель над пеонами или рабами. Mayordomo — надсмотрщик за работами в эстансиях.
… Отряды сельского ополчения, los Colorado* de Las Conchas… — Лас-Кончас — округ в провинции Буэнос-Айрес, в низовье Параны, на реке Лас-Кончас; его главный город (соврем. Тигре) прежде носил то же название.
Кавалерийский отряд ополченцев из этого округа ("Красноруба-шечники из Лас-Кончаса") сформировался в 1810 г. и прославился в Войне за независимость.
… сельское ополчение вступило в схватку с городским. — Эти боевые действия были отражением борьбы двух партий Аргентины: централистов, представлявших правящие слои Буэнос-Айреса и стремившихся сохранить в стране руководящее положение этого города, и федералистов, настаивавших на автономии провинций. В конце 1829 г. федералисты под руководством Росаса одержали победу. Новая конституция (1832) предоставила провинциям самую широкую автономию во внутренних делах, но оставила руководство внешней политикой и военными делами за Буэнос-Айресом.
594… как Сулла вернулся в Рим, то есть как диктатор, с мечом в одной руке и факелом в другой. — При Сулле (см. примеч. к с. 409) для расправы с его противниками с 82 г. до н. э. составлялись особые списки (проскрипции) лиц, казавшихся Сулле подозрительными. Эти люди были объявлены вне закона; всякий, кто убивал или выдавал их, получал награду; имущество их подлежало конфискации, а рабы становились свободными. Головы убитых выставлялись на Форуме. Тогда было совершено немало безнаказанных убийств из-за личных счетов и по корыстным мотивам. Карательные меры проводились вплоть до 79 г. до н. э.
… уничтожить федерацию, создать которую Лопесу, Кироге и Кульену стоило таких трудов… — Лопес — см. примеч. к с. 588.
Кирога, Хуан Факундо (1788–1835) — один из деятелей борьбы за независимость Аргентины, лидер партии федералистов; президент Аргентины в 1834–1835 гг.; погиб в борьбе с Росасом.
Кульен, Доминго (1791–1839) — аргентинский политический деятель; губернатор провинции Санта-Фе; расстрелян по приказу Росаса.
… Кульен стал губернатором Санта-Фе, Росас организовал у него переворот, а сам Кульен был выдан Росасу губернатором Сантьяго. — Санта-Фе — см. примеч. к с. 588.
Сантьяго — имеется в виду Сантьяго-дель-Эстеро, провинция на севере Аргентины; административный центр — Сантьяго-дель-Эстеро.
В "Мемуарах Гарибальди" в редакции Дюма приведено имя этого губернатора; им был Хуан Фелипе Ибарра (1785–1851), принимавший активное участие в Войне за независимость и в 1830 г. провозгласивший себя пожизненным губернатором провинции, союзник Росаса и Лопеса в борьбе с унитариями.
595… под его покровительством было образовано пресловутое общество Mas-Horcas — "Больше виселиц". — Имеется в виду добровольная организация (ее официальное название было: "Народное общество Восстановления") из всякого рода отбросов общества, ставившая своей задачей борьбу с унитариями; она находилась под покровительством начальника полиции Буэнос-Айреса и бесчинствовала среди бела дня; символом ее был кукурузный початок, по-испански "mazorca" — слово, которое современники переосмыслили как словосочетание "mas horcas" ("больше виселиц"). Об этой организации рассказано в "Мемуарах Гарибальди" в редакции Дюма (глава "Росас").
… исполнил то, до чего не додумался ни Тиберий, ни Нерон, ни Домициан. — Тиберий Цезарь Август (42 до н. э.-37 н. э.) — римский император с 14 г., мрачный и подозрительный тиран, отличавшийся патологической жестокостью.
Нерон, Клавдий Цезарь (37–68) — римский император из династии Юлиев-Клавдиев (с 54 г.); отличался невероятной жестокостью в расправах как с политическими противниками, так и с христианами, на которых воздвиг первое в истории массовое гонение (64 г.). Христиане видели в нем своего главного гонителя, а иногда антихриста.
Домициан (Тит Флавий Домициан; 51–96) — римский император из династии Флавиев в 81–96 гг.; вел завоевательную политику, укреплял бюрократический аппарат; при нем проводились многочисленные репрессии против сенаторов и даже близких к нему людей; погиб в результате дворцового заговора.
596… в тысяча восемьсот тридцать восьмом году между двумя народами была объявлена война… — Имеются в виду продолжавшиеся до 1852 г. попытки Росаса присоединить к Аргентине Уругвай, которые были отражены с помощью эскадр Англии и Франции.
… мы были разбиты при Арройо-Гранде. — Арройо-Гранде — место сражения, в котором в 1842 г. войска Уругвая потерпели сокрушительное поражение от аргентинской армии.
… она, как Спарта или Монтевидео, насчитывает всего триста двадцать тысяч жителей… — Спарта — город-государство в Древней Греции; отличалась военизированным общественным строем; спартанцы славились своей дисциплинированностью и гражданскими доблестями.
… все силы Восточной республики состояли из четырехсот солдат под командованием генерала Медина… — Восточной республикой (или Восточным берегом) тогда называли Уругвай, простиравшийся к востоку от реки Парана.
Медина — вероятно, имеется в виду уругвайский генерал Анаклето
Медина, герой битвы при Касеросе (1852), в которой был разгромлен Росас.
… а также из тысячи двухсот рекрутов, которыми командовал полковник Пачеко-и-Обес. — Пачеко-и-Обес, Мельчор (1809–1855) — уругвайский политический и военный деятель и поэт; в период войны с Аргентиной военный министр, руководивший как главнокомандующий обороной Монтевидео; затем исполнял дипломатические поручения в Бразилии и Франции. Во Франции он познакомился с Дюма и передал ему материалы, на основе которых тот написал книгу "Монтевидео, или Новая Троя" ("Montevideo ou une Nouvelle Troie"; 1850) об обороне Монтевидео ("Новой Троей" называли в регионе Ла-Платы в нач. XIX в. Монтевидео); фрагменты этой книги Дюма включил в свою редакцию "Мемуаров Гарибальди" и в настоящий роман.
597… Полковник Себалларан был убит. — В "Новой Трое" этот офицер носит имя Селалларан (Zelallaran, а не Zeballaran).
… Полковник Видела, бывший губернатор Сан-Луиса, был приговорен Росасом к расстрелу. — Полковник Видела, расстрелянный вместе со своим сыном, также упомянут в "Новой Трое".
Сан-Луис — аргентинская провинция с главным городом того же названия; расположена в центральной части страны.
… Водном из небольших селений вблизи Корриентеса… — Корриентес (Коррьентес) — город на на северо-востоке Аргентины, административный центр одноименной провинции.
598… Исав даром отдал свое право первородства. — Исав — библейский персонаж, старший и любимый сын патриарха Исаака; ему по праву первородства должно было перейти отцовское наследство. Однако, вернувшись усталый и голодный с охоты, он продал свое первородство и тем самым свои права своему младшему брату Иакову за приготовленное тем кушанье (в речевом обиходе — чечевичную похлебку).
… Райт, день за днем описавший историю нашей борьбы… — Вероятно, имеется в виду А.Райт, европейский волонтер в Уругвае, автор книги "Монтевидео. Исторические записки об обороне республики Уругвай в 1845 году" ("Montevideo, apuntes historicos de la defensa de la Republica del Uruguay, 1845").
599… Генерал Ривера стал главою Республики. — Ривера, Хосе Фрукту — осо (1784–1854) — первый конституционный президент Уругвая (1830–1834), глава либеральной партии Колорадос ("красных"), опиравшейся на цветное население.
600… Дон Луис Баена, один из крупнейших негоциантов… — Этот персонаж упомянут в "Новой Трое".
… Майор Эстанислао Алонсо был забит насмерть… С лейтенанта Акосто заживо сняли кожу… Майор Хасинте Кастильо, капитан Мартинес и младший лейтенант Луис Лавань были разрублены… Пол — ковник Инестроса… был покалечен… — Обо всех этих зверствах и их жертвах рассказывается в "Новой Трое".
601… дружеские вечеринки Монтевидео могли бы поспорить своей доброй славой с Лиссабоном, Мадридом и Севильей. — Лиссабон — столица
Португалии; расположен на правом берегу реки Тежу (Тахо); в 1147 г. был отбит у мавров, и король Альфонс I перенес туда свою столицу. Восточная часть города сохранила свой средневековый облик с прекрасными памятниками архитектуры — собор XIII–XIV вв., церкви, дворцы. В городе неоднократно происходили землетрясения, самые сильные — в 1530 г. и в 1755 г.; после землетрясения 1755 г., сопровождавшегося пожаром, город был отстроен почти заново.
Мадрид — город в центре Пиренейского полуострова, сложившийся вокруг мавританской крепости Маджират и известный как мавританское поселение с X в.; в 1083 г. был завоеван Кастилией; в 1561 г. стал столицей Испании.
Севилья — старинный испанский город и порт на юге Испании, на реке Гвадалквивир; исторический центр области Андалусия; возник как финикийская колония, по-видимому, в VIII в. дон. э.; принадлежал Риму, варварским королевствам; в 711 г. был завоеван маврами, а в XIII в. кастильцами.
… вечера проходят за щипанием корпии… — Корпия — перевязочный материал, употреблявшийся до появления ваты: пучки ниток, выщипанных из обрывков хлопчатобумажной ткани.
Щипание корпии в светских гостиных в XIX в. во время войн было обычным занятием дам.
… Если полковник Пачеко был Ахиллом, то мой отец был Гектором этой новой Трои. — Ахилл (Ахиллес) — главная фигура "Илиады" (см. примеч. к с. 186), один из храбрейших греческих воинов, осаждавших Илион.
Гектор — герой древнегреческой мифологии и "Илиады", сын троянского царя Приама, храбрейший из троянских героев, предводитель войска, сражавшегося против греков. Его гибель за родину от руки Ахилла — один из ярчайших литературных примеров самопожертвования и патриотизма.
Троя (Илион) — крупный и богатый город в северо-западной части Малой Азии; существовал в III–II тысячелетиях до н. э.; политический центр близлежащего региона. В сер. или в кон. XIII в. до н. э. Троя была разрушена ополчением греческих городов, и, хотя она и возродилась, ей уже не суждено было достичь прежнего расцвета. Известная ранее по греческому эпосу и мифам, Троя была обнаружена в 1860-х гг. во время проведенных немецким археологом-любителем Г.Шлиманом (1822–1890) раскопок холма Гиссарлык. Систематические раскопки с кон. XIX в. открыли разные культурные слои с остатками нескольких поселений начиная с эпохи ранней бронзы (ок. 3000 до н. э.).
… Как это делал Нельсон в двенадцать лет, он мог в свои пятьдесят спросить: "Что такое страх?" — Нельсон, Горацио, лорд (1758—
1805) — адмирал английского флота, выдающийся флотоводец, сыгравший большую роль в развитии военно-морского искусства; родился в семье сельского священника; морскую службу начал в возрасте 12 лет; в 1779 г. был назначен капитаном фрегата; решающую роль в развитии его карьеры сыграла война между Англией и Францией; в конце января 1793 г. получил под свое командование линейный корабль и принял участие в многомесячной блокаде французского флота в Тулоне; свойственные ему смелость, решительность, способность принимать неожиданные, но единственно верные решения сыграли важную роль для достижении победы английского флота над испанцами в феврале 1794 г. у мыса Сан-Ви-сенти (крайняя юго-западная оконечность Португалии); эта победа принесла Нельсону орден Бани, возводивший его в дворянское достоинство, и одновременно ускорила очередное производство; последнее сражение, в котором участвовал Нельсон и одержал победу, прославившую его имя, произошло 21 октября 1805 г. у мыса Трафальгар (южнее Кадиса, к северу от Гибралтарского пролива); это сражение закончилось разгромом франко-испанской эскадры, командующий которой спустил свой флаг и сдался в плен; но еще в ходе боя, до того как стало несомненным решительное превосходство англичан, Нельсон получил смертельное ранение, однако до последней минуты своей жизни не соглашался сдать командование эскадрой; он скончался через несколько часов, выслушав доклад о достижении полной победы.
… потомок тех титанов, которые некогда пытались взойти на небо. — Титаны — в древнегреческой мифологии боги старшего поколения, олицетворение стихийных сил природы; дали жизнь олимпийским богам; были побеждены Зевсом после десятилетней борьбы и заключены в Тартар, в страшную бездну, которая находится в самой глубине Космоса.
Однако здесь, скорее всего, имеются в виду сыновья (или внуки) Посейдона, страшные великаны От и Эфиальт, которые объявили войну Олимпу и начали его осаждать, для чего они взгромоздили гору Пелион на гору Оссу; однако вследствие хитрой уловки Аполлона братья убили друг друга, и души их были сброшены в Тартар.
602… приставил к груди отца свой тромблон… — Тромблон — в XVI—
XVIII вв. ружье большого калибра с расширяющимся воронкообразным дулом; заряжался 10–12 пулями и использовался для стрельбы на близком расстоянии.
… он был поражен ядром. как Тюренн, как Брауншвейг, как Дюрок… — Тюренн, Ла Тур д’Овернь, Анри, виконт де (1611–1675) — французский полководец, маршал Франции; одержал много побед в войнах сер. XVII в.; во время разведки был сражен австрийским ядром.
Брауншвейг — немецкий владетельный князь Карл II Вильгельм Фердинанд, герцог Брауншвейг-Вольфенбютельский (1735–1806); прусский военачальник, генерал-фельдмаршал; участник Семилетней войны (1756–1763) и войн против революционной Франции и Наполеона, в 1792–1794 гг. главнокомандующий союзными австро-прусскими войсками; его манифест от 25 июля 1792 г. в защиту Людовика XVI и с угрозами в адрес сторонников Революции вызвал бурное возмущение во Франции и ускорил падение монархии; был тяжело ранен в битве при Ауэрштедте (он потерял там оба глаза) и вскоре после этого умер от ранения.
Дюрок, Жеро Кристоф Мишель (1772–1813) — французский военачальник; сблизился с Бонапартом в Тулоне, участвовал в походах в Италию и Египет; после 18 брюмера стал бригадным генералом, затем — дивизионным; сражался под Аустерлицем, Эслингом, Ваграмом; был пожалован титулом герцога Фриульского; исполнял ряд дипломатических миссий; был маршалом императорского двора и пользовался большим доверием своего государя; был смертельно ранен ядром в битве при Бауцене в мае 1813 г.
603… министр финансов отдал приказ чеканить осадную монету… — В
средневековых осажденных городах из-за нехватки наличных денег властям приходилось чеканить особые монеты, имевшие, как правило, пониженное содержание драгоценных металлов и потому стоившие значительно меньше указанного на них номинала. Часто их изготавливали просто из меди, а иногда даже из кожи или картона.
605… как бы это не было до греческих календ. — Календы — название первого дня месяца в календаре древних римлян. У греков календ не было, поэтому выражение "Отложить какое-то дело до греческих календ" означает отсрочить его надолго, навсегда. Выражение часто повторял римский император Август, имея в виду людей, не платящих своих долгов.
606… земли! Ведь первый встречный прохожий не может унести их на подошвах своих башмаков?! — Здесь перефразированы слова выдающегося деятеля Великой французской революции Ж.Ж.Дантона (1759–1794), сказавшего, когда ему предложили эмигрировать, что родину нельзя унести на подошвах башмаков.
611… та капелька радости, какую, по утверждению Ларошфуко, чувствует сердце человека, узнавшего о несчастье, которое постигло его лучшего друга… — См. примеч. к с. 359.
612… чванству буржуазии, королевы той эпохи, которую мы пытаемся описать и олицетворением которой является г-н Бертен на своем курульном кресле… — Бертен-старший, Луи Франсуа (1766–1841) — французский журналист, с 1800 г. (с перерывом) владелец "Газеты дебатов", которая поочередно поддерживала Империю, Реставрацию и Июльскую монархию.
Здесь Дюма имеет в виду портрет Л.Ф.Бергена в кресле, написанный французским художником Ж.О.Д.Энгром (1780–1867) в 1832 г.; на этом портрете Бертен имеет весьма важный и самодовольный вид.
В Римской республике привилегией ряда магистров (влиятельных должностных лиц) было особое кресло, т. н. "курульное" (sella curulis).
614… элегантный наездник с Елисейских полей и из Булонского леса… —
См. примеч. к с. 374.
618… Индия с ее алмазными копями, Калифорния с ее золотыми прииска ми… — Алмазы в Индии добывались в восточной части Деканского плоскогорья (в XIX вв. эти прииски были уже сильно истощены) и в районе города Мадрас.
Калифорния — территория на тихоокеанском побережье Северной Америки; начала заселяться испанскими колонизаторами в XVIII в. (поэтому там много испанских топонимов); после Американо-мексиканской войны 1846–1848 гг. ее северная часть (Верхняя Калифорния) отошла к США; в 1850 г. образованный на ее территории штат был принят в Союз (т. е. США); ныне этот штат стал одним из самых развитых в США. Южная часть Калифорнии (Нижняя Калифорния) осталась в составе Мексики.
В 40-х гг. XIX в. в Калифорнии были открыты богатые россыпи золота; это вызвало массовую эмиграцию туда и оказало значительное влияние на развитие мировой экономики.
625… были распространены по всему департаменту Эна. — Департамент
Эна расположен на севере Франции, у границы с Бельгией; главный его город — Лан; в его части, прилегающей к Виллер-Котре, разворачивается действие романа.
629… отбыть в Париж, а из Парижа в Марсель. — Марсель — французский средиземноморский портовый город в департаменте Бушдю-Рон ("Устье Роны"); основан в VI в. до н. э. древнегреческими колонистами из Малой Азии.
630… работать наподобие пойнтера… — Пойнтеры — очень ценимая охотниками старинная порода легавых охотничьих собак; выведена в Англии.
636… Мадлен дает графу де Рамбюто возможность разрушить старый Париж и отстроить на его месте новый. — Рамбюто, Клод Филибер Бартело, графде (1781–1869) — крупный французский чиновник; при Империи префект департамента Луара; в последние годы Реставрации член Палаты депутатов, где он примыкал к либеральной оппозиции; при Июльской монархии, с 1833 г., префект департамента Сена (Париж и ближайшие окрестности); много сделал для украшения Парижа и улучшения условий жизни в нем (расширял улицы, реконструировал канализацию, высаживал деревья на набережных, устройство которых он завершил, и почти везде сменил масляное освещение на газовое).
637… поезжай в деревню Суси… — Суси — селение в 7 км к северу от Виллер-Котре.
638… На нем был его обычный наряд: тиковые брюки… — Тик — плотная льняная или хлопчатобумажная ткань, обычно полосатая; идет на обивку матрацев, на изготовление чехлов и т. п.
643… прибыв в столицу современных франков… — То есть в Париж.
Франки — германское племя, жившее в кон. I тыс. до н. э. — нач.
I тыс. н. э. на территории соврем. Голландии; передвигаясь затем на юг, они в кон. V в. покорили часть территории римской провинции Галлии и основали Франкское государство, ставшее историческим предшественником Франции.
645… боялась щекотки не меньше Эльмиры… — Эльмира — персонаж из пьесы "Тартюф" Мольера, жена Органа, тип честной женщины без показной добродетели. Здесь имеется в виду эпизод из сцены (III, 3), в которой святоша Тартюф безуспешно домогается благосклонности Эльмиры:
Тартюф
Простите мой порыв. Увы! Столь велика Моя вам преданность…
(Кладет руку Эльмире на колени.)
Эльмира
При чем же здесь рука?
Тартюф
Хотел пощупать ткань. Она весьма добротна И так нежна, мягка!..
Эльмира
Простите, мне щекотно.
(Перевод М.Донского.)
646… они немедленно выступили против беглецов в шумный крестовый поход, в котором мадемуазель Пелюш стала Готфридом Бульонским. — Готфрид Бульонский (ок. 1060–1100) — герцог Нижней Лотарингии; сеньор родового владения Бульон в Бельгии, которое он заложил, чтобы участвовать в первом крестовом походе; стал одним из вождей этого похода; после взятия Иерусалима и основания государства крестоносцев — Иерусалимского королевства (1099) — был избран его государем.
… подобно Геркулесу в Немейском лесу, ему пришлось сражаться с чудовищем… — В Немейском лесу, расположенном близ города Немея в северо-восточной части Пелопоннеса, обитал, согласно древнегреческой мифологии, чудовищный лев, опустошавший окрестности и обладавший неуязвимой шкурой. Геркулес (см. примеч к с. 77) оглушил его палицей, а потом задушил.
648… Станция наемных кабриолетов по-прежнему находится в арке ворот на улице Сент-Оноре? — Кабриолет — см. примеч. к с. 295. Улица Сент-Оноре — одна из центральных в Париже, ведет от дворцов Лувр и Пале-Рояль к западным предместьям города.
649… Там он нашел архитектора. Это был славный малый по имени Лезюер. — Лезюер, Жан Батист Цицерон (1794–1883) — французский архитектор, академик, профессор Школы изящных искусств в Париже; много работал в Швейцарии, участвовал в перестройке Парижа, где им было возведено много зданий; около 1840 г. помогал архитектору Э.И.Годду (1781–1869) в перестройке парижской ратуши.
650… Через две недели мои образцы прибудут на канал Сен-Мартен. — Канал Сен-Мартен — см. примеч. к с. 274.
… отправился с такими же самыми предложениями в Гербовое управление, Банк, на Восточный, Северный и Лионский вокзалы… — Гербовое управление (гербовое казначейство) — государственное учреждение, взимающее в пользу государства пошлинный сбор при заключении какой-либо сделки или выправлении какого-либо документа. Взимание происходит через продажу марок с государственным гербом (отсюда и название учреждения), которые потом наклеиваются на текст документа, или особой бумаги с тисненым гербом, на которой пишется документ.
Банк — имеется в виду Французский банк, государственный банк Франции, до 1946 г. частное акционерное предприятие; был основан в 1800 г., с 1803 г. получил право выпуска бумажных денег; всегда пользовался очень большим влиянием при определении внутренней и внешней политики страны; в нач. XIX в. размещался на улице Абукир, в северной части старого Парижа.
Первое здание Восточного вокзала, откуда поезда отправляются в Эльзас, в восточные районы страны, был построен в 1847–1850 гг.
Северный вокзал расположен в северной части Парижа, недалеко от Восточного вокзала; поезда оттуда отправляются в Бельгию, Германию и далее в Россию; построен в 1845 г.
Лионский вокзал находится в юго-восточной части города, в предместье Сент-Антуан, на бульваре Дидро; поддерживает сообщение с Юго-Восточной Францией; был введен в эксплуатацию в 1849 г.
… заручился обещанием инженеров, которые строили оборонительные укрепления… — В 40-х гг. XIX в. в связи с обострением международной обстановки французское правительство предприняло большие работы по укреплению Парижа. Столица была обнесена мощной стеной с внутренними кольцами железной и шоссейной дорог; вперед на несколько километров были вынесены отдельные мощные форты, которые должны были прикрыть пригороды и обеспечить гарнизону территорию для маневра вне городских стен. Эти укрепления были признаны специалистами образцовыми. Помимо борьбы с внешним врагом, форты должны были играть роль опорных пунктов при подавлении восстаний в столице.
652… лежала на площади в двести квадратных метров. — Скорее всего, речь идет о квадрате со стороной в 200 м.
653… назначаю вознаграждение в сорок су… — Сорок су (два франка) чеканились отдельной монетой.
654… пойдет в Париж через Ла-Ферте-Милон и Мо. — Ла-Ферте-Милон — см. примеч. к с. 410.
Мо — см. примеч. к с. 185.
655… обменял…на шартрский пирог с начинкой из молодых куропаток… — Шартр — главный город департамента Эр-и-Луара; расположен в 90 км юго-западнее Парижа, на равнине Бос; в средние века был столицей самостоятельного графства, ставшего в кон. XIII в. владением французских королей и возведенного в нач. XVI в. в достоинство герцогства; с нач. XVII в. — владение герцогов Орлеанских, удел старших сыновей этого дома, носивших титул герцогов Шартрских; известен построенным в XII–XI11 вв. собором, шедевром готической архитектуры.
657… уксусом, настоянным на эстрагоне… — Эстрагон (тархун) — многолетнее травянистое растение семейства сложноцветных; растет в Европе и Азии; из его листьев, содержащих эфирные масла с пряным запахом и вкусом, приготавливают эстрагонный уксус и горчицу.
658… архитектор Банка — от г-на д’Аргу… — Аргу, Антуан Морис Аполлинер, граф д’ (1782–1858) — французский политический деятель, администратор и финансист; в 1830 г. стал управляющим Банком; сохранил свой пост и после бонапартистского переворота 1851 г.
659… путь от Порт-о-Перша до Ла-Биллета… — Порт-о-Перш — см. примеч. к с. 586.
Ла-Виллет — бассейн, устроенный у северо-восточных окраин Парижа для снабжения города водой; в него впадает Уркский канал.
660… приобрели огромный размах благодаря коммандитному товариществу… — Коммандитное товарищество — предприятие, один или несколько участников которого отвечают по обязательствам товарищества всем своим имуществом, а остальные участники — только своими вкладами.
665… Это потому, что он злопамятнее Иосифа… — Иосиф — персонаж библейской книги Бытие, сын праотца Иакова, первенец его любимой жены Рахили; проданный в рабство ревнивыми братьями, которые завидовали отцовскому любимцу, он был увезен в Египет, где сумел возвыситься и куда, не помня зла, переселил весь свой род, осыпав его благодеяниями.
666… забыли… упомянуть о великолепном хронометре Брегета… — Брегет — хронометр или карманные часы, изготовленные в мастерских часовщика и изобретателя физических и астрономических инструментов Абрахама Луи Бреге (Брегета; 1747–1823); в XVIII–XIX вв. его изделия были широко распространены; они отличались высокой точностью, отбивали часы, доли часов и показывали числа месяца.
668… Пришли три письма: от господина де Рамбюто, господина Талабо и господина Шарля Лаффита. — Рамбюто — см. примеч. к с. 636. Талабо, Полей Франсуа (1799–1885) — французский инженер-строитель, всю жизнь работавший на государственной службе; проектировал первую очередь железной дороги Париж-Лион; автор многих трудов по строительству.
Лаффит, Шарль — вероятно, имеется в виду племянник знаменитого банкира и политического деятеля Жака Лаффита (1767–1844), крупный финансист.
674… крикнул… голосом судебного пристава из "Женитьбы Фигаро". —
"Безумный день, или Женитьба Фигаро" — комедия Бомарше (см. примеч. к с. 466), осмеивающая аристократию и восхваляющая сметку и ум человека из народа.
В третьем действии комедии в сцене суда появляется судебный пристав, писклявым голосом призывающий время от времени присутствующих к сохранению тишины (явление XV).
676… подобно Герсилии, подталкивающей Ромула и Тация в объятия друг друга… — Ромул — в древнеримской мифологии сын бога войны Марса и Реи Сильвии, дочери правителя города Альба Лонга; он должен был вместе с братом-близнецом Ремом по приказанию деда брошен в Тибр, однако братья чудесным образом спаслись и впоследствии основали Рим, а Ромул по воле богов стал его царем. Таиий, Тит — герой древнеримской мифологии, царь сабинян, живших в городе Куры неподалеку от Рима. Поскольку окрестные жители не желали выдавать замуж своих дочерей за римлян, Ромул дал приказ римлянам похитить девушек у своих соседей (в истории и литературе этот эпизод известен под названием "похищение сабинянок"). Таций начал войну с Ромулом и почти одержал над ним победу, но новые римлянки убедили противников пойти на мир. После этого жители Кур переселились в Рим, а Таций царствовал вместе с Ромулом. Особенно большую роль в примирении врагов, благодаря своему красноречию, сыграла жена Ромула Герсилия, подталкивавшая своего мужа и Тация в объятия друг друга; после смерти Ромула она была взята на небо.
… в противоположность античным авгурам, которые не могли
смотреть друг на друга без смеха… — Авгуры — в Древнем Риме жрецы-предсказатели, толковавшие волю богов по полету и крику птиц. Поскольку их предсказания были совершенно произвольны, авгуры при встрече друг с другом едва удерживались от смеха. Об этом пишет в своей книге "О гадании" писатель и политический деятель, знаменитый оратор М.Т.Цицерон (106—43 до н. э.). Понятие "смех авгуров" стало распространенным литературным выражением.